
- Все
- Детская и образовательная литература
- Детская художественная литература
- Современная детская литература
Бесплатный фрагмент - Злободневная классика
Рассказы о русских писателях
Раздумья учителя литературы
Горький парадокс «литературы в школе»: кто же не понимает, кто же не согласится, что «проходить», изучать есть смысл только лучшее из того, что написано на русском языке? Только абсолютную классику. НО… Наши классики были столь серьёзны, что почти никогда и ничего не писали для детей. И сто-двести-триста лет спустя уже ничто в их картине мира не совпадает с жизненным опытом современного подростка. Как быть? Этот вопрос задают себе всё новые поколения наставников и родителей. Прежде всего — родителей: их приводит в отчаяние то, что дети «не читают». Но и тогда, когда читали, читали жадно, учителям было ничуть не легче!
Мы, школьники 70-х лет прошлого века, были страстными читателями, но — только дома, только для себя. На уроках литературы в школе откровенно скучали. А наша «литераторша», наша умница Валентина Петровна, говорила: «Школьный предмет вы любить и не обязаны — но обязаны знать. Пройдёт лет двадцать — тридцать, отрицательные эмоции от школы улягутся окончательно, и всё это вы прочтёте, как в первый раз. Наслаждение, несравнимое ни с чем!» Она оказалась права. Но тогда мы не знали, верить или нет? Такая бездна времени, как двадцать — тридцать лет — это не укладывалось в голове. Эти годы прошли, и проблема встала во весь рост уже передо мной. Из урока в урок помогаю ученикам продираться сквозь дебри незнакомых слов, непонятных отношений, изменившихся смыслов… Учитель литературы порой чувствует себя экскурсоводом по археологическому музею, если не по чужой планете. Но вот удалось завладеть вниманием, заинтересовать — и сразу возникает мысль: никакая эта планета не чужая. Не чужие нам наши предки!
И когда коллеги говорят: «Не всё ли равно, на каком материале учить мыслить, сравнивать, доказывать, писать сочинения? Почему не на том, что дети действительно читают? Почему не на «Гарри Поттере?» — становится не по себе. Гарри стал нам более своим, чем все наши, вместе взятые?
Эта книга родилась из бесед со старшеклассниками. Особое внимание в ней уделено именно тем темам и вопросам, которые при ближайшем рассмотрении оказались вполне современными. Злободневными! А если ещё и подхлестнуть мыслительный процесс, поспорив с учебником? С самим Белинским? Разойтись с ним в оценке литературного героя? Придётся ученику выбирать, с кем согласиться — с учебником, или с учителем. Ни с тем, ни с другим? Можно и так, только обоснуй, подтверди свою точку зрения ссылками на текст. Прочти!
И знаете ли вы, почему одни писатели в программе были всегда, как например Ломоносов или Пушкин, другие — то появлялись, то пропадали, как Гончаров или Достоевский, а есть и такие бесспорные классики, которых в школе никогда не было: Аксаков, Станюкович, Помяловский… Чем провинились Радищев, Чернышевский, Алексей Толстой — те, кого больше «не проходят»? Как и почему в программе появляются имена, возвращенные из забвения? Ставит ли жизнь такие вопросы, мимо которых не может пройти ни один писатель? И если да — то какие? Хватит ли у любого из нас воображения «примерить на себя» судьбу литературного персонажа? Или поэта? Или его музы?
Модная игра для творческих людей — писать рассказы по мотивам известных литературных произведений, фанфики. В интернете этим развлекаются целые сообщества, как начинающих писателей, так и профессионалов. А вы могли бы? Для начала попробуем заменить окончание книги — но так, чтобы не пострадала логика характеров персонажей.
Мне повезло: в школе Экстерн обучение индивидуальное. Один на один с учеником — это передача знаний буквально из рук в руки, это простор для творчества. У нас не возбраняется собственное мнение — но оно должно быть. Подворовать его из интернета — нельзя. Попытки у новичков бывают, но желание попользоваться чужим пропадает быстро. Зачем, если появилось СВОЁ?
Но ведь если проводить уроки в форме диспута, а то и игры (тем, кто не прочёл, в такой игре делать нечего) — неизбежно придётся отойти от традиционной формы учебника? Ведь у иного поэта биография интереснее произведений, у иного — наоборот. Есть «гении одной книги», а есть и такие авторы, у которых трудно выбрать что-то «самое-самое». Есть те, жизнь и творчество которых изучены, и те, о ком впору рассказывать легенды… Что ж, пусть о ком-то будет биографический рассказ, о ком-то — легенда, о ком — то — эссе. Или обзор произведений.
Все эти рассказы о писателях и их героях уже помогли ученикам школы «Экстерн» подготовиться к ЕГЭ по литературе — и неплохо сдать. Причём ни у кого не возникло вопросов, а почему, собственно, мы говорим и о тех авторах, которые на экзамен не выносятся? Ясно, что чем шире панорама — тем легче написать сочинение. С таким — то запасом аргументов и фактов! Что же объединило наших классиков под одной обложкой школьных хрестоматий? Именно возможность для каждого нового поколения вглядеться — и открыть для себя то, что будет ему важно и интересно. Именно их неспособность «устареть», чудесный дар этих людей из прошлого отвечать на вопросы современности.

А вот этот плакат висит в моём кабинете. Смысл ясен — несокрушимый бастион русской культуры. Ребята узнают всех, или почти всех, но
всё же спрашивают: а почему они, а почему именно эти? Отвечаю:
— Это — литературная таблица Менделеева. Достраивать второй — третий ряд можно и должно самим, но из первого нельзя убрать ни одного.
Но когда люди приходят готовиться к экзамену — они предмет всё-таки знают, иначе бы не выбрали «необязательную» литературу.
Куда большей изобретательности требует работа с учениками средних классов средней школы. Со средними учениками. «Этика, толерантность, патриотизм» и ещё, и ещё уроки, которыми предлагается пополнить школьную программу — все задачи этих «спецкурсов» способна решить КНИГА, прочитанная вовремя! Если «воспитывать патриотизм» в старшем школьном возрасте уже поздно — не результат ли это… перестраховки? Того, что практически вся литература, нацеленная на воспитание гражданина, аккуратно вычищена из программы младших классов, как не способствующая «воспитанию толерантности»? А «толерантность» в буквальном переводе — «терпимость». Это было бы поводом лишний раз улыбнуться, если бы не оборачивалось терпимостью к любому пороку и бесчестью.
Но… что-то же подростки читают?!
Конечно, вакуум заполняется. Тем, что доступно, разрекламировано, экранизировано, «раскручено» — фэнтези! Не «научная фантастика», а именно «Фэнтези». Сколь бы ни было талантливо произведение этого жанра, задача его совсем не в том, чтобы помочь читателю понять окружающее и окружающих. Напротив, чем дальше от действительности, чем фантастичнее — неправдоподобнее, тем лучше. Чем меньше противопоказанной этому жанру «психологии» — тем лучше. Зато увлекательно. Зато…

Ближайший результат? Русская классика с её реализмом-психологизмом просто не принимается неподготовленным сознанием. Отторгается, как нечто чужеродное. «Это — про ненормальную жизнь ненормальных людей!» — реальная фраза моего ученика. Десятиклассника.
Результат более отдалённый, но неизбежный — отторжение национальной традиции, опыта предков (в том числе и родителей) и сразу же за порогом школы — растерянность, а то и страх перед жизнью. Массовый инфантилизм и бегство в виртуальные миры. Уже выросло поколение, для которого «мир Сталкера» куда более реален, чем пошлый «реал». Там, в «Зоне» — настоящие страсти, опасности, друзья… и Родина, наверное.
И нет ничего проще, чем управлять массой, неспособной ориентироваться в жизни, не мыслящей. Не это ли — конечная цель «великого эксперимента»? Впрочем, если даже действительно цель была поставлена — результаты эксперимента ошеломили самих экспериментаторов! Иначе не возникли бы национальные проекты: «Сто книг», «Сто фильмов»… Программа экстренного спасения! Но… Не поздно ли? Нет, не поздно.
Ужасаясь размаху агрессивного невежества, не будем забывать о том, что большевикам в своё время досталось наследство, куда более тяжкое. 72% неграмотного населения, при отсутствии современной сети школ и учительских кадров!
Некогда инспектор Народных училищ Илья Николаевич Ульянов гордился тем, что за годы его службы количество начальных (именно начальных!) школ в Симбирской губернии выросло в полтора раза. И ужасался при мысли, что такими темпами грамотность дойдёт до Чукотки через… 600 лет! Продолжение этой истории все мы знаем: первый букварь на чукотском языке вышел в свет через… 15 лет. После Революции.
Грешно было бы нам опускать руки, имея ТАКОЕ прошлое.
И снова, и снова увидев кислые гримасы учеников, приходится объяснять, что «классика — это не пыльный музей окаменелостей, а копилка всего лучшего, что создало человечество». В архитектуре и танце, литературе и живописи, музыке и кино. Да, и в кино — тоже! Фильм считается вошедшим в этот золотой фонд, если он интересен и через тридцать лет, через поколение! Для картины или романа этот срок дольше — лет пятьдесят… Можно ли предугадать судьбу произведения? Вряд ли. Парижский уличный воришка Франсуа Вийон может, и мечтал о бессмертии, но его соотечественники — современники ни за что бы не поверили, что его стихи будут жить и пятьсот лет спустя!
Для кого же тысячелетиями копилось такое богатство, если не для потомков?
В семидесятые годы двадцатого века популярный композитор-эстрадник Д. Тухманов совершил, быть может, сам того не сознавая, настоящий просветительский подвиг — написал цикл мелодий на слова поэтов разных эпох. Древняя Греция, средневековая Франция, Америка, Польша… Услышав это на дискотеках мы, старшеклассники пришли в восторг. Не везде могли разобрать на слух слова — и взяли эти сборники стихов в библиотеках. Прочли. Озорная поэзия вагантов — студентов Средневековья — стала для многих личным открытием. Особенно позабавили рассказы об образе жизни вагантов — первых европейских неформалов…
Спасибо композитору. Но разве трудно такие открытия совершать самим? Только протяни руку — поройся в книгах, сходи на выставку, поставь фильм, проверенный временем — и наверняка откроешь то, что будет близко и дорого лично тебе.
Несколько несмешных анекдотов «из жизни»:
Моя знакомая, некогда проявлявшая большой интерес к книгам, появилась в дверях.
— Слушай, у меня тут много всякого хлама в квартире есть. Не возьмёшь?
— Какого хлама?
— Да этих чёртовых книжонок. Заберёшь?
Вечером «чёртовы книжонки» притащил сынишка знакомой, в джинсовой курточке с модными пряжками и в «крутых» кедах. В ушах — наушники. Господину восемь лет. Книги все сплошь детские — советского времени.
— А почему ты сам не хочешь читать?
— Я чё, старик?
— Почему «старик»?
— А ка-а-му же ещё книжки читать?
***
Вполне начитанный одиннадцатиклассник (прочёл всего Акунина!) критикует «совок», с его «дефицитом всего, даже книг»:
— Уж книги — то что стоило напечатать?!
— Да, — соглашаюсь я, — ещё и поэтому мы читали бессистемно. Не то, что хочется, а то, что «достанем». На что подошла очередь в библиотеке. НО… когда читаете, обращаете ли вы внимание на тиражи? Маленькие цифры на последней странице?
— Нет…
— А какая книга за последние годы была самой «тиражной»?
— «Гарри Поттер», наверное?
Снимаем с полки «Гарри», выпущенного таким тиражом, что хватило всем желающим, и ещё осталось. Тираж — 200 тысяч. Таким же оказался тираж и Акунина.
— Предел?
— Предел.
— А теперь посмотрите тираж любой книги советского издания. Любой!
Взятой наугад книжкой оказались «Мифы древней Греции». Тираж — миллион пятьсот тысяч. Надо было видеть недоумение… парнишка решил, что это опечатка, и кинулся смотреть тиражи всего подряд! Минимальным оказался тираж «Басен» Крылова — 800 тысяч, но они переиздавались каждый год, а максимальным…
Налюбовавшись эффектом, подсказываю снять с полки трёхтомник Пушкина. ТРИ МИЛЛИОНА ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ, и это — «дополнительный тираж»!
— И какой же сделаем вывод?
— Читали… не хватало… а теперь есть всё — а не читают…
***
1996 год. Кто помнит, тем ничего объяснять не надо — время всеобщей нищеты и растерянности.
В маленьком южном городке возле пляжа дама интеллигентного вида (учительница?) разложила на коврике книги. Явно, свои — распродаёт домашнюю библиотеку: Пушкин, Чуковский, Олеша, Линдгрен, Жюль Верн, Тургенев… Мимо пробегают девчонки студенческих лет. Взглянули — и рассмеялись:
— Кто сейчас это читает?!
— Девушки, вы так молоды… у вас ещё нет своих детей?
— Нет…
— Когда будут, сами убедитесь: на других книгах их воспитать просто НЕВОЗМОЖНО!
Изменилась жизнь и совсем другие дети? С этим можно и поспорить, и согласиться. Но когда пятнадцатилетний парень не воспринимает «реал» вообще никак потому, что прочно прописался в «виртуале» — многие ли сочтут это нормальным? Горько улыбнёшься, услышав рекомендацию школьного психолога «и не вытаскивать его из компьютера, а то вообще сойдёт с ума». Хотим или нет, а жить — то всем нам среди людей.
И по-настоящему поражаешься тому, как мало меняются люди. Они одни и те же от начала времён! По крайней мере «нормальные» — те, о ком создана вся мировая литература. От мифа, афоризма, сказки — и до наших дней.
Пройдёмся же по страницам русской классической литературы — убедимся, насколько она — один большой ответ на больные вопросы современности!
Русское средневековье. X — XVII века Нашей эры
Литература нашего средневековья не знала талантов масштаба Данте — Сервантеса — Шекспира. Но грешно было бы говорить о её «бездарности» — ведь влияние её на современников было ничуть не меньшим. Воспитание нации!
А ведь в основном «малая форма» — афоризмы, поучения, жития. И хождения.
Афоризм — жанр, неспособный ни устареть, ни надоесть. Лучшее чтение на ночь — короче анекдота, мудрее философского трактата.

Мы привычно произносим «Не рой другому яму — сам в неё попадёшь», «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти» или «Старого учить — что мёртвого лечить», не подозревая, что этим изречениям несколько тысячелетий, а значит, они старше и России, и русского языка!
Народ — великий переводчик, он придал предельно краткую, совершенную форму тяжеловесным изречениям греков и римлян: «Копающий яму под ближним своим упадёт в неё сам». «Лучше с умным таскать камни, чем с бесноватым пить вино». «Старость и глупость — две язвы неисцелимые».
Из афоризмов, превращенных в поговорки, и была составлена одна из самых любимых книг на Руси — «Пчела». Ясно, почему она так называлась: и первый её составитель, монах Антоний (в 1 веке Нашей эры), и все последующие не стеснялись пополнять сборник афоризмами из самых разных источников, подобно тому, как пчела собирает свой мёд со всего разнотравья. На русский язык «Пчела» переведена в конце 12 века. Кроме античных авторов и цитат из Священного писания, «Пчела» была дополнена выдержками из сочинений отцов церкви, житий, хождений и наставлений.
Были и другие сборники афоризмов — «Менандр», названный так по имени древнегреческого драматурга, жившего за три столетия до Н. Э. Как подсказывает название, сборник почти целиком состоял из высказываний античных авторов, от Гомера до Эзопа:
«Нет имущества дороже друга», «Получив добро — помни, сделав — забудь», На море хорошо глядеть с берега»…
А «Изречения Исихия и Варнавы» — цитатник более поздний, христианский:
«Мутный разум не родит ясного слова», Конец дела обдумывай перед началом», «Лень — мать всякого зла»…
Именно по афоризмам мы можем проследить, в какой именно момент родилась русская литература — тогда, когда среди переводных изречений стали попадаться новые, оригинальные, не имеющие аналогов у западных авторов — русские! Десятый век.
«Новое хорошо, а старое — лучше», Конь познаётся в бою, друг — в беде», «Не знаешь, как спастись? Не делай другому того, что самому не любо!»
Поговорка — словесный алмаз — жанр, как принято считать, анонимный. Автора установить невозможно почти никогда. А вот авторы афоризмов, как правило, известны. «Истинно, век наш — есть век золотой: золотом купишь почёт, и власть, и нежную страсть!», " Деньги ныне в цене — бедняк не нужен нигде», «Власть ходит дурными путями, кривыми ногами, со слепыми глазами». О каком это веке?! О шестнадцатом. Автор — боярин Фёдор Карпов, один из приближённых Великого князя Василия Третьего (отца Ивана Грозного). А сам грозный царь справедливо считается лучшим писателем своего века, хотя вряд ли он мечтал о литературной известности. Но язык его краток, меток и афористичен:
«Хочешь легко победить страну — начни кормить её своей пищей». Каково?! Это сказано за четыре столетия до импортного изобилия на наших прилавках
«Если вы злы, то почему умеете творить добро своим детям, а если вы считаетесь добрыми и сердечными, то почему же вы не творите так же добра нашим детям, как и своим?» — вечный вопрос к нерадивым педагогам? Или к равнодушным правителям?
«Всё, что ни случалось с нами плохого — всё это происходило из-за германцев.» — а вот это без комментариев.
Жития
Порой трудно понять, что интересного находили наши предки в том или ином фантастическом рассказе, написанном задолго до «изобретения» фантастики, а порой наоборот удивляешься «непреходящести», современности русских характеров — в рассказах невыдуманных.
Вот, например, Ефросинья Полоцкая. Княжна. Иными словами, человек, которому все блага жизни были положены по праву рождения.
Ещё ребёнком она задумалась о том, как помочь бесчисленным жертвам татарских набегов, и прежде всего — осиротевшим детям. Отдавала им свои карманные деньги, уже понимая, что разовая помощь — это капля в море…
В 13 лет её, единственного ребёнка в семье, надежду родителей, просватали за соседнего князя.
И тогда Ефросинья тайно, ночью убежала в монастырь, где настоятельницей была сестра её отца. Рассказала, что лучшей помощью сиротам было бы — обучить их грамоте (грамота тогда сама по себе была профессией), но можно ли этим заниматься княгине?
— Нет, — ответила тётушка, — у княгини совсем другая жизнь. Это занятие для монахини.
— Тогда я стану монахиней!
Тётушка не хотела ссориться с её родителями, и объяснила, что до 16 лет девочка не вправе располагать собой. Отказаться от замужества может, а уйти в монастырь — только через три года, если не передумает.
Родители были вынуждены согласиться, расстаться с мечтами о внуках. Через три года они отправили дочь в монастырь… на возу книг. Отдали ей библиотеку.

Ефросинья завела школу для тех, кто в наибольшей опасности — для девочек. И настолько успешно, что уже через несколько лет в её школу потянулись и мальчики, и взрослые!
И тогда монахиня придумала гениальный выход: она предложила взрослым разобрать выпускников по семьям, чтобы каждая семья обучила их своему ремеслу. А они «расплатятся», обучив приёмных родителей грамоте!
Прожила княжна-монахиня очень недолго, чуть более 30 лет.
Обычно новых святых канонизируют через полвека после смерти, не ранее, но здесь — получилось сразу, стихийно! Благодарные полочане заказали её «персону» — портрет, и повесили в церкви. Церковь согласилась. Причислили к лику святых.
Вся литература русского средневековья — ответ на вопрос, зачем жить и как жить. О смысле жизни.
Очень долго в ней не было персонажей, явно выдуманных: старались писать о людях реальных. Цари, князья, бояре. Жития Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Стефана Пермского (просветителя народа Коми). Если среди подвижников были и люди простого звания — значит, их роль в воспитании нации признавалась ничуть не менее достойной.
Порой безвестные авторы повторяются: если полководец — описание воинских доблестей князя Александра можно дословно позаимствовать из жизнеописания Александра Македонского, вплоть до того, что князь, как и древний царь, «ликом зело красен», то есть красив. Если это святой отшельник — ему непременно будут служить звери. И никто не считал такие штампы плагиатом — просто был канон, каких святых как изображать. Канон почти такой же строгий, как в иконописи.
Тем интереснее нам немногие жития, написанные очевидцами — расхожих штампов в них нет. Есть реальные обстоятельства времени.
«Житие Ульянии Осорьиной» в этом отношении просто уникально.
Боярышня Ульяния из города Мурома, даже будучи ещё шестилетней девочкой, не понимала, как можно впустую тратить время на песни-пляски и детские игры? Она словно спешила научиться тому, что умеют большие: прясть, ткать, вышивать… И очень жалела нищих, но чем тогда она могла помочь? Разве что куском хлеба.
А уже в шестнадцать выдана была Ульяния за боярина Георгия, богатого и доброго. Боярин был очень занят на царской службе, отлучался и на год, и на два, и молодая жена, не желая быть доброй за чужой счёт, стала продавать свои рукоделия — и кормить беспризорных детей. Этого казалось мало, и порой она забирала для них пирог-другой со стола. Наконец, свекровь удивилась:
— Раньше ты ела, как птичка, а теперь — за троих?
— Сама удивляюсь, — ответила Ульяния, — это после рождения детей всё есть хочется. Даже ночью хочется, да просить неудобно…
Свекровь была мудрой. Она отдала Ульянии ключи от погребов, и приказала отныне ведать припасами самой.
— И не жди, пока к столу позовут — ешь, когда хочешь.
Вскоре великая беда постигла Русскую землю — голод. Из восьми лет царствования Бориса Годунова шесть были не просто неурожайными, а — катастрофой! Небывалые морозы, засуха, ливни — великий божий гнев. Дело доходило до людоедства.
Боярыня Ульяния пыталась угождать богу — отказалась от всех плотских радостей. И голодала, и спала на досках, для пущей жёсткости подложив под рёбра связку ключей, и с мужем решила жить, как с братом… Хотела даже уйти в монастырь. Но сама поняла, что так горю не поможешь. Надо не ждать чуда, а делать его самой. Муж вскоре умер, а вдова — сама себе голова.
И Ульяния узнала от стариков всё о съедобных травах. Вместе со слугами она сделала запасы, и стала добавлять эти травы в тесто — печь хлеб для голодных. К ней приходили те, кто мог добраться: «Нет хлеба слаще, чем у этой вдовы!» Подкрепив силы, люди спешили в Москву: там царь развернул невиданное строительство, чтобы дать работу всем. Но некоторые оставались — чтобы вместе с Ульянией работать. Создавать запасы рыбы, птицы, зверя — всего, чем можно подкормить людей, умирающих на дорогах.
А рабов своих Ульяния насильно не держала — дала волю всем. Может, где — то и найдут лучшую долю.
Но как ни тяжело было испытание, никто никогда не видел, чтобы боярыня Ульяния позволила себе отчаяться, упасть духом, опустить руки. Со всеми приветлива, улыбчива, она умела вселить спокойную уверенность в каждого.
И не дожила ведь она до конца этого ужаса. Помогла дожить другим — и не дожила сама.
Повесть об Ульянии написал её сын, Дружина Осорьин. Это — самое удивительное объяснение в любви к матери: сын ведь не пишет о любви матушки к нему, вообще нигде не упоминает себя. Для него куда важнее её любовь к людям, чужим по крови, её душевное беспокойство за всех несчастных, её неспособность быть сытой и счастливой, когда вокруг — беда.
Но интереснее, ярче всего духовный облик человека семнадцатого столетия — в «Житии протопопа Аввакума». Потому, что написал эту книгу сам Аввакум. Едва ли не единственная во всей житийной литературе автобиография.
Что мы знаем об этом человеке из краткого упоминания в учебнике истории? Только то, что он был ярым приверженцем старой веры, и врагом патриарха Никона. Но Никона поддержал сам царь Алексей Михайлович — и после многолетней ссылки, в забытом самим богом Пустозерске, неистовый протопоп был сожжён. Вместе с двумя единомышленниками. В деревянном срубе.
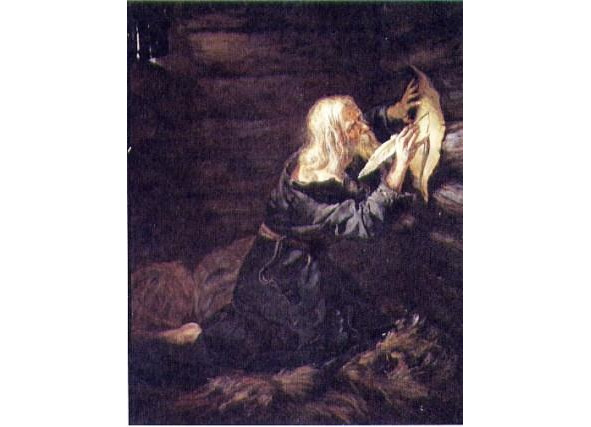
Но писать ему не запрещалось — и незадолго до страшного конца Аввакум вспоминает свою жизнь. Отец был «привержен винному питию», зато мать — праведница. Самое сильное впечатление детства — умершая корова. Мысль: «Я тоже умру!» словно осветила тьму, сделав жизнь — стремлением к цели. А цель — правда.
И когда мать объявила, что хочет его женить, он задал единственный вопрос: можно ли с этой женой жить по правде? Оказалось, можно: мать и выбирала девушку честную, и с характером. Не беда, что это — бедная сиротка.
Став попом (именно так Аввакум свою должность и называет), слушая исповеди своих шестисот прихожан, иные из которых отягчены грехом блудным, сам, «врач треокаянный», воспалялся, но спасала молитва. Нелюбострастный, нестяжательный, независтливый поп очень не нравился начальству, но сдержанная неприязнь перешла в открытую вражду после того, как начальник Ефимий «силой взял себе вдовью дочь». На требование Аввакума вернуть девицу домой начальник приказал своим людям избить мятежного попа. Перестарались — избили до потери сознания. Ефимий, увидя это, испугался — и вернул девочку матери. Не простил своего поражения — решил сжить Аввакума со свету. Дом у него отнял, стрелял в него — а пищаль волей божьей дважды дала осечку. Тогда, потеряв голову от бешенства, начальник вцепился зубами в руку Аввакума, «огрыз, яко пёс». Но на все его, мягко говоря, слова, Аввакум отвечал только: «Благодать в твоих устах да будет». Нравы духовенства — залюбуешься!
Кончилась история неожиданно: заболел начальник, покаяться решил. Аввакум не стал ему высказывать всего, что хотелось — вылечил. С божьей помощью, конечно.
И это только начало повести. Таких начальников — в каждом остроге, в каждом городишке. Если есть возможность безнаказанно издеваться — исполнители найдутся всегда. Запереть без еды — это в порядке вещей. Действительность и видения, случалось, сливались до полной неразличимости — вот как это могло быть, чтобы к голодному узнику явился ангел с хлебом и миской щей?! Дверь оставалась закрытой — но это не диво, для ангела замки — не преграда. Диво то, что щи были настоящие — и очень вкусные.
Всегда найдутся добрые люди, которые помогут. Все ведь знали, за что именно сослан мятежный протопоп, и сочувствовали многие.
И ничто не могло заставить Аввакума отступиться от борьбы за «старую веру» — писал и писал обличения и воззвания. До последнего дня.
А семья? Протопопица Анастасия Марковна поддерживала мужа даже там, где он готов был отступиться: «Я тебя благословляю — обличай блудню еретическую! А о нас не тужи.» «О нас» — это ведь и о детях, разделивших с родителями и ссылку, и земляную тюрьму. Двоих похоронили. Но только раз и пала духом жена — когда пришлось идти пешком из одного острога в другой. Зимой, по льду. Упала — да и говорит: «Долго ли ещё муки сей будет?!» И ответил Аввакум: «До самой до смерти, Марковна». Протопопица взяла себя в руки — встала: «Добро, побредём ещё»…
Но никакие беды не помешали Аввакуму увидеть мощную, богатырскую красоту Сибири. Увидеть — и восхититься. И с похвалой отозваться о хороших людях, которые помогали, чем могли. И даже с любовью рассказать о чудесной курочке, которая вместе с ними кашу клевала, и так выручала его детей — по два яичка на день давала!
Захочется ли теперь, через несколько столетий вникать, в чём протопоп был прав, в чём — нет? Но не устаёшь восхищаться мощью и великодушием, силой и нежностью, русского характера.
А встречи с царём были — но разговора не получилось. Похоже, царю «другая правда» просто не была интересна.
А вот историю Афанасия Никитина ещё сравнительно недавно знали все: отношения с Индией были дружескими, и о русском купце, побывавшем в Индии, сняли чудесный советско-индийский фильм «Хождение за три моря». Именно так Никитин назвал свой путевой дневник. И цитировали этот дневник в учебниках истории, как у нас, так и в Индии.
Дело было в 1469 году. Тверской купец, энергичный и любознательный, побывал в Польше, Литве, Царьграде — но богатства не нажил. Зато узнал у торговых людей, откуда берутся пряности, шелка, самоцветы, алмазы… Появилась мечта — попасть на родину этих чудес — в Индию. Но как, не имея своего каравана, преодолеть степь, пустыню, два моря? Часть пути — по Волге до Каспия — удалось проделать с посольством. Но в Дербенте — ограбили! Дальше — хоть пешком… Целую зиму Афанасий проработал на добыче нефти в «Бакы» — добывали из лунок вёдрами. С весной, с попутным караваном — в Ормуз.
Эта часть пути оказалась страшной — пустыня. «Солнце вельми варно, парище лихо, люди мёрли с безводицы, а нет воды, только глазам видится обманно». Никто из русских ещё не видал миражей… И вот — Индия! Сказка оказалась вблизи ещё удивительнее, чем представлялась, да только жизнь здесь совсем не сказочная.
Прежде всего, Афанасий отмечает, что перец, и краски, и каменья — всё здесь дёшево, но дорого перевозить по морю, к тому же очень часто грабят разбойники, поэтому за морем всё продают басурманам дорого. А путей на Русь здешние купцы ещё не знают. Есть здесь остров-гора, называется Цейлон — он весь из агатов, бирюзы да алмазов, и алмазы здесь можно купить от пяти до десяти рублей за штуку, а продают и за теньге, и за фунты. Кони в Индии не родятся, а только буйволы — на них и ездят, и возят. А вельможи — на слонах. Эти гиганты, у которых «на рыле хвост», везут на спине целый домик с десятком людей! Это был выезд местного раджи.

В Индии наш соотечественник прожил три года, и повсюду, куда бы ни забрасывала его судьба, записывал всё, что казалось ему примечательным, необыкновенным. Потрясло то, что люди здесь не едят ни мяса, ни рыбы, хотя коровы и свиньи у них есть. Практически не носят одежды. У них нет кладбищ — покойников здесь сжигают, а пепел — в реку. Родят всякий год, детей много. Молятся здесь удивительным богам — иной с головой обезьяны, иной с носом слона, а если люди — так с десятью головами да с дюжиной рук… Индусы не таились от чужеземца, видно, Афанасий умел расположить к себе людей, если уж они показали ему даже свои богослужения в подземных скальных храмах. С не похожей ни на что архитектурой, со скульптурой, покрывающей стены сплошным рельефом.
Но как русского удивляло, что все здесь черны — и мужи, и жёны — так и местные жители просто не могли опомниться от удивления, впервые увидев белого человека. Ходили за ним толпой — разглядывали…
Это потом историки выяснят, что Афанасий Никитин оказался одним из первых, если не самым первым европейцем в Индии — за тридцать лет до итальянца Васко да Гамы!
Многоликой оказалась Индия — разглядел Афанасий, что здесь — разные племена, с разными обычаями. Но контраст дворцов и хижин поражал везде. И родимую рожь растить оказалось куда легче, чем здешний рис — по колено в воде под беспощадным солнцем — да целый день внаклонку! Народ выживает, как может, а не может — так и не выживает. И разве это трудно понять лишь потому, что молятся здесь другим богам?
А вот разбогатеть так и не получилось — есть такие люди, которым деньги не даются…
Последние строчки дневника — о тоске по родине: «Нет на свете земли, подобной ей!»
Это ещё не о России — о Руси. Небольшой, лишь совсем недавно объединённой под властью Москвы, и всё ещё платившей дань Орде.
Но патриотизм — прямо имперский. И задолго до Никитина Русь мыслилась, как страна, которая может быть только великой — или никакой.
Это тогда, когда ещё не было на карте ни Германии (на её сегодняшней территории было до 200 «государств»), ни Франции (были «Бургундия — Нормандия — Пикардия…), ни Италии (были Генуэзская республика, Неаполь, Флоренция…) Но Русь была Русью и в тринадцатом веке! Можно ли в этом усомниться, читая чудом сохранившуюся страницу из не дошедшей до нас рукописи «Слово о погибели Русской земли»:
«О, светло светлая и украсно украшенная земля Русская! Многими красотами дивишь ты: озерами многими, дивишь ты, реками и источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, боярами честными, вельможами многими, — всего ты исполнена, земля Русская!»
А «погибель» — это Батыево нашествие. Сколько же было таких погибелей и воскресений! О многих победах и поражениях знаем лишь благодаря былинам и легендам, проверить которые почти невозможно: письменная история у нас гораздо короче, чем нам бы хотелось.
И не бравурные фанфары, а горечь поражения — и мужество жить дальше, для будущих побед — в поэме, ставшей символом и едва ли не синонимом понятия «древнерусской литературы».
Слово о полку Игореве
Не так уж мало книг вызывают споры: когда они написаны и кем? Случается, что автор не датирует своё произведение, подпишет псевдонимом, а книга окажется шедевром — вот и возможность для потомков ломать копья и защищать диссертации.

Но только одна книга в нашей литературе породила целую исследовательскую библиотеку, порождённую попытками ответить на вопрос: в каком веке она написана? В XII, XVI или XVIII?! Это — «Слово о полку Игореве» — поэма о неудачном походе на половцев Игоря, князя Новгород-Северского.
XVIII столетие — век рождения новой России. Русский век. А когда страна на таком подъёме, неизбежно возникает интерес к собственной истории. Но российскую историю ещё только предстояло написать, воскресить из забвения, собрав по крупицам летописи, существующие, как правило, в единственном экземпляре. В монастырях на огромном пространстве — от Смоленска до Байкала.
Первым занялся этой титанической работой академик Готфрид Вильгельм Миллер — добрался с экспедицией до Якутии. И не уставал поражаться, в каком жалком состоянии монастырские книгохранилища: в подвалах, заливаемых водой, в комнатах без стёкол в окнах… Старинные фолианты хранили словно бы по привычке, не предполагая, что «хлам веков» может ещё кому-то пригодиться. Ужасная сохранность книг — это ещё полбеды: пергамент долговечен. Хуже всего то, что из книг нередко вырывали листы, счищали написанное — и бесценные страницы превращались в хозяйственные записи.
Но теперь русская старина заинтересовала многих и многих: в монастыри ринулись любители. Коллекционеры. Украсить домашнюю библиотеку старинной летописью — это стало модно и престижно. Поскольку их всё-таки читали, это — лучшая мода на свете. Но… случалось, что половина рукописи окажется у одного коллекционера, половина — у другого!
Указ Екатерины Второй от 1791 года «О собирании из монастырских архивов и библиотек всех древних летописей и других до истории касающихся сочинений» положил конец этой любительской археологии. Теперь все монастырские рукописи должны были поступать в Москву, в Центральный архив. В распоряжение графа Алексея Ивановича Мусина — Пушкина, страстного собирателя старины и крупнейшего специалиста. Именно ему удалось «откопать» Лаврентьевскую летопись Нестора, один из списков «Русской правды», «Поучение» Владимира Мономаха…
Вокруг Мусина-Пушкина образовался тесный круг любителей старины: историки Карамзин, Бантыш — Каменский, Малиновский и другие. Именно они подготовили к печати нечто, уникальное по красоте и значимости — «Слово о полку Игореве». Единственный экземпляр рукописи, найденный в хранилище, предположительно, Кирилло-Белозерского монастыря.
Увы, придётся упомянуть и о том, что коллекционер совсем нередко, пользуясь должностным положением, просто забирал лучшие находки себе. В домашнюю библиотеку. Правда, завещал их Московскому университету, но расстаться со своими сокровищами при жизни — не мог. И уже само по себе то, что единственного списка почти никто не видел, сразу породило подозрения и предположения…
Поверить, что литература ТАКОГО уровня могла быть ещё в домонгольской Руси? Проще предположить, что «Слово»… сочинил сам Мусин-Пушкин при содействии компании друзей-историков! Это подозрение, впрочем, отпало — не было тогда в России ни одного поэта, способного написать поэму на древнерусском языке. Вообще мало кто знал, чем отличается древнерусский от церковно-славянского. Но вопросы остались… Отдельные цитаты из «Слова» найдены в рукописях XVI века — не означает ли это, что неведомый автор цитировал сам себя? Написал «Слово» — и использовал наиболее удачные пассажи в других своих сочинениях?
А если это действительно 1185 год — кто мог быть автором, почему имени столь крупного поэта мы не знаем? Предположений десятки — «возможными авторами» считались чуть не все удельные князья, и члены их семей, и Великий князь Киевский Святослав, и даже… сам князь Игорь. И ни одну из этих гипотез не получилось ни подтвердить, ни опровергнуть. Быть может, подлинник рукописи и прояснил бы хоть что-нибудь, но увы… В великом Московском пожаре 1812 года архив Мусина-Пушкина сгорел. Весь. Не смогли вывезти? Или до последнего не верили, что в Москву войдёт неприятель?
Много лет спустя дочь Мусина-Пушкина заявила, что отец подготовил свои коллекции к эвакуации, но — не успел, и пришлось спустить сундуки в подвал. А французы их там нашли и разграбили. Хотелось бы в это верить — ведь разграбленное всё же где-то есть, а значит, есть и надежда. Пока же приходится считать подлинником первую публикацию 1800 года.
Взглянем на карту сегодняшней Украины. К северо-востоку от Киева, в Черниговской области, маленький городок Новгород-Северский. Некогда здесь жило племя, которое так и называли — «северяне». Не у северного полюса, а просто чуть севернее Киева. Здесь-то и была вотчина князя Игоря.
Какой же была его дружина, сколько человек? Армия — это 5% населения. Если и сегодняшний Новгород-Северский никак не выставит более 500 штыков, то в 1185 году — сколько? 150 — 200?! Тогда ясно, почему князь, мечтавший прославиться, всё же не выступил на половцев один — пригласил к славе своего брата Всеволода, князя Курского. С курским воинством.
Игорь-князь с могучею дружиной
Мила брата Всеволода ждёт.
Молвит буй тур Всеволод: «Единый
Ты мне брат, мой Игорь, и оплот!
Дети Святослава мы с тобою,
Так седлай же борзых коней, брат,
А мои давно готовы к бою,
Возле Курска под седлом стоят…
Но кто же был их противником, кто такие половцы? Это — одна из загадок истории. Откуда пришли, что означает их название, каким богам поклонялись? Куда исчезли так же внезапно, как и появились? Версий много, ясности — мало. Несомненно лишь то, что народ был кочевой, тюркоязычный, и что основу их «экономики» составляли грабежи и работорговля. Терроризировали Киевскую Русь двести лет.
Выступить навстречу противнику, воевать на его территории — решение мудрое, но… столь скромными силами? Несложно было предвидеть исход авантюры!
Но, взглянув на солнце в этот день,
Подивился Игорь на светило:
Середь бела дня ночная тень
Ополченья русские покрыла.
И не зная, что сулит судьбина,
Князь промолвил: «Братья и дружина!
Лучше быть убиту от мечей,
Чем от рук поганых полонённу.
Сядем, братья, на лихих коней,
Да посмотрим синего мы Дону».
Вспала князю эта мысль на ум —
Искусить неведомого края,
И сказал он, полон ратных дум,
Знаменьем небес пренебрегая:
«Копие хочу переломить
В половецком поле незнакомом.
С вами, братья, голову сложить,
Либо Дону зачерпнуть шеломом!»
Лёгкой оказалась победа над передовыми отрядами половцев, и богатой добыча. Захватили и половецких дев, и золота без счёта, и каменьев, и шелков. Сам же князь взял себе только то, что подобает князю — вражий стяг и серебряное копьё. Ободренные успехом, устремились русичи к Дону — навстречу основным силам половцев. Итог этой встречи известен даже тем, кто не читал «Слова» — картину Васнецова видели все.

В опере «Князь Игорь» А. П. Бородин — автор и музыки, и либретто — сместил акценты, превратив произведение злободневное для своего времени, политическое — в былину, вневременную сагу о русском богатыре. В сюжете появились изменники, соперники, мятежники, и даже побочная сюжетная линия — любовь половецкой княжны Кончаковны к пленному русскому ратнику. Могучая богатырская музыка довершила превращение повести о горечи поражения — в патриотическую песнь о будущих победах. Получилось самостоятельное произведение, прекрасное, но — сильно «по мотивам».
«Слово» — это всё-таки об ужасе поражения. Кто виноват?!
Мертвыми усеяно костями,
Далеко от крови почернев, Задымилось поле под ногами, И взошёл великими скорбями
На Руси кровавый тот посев.
Игорь — князь и Всеволод отважный, Святослава храбрые сыны —
Вот ведь кто с дружиною бесстрашной
Разбудил поганых для войны!
Плачет о своих детях великий князь Святослав, и призывает он черниговцев, суздальцев, ярославцев, галичан… что же вы, храбрые князья?! Отомстите поганым!
А князья дружин не собирают.
Не идут войной на супостата.
Малое великим называют,
И куют крамолу брат на брата.
А враги на Русь несутся тучей,
И повсюду бедствия и горе…
И от края, братья, и до края
Пали жёны русские, рыдая:
«Уж не видеть милых лад нам боле,
Кто разбудит их на ратном поле?
И молодая Ярославна, жена князя Игоря, взывает к силам природы — ветру, Днепру, Солнцу — помогите!
Днепр мой славный! Каменные горы
В землях половецких ты пробил,
Святослава в дальние просторы
До полков кобяковых носил.
Возлелей же князя, господине,
Сохрани на дальней стороне,
Чтоб забыла слёзы я отныне,
Чтоб живым вернулся он ко мне!

Солнце трижды светлое, с тобою
Каждому приветно и тепло.
Что ж ты войско князя удалое
Жаркими лучами обожгло?
И зачем в пустыне ты безводной,
Под ударом грозных половчан,
Жаждою стянуло лук походный,
Горем переполнило колчан?
Плач Ярославны — вершина древнерусской лирики. Высказывались даже сомнения — да мог ли этот страстный монолог любящей жены написать мужчина? Есть версия, что автор если не всего текста то, по крайней мере, этого отрывка — Болеслава, княжна киевская. Она тоже потеряла своего ладу…
(Поразительна память народа: давным-давно исчезло из языка слово «лада» — любимый, Тот, с кем живётся ладно. Но кто же из нас не знает детской песенки «ладушки-ладушки» — любимчики — любимчики!)
Мольба услышана, и реки, ветры, птицы указывают беглецу дорогу на Русь. Домой. Как в сказке, Игорь превращается то в сокола, то в горностая, то в серого волка — не догнать его половцам, не вернуть!
Мрак стоит над Русскою землей:
Горько ей без Игоря одной.
Но восходит солнце в небеси:
Игорь — князь явился на Руси.
Вьются песни с дальнего Дуная,
Через море в Киев долетая.
По Борищеву восходит, удалой,
К Пирогощей богородице святой.
И страны рады,
И веселы грады.
Набатный призыв к объединению русских сил — вот чем было для современников «Слово». Было ли оно услышано? Судя по тому, что никто из князей не поддержал никого против Орды — нет.
Интересный штрих — если бы князь не поспешил с благодарностью за своё возвращение к Богородице Пирогощей (церковь в Киеве), читателю, пожалуй, и не догадаться бы, что герои поэмы — христиане. Их мир населён божествами, ныне забытыми — Див, Стрибог, Карна, Желя… Силы природы — тоже божества, их можно просить о помощи — и ведь помогают! А самое удивительное — имена персонажей не христианские. Разве только у Ярославны — Ефросинья. Но, видно, чуждое русскому слуху имя автору не нравится — не упоминает, упорно называя жену Игоря только по отчеству.
А ведь речь идёт о князьях — о верхушке общества, которое приняло христианство за двести лет до написания «Слова». Вывод? Не было триумфального шествия новой веры, приживалась она долго и трудно.
Поэме без малого девятьсот лет, язык с тех пор изменился настолько, что приходится её переводить с русского на русский.
Задача интереснейшая, переводов сделаны десятки. Жуковский, Лихачёв, Сулейменов, Бунин, Гумилёв, Бальмонт, Набоков, Евтушенко, Верещагин…
Но перевод Николая Алексеевича Заболоцкого оказался, очевидно, самым удачным, если именно он стал самым популярным, самым предпочтительным для читателей. Станет ли он окончательным?
Время покажет.
Временные рамки Древнерусской литературы — огромны: 700 лет! При желании можно разбить её на периоды — домонгольский, новгородский, московский. Но стоит ли? Ведь во всех её видах и жанрах, от эпоса до афоризма, от жития до хождения — одна и та же картина мира. Он вечен, он неизменен, а жизнь человека — приближение к однажды данному образцу. И образец этот — Иисус Христос, главный персонаж литературы Руси. Подразумевается даже там, где не назван по имени — идеал несовершенного мира.
А несовершенен мир потому, что дан человеку, как школа, как возможность взрастить собственную душу. «Спасись сам — и тысячи вокруг тебя спасутся». Можешь становиться лучше — тогда ты интересен господу, тогда и заслужишь посмертную судьбу.
А изменять мир — затея безнадёжная, да и безумная: «Что делалось — то и будет делаться, и нет ничего нового под Солнцем».
Но Вселенная сорвалась с «круги своя», когда вместо 7208 года вдруг наступил 1700…
Русский классицизм. XVIII ВЕК
«Человек для государства, или государство для человека?!»
Сегодняшняя либеральная эпоха уверенна: Человек — ценность абсолютная. И именно для служения ему создан чиновничий аппарат — государство. Но наши «отсталые» предки, жившие в блистательном восемнадцатом веке, были уверенны в обратном! Не было для них большей ценности, чем государство. Отечество. Родина. И человек был ценен именно как гражданин. Сын отечества. И народа российского.
ПОТОМУ, ЧТО БЕЗ СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА НЕВОЗМОЖНА НЕ ТОЛЬКО СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА, НО И САМАЯ ЕГО ЖИЗНЬ — СОЖРУТ СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ!
«За отечество я людей своих и себя не щадил — пощажу ли тебя, непотребного?» — воскликнул Петр в письме к сыну, ожидавшему своей очереди на трон совсем не для того, чтобы трудиться.

А обращение к армии перед Полтавской битвой? «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество…»
Как же это бесконечно далеко от европейского, французского, монаршего «Государство — это я»…
Но если государь… сойдёт с ума? Если его воля разойдётся со «славой и пользой», что делать верноподданному? Остаться ли верным государю, или… предать его ради интересов России? Поразительно, но и такую коллизию Пётр предусмотрел. И потребовал от подданных выбора в пользу России. Если, например, государь окажется в плену — ни один его указ более не действителен. Придётся действовать самим — разумно и ответственно. Но ведь для этого следовало воспитать целое разумное и ответственное поколение…
Противников петровских реформ мы привыкли представлять себе только и исключительно такими, как в легендарном фильме «Пётр Первый». Там бояре настолько наглядно-дремучие, что из сплошных зарослей выглядывают одни глаза. И рассуждают они, оглаживая бороды:
— Что до нас положено — лежи оно вовек! Деды наши без наук жили, а поумнее нас были!

— Тем и славна была Россия что, прикрывши срам лица брадою, аки голубь в святом неведении, возносила молитвы!
Зрителю ясно: если не переломить ТАКУЮ инерцию — не будет России. Но…
Все ли консерваторы петровских времён просто отказывались мыслить? Пользоваться собственным мозгом? Или в упрямстве хотя бы некоторых из них была своя логика? Была!
Был задан вопрос, ответа на который у Петра не было: если церковь отныне подчинена государству (по понятиям того века унижена настолько, что высшим авторитетом быть более не может), в какой системе ценностей должен жить народ? Кто сможет взять на себя роль поводыря, наставника, нравственного авторитета? А если НИКТО (ведь и царь на эту роль не подходит) — не станет ли дозволено ВСЁ?!
Такие сомнения отравляли жизнь людей мыслящих за полтора века до Достоевского. Но не было у царя ни времени, ни возможностей объяснять, перевоспитывать, наглядно показывать «учения пользу». Он полагался на силу указа: «Неграмотных отнюдь не женить — дураков не плодить!»
А грамотным надлежало вручить книгу с чёткими и ясными инструкциями, как выстраивать свою жизнь — карьеру, дружбу, дела сердечные. Как вызвать у людей симпатию к себе или, хотя бы, не вызвать безотчётного отвращения. Ставка была сделана на новое поколение, на детей — это вокруг них дворяне обязаны были выстроить «Европу» во всех мелочах: от одежды до круга интересов, ещё недавно невозможного — танцы, театр, искусства, науки, радение о пользе государства… Новый человек обязан, прежде всего, много читать.
Перед нами подростковый бестселлер восемнадцатого века — «Юности честное зерцало».
Проштудировав и запомнив эти «показания к житейскому обхождению», можно было смело отправляться из любого медвежьего угла — покорять столицу!
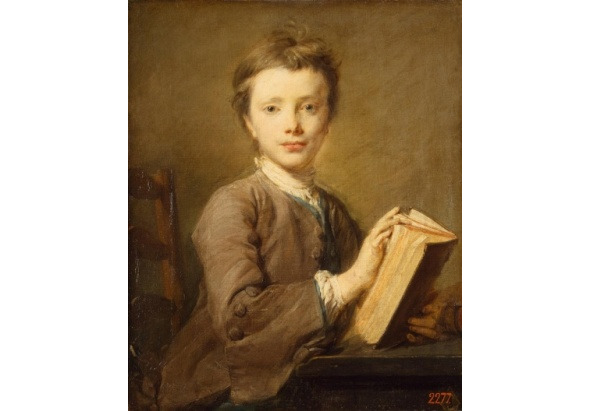
Первейшее требование — отца и мать в великой чести содержать. Не заноситься и не самоуничижаться, за глаза о людях говорить только хорошо, особенно о недругах. На слуг не слишком полагаться, честных слуг ценить, но во всё вникать самому. Не ругать никого и никогда, разве только тебе это поручит родитель — но и в этом случае передай бранные слова спокойным тоном.
Добродетель отрока (подростка) — трудолюбие и любознательность, а погибель — пьянство, блуд и «играние». Причём погибель не только ему самому, но и его родителям — дом погибнет из-за бесчестья. Приветливость и учтивость хороши, когда непритворны, а дерзость и смелость — совсем не одно и то же. «Вежливу быть на словах и шляпу держать в руках не убыточно. Лучше о ком скажут: «Он есть молодец, смиренный кавалер, нежели спесивый болван». А вот любопытство до чужих дел — недопустимо. И разговоры о том, что тебя не касается — тоже.
Некоторая доля хитрости при дворе не лишняя, иногда здесь лучше промолчать, чем что-то сказать. Ведь соперничество за чины-звания — это игра, в которой бесчестный человек может тебя обыграть, если ты сам разболтаешь ему свои планы.
Смелость, отвага необходимы — ведь не высокий род, не заслуги предков ценны в глазах государя, но только собственные поступки. Однако даже самые лучшие душевные качества могут остаться незамеченными, неоценёнными, если человек не умеет, например, вести себя за столом. Если его соседа тошнит при виде его манер.
«Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкать кашлять не пригожо… не замарай скатерти, и не облизывай перстов, около своей тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и протчаго.» Элементарно? Что поделаешь — именно с этого пришлось начинать. Но очень многое актуально и сегодня. Например:
«Никакое неполезное слово, или непотребная речь да не изыдет из уст твоих. Всякой гнев, ярость, вражда, ссоры и злоба да отдалится от тебя.»
Только так станешь «прямым придворным человеком», полезным государю и Отечеству.
Автором «Зерцала» называют Петра Великого, хотя он мог быть только соавтором этой книги — составлял её вместе со своим сподвижником Яковом Брюсом. Но то, что государь руку приложил — точно. Разве в метких, хлёстких, остроумных наставлениях не слышится его голос?
До тонкости продумал государь, какие ему нужны соратники. А… соратницы? Пришлось дать наставления и девочкам. У самого ведь две дочки — царевны. Какими же Пётр хотел видеть их?
«Охота и любовь к слову» — к чтению и письму — это обязательно. Да, девочкам не делать карьеру, но грамотность им нужна для познания божьей воли. Для понимания, почему надлежит почитать родителей, любить ближних, почему в глазах людей так ценна всякая добродетель и чистота — телесная и душевная.
Очень украшают отроковицу трудолюбие, милосердие, целомудрие, приветливость и… молчаливость, то есть сдержанность. Прежде, чем что-то сказать, подумай, не лучше ли промолчать да послушать, «понеже человеку дано два уха, а рот — один».
Как мужские, так и женские добродетели — «правосердие, верность и правда». Но в отличие от мужчины, девушке надо особо заботиться о своей репутации — никогда не подавать повода к сплетням. Нельзя даже шептаться — обязательно найдутся недоброжелатели, готовые приписать тебе помыслы тайные, и конечно же, постыдные. Говори на людях только так, чтобы все слышали — и только разумно и кратко.
Если же при тебе произнесут неприличное слово — сделай вид, что не расслышала или не поняла, и знай — эти люди бесчестны, отойди от них. «Кто стыдлив — оный отнюдь не говорит сквернаго слова, честный стыд возбраняет безчестныя слова», особенно при дамах. Если же дама в ответ на скверные слова рассмеялась — она ничем не лучше собеседника.
«Не порядочная девица со всяким смеется и разговаривает, бегает по причинным местам, и улицам розиня пазухи, садился к другим молодцам, и мущинам, толкает локтями, а смирно не cидит. Но поет блудныя песни, веселитца, и напивается пьяна. Скачет по столам, и скамьям, дает себя по всем углам таскать, и волочить, яко стерва, ибо где нет стыда, там и смирение не является.» Предостережение на все времена.
Что касается одежды — не должна она быть «легкомысленна и тщеславна» ни у кого, а у девицы — особенно, ибо показывает легкомыслие и тщеславие особы, готовой влезть в долги, но отличиться платьем. Одежда не по средствам — очевидная глупость!
Выучить правила на все случаи жизни невозможно. Помни главное: правильные слова и правильные поступки может подсказать только сердце целомудренное, чистое и верное.
Но даже самодержцу было ясно, что управлять указами — не получится, воспитывать наставлениями — тем более. Где же взять ту силу, которая сможет наставить — направить — пригвоздить и возвеличить? Если не церковь, то что?
Удивившись страсти французов к театру, Пётр спросил: «Зачем? Зачем нужна литература?» Ему, царю — инженеру, было совершенно ясно, зачем чертежи и руководства, зачем исторические хроники и научные трактаты. Надо знать, как делать, надо знать, что есть в природе, надо знать, что было «в веках, бывших прежде нас». А вот зачем писать о том, чего не было, о событиях и людях выдуманных?
Французы ответили мудро. Сказали, что человек может насовершать столько ошибок — исправить их жизни не хватит! А читая о других людях, чужие истории, он учится на чужих ошибках. Литература — учебник жизни. И царь сделал потрясающий вывод: «Надобно и нам литературу завести».
Не дано людям видеть будущее, не мог предположить Пётр, глядя на инженер — поручика Ибрагима Ганнибала, что лучшим русским поэтом станет правнук этого арапа… Но вот первого русского поэта царь разглядел — в недавно разбитом Летнем саду. На рассвете.
Выйдя по обыкновению на прогулку, Пётр увидал мальчика, сидевшего в глубокой задумчивости напротив статуи Венеры Таврической.
— О чём думаешь?
Мальчик не смутился. Ответил прямо, разумно и кратко:
— У неё не хватает рук, но думаю, так даже лучше — в ней появилась тайна…
Это был ответ поэта.
Это был четырнадцатилетний Антиох Кантемир (1708—1744).
Парадоксальная страна — Россия. Первым русским поэтом считается румын. И это при том, что русская литература существовала уже 700 лет. Как и почему?

Рубеж семнадцатого и восемнадцатого веков и сегодня воспринимается нами, как возникновение совершенно новой России. «Там», в «Москве — третьем Риме» остались подёрнутые дымкой времени, жития и хождения. А «здесь», в новорождённой Российской империи, должна была возникнуть литература — общественная сила, литература — высший авторитет. Вторая власть… если не первая.
Антиох Дмитриевич, сын молдавского господаря, был жаден до знаний, и искренне не понимал тех, кому неинтересно. Он мог бы ограничиться домашним образованием — вполне достаточно для службы в Преображенском полку, но окончил Греко-Славянскую академию. Затем, не удовлетворившись схоластикой, посещал лекции Бернулли и Гросса в Академии наук, вошёл в тесный круг Феофана Прокоповича — общество петровцев, крайне разочарованных приостановкой реформ после смерти реформатора.
И первая его литературная работа — «Разговоры о многообразии миров», перевод книги французского мыслителя Фонтенеля. Делая скидку на неподготовленность русской публики, Кантемир снабдил каждую главу книги собственными пояснениями, комментариями, выводами.
Увы, императрица Екатерина Первая не обладала широтой взглядов своего покойного супруга, да и читать не умела. Ей сказали, что книга «противу религии и нравственности» — она поверила. Запретила.
На карьере будущего поэта это, однако, не сказалось никак — именно Кантемир стал самым первым послом России в западной стране — в Англии. В 23 года! Его абсолютная порядочность, преданность интересам России — в сочетании с обходительностью, мягкостью характера — отмечались всеми, кого с ним сводила судьба. Более европеец, чем многие европейцы, он был столь же на своём месте и во Франции, где тоже пришлось представлять Россию.
Но механически переносить «к себе» опыт Европы? Ни в коем случае. Казалось бы, ограничение самодержавия по английскому образцу — это было бы выходом, учитывая то, что достойных наследников Петру нет? Правило бы некое собрание лучших граждан… Но зная придворные нравы, Антиох очень хорошо себе представлял, что это будут за «граждане». Толпа рвачей — временщиков!
Вот почему он помог императрице Анне Иоанновне избавиться от опеки Верховного Совета. Подсказал ей «изодрать кондиции» — условия, на которых её пригласили на престол, и править самодержавно. Пообещал поддержку всей гвардии (сам и склонил гвардию поддержать неопытную самодержицу).
Анна Иоанновна была очень благодарна, и много способствовала распространению сочинений Антиоха Дмитриевича. Басни, эпиграммы, оды, переводы французских просветителей… и сатиры.
Сатир было всего девять — но именно они и стали новым словом в русской литературе. Почему? Прежде всего — новизна содержания.
Наука — для России нечто новое, да и в Европе она стала отдельным видом человеческой деятельности недавно. И как ко всему новому, к ней присматриваются, оценивают, задаются вопросом: а нужна ли она вообще? И в первой своей сатире «На хулящих учение» Кантемир выводит нескольких «типичных представителей» — помещика, лакея, светского щёголя, ханжу. Ни в чём другом они к согласию не пришли бы, а здесь — единодушны: от наук никакой пользы, кроме вреда!
Ханжа:
«Расколы и ереси науки суть дети;
Больше врёт, кому далось больше разумети.
Приходит в безбожие, кто над книгой тает…
Теперь, к церкви соблазну, библию честь стали;
Толкуют, всему хотят знать повод, причину,
Мало веры подая священному чину!
Ему вторит хозяйственный помещик:
Гораздо в невежестве больше хлеба жали;
Переняв чужой язык — свой хлеб потеряли.
Землю в четверти делить без Евклида смыслим,
Сколько копеек в рубле — без алгебры счислим».
У гуляки Луки свои резоны:
В веселье, в пирах мы жизнь должны провождати:
И так она недолга — на что коротати,
Крушиться над книгою и повреждать очи?
Не лучше ли с кубком дни прогулять и ночи?
А у франта — свои:
Медор тужит, что чресчур бумаги исходит
На письмо, на печать книг, а ему приходит,
Что не в чем уж завертеть завитые кудри;
Не сменит на Сенеку он фунт доброй пудры.
И все хором они начинают вспоминать епископа, судью, купца, воина, которые «едва имя своё подписать умеют» — и ничего, живут, служат и богатеют.
Таковы слыша слова и примеры видя,
Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя.
Бесстрашно того житьё, хоть и тяжко мнится,
Кто в тихом своем углу молчалив таится.
Словом, умница, держи свой ум при себе. Спокойнее и безопаснее.
Сатира «На зависть и гордость дворян злонравных» — это монолог оскорблённого боярина Евгения. Весь свет ему обязан за то, что его род был славен ещё при княгине Ольге. Почему же он себя «везде зрит последним», почему чины и должности получают «сапожники да пирожники»?!
Его собеседник Филарет ясно видит причину — никаких заслуг и достоинств у Евгения нет, если, конечно, не считать достоинством умение модно одеваться.
«Разнится потомком быть предков благородных,
Или благородным быть.»
И далее — яркая, насмешливая картина жизни богатого франта, обжоры, пьяницы и игрока. Ценить такого могут лишь собутыльники — и то пока заморские вина не кончатся.
А в сатире «О воспитании», пожалуй, не устарело ничто.
«Главно воспитания в том состоит дело,
Чтоб сердце, страсти изгнав, младенчее зрело
В добрых нравах утвердить, чтоб чрез то полезен
Сын твой был отечеству, меж людьми любезен»…
Бесперечь детям твердя строгие уставы,
Наскучишь; истребишь в них всяку любовь славы,
Если часто пред людьми обличать их станешь;
Дай им время и играть;
Пример наставления всякого сильнее:
Он и скотов следовать родителям учит.
Филин вырос пьяница? — пьяница был сродник,
Что вскормил…
Сильвия круглую грудь редко покрывает,
Смешком сладким всякому льстит, очком мигает,
Белится, румянится, мушек с двадцать носит;
Сильвия легко дает, что кто ни попросит,
Бояся досадного в отказе ответа? —
Такова и матушка была в ея лета.
Часто дети были бы честнее,
Если б и мать и отец пред младенцем знали
Собой владеть и язык свой в узде держали.»
Изящная, беззлобная насмешка человека доброго и снисходительного к несовершенству окружающих. Убеждённого в благотворности просвещения — и сожалеющего лишь о том, что медленно всходят плоды петрова посева.
Через столетие, одолев «устаревшие» сатиры Кантемира, Белинский воскликнул: «Он был первым сподвижником Петра на таком поприще, которого Петр не дождался увидеть… О, как бы горячо обнял великий преобразователь России двадцатилетнего стихотворца, если бы дожил до его первой сатиры!».
Но этот тяжеловесный слог, словно подобранный для того, чтобы затруднить наше сегодняшнее восприятие… а ведь Кантемир сознательно избегал «высокого штиля», славянизмов, украшал свои тексты поговорками, перлами просторечия. Может быть, всё дело в непривычном нам размере?
Силабо — тонический стих — дань древнерусской традиции, окончательно порвать с которой Кантемир, очевидно, не счёл нужным. Ведь и новый костёр лучше зажигать от старого.
Но ведь люди пели, а петь столь тяжеловесные вирши невозможно?
Народ — великий стихотворец, раньше профессиональных литераторов «нащупал» наиболее органичные для русского языка размеры:
«Уж ты, ворон сизокрылый,
Ты скажи, где милый мой».
А твой милый на работе,
На литейном на заводе;
Не поет он, не гуляет,
Медны трубы выливает,
Емельяну помогает».
Песенная культура восемнадцатого столетия, быть может, «недотянула» до «настоящей» поэзии в многообразии тем, но сумела превзойти её стройностью, ясностью стиха. И его красотой.
И чувствуя это, поэты не увлекались красивостями, предпочитая безыскусную народную речь, создавая «народные» песни.
Некая «стихотворица», напечатав несколько своих песен, не пожелала открыть своего имени. Почему? Ведь стихи хороши настолько, что пережили автора на столетия! Песню «Во селе, селе Покровском» собиратели фольклора записали заново уже в середине двадцатого века — она жила в устной традиции!
«Во селе, селе Покровском,
Среди улицы большой,
Разыгралась-расплясалась
Красна девица-душа,
Красна девица-душа,
Авдотьюшка хороша.
Разыгравшись, взговорила:
«Вы, подруженьки мои,
Поиграемте со мною,
Поиграемте теперь;
Я со радости с веселья
Поиграть с вами хочу:
Приезжал ко мне детинка
Из Санктпитера сюда;
Он меня, красу-девицу,
Подговаривал с собой,
Серебром меня дарил,
Он и золото сулил.
„Поезжай со мной, Дуняша,
Поезжай, — он говорил, —
Подарю тебя парчою
И на шею жемчугом;
Ты в деревне здесь крестьянка,
А там будешь госпожа;
И во всем этом уборе
Будешь вдвое пригожа!“
Я сказала, что поеду,
Да опомнилась опять:
„Нет, сударик, не поеду, —
Говорила я ему, —
Я крестьянкою родилась,
Так нельзя быть госпожой;
Я в деревне жить привыкла,
А там надо привыкать.
Я советую тебе
Иметь равную себе.
В вашем городе обычай —
Я слыхала ото всех:
Вы всех любите словами,
А на сердце никого.
А у нас-то ведь в деревне
Здесь прямая простота:
Словом мы кого полюбим,
Тот и в сердце век у нас!“
Вот чему я веселюся,
Чему радуюсь теперь:
Что осталась жить в деревне,
А в обман не отдалась!»

Разгадка этой загадки одновременно и проста, и поразительна: анонимным автором была… императрица. Елизавета Петровна. Дочь Петра Великого.
Не царское дело — писать стихи, но талант не спрячешь. Впрочем, будучи императрицей, она больше занималась переводами французской поэзии. А песни писала тогда, когда ещё была опальной цесаревной.
В 13 лет Лизанька осталась без отца, в 16 — и без матери. С туманными перспективами, с уймой могущественных врагов, и с подружками — крестьянками. Если бы не жизнестойкость и неунывающий характер…
Но если песня создавалась безо всяких видимых усилий, то становление театра в России оказалось делом долгим и трудным.
Театральные представления давались ещё при дворе Алексея Михайловича — и царь был до них большим охотником, и царские дети. Традицию подхватил Фёдор Алексеевич, а затем и царевна Софья. Но эти постановки — сцены из Писания и инсценированные рассказы из Византийской истории, были зрелищем для очень узкого круга. А главное — это был уровень самодеятельности — спектакли ставились силами учеников Духовной семинарии.
Первый постоянный театр для самой широкой публики — «Комедиальная храмина» — был построен в 1702 году на Красной площади. Любой человек любого чина-звания мог прийти и приобщиться — билет стоил от 3 копеек. Театр на 500 мест бывал переполнен — новинка! Но очень скоро встал вопрос репертуара — русских пьес ещё не было. Переводили европейские, но без особого успеха. Пётр даже объявил значительную денежную награду тому, кто напишет «трогательную пьесу», но награда осталась невостребованной. И затея с театром для народа заглохла на долгие годы, а ведь как был нужен! С самого начала театр мыслился, как школа для взрослых, как средство воспитания нации. Вот почему императрица Елизавета Петровна так обрадовалась, узнав, что русский театр уже есть. В Ярославле. Подумать только — в провинции! Молодой купец Фёдор Волков собрал труппу «охочих комедиантов», сам построил что-то вроде большого сарая со сценой и «хитрыми приспособлениями» для смены декораций, сам написал несколько пьес… Бывает, что несколько поколений почтенной купеческой семьи наживают, а потомок, почувствовав свободу от материальных проблем, задумается о высоком.
Труппа немедленно была вызвана в Петербург и дала представление при дворе. Мнение двора было единодушно: «Алмазы природные! Однако ж их ещё гранить и гранить», — и актёры были «определены в науку» — в Шляхетский корпус, дворянское учебное заведение. Гуманитарные науки, здесь были на высоте.
Лишь через четыре года, в 1756 году последовал указ об основании Русского театра.
Театр классицизма в своей условности может соперничать разве что с иконописью — сцена была не зеркалом, поднесённым обществу, а окном в другой мир. Быть может, не более совершенный, но уж точно, более разумный. Персонажи — ходячие добродетели или пороки, имена — греко-римские (Клит, Орест, Феон и т.д.), манера двигаться, позы — всё расписано в специальных руководствах. Актёр обязан был садиться и вставать, воздевать руки и всплёскивать ладонями только так — и никак иначе, подкрепляя каждую эмоцию соответствующим жестом. Жесту доверяли даже больше, чем слову, и более того, ещё не ушли в прошлое театральные маски!
Какова же должна быть степень таланта чтобы, даже соблюдая каноны, запомниться современникам, как актёр, абсолютно гениальный? Те, кто видел Фёдора Волкова на сцене — не уставали восхищаться им и через полвека. Дмитрий Левицкий — автор этого портрета Фёдора Волкова, был актёром волковского театра. Несколько лет играл роли… главных героинь. Играть на сцене женщинам не запрещал никто, кроме общественного мнения. Профессия актёра всё ещё не признавалась достойным видом деятельности, и ни одной девице родители не разрешили бы «выставить себя на позорище». Замужней даме — тем более. Найти актрису в Ярославле не удалось, но в Петербурге всё же нашли. Сразу двух! И Левицкий вскоре покинул сцену, нащупав настоящее своё призвание — живопись.

Его «Владимир и Рогнеда» — первое русское полотно исторического жанра, — определённо навеяно театральной постановкой. Все позы и жесты — как положено. Разве что «неблагородным» — воинам и служанке, дозволено вести себя естественно: Смущённый, извиняющийся Владимир — это вызвало недоумение зрителей. Они ведь знали, что тут произошло — Рогнеда отвергла Владимира, обозвав его «робичичем» — сыном рабыни. Оскорблённый князь спалил её родной Полоцк, у неё на глазах зарезал её родителей, и после этого объявил, что женой его Рогнеда всё же станет! Позже Рогнеда попыталась его убить, но это уже другая история. На картине мы видим именно момент «взятия в жёны» униженной полонянки.
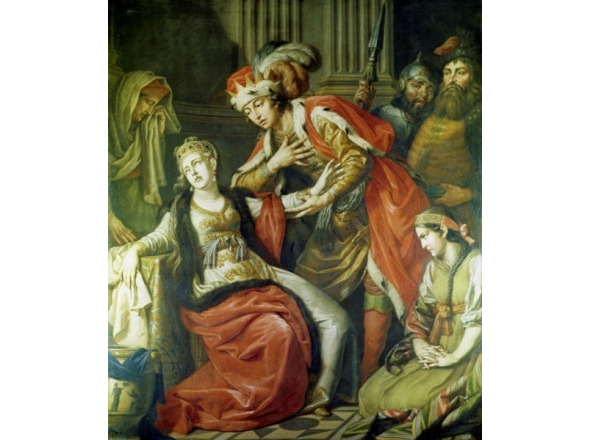
Художник ответил зрителям, что за всё сотворённое «должен же Владимир хотя бы извиниться»!
Классицизм — искусство ДОЛЖНОГО. Долг — основное понятие, и исход борьбы между чувством и долгом предрешён. Всегда. А корысть — порок если не самый постыдный, то один из самых.
Да, герои пьес классицизма лишены индивидуальности, от пьесы к пьесе менялись имена-костюмы-декорации — но не характеры. Можно ли было любить всех этих «Хоревов и Эрастов»? Любить — вряд ли, но любоваться — можно. Планка завышена, образцы недосягаемы, но вектор, направление развития — указано верно.
И когда, после смерти Елизаветы Петровны, пришлось выбирать, кого из двух возможных наследников поддержать, Волков не заколебался. Какую роль он сыграл в дворцовом перевороте, приведшем на престол Екатерину Вторую — мы не знаем, но его участие в событиях несомненно. По легенде, Волков сам просил нигде, ни в одном документе не упоминать его имени — ведь среди участников он один не был дворянином. А это значит, что в случае неуспеха всем грозит Сибирь, а ему — виселица.
Но когда новая императрица впервые вышла на балкон дворца, среди немногих вернейших соратников рядом с ней стоял и Фёдор Волков. Надлежало зачитать манифест — а его впопыхах не успели написать! И тогда Волков развернул… чистый лист бумаги. Прекрасно поставленным голосом он «зачитал» Манифест о начале нового царствования.
Награды посыпались на соратников, как из рога изобилия. Но Волков от наград отказался — не принял ни ордена, ни «деревенек». Императрица вызвала его для объяснений, и услышала, что сын отечества должен быть бескорыстен.
— А я не могу быть неблагодарной. Фёдор Григорьевич, хоть дворянство прими!
Как жаль, что не сохранилось ни одной пьесы Волкова. Ни одной! Похоже, они были уничтожены намеренно, но когда и кем? Лучшую его «пьесу», однако, видела вся Москва — грандиозное уличное представление — карнавал «Торжествующая Минерва». Минерва — богиня мудрости. Не сомневался отец русского театра в наступлении века Разума и Справедливости.
Но трепет восторга — это ведь не единственная эмоция, которой ждут от книги или спектакля? И тогда людям хотелось просто развлечься, умилиться или посмеяться. Вполне законное желание, и прекрасно, что всё большее число россиян убеждалось: удовольствие от хорошей книги — верно и вечно.
«Сделать» целую литературу — роман, повесть, драму и комедию, рассказ и эпиграмму, поэму и лирику — предстояло за несколько лет. Ощупью — ведь «на поэта» нигде не учили.
Михаил Чулков — явление «массовой культуры», хотя ХVIII век такого термина ещё не знал. Ему удалось развлечь публику и создать себе имя на пересказах европейских романов. Не переводах, а именно очень вольных пересказах, с вычёркиванием (или добавлением) целых сюжетных линий. Он запросто мог поменять время и место действия, придумать персонажам новые имена — и в итоге получалось нечто столь далёкое от оригинала, что можно говорить о творчестве по мотивам. Зато занятно! Не вдаваясь в дебри психологии, не заботясь о правдоподобности чувств и мыслей героев, Чулков был неистощим в выдумке неожиданных поворотов сюжета, комедийных ситуаций — занимательность была его козырем и его целью.
Повесть, в которой Чулкову удалось подняться до уровня «настоящей» литературы, носит название длинное и забавное: «Пригожая повариха, или похождения развратной женщины». Любители «клубнички» обнаруживали, однако, что «развратного» в этом повествовании — с перечное зёрнышко.
Мартона, девятнадцатилетняя солдатская вдовушка, не растерялась подкормиться возле небогатого барина, затем с готовностью переметнулась к барину богатому — прельстилась бриллиантовой табакеркой. Но оказалось, что «богач» — лакей, укравший табакерку у своего господина! Один способ избежать суда — прельстить хозяина табакерки. Это оказалось несложно, беда лишь в том, что хозяин безделушки — Светон — женат, и можно ожидать несчастья от его жены.

Несчастье вскоре воспоследовало, и Мартона, без гроша и пожиток, принуждена была начать всё сначала, только уже в столице. Секретарь, канцелярист, и наконец — удача! Подполковник! Жить бы, да радоваться — но тут не на шутку влюбился в неё некий хитроумный Ахаль. И навострился проникать в дом под видом её… сестры! Развлекались, пока Ахаль не исчез со всеми деньгами, и её, и подполковника. Влюблённый старик её даже не упрекал, но вскоре умер, и его наследники засадили бывшую повариху в тюрьму. Опять всё сначала — Мартона не пропадёт нигде!
Источник ясен — это европейский Плутовской роман с его героем — неунывающим пройдохой. Но почему понимая умом, что Мартона живёт как-то неправильно, мы ей всем сердцем сочувствуем? Почему рады, что она провела одного-другого-третьего кавалера, и желаем ей провести и всех последующих?
Да потому, что все те, кто считается благородными по праву рождения, все эти дворяне, как провинциальные, так и столичные — хуже хитроумной поварихи. Она цепляется за жизнь, а им-то что мешает жить честно? Тщеславие и глупость.
Глупость — то, что вызывает самую ядовитую насмешку автора: вот целая канцелярия пытается разобрать оду «какого-то Ломоносова». Не могут, ничего не понимают… И потому объявлена была эта ода бреднями, уступающими во всех отношениях последней канцелярской записке.
Ясно, что сам автор — Михаил Чулков — в достоинствах од Ломоносова ничуть не сомневается. Для него это — эталон.
Чем же был для русской словесности Ломоносов Михайло Васильевич? (1711 — 1765).
Мы не устаём поражаться его открытиям во всех областях знаний — от физики до социологии. Понятно, что весь объём науки тогда ещё был доступен одному человеку, но одно дело усвоить чужие достижения, и совсем другое — сказать новое слово во всех науках. Природа его гениальности понятна — ненасытная любознательность и небывалая трудоспособность.

С детства все мы помним легенду об упрямом парне, который пешком ушёл с Белого моря в Москву — учиться. Словно ведомый неведомой силой… «Легенда» в данном случае — это не вымысел, а кристаллизованная правда.
Что нам добавит знание подробностей о том, что семья была далеко не бедная, что Михайло обязан был продолжить дело отца — лучшего промышленника в Холмогорах, что именно для этого отец подарил ему корабль! По твёрдым понятиям поморов, человек должен стать первым в своём деле, а не подражателем в чужом — в барской науке чиркать пёрышком.
А даст нам это знание возможность примерить чужую судьбу на себя. Быть может, задуматься о своём призвании. И о верности традиции, семье, дому, и об иерархии ценностей. Что важнее — спокойная старость любящего отца или «приращение наук российских»?
И ведь теперь принято считать, что люди довольно чётко делятся на «правополушарных и левополушарных», на учёных — и поэтов, физиков — и лириков. Речь идёт о совершенно разных способах получения и переработки информации, и один человек просто не может быть исследователем — и поэтом? Ломоносов — опровержение этой теории. Не единственное но, пожалуй, самое яркое.
«Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Повелитель многих языков — язык Российский!»
Это объяснение Ломоносова в любви к родному языку — не восторженный вопль души, а трезвый анализ, сравнение, сопоставление, это — взгляд исследователя. Учёный «поверил алгеброй гармонию».
Ведь, по меньшей мере, наивно полагать, что поэт — это такой избранник богов, который просто не может не писать потому, что время от времени его возносит к небесам, и его рукой начинает водить муза. Убеждение из той же серии, что «художник линейкой не пользуется». Всегда пользовались, и не только линейкой, но и циркулем, и рамкой для перевода объёма в плоскость, и даже системами зеркал. Закономерности в рисунке такие же строгие, как в чертеже, и смешно было бы заставлять начинающего художника открывать их самостоятельно, когда всё давно открыто. А вот закономерности в поэзии, её законы — это то, что ещё только предстояло выявить и описать — дать рабочие инструменты будущим поэтам. И не только поэтам! Не было в России наук — не было и научного языка. Изобретение новых слов — это то, что не удавалось почти никому. Но Ломоносов придумал их десятки: атмосфера, микроскоп, минус, полюс, формула, периферия, градусник, равновесие, квадрат, кислота, кислород, водород, радиус, диаметр, горизонт…
Но если язык обновляется, значит ли это, что часть словарного запаса устаревает и должна отмирать? Ломоносов видел опасность потерь, но сознавал и то, что насыщенность текста церковно-славянской лексикой затрудняет его восприятие.
Вероятно, любое слово хорошо ко времени и к месту. И Михаил Васильевич предложил разделить весь словарный запас языка на три «штиля».
Высокий стиль предполагает использование устаревшей лексики — ведь она звучит торжественно. Здесь уместны и такие фигуры речи, как гипербола, анафора, обращение, восклицание, риторический вопрос. Стиль для торжественных случаев — для речей, выступлений, проповедей. А писать возвышенным слогом подобает героические поэмы. Или оды.
Средний стиль — речь нейтральная, повседневная. Должен стать универсальным языком литературы. Но как раз он и представляет наибольшую трудность для человека пишущего — здесь надо полагаться не на теорию, а на собственный вкус. Здесь допустимы и славянизмы, и то, что позже назовут ненормативной лексикой — чтобы создать речевую характеристику персонажей, но всё, что не звучит нейтрально, следует использовать очень аккуратно, ограниченно.
Низкий стиль — это просторечие. Язык тех слоёв общества, которых пока не коснулось образование. Меткий и звучный, но далёкий от литературных канонов. Он уместен в комедии, в песне. И в басне.
Басня Ломоносова «Два астронома» — образчик «низкого штиля» — народного языка. Неисчерпаемого фонда пополнения языка литературного:
«Случились вместе два Астронома в пиру.
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит:
Один Коперник был, другой слыл Птолемей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звёзд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?»
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такова,
Который бы очаг вертел кругом жаркова?»
На русском языке рифмовать легче всего — он словно создан для поэзии. Почему?
И это Ломоносов объясняет совершенно рационально: мы можем при необходимости менять порядок слов, делать то или иное слово длиннее или короче, но самое ценное — это то, чего нет в языках Европы: приставочно-суффиксальный способ словообразования. То, что позволяет нам придать одному и тому же слову, имени — десяток разных эмоциональных оттенков, если не десятки. Выразить тончайшие нюансы чувства и мысли. Но ритм, рифма — это свято, это то, без чего стихи — не стихи.
Половодье чувств и мыслей должно иметь берега — размер обязан соблюдаться. Размер — это порядок чередования слогов ударных и безударных. Одного универсального придумать нельзя, каждому языку свойственны свои. Гекзаметр был идеален для греческого, силабическое сложение — для языков с постоянным ударением в словах (французский, например — ударение всегда на последнем слоге). Вольный стих близок к разговорной речи — количество стоп в строках может изменяться. Это простор для экспериментов со словом, но автор должен быть готов к прохладному приёму таких стихов публикой — трудно читать!
Для русского уха органичны пять, целых пять размеров: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. И наилучший из них, по мнению Ломоносова — ямб. Именно им студент Ломоносов напишет и первую свою оду «На взятие Хотина»:
«…Шумит с ручьями бор и дол:
«Победа! Росская победа!»
Но враг, что от меча ушёл,
Боится собственного следа».
И все последующие оды, посвященные событиям государственной важности. Вступлению на престол императрицы Елизаветы Петровны, например:
«… Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!»
Нашему современнику может показаться странным несоответствие повода и содержания: гимн во славу наук, обращение к юной научной поросли — какое это имеет отношение к коронации императрицы? Но дочь Петра обязана продолжить дело Петра. И ода — обращение не только к Елизавете, а ко всем вообще соотечественникам — грамотным и пока неграмотным. Ведь стихи, написанные по такому поводу, прочтут решительно все — вот возможность поговорить сразу со всеми!
Научный подход к слову, рационализм — по мнению потомков это то, что помешало Ломоносову стать всенародно любимым поэтом, но очень помогло поэтам будущим. Путь, проторённый великим помором, стал столбовой дорогой для всей будущей русской поэзии. Но случалось ведь и Ломоносову писать не для воспитания публики, а для себя. Чем, если не картиной космоса, увиденной в телескоп, навеяны эти мечты:
«Когда бы смертным столь высоко
Возможно было бы взлететь,
Чтоб к Солнцу бренно наше око
Могло, приблизившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан…»
И самые поэтические строки во всей нашей допушкинской поэзии:
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне — дна.»
По-настоящему всенародно любимым жанром стала эпиграмма — стихотворная миниатюра от двух до шести строк.
«Танцовщик ты богат; профессор, ты убог.
Конечно, голова в почтеньи меньше ног.»
Это не XXI век, а XVIII. Сумароков. Ему же принадлежит и эта милая шутка — ответ жены на упрёки мужа:
«Коль мыслишь, что тебя любить я перестала,
То ищешь там конца, где не было начала.»
И портрет лихоимца:
«Клеон раскаялся, что грабил он весь свет,
Однако ничего назад не отдает.
Так вправду ли Клеон раскаялся, иль нет?»
Порой сумароковская эпиграмма становится почти басней:
«Разбило судно,
Спасаться трудно.
Жестокий ветр — жесточе, как палач;
Спаслись, однако, тут ученый и богач.
Ученый разжился — богатый в горе.
Наука в голове — богатство в море.»
И Ломоносов, верно, знал, о чём писал, изобразив монаха:
«Мышь некогда, любя святыню,
Оставила прелестный мир.
Ушла в глубокую пустыню,
Засевшись вся в голландский сыр.»
Нечасто случается, что адресат эпиграммы известен. Но миниатюра про всадника и жеребца интересна нам не столько тем, что в ней высмеян адмирал Алексей Орлов, сколько тем, что автор её — Фёдор Волков. Немногие его строки дошли до нас, но то, что дошло — отлично:
«Всадника хвалят: хорош молодец;
Хвалят другие: хорош жеребец;
А я так примолвлю: и конь, и детина
Оба пригожи, и оба — скотина.»
А актёр волковского театра Михаил Попов так почтил выпускника школы:
«Что разным мудростям ты десять лет учился,
То знает всяк;
Да всякий и о том теперь уж известился,
Что ныне ты, мой друг, ученый стал дурак.»
Такого же свойства и обращение Дмитрия Хвостова к врачу:
«Что ты лечил меня, слух этот, верно, лжив —
— Я жив.»
Критика ценна, а самокритика ценнее. Не дожидаясь мнений читателей об очередном его сочинении, Василий Капнист написал о нём сам. Всего две строчки:
«Капниста я прочел, и сердцем сокрушился:
Зачем читать учился?!»
Не всегда, однако, эпиграмма насмешлива — встречались и вполне доброжелательные, и даже философские. Особый вид эпиграммы — рифмованные эпитафии. Василий Капнист написал такую эпитафию честному труженику Хемницеру:
«Жил честно, целый век трудился
И умер гол, как гол родился.»
А Державин почтил память Кантемира двумя строчками:
«Старинный слог его достоинств не умалит.
Порок, не подходи: сей взор тебя ужалит!»
В самом демократическом жанре (наряду с басней) прежде всего и выявился кризис классицизма — развитие его было исчерпано. Людей интересовали не отвлечённые идеалы, не многообразие ситуаций, в которых можно проявить свои личные и гражданские добродетели, а многообразие характеров в обстоятельствах реальной — и именно современной жизни. Классицизм сдавал позиции медленно — но явно. Басни Хемницера, бытовые зарисовки Державина, и в особенности комедии Фонвизина — отход от традиций, казавшихся незыблемыми. Не поучать современников, а всматриваться в современность, постигая её закономерности — и пытаясь угадать пути её изменения — таким стало жизненное кредо последних представителей классицизма — Новикова, Радищева, Крылова.
Этих «последних» вполне можно считать и «первыми» — первыми реалистами.
ФОНВИЗИН Денис Иванович. 1745 — 1792
Гимназия при Московском университете — можно ли было в середине 18 столетия найти учебное заведение более солидное, более привилегированное? Ею занимался сам Ломоносов — но могло ли его хватить одного на всё и на всех?

И вот — экзамен по географии. Испытуемый долго-долго пытался сообразить, куда впадает Волга, в какое море:
— В Чёрное?
Друг попытался ему подсказать. Зашептал:
— В Белое. В Бе-ло-е!
Экзаменатор обратился с надеждой к одному из лучших учеников:
— А куда прикажет впадать Волге господин Фон-Визен?

— Не знаю…
Преподаватель латыни — свидетель этой сцены, — схватился за голову. И в голове его созрел хитрый план. На следующий день он предстал перед учениками с огромными пуговицами: четыре на камзоле и три на кафтане:
— Когда спросят вас, какого спряжения слово, примечайте, за какую пуговицу на кафтане я возьмусь. Если за вторую — смело говорите: «Второго спряжения»! Со склонениями поступайте, глядя на камзольные пуговицы — и никогда ошибки не сделаете!
Да так ли уж необходимо было юному Фон-Визену разбираться в школьной премудрости? Он был «образован по праву рождения»! Потомок немецких баронов, он принадлежал к тому тончайшему слою общества — аристократии, где от рождения давалось всё: привилегии, деньги, связи, место при дворе… и какое место! Для этих избранных люди, пробившиеся личными талантами, были не более, чем «временщиками» и «выскочками».
Вся карьера, весь жизненный путь Дениса Ивановича наводят на мысль о генетическом родстве его с «золотой молодёжью», «мажорами», диссидентами-либералами наших дней.
И тут же понимаешь: отличие есть. Коренное!
Что же это — талант?
Безусловно, талант. Но, что ещё гораздо важнее — любовь к России. И СОВЕСТЬ.
О своей семье, о своём детстве Денис Иванович рассказал сам в неоконченной повести «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях».
«Отец мой был человек большого, здравого рассудка, но… не имел случая просветить себя учением». Недостаток образования, впрочем, восполнял начитанностью. Лжи не терпел настолько, что краснел, если кто-нибудь лгал при нём. Ни перед кем не заискивал и не терпел, чтобы заискивали перед ним, но никогда не упускал случая оказать внимание, поздравить, помочь. Старался быть со всеми ровным, пряча природную вспыльчивость.
И самое удивительное — умел жить по средствам: пятьсот душ имения — это в кругу аристократии считалось бедностью. А детей было восемь! Всем дано образование — и никаких долгов! В свете это считали чудом.
Настоящим «чудом» была мать — рачительная и искусная хозяйка. «Разум имела тонкий, сердце — сострадательно. Жена добродетельная, мать чадолюбивая и госпожа великодушная».
Если есть награда за добродетели — именно такой наградой писатель считал жизнь своих родителей. В детстве он и не знал, что его отец был прежде женат на другой женщине…
Эта история первой женитьбы отца по-своему примечательна: в восемнадцать лет — на даме, бывшей старше его на полвека. Оказалось — брат отца проигрался так, что ему светила долговая тюрьма: долг был больше всего семейного состояния! И тогда некая семидесятилетняя вдова «объявила свою любовь» будущему отцу писателя. Пообещала выплатить все долги, если он на ней женится. Женился. Овдовел через двенадцать лет.
Денис Иванович рассказал об этом потомству с умилением: «Есть ли в наше время примеры такой братской любви — и такой верности слову? Мой отец покоил старость своей жены, как христианин». А брак по любви — это было потом.
Анализируя свой собственный характер, Фонвизин многое приписывает наследственности. От отца — вспыльчивость и незлопамятность, от матери — некрепкое здоровье (это даже неплохо — не допустило до пьянства!), и от обоих — доброту. Вечный страх кого-нибудь обидеть. Как же это совмещалось с острым умом, совершенным отсутствием благоразумия и» склонностью к сатире»?
Петербургские знакомства, нередко случайные и совсем не подходящие для барона-подростка, дали столько материала, столько живых наблюдений будущему сатирику! А вот что касается образования…
Медаль в университете, по словам Фонвизина, получена была потому только, что остальные знали ещё меньше. Не учителям был обязан Денис Иванович своими обширными знаниями, а собственным усилиям. И среде, в которой вращался — ведь столица вобрала в себя всё самое лучшее, самое красивое и талантливое.
Каким восторгом наполнилась душа четырнадцатилетнего Дениса при первом посещении царского дворца! Красота, в которой должны жить небожители…
Встречи с Ломоносовым, личное знакомство с Фёдором Волковым, с актёрами его театра, дружба с Дмитревским, увлечение драматургией — вот настоящее образование!
И хотя по окончании учения Фонвизин числился в гвардии, службой его не обременяли. Первое и едва ли не последнее «гвардейское» поручение — съездить в Германию в свите вице-канцлера в качестве переводчика. По возвращении, получив должность секретаря кабинет-министра, Денис Иванович стал одним из тех, кого называют «придворными». И панорама «придворной» жизни, «придворных» нравов развернулась перед ним во всей своей красе…
— Что есть Придворная Грамматика?
— Придворная Грамматика есть наука хитро льстить языком и пером.
— Что значит хитро льстить?
— Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна, а льстецу полезна.
— Что есть придворная, ложь?
— Есть выражение души подлой пред душою надменною. Она состоит из бесстыдных похвал большому барину за те заслуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет.
Таким предисловием начал Фонвизин свою небольшую, но очень ёмкую, афористичную книжку «Всеобщая придворная грамматика». При ближайшем рассмотрении блеск дворцовых зал для него сильно потускнел — немного же здесь оказалось тех, кто попал в небожители за свои собственные заслуги! И ещё меньше тех, кто живя в искусственном мирке, не разучился мыслить и чувствовать.
— Какое разделение слов у двора примечается?

— Обыкновенные слова бывают: односложные, двусложные, троесложные и многосложные. Односложные: так, князь, раб; двусложные: силен, случай, упал; троесложные: милостив, жаловать, угождать, и наконец многосложные: Высокопревосходительство.
— Что есть придворный род?
— Есть различие между душою мужескою и женскою. Сие различие от пола не зависит; ибо у двора иногда женщина стоит мужчины, а иной мужчина хуже бабы.
— Что есть число?
— Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать можно.
— Что есть придворный падеж?
— Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. Впрочем, большая часть бояр думает, что все находятся перед ними в винительном падеже; снискивают же их расположение и покровительство обыкновенно падежом дательным…
Эта книжица не создала автору врагов — каждый считал, что стрела сатиры направлена не в него. В других. Да и не считали «диалоги» литературой — так, безделка для внутреннего, дворцового употребления. Юмор, среди своих вполне допустимый.
Но уже следующая вещь молодого автора — «Послание» — была заявкой на серьёзную литературу. Очень серьёзную, ведь «послание» — жанр высокий, галантный, предполагающий совершенное владение языком для передачи всех оттенков своих «чувствований». В отличие от оды, обращенной к особам царственным, адресат послания — друг, то есть равный по положению. Каким же вопиющим нарушением канона было Послание… к слугам! Шумилову, Ваньке и Петрушке! Именно им задаёт герой свой философский вопрос: «На что сей создан свет?»
— Любезный дядька мой, наставник и учитель,
И денег, и белья, и дел моих рачитель,
Боишься бога ты, боишься сатаны,
Скажи, прошу тебя, на что мы созданы?
Но дядька Шумилов мыслить не привык — он привык служить. И точно знает, что и как он должен делать. А знать больше ему, как будто, даже и грешно… Ванька же с барского разрешения готов порассуждать. Он не знает, зачем создан свет, но понаблюдав, знает КАК:
— Попы стараются обманывать народ,
Слуги — дворецкого, дворецкие — господ,
Друг друга — господа, а знатные бояре
Нередко обмануть хотят и государя;
Овечки женятся, плодятся, умирают,
А пастыри притом карманы набивают.
За деньги самого всевышнего творца
Готовы обмануть и пастырь и овца!
А Петрушка делает вывод:
— Что нужды, хоть потом и возьмут душу черти,
Лишь только б удалось получше жить до смерти!
Нет, ни слуги, ни господин не решили «премудрой задачи». Только в сомнение пришли: не играет ли Создатель нами, как куклами?
Подлинный восторг слушателей (именно слушателей, а не зрителей) вызвала комедия «Бригадир». Казалось бы, почему? Ведь сюжет — обычная для того времени «комедия положений». Но в классической комедии смеяться полагалось только и исключительно над «третьим сословием» — крестьянами, купцами, слугами. А тут… Бригадир влюблён в жену советника, советник — в бригадиршу. А советница — в сына бригадира Иванушку.
Все они принуждены видеться урывками, объясняться намёками, но в замкнутом пространстве постоянно натыкаются друг на друга. И резонно рассуждают, что «на других надобно закрывать глаза, чтобы закрыли глаза и на нас».
А успех — в открытии, которое позже заново сделает Грибоедов: секрет удачной комедии — не сюжет, а узнаваемые характеры!
Сам Бригадир читает только «Артикул и устав военный», бригадирша — только приходно-расходные тетрадки, советника занимают лишь книги юридические. Один общий интерес — картишки, да и то — кто освоил преферанс, а кому по уму только «чушка»…
Но две «возвышенные натуры» — Советница и Иванушка — страдают среди этих «скотов». Они читают «настоящие книги» — любовные романы. Французские. И даже могут пересыпать свою речь искалеченными французскими словами! Иванушка до того образован, что даже в Париже побывал! Своими рассуждениями он вполне характеризует себя сам:
— Я — пренесчастливый человек. Живу уже двадцать пять лет и имею еще отца, и мать. Отец мой до женитьбы не верил, что и черт есть; однако, женяся на моей матушке, скоро поверил — она за рубль рада вытерпеть горячку с пятнами.
— По моему мнению, кружева и блонды составляют голове наилучшее украшение. Педанты думают, что это вздор и что надобно украшать голову снутри, а не снаружи. Какая пустота! Черт ли видит то, что скрыто, а наружное всяк видит.
— Тело мое родилось в России, это — правда, однако дух мой принадлежал короне французской!
Советница, единственная отрада которой — шляпки и карты, от него в восторге:
— Без сумнения, мы рождены под одною кометою!

Их дуэт:
— Все несчастие мое состоит в том только, что ты русская.
— Это, ангел мой, конечно, для меня ужасная погибель.
— Это такой defaut, которого ничем загладить уже нельзя.
— Что ж мне делать?
— Дай мне в себе волю. Я не намерен в России умереть. Я сыщу occasion favorable, увезти тебя в Париж. Тамо остатки дней наших, les restes de nos jours, будем иметь утешение проводить с французами!
Будем надеяться, что уехать им удалось — иначе придётся предположить, что сегодняшние обожатели «цивилизованного мира» — их прямые потомки.
Но в конце Иванушка всё же ухитряется взглянуть на себя со стороны: «Молодой человек подобен воску. Ежели б к несчастью и я попался к русскому, который бы любил свою нацию, я, может быть, и не был бы таков.»
Итак, на позорище выведены представители правящего класса. Типичные представители! Служилое дворянство, чиновничество, помещики. И «Иваны, родства не помнящие». Правящие — но уже совсем не русские!
Нет, на сцену это допущено не было. Самим посмеяться над собой — это можно и даже должно, но допустить, чтобы над благородным сословием смеялось «подлое»?! Однако чтение комедии слушали восторженно! То шепотом, то возгласами выражая восхищение:
— Русские… они же все — совершенно наши, русские!
Общее мнение выразил один из немногих вельмож, кому удалось сохранить живую душу — князь Потёмкин:
— Умри, Денис — лучше не напишешь!
Ошибся князь — «Недоросль» у Фонвизина получился ещё лучше.
Но почему именно в адрес «Недоросля» порой приходится читать рассуждения критиков высокомерные, несправедливые, а нередко и просто злобные? «Какой бы театр не ставил эту пьесу, давно обратившуюся в литературный памятник, везде одно и то же: бегает брюхатый Митрофан, скучно резонерствует Стародум, которого невозможно отличить от Правдина и Милона. Кажется, все трое — одно лицо»…
Кто же настолько заинтересован в том, чтобы потомки этого НЕ ПРОЧЛИ?
Поразмыслить об этом стоит, но сейчас наша задача не в том, чтобы искать врагов, а в том, чтобы увидеть ценность этого «памятника» для потомства.

Итак, мы в подмосковном имении господ Простаковых. Госпожа Простакова здесь — абсолютный монарх. У неё на попечении юная родственница Софья — и тётушка прикидывает, как бы использовать девушку с прибылью для хозяйства. Выдать её замуж за своего брата Скотинина, чтобы на объединённых землях построить огромную свиноферму?
Но вдруг… всё самое неожиданное всегда бывает «вдруг»! Приезжает дядюшка Софьи Стародум, которого считали погибшим. А он не просто жив — он честно разбогател, и сделал Софью своей наследницей. Отдать такой кусок братцу?! Ну уж нет — теперь Простакова выдаст Софьюшку за своего пятнадцатилетнего сына Митрофанушку!
Одно из лучших моих школьных воспоминаний — чтение этой пьесы в классе «по ролям». Я была госпожой Простаковой, и старательно изображала безмерную материнскую любовь к двухметровому однокласснику — «Митрофанушке». А он закатывал глаза к потолку, напряжённо соображая, сколько будет «единожды един», свысока обзывал «няньку Еремеевну» (самую маленькую одноклассницу) «старой хрычовкой» — и тут же пытался спрятаться за её спину от разъяренного «дядюшки Скотинина».
А сцена экзамена!
«Еоргафия — наука не дворянская. Далеко ли ушёл в истории? Смотря в какой. В иной в тридевятое царство, в тридесятое государство залетишь. „Дверь“ — котора дверь, эта? Эта — прилагательна. Потому, что она к месту своему приложена. Вот та дверь, что у сарая стоит не навешена — та покамест существительна».
И мощный аккорд мощным голосом:
— Не хочу учиться — хочу жениться!
Если бы нас тогда спросили, кто же главный герой пьесы, мы
сочли бы вопрос совершенно праздным. Конечно Митрофанушка!
Но оказывается, неуч и лентяй был в тогдашних комедиях едва ли не общим местом. И современники оценили прежде всего тех персонажей, которых на сцене увидели впервые.
Холоп Тришка. Не убило в нём холопское положение ни остроумия, ни таланта.
Нянька Еремеевна. При всей привычке низко кланяться, она совсем не находит нормальным своё жалование: «Пять рублей на год да пятьдесят пощёчин на день». И ведь она непритворно любит своего воспитанника. «Воспитание» для неё, так же, как и для её господ, — синоним «питания». Но при этом её любовь и забота — совершенно искренни!
А «учители» — Цифиркин и Кутейкин! Они сами мало, что знают, но — добросовестны. Свои скромные знания пытаются вложить ученику уже не первый год. И оба дружно ненавидят третьего учителя — Вральмана, который даже и не делает вид, что чему-то учит «рапёнка». Просто получает деньги за то, что он — немец!
Главное же открытие пьесы — Стародум.
Странная фамилия для положительного героя? Ведь «Стародум» — это что-то вроде «Застрявший в прошлом веке»? Но с другой стороны, так ли уж это плохо, если прошлый век был в чём-то лучше нынешнего? И автор ясно даёт понять, что его герой «застрял» в эпохе Петра Великого. Он мыслит и действует так, как учил человек, посвятивший свою жизнь Родине. Её благу, чести и славе.
В пространных монологах — диалогах Стародума нет ничего смешного, и мы их, по правде говоря, торопливо пролистывали. Но учительница спросила:
— Как вы думаете, почему первому исполнителю роли Стародума — актёру Дмитревскому — публика кидала на сцену… кошельки с золотом? Хорошо играл? А может, что-то такое сказал со сцены, что привело зрителей в восторг? Прочтите, попробуйте догадаться.
Нехитрый приём сработал — мы так углубились в «скучные» страницы, словно кошельки с золотом были спрятаны в книжках. И вот…
— Где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права. Угнетать рабством себе подобных беззаконно!
— Немного надобно ума пасти скотину. Достойный престола государь стремится возвысить души своих подданных.
— Что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин.
— Главная цель всех знаний человеческих — благонравие. Наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло.
— Не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного. А разве тот счастлив, кто счастлив один?
— Дворянин, недостойный быть дворянином! Подлее его ничего на свете не знаю.
И когда Правдин удивляется, что Стародум не при дворе, не там, где он нужен, как врач больному, он слышит решительный ответ:
— Тщетно звать врача к больному неисцельно.
По мнению героя (и автора) двор Екатерины не просто болен — безнадёжен!
Чиновник Правдин убеждён в благотворности законов, в возможностях воспитания, в необходимости общих усилий людей честных. А главное — в абсолютной порядочности и всемогуществе императрицы. Есть в этом человеке что-то державинское! Но Стародуму его вера в светлое завтра кажется детски-наивной…
Светлым оно будет лишь у светлых людей — начитанной умницы Софьи и её жениха Милона. Суворовского офицера.
Пьеса имела такой успех, понравилась настолько, что с её героями публика не хотела расставаться! В наше время автор на волне популярности, вероятно, написал бы «Недоросля-2», «Недоросля-3»… Фонвизин же нашёл другой выход: журнал «Стародум». С подзаголовком: «Друг честных людей».
На страницах этого периодического издания печаталась обширная переписка господина Стародума — со знакомыми, с друзьями, с племянницей Софьей…
Вот несколько писем от генерала Дурыкина: он просит порекомендовать ему учителя для его детей. Повод высмеять и уровень домашнего образования, и кругозор генерала, и его старания взвалить на учителя всё, чего не умеет сам. Ничего, если ему некогда будет заниматься детьми!
Но это ещё и повод поговорить о том, что должно давать образование. Начало обсуждения педагогических теорий.
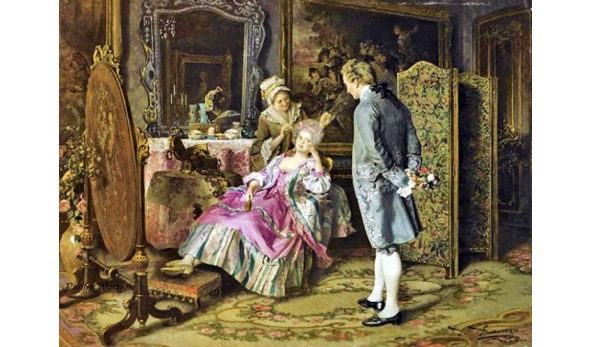
А рассказ об обычном утре обычной помещицы — княгини Халдиной? При её туалете присутствует светский ветропрах Сорванцов. Не потому, что княгиня пытается соблазнить юнца, а просто… хороший, светский тон — показывать, что понятие стыда тебе вовсе незнакомо.
Развлекая княгиню, Сорванцов рассказывает о своей бестолковой жизни. Смешно. Но пропадает желание смеяться, когда он вспоминает своих воспитателей — тётушку Лицемерову и шевалье Какаду. Тётушка терпеть не могла детей, предпочитая им общество своих болонок, а Какаду «вселял в сердца наши ненависть ко всему русскому».
Не таким уж плохим человеком вырос этот Сорванцов. По крайней мере, не кичится он своим невежеством и много читает, но время упущено. Если бы его здоровой натуре вовремя помогло воспитание…
Ещё один интересный персонаж — Бескорыст. Судья, который не берёт взяток. Чуть не умирает с голоду, хорошо хоть — семьи у него нет. А как не брать тем, кто кормит семью? Ведь нельзя же прокормить её на столь скромное жалование?
Или государство платит так мало в расчёте на «самокорм» чиновника? Но к чему тогда разговоры о борьбе со взятками?
А вот письмо от Софьюшки. Растерянная племянница советуется с дядей по очень деликатному вопросу: муж изменяет… кто бы мог ожидать от Милона?!
Стародум уточняет детали, и отвечает, как знаток мужской психологии: «Увлечение честного человека непотребною девкою долговременно быть не может». Племяннице предлагается подумать, что ей важнее — устыдить мужа, когда ему и так стыдно, или же сохранить с ним дружбу, а значит, и семейное благополучие. Расставшись с «девкой», (а это, конечно, произойдёт скоро), Милон будет счастлив, что у него есть тыл, есть неизменный друг — жена. А если тыла и друга не будет? Кому будет лучше?
Каждое письмо в этом журнале становилось поводом к обсуждению. Общество училось мыслить.
Неужели именно поэтому последовало высочайшее распоряжение о прекращении издания «Стародума»? Мыслящие подданные — это, по меньшей мере, неудобство…
Короткие рассказы, миниатюры, зарисовки новейших нравов, две неоконченные повести — это то, что написал Денис Иванович, будучи уже парализованным. Он не сдавался, он ценил каждый миг этой краткой жизни!
Никто до Фонвизина не сомневался в том, что великое у человечества — в прошлом. Измельчавшие потомки могут только подражать великим предкам, пытаться приблизиться к их славе.
Но писатель разглядел ростки величия в пошлой повседневности, в смешной обыденности — начало будущего.
И то, что он совершил в литературе, было настоящим открытием.
Державин Гаврила Романович. 1743 — 1816
Песня Державина, которая стала гимном России:

«Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся.
Магомета ты потрёс!
Припев:
Славься сим, Екатерина!
Славься, нежная к нам мать!
Воды быстрые Дуная
Уж в руках теперь у нас;
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.
Уж не могут орды Крыма
Ныне рушить наш покой;
Гордость низится Селима,
И бледнеет он с луной.
Зри, премудрая царица!
Зри, великая жена!
Что Твой взгляд, Твоя десница
Наш закон, душа одна.
Зри на блещущи соборы,
Зри на сей прекрасный строй;
Всех сердца Тобой и взоры
Оживляются одной.»
Что же это была за армия, где солдат мог быть поэтом, а поэт считал честью быть солдатом?
В любой стране армия — социальный лифт. Но русская армия в течение полутора столетий была ещё и средством воспитания НАЦИИ.
Несколько поколений Державиных служили «по Казани» — потомки татарского мурзы Багрима почти не покидали родины предков. И Роман Николаевич служил в провинции, в невысоком чине, почти в совершенной безвестности.
Кто мог запомнить первые годы его сына Гаврюши? Кого интересовали его первые шаги и первые слова? Разве что маму… Фёкла Андреевна и много лет спустя вспоминала происшествие удивительное: как её годовалый сынишка восторженно любовался огромной хвостатой кометой в ночном небе. Потянувшись к небесной гостье, точно к яркой игрушке, он произнёс своё первое осмысленное слово:
— БОГ!
Достойно удивления, как вырастали люди образованнейшие без школ? Как они искали знания сами — и находили?
Отец был занят службой, разъездами, он почти не появлялся дома, и обучением пятилетнего сына занялась мать.
Интересно, что именно Державин впоследствии напишет стихотворение о матери — едва ли не единственное в русской поэзии за целое столетие!

Портрет нашей маминьки.
«Иных веселье убегает,
С тобой оно живёт всегда.
Где разум с красотой блистает,
Там не скучают никогда.
Являя благородны чувства,
Не судишь ты страстей людских;
Обняв Науки и Искусства,
Воспитываешь чад своих»…
Фёкла Андреевна научила сына читать — писать, но дальше — не стала полагаться на свои силы. Дальше — дьячки, пономари… И немец Иосиф Розе который, очевидно, пошёл в «учители», чтобы не работать. Этакий фонвизинский Вральман, у которого, однако, был превосходный почерк.
Но благодаря этому наставнику Гаврюша увлёкся каллиграфией, научился рисовать пером. И «перенял» у него немецкий язык!
Мальчику было 11 лет, когда умер отец, оставив семью безо всяких средств, с заложенным имением, и с неоконченной судебной тяжбой из-за клочка земли. Те «медные деньги», которые иногда приносило крошечное «поместье», теперь вкладывались только и исключительно в будущее — в образование. Теперь гимназисты «пересказывали» Гаврюше геометрию, математику — то, в чём и сами сильны не были. Наконец, удалось поступить в гимназию. И обратить на себя внимание отличными способностями к черчению. Чертежи и рисунки будущего поэта даже были отправлены в Петербург графу Шувалову, и Державин получил первый чин — кондуктора Инженерного корпуса.
Слабость гимназического преподавания восполнялась чтением — и чтение давало пищу и без того пылкому от природы воображению. Но первые свои стихотворные опыты гимназист не показывал почти никому.
Окончить гимназию не удалось: на престол вступил Пётр III, и потребовал всех военнослужащих, числящихся «в отпуску», на смотр в столицу. В действительную службу.
Много лет спустя Гаврила Романович напишет:
«Недостаток мой исповедую в том, что я был воспитан в то время и в тех пределах империи, когда и куда не проникали еще в полной мере просвещение наук не только на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу. Нас научали тогда: вере — без катехизиса, языкам — без грамматики, числам и измерению — без доказательств, музыке — без нот и тому подобное. Книг, кроме духовных, почти никаких не читали, откуда бы можно было почерпнуть глубокие и обширные сведения».
Дальнейшее похоже на святочный, нравоучительный рассказ. Но все сюжеты берутся из жизни! К совершеннолетию сына матери удалось скопить денег, чтобы расширить имение — обеспечить старость. Осталось лишь отвезти деньги. Доверила сыну…
Лишь много лет спустя Державин рассказал о том, что произошло: едва добравшись до Петербурга, в надежде приумножить семейное состояние, он ввязался в большую карточную игру. Проиграл всё. Признаться в этом было совершенно невозможно — пришлось оббежать всех ближних и дальних знакомых, у всех понемногу занять — на год, купить имение… Мать так ничего и не узнала.
И целый год Гаврюша… учился играть в карты. Через год он уже мог обыграть любого шулера. Отыгрался совершенно, долги раздал — и поклялся не брать больше в руки карт. Никогда.
Был офицером, потом — крупным чиновником, придворным, светским человеком — то есть постоянно вращался в той среде, где играли ВСЕ… Но, очевидно, или будешь «как все», или — сумеешь выделиться из общей массы. Может быть, даже войти в историю…
До будущего благополучия, до будущих чинов пока было далеко — службу пришлось начать рядовым. Пусть в гвардейском полку, в столице — но рядовым. А значит, помимо шагистики и стояния в карауле, в обязанности входила и закупка провианта, и расчистка снега, и выкапывание сточных канав. Едва удалось напомнить о себе — обещал ему граф Орлов «доставить способы к занятию черчением». Но заниматься можно было только ночами…
А между тем сослуживцы, видя Державина всякую свободную минуту за книгой, стали просить его писать за них письма. За скромную плату — но никакие деньги лишними не были. Иногда, впрочем, Державин от денег отказывался, а просил поработать за него лопатой.
Солдаты выбрали безупречно честного товарища своим казначеем, но особенно ценили его за… стихи. К этим стихам начинающий поэт не относился серьёзно — это были рифмованные новости казармы, иногда иллюстрированные. Этакая забавная летопись полковой жизни, комиксы с продолжениями.
Однажды Державин был послан с письмом к поручику. На дом. И попал на поэтический вечер — светское общество развлекалось. Увидев, что посыльный солдат, передав письмо, не спешит уходить, хозяин махнул рукой:
— Иди, братец, иди. В стихах ты всё рано не смыслишь.
А кто же смыслил, если песни этого «братца» уже распевал весь полк?
Произведённый, наконец, в капралы, Державин не раз видел императрицу — во время коронации, парадов, смотров. Образ в его воображении сложился богоподобный, идеальный! Даже и годы спустя, когда знакомство с Екатериной стало личным, а отношения — натянутыми, уважение их друг к другу было полным.
Как не улыбнуться такому анекдоту: Державин (тогда уже губернатор) что-то доказывал императрице столь увлечённо, что она вызвала камердинера:
— Встаньте между нами, а то этот господин даёт волю рукам… Продолжайте, Гаврила Романович!
Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого,
Дурачествы сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного;
Проступки снисхожденьем правишь,
Как волк овец, людей не давишь,
Ты знаешь прямо цену их.
Царей они подвластны воле, —
Но богу правосудну боле,
Живущему в законах их.
Ты здраво о заслугах мыслишь,
Достойным воздаешь ты честь…
Вот в чём видел поэт истинные достоинства царицы, а совсем не в том, что она ходит пешком и ест простую пищу.
Но мы опять забежали вперёд.
Офицерского чина пришлось дожидаться десять лет! И хотя круг общения поэта к тому времени уже составляли дворяне, хотя он уже будучи капралом получил, как дворянин, «вольную квартиру» и даже годичный отпуск, всё же началом известности для него стал 1773 год — настоящее боевое крещение. Увы, воевать пришлось не с захватчиками — с бунтовщиками. С Пугачёвым.
Организуя разведку, прапорщик Державин проявил и распорядительность, и остроумие, и недюжинное литературное дарование — он писал «увещевательные письма» к населению, убеждая в самозванстве «Осударя Петра Третьего». Увы, народу так хотелось верить в чудо, что письма возымели обратный эффект — Державина выследили и дом подожгли. Пришлось бежать — и спасся от пугачёвского отряда только благодаря резвости своего коня. Преследовали вёрст десять…
Через несколько месяцев, возвращаясь в Москву через Казань, Державин увидел, что имение матери разорено повстанцами. Пострадал и их городской дом. Поправить дела казалось невозможным…
При всей симпатичности Пугачёва — только представить на минуту его победу?! Она означала бы гибель всей русской культуры.
Ода «Фелица» привела императрицу в восторг.
Но отзывы о службе Державина были противоречивы настолько, что Екатерина вызвала автора для личной беседы. И спросила: нет ли в его характере чего-то такого… неуживчивого? Почему он не сработался со столькими начальниками? Предвидя такой оборот, поэт подготовил все документы о своей службе — пером и шпагой. И аудиенция закончилась назначением на пост губернатора! Правда, не в родную Казань, а в Петрозаводск.
К новому месту службы Державин отправился с молодой женой, Екатериной Яковлевной Бастидон. Ей было всего 17 лет. Весёлая, добрая, очень «домашняя» — её любимыми занятиями были рисование и рукоделия. И книги.

Хотел бы похвалить, но чем начать, не знаю.
Как роза, ты нежна, как ангел, хороша;
Приятна, как любовь; любезна, как душа;
Ты лучше всех похвал — тебя я обожаю…
«Пленира» — такое имя даст поэт своей пленительной жене в своих стихах.
В Петрозаводске пришлось заниматься всем подряд: установлением таможни и «недопущением самосожжения раскольников», больницей и спасением от голода лапландцев, налаживанием школы и делопроизводства… Предсказания недоброжелателей о том, что недолго с таим характером остаются губернаторами — оправдались. Уже через полтора года Державин получил новое назначение — в Тамбов. К большому удовольствию Екатерины Яковлевны — условия жизни на новом месте оказались куда лучше. А в Петрозаводске осталась память о начальнике честном и правдолюбивом — видно, качества эти были у чиновников очень редки…
Было в Тамбове что-то от легендарного города Глупова: он был построен безо всякого плана, даже без мостовых, и пришёл в совершенный упадок и разрушение.
Это скопление лачуг впору было снести — и строить город заново.
Народное училище, сиротский дом, богадельня, больница, дом для умалишенных, работный дом, дом общественных собраний — это было намечено в первую очередь.
Перестройка генерал-губернаторского дома, присутственных мест, городской церкви… Предполагалось даже срочно вызвать из Петербурга Генерального архитектора — ведь предстояло построить практически новый город!

Для развития общественной жизни Державин устроил у себя, два раза в неделю, вечерние собрания: по воскресеньям танцы, по четвергам концерты. «Но не токмо одни увеселения, но и сами классы для молодого юношества были учреждены поденно в доме губернатора, таким образом, чтоб преподавание учения дешевле стоило».
Для образования и пользы юношества был даже устроен театр. Актёры — любители разыгрывали пьесы Сумарокова и Фонвизина в маленьком домашнем театре в доме губернатора, но очень скоро было получено из Петербурга разрешение на строительство городского театра. Общедоступного.
Ужасное впечатление произвела местная тюрьма: заключённые были заперты в общих бараках без различия пола и возраста, закованы, и питались так, что умирали от одних только условий содержания.
Не дожидаясь разрешения на строительство нового острога, Державин распорядился рассортировать несчастных по полу, по степени вины, улучшить содержание. А главное — ускорить судопроизводство.
«Я князь — коль мой сияет дух;
Владелец — коль страстьми владею;
Болярин — коль за всех болею,
Царю, закону, церкви друг.
Вельможу должны составлять
Ум здравый, сердце просвещенно;
Собой пример он должен дать,
Что звание его священно,
Что он орудье власти есть,
Подпора царственного зданья;
Вся мысль его, слова, деянья
Должны быть — польза, слава, честь.»
Вернейший монархист, который, однако, требовал совершенства, идеальности не от монарха — от самого себя.
Но и тамбовское губернаторство закончилось для честного чиновника весьма плачевно — он был обвинён в превышении полномочий. С подачей жалобы в Сенат. Сенат не нашёл в действиях Державина ничего предосудительного — ведь на его стороне был сам Потёмкин. И императрица.
Высочайшее назначение последовало не сразу — но последовало. Через два года Гаврила Романович, «не имевший способностей к придворной жизни», был назначен сенатором. Назначение, которое само по себе считалось наградой. Но для Державина Сенат стал настоящим полем боя за справедливость.
Умерла Пленира. В 34 года.
Менее, чем через год, Державин женился на Дарье Алексеевне Дьяковой, дочери своих старинных друзей.
Сохранилось любопытное семейное предание о том, как Даша Дьякова, тогда ещё подросток, сказала, что человека лучше Гаврилы Романовича нет, а за того, кто хуже, она замуж не пойдёт. Тогда это все сочли чудачеством — ведь её идеал женат, и женат счастливо. И вот…
Жениху было уже за пятьдесят, невесте — под тридцать. Зная отличные душевные качества друг друга, они не сомневались в прочном основании своего счастья.
И вторая жена получила ласковое поэтическое имя — Милена.
«Приди ко мне, Пленира,
В блистании луны,
В дыхании зефира,
Во мраке тишины!..
Хоть острый серп судьбины
Моих не косит дней,
Но нет уж половины
Во мне души моей…
Меня ты утешаешь
И шепчешь нежно вслух:
«Почто так сокрушаешь
Себя, мой милый друг?
Нельзя смягчить судьбину,
Ты сколько слез ни лей;
Миленой половину
Займи души твоей».»
А вот детей у Державина не было ни в первом браке, ни во втором. Мечтали, но — не судьба. И после смерти друга своего, Петра Гавриловича Лазарева, Державин взял на попечение его детей. Мог ли он предположить тогда, что один из его воспитанников, Миша станет адмиралом, и откроет последний неизвестный континент — Антарктиду?!
Будет у Гаврилы Романовича и должность президента Коммерц-коллегии, и министра юстиции. И только после отставки Гаврила Романович позволит себе стать просто ПОЭТОМ.
«Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрёте,
Как ваш последний раб умрет!»
Чеканные строки. Но и шутливые стихи его были столь же лаконичны и метки:
«Утешь поклоном горделивца,
Уйми пощечиной сварливца,
Засаль подмазкой скрып ворот,
Заткни собаке хлебом рот, —
Я бьюся об заклад,
Что все четыре замолчат.»
И песни — милые, озорные, напевные:
«Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках,
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях…
***
Краса пирующих друзей,
Забав и радостий подружка,
Предстань пред нас, предстань скорей,
Большая сребряная кружка!
Давно уж нам в тебя пора
Пивца налить
И пить:
Ура! ура! ура!»
(Какая интересная звукопись: там, где речь идёт о нежных девицах, ни одной буквы «р». И напротив, в стихах «мужских» — эти решительные «р» прямо-таки рубят воздух!)
В тот век, когда оды было принято писать только и исключительно земным владыкам, а слово «народ» часто, слишком часто заменялся презрительно-снисходительным «народишко», можно ли было представить себе оду… НАРОДУ? И когда державинские гимны «россу непобедимому» были написаны, удивительно ли, что их повторяли наизусть солдаты и командиры, школьники и профессоры, дети и матери? Самосознание, самоуважение — дар бесценный…

«О, русска грудь неколебима!
О русска грудь неколебима!
Твердейшая горы стена,
Скорей ты ляжешь трупом зрима,
Чем будешь, кем побеждена.
Не раз в огнях, в громах, средь бою
В крови тонула ты своей,
Примеры подала собою,
Что руссов в свете нет храбрей…
***
«О Рос! О доблестный народ,
Единственный, великодушный,
Великий, сильный, славой звучный,
Изящностью своих доброт!
По мышцам ты неутомимый,
По духу ты непобедимый,
По сердцу прост, по чувству добр,
Ты в счастье тих, в несчастье бодр…».
Ура! Российские крестьяне,
В труде и в бое молодцы!
Когда вы в сердце христиане,
Не вероломцы, не страмцы, —
То всех пред вами див явленье,
Бесов французских наважденье
Пред ветром убежит, как прах.
Вы все на свете в грязь попрете,
Вселенну кулаком тряхнете,
Жить славой будете в веках.
***
О кровь славян! Сын предков славных!
Несокрушаемый колосс!
Кому в величестве нет равных,
Возросший на полсвета росс!
И к Богу Поэт обратился не со смиренной молитвой, не с просьбой, но как Творец. Как равный!
Я — связь миров, повсюду сущих,
Я — крайня степень вещества;
Я — средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но от мании величия спасает самоирония:
Един есть бог, един Державин,
Я в глупой гордости мечтал;
Одна мне рифма — древний Навин,
Что солнца бег остановлял…
Забронзоветь не получилось — к счастью. Но наверное именно поэтому Державин не любил выслушивать начинающих поэтов. Все старательно подражали его манере, слогу, заимствовали его темы… зачем? Затем, что его всерьёз считали божеством, авторитетом непререкаемым. Кому же в здравом уме это может нравиться?
И приглашение на экзамен в Царскосельский лицей было принято без особого энтузиазма. Скучно было выслушивать завывания юных дарований: «С небес извергся адский пламень!!! Взревела буря, челн — о камень!!!»
Но отвечать приходилось: «Да-да, выразительно… сильно»… И вдруг:
«…В Париже росс! — где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он — несет врагу не гибель, но спасенье,
И благотворный мир земле.»

Это был не подражатель — это соперник. Равный! В 15 лет!
Кудрявый лицеист навсегда запомнил старого поэта восторженно — счастливым.
Два столетия, прошедшие с тех пор — это много или мало?
Судя по тому, как мало изменилась природа человека вообще и нравы чиновничества в частности — мгновение!
Однако с каким изумлением рассматривают туристы надгробный памятник Державина! С каким недоумением читают на нем длиннейший список его должностей, мест службы, наград… А где же главное его звание — ПОЭТ? То, рядом с чем меркнут любые чины и ордена?!
И начинаешь понимать, что двести лет — это много… Человек был ценен положением, должностью, вниманием государя, выраженным количеством нагрудных звёзд и крестов. А писание стихов считалось в лучшем случае невинной забавой, в худшем — опасным помешательством.
Сама идея служения СЛОВОМ ещё только зарождалась — и Державин стоял у её истоков.
Радищев Александр Николаевич. 1749 — 1802
«О, дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О, Вольность, Вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел!»
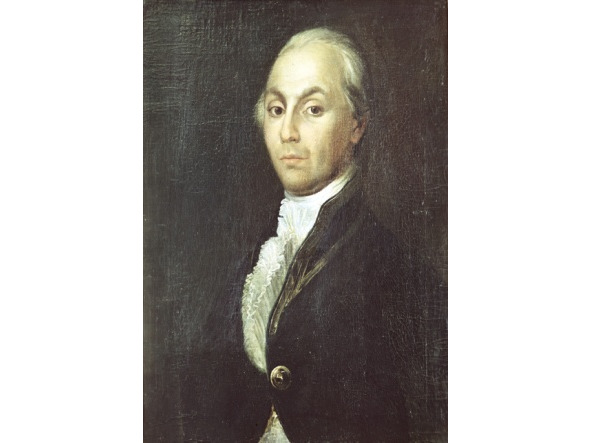
Эти строчки Радищева — эпиграф ко всему его творчеству. Он из тех, кого называют «автором одной книги» потому, что именно она оказалась незабываемой. Для тех немногих современников, кому повезло её прочесть. Да и сегодня «Путешествие из Петербурга в Москву» знают все — хотя бы понаслышке.
«Путешествие из Москвы в Петербург» почему — то немногие.
Вторую книгу написал Пушкин. Он попытался оспорить «крайности» Радищева — и современные либералы их радостно противопоставляют. Оказывается, кровожадный Радищев презирал свой народ и преклонялся перед Европой, а Пушкин, наше солнышко — совсем даже наоборот? Прочтите Радищева сами! Не доверяя ничьим пересказам, даже Пушкина.
Он любуется своим народом, исполненным достоинства. От девушки Анюты и её семейства — до рекрута, которому «лучше быть в воле бога — но не боярина». От помещика, сумевшего вырастить сыновей в правилах строгой нравственности — до нищего, который чувствует себя униженным… слишком большой милостыней. А каков крестьянин, который кормит свою семью, работая лишь в выходные (да ещё и ночь наша!). Всё остальное время — на барина. Бесплатно. Но как быть с теми, кто издевается над ТАКИМ народом? Хотя бы с тем помещиком который, имея нужду в деньгах, продаёт и старика, некогда спасшего ему жизнь, и изнасилованную им девушку, и их общего сына? А ведь закон на его стороне! Так можно «улучшить его нравы?» Или надо менять закон? Радищев уверен, что моральные уроды у власти не поймут другого языка, кроме того, на котором с ними уже поговорили — в Англии и во Франции — революции.
В чём же Пушкин мог не согласиться? Нарисованная картина правдива — этого он не отрицает. Но предлагаемые методы изменения действительности — это слишком!

— Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отъяти не можем, воздух? Да, только воздух! — такой вывод из своих наблюдений делает Радищев.
— Лучше участи наших крестьян нет во всей вселенной! — возражает ему Екатерина II.
И школьник, прочитав это, уверен, что один из заочных собеседников — врёт! Но кто?
При ближайшем знакомстве с XVIII столетием начинаешь понимать — обе фразы полемически заострены, но лжи в них нет…
Картины убожества русской деревни, где избы топятся по-чёрному, а солому с крыш скармливают скотине, где сахар — «барское кушанье», а хлеб — пополам с лебедой — это правда.
Но правда и то, что в «цивилизованных странах», в той же Франции, уровень жизни простонародья был гораздо ниже! Корова или лошадь для крестьянской семьи были роскошью, а уж изба… В «Европах» и тогда жильё арендовали. Не уплатишь аренду — окажешься на улице. Если у нас последний нищий знал, что зимовать он будет на собственной печке, то бездомному европейцу совершенно реально угрожала смерть на свежем воздухе.
Когда уровень жизни с жизнью несовместим, революция неизбежна. И Франция полыхнула. А Россия терпела ещё очень долго…
Сострадательный современник возмутился не столько самим фактом бедности русского крестьянина, сколько «возрастанием» этой бедности, ограблением деревни. Ведь за полвека налоги, поборы и прочие тяготы, наложенные на крестьян, возросли в денежном выражении… в четыре раза! Причём шли эти средства не в казну, а именно помещикам — на туалеты, на балы, на заграничные вояжи. На красивую жизнь…

Так почему же «лучше, чем во всей вселенной»? Потому, что в Европе ещё хуже! Как глава государства, Екатерина была вправе гордиться и территориальным «приращением» вверенной ей страны, и тем, что за годы её правления население России выросло в полтора раза. Конечно, она ожидала от людей умных и образованных, от «Радищевых» — не критики, а помощи и поддержки. Именно поэтому и восприняла «Путешествие», как удар в спину.
Арест и ссылка стали для Александра Николаевича совершенной неожиданностью. Императрице не понравилась его книга? Но разве он не высказывал те же мысли в более ранних своих сочинениях? Разве не повторял снова и снова, что «человек родится в свет, равен во всём другому»? Что право одних людей владеть другими развращает, растлевает дворян, создавая людей бесполезных Отечеству? Паразитов! А вот с этим императрица готова была согласиться… в частных беседах. Но менять вековые устои? Восстание Пугачёва окончательно убедило её действовать только «сверху», и только просвещением. «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»!
Почему же этого ужасного «русского бунта» не боялся дворянин Радищев? Да хотя бы потому, что «ужасный» Пугачёв не разорил его имение Верхнее Аблязово… ради просьбы крепостных. Крестьяне спрятали родителей Радищева на заимке в лесу, а его младших братьев и сестёр развели по крестьянским избам. Переодели, раскрасили сажей… Конечно, Пугачёв догадался, что господа не могли исчезнуть бесследно, но не в его обычае было разыскивать тех, кого не выдают мужики. Кого они любят…
Какой же урок из этих событий мог извлечь Александр Николаевич? Хочешь, чтобы с тобой поступали по-человечески — будь человеком сам!
Но ведь для нас всё это — «преданья старины глубокой»? В чём же ценность «Путешествия» сегодня? Превратилась ли книга в исторический памятник, или по крайней мере некоторые поднятые в ней вопросы — современны? Злободневны?
Судите сами…
Чем не «повесть постсоветских времён»?
Каждому, кто обзавёлся деньгами, хочется обзавестись ещё и родословной, облагородиться! Но самому полуграмотному «новому русскому» нельзя браться за сочинение родословной — его будет несложно разоблачить. Надо поручить это дело знатоку истории, какому — нибудь нищему профессору. И историк, не выходя из кабинета, создаёт «князей» и «графов». За скромные деньги. Замените слово «историк» на «чиновник» — и получите рассказ из «Путешествия», из главы «Тосна».
Или вот такие «лихие 90-е»:
«Новый русский» наслаждается жизнью, не вникая в скучное «хозяйство». Для этого у него есть управляющий — иностранец. Предполагается, что сиволапые мужики будут уважать «немца» уже за то, что он пахнет одеколоном и коверкает русские слова.
А сын хозяина — это уже вообще «золотая молодёжь». Вообразил себя существом высшей породы и уверен, что местные девки созданы ему на потеху.
Последней каплей для работяг стало изнасилование девушки хозяйским сынком…
Суд. Честный адвокат понимает, что довести сверхтерпеливых русских мужиков — это надо суметь… и убитые — сумели! Но как оправдать невинных убийц?! Проиграв дело, адвокат подаёт в отставку. «Новые русские» погибли, но дело их живёт!
У Радищева стороны этого конфликта, конечно, помещик и крестьяне. Но сам конфликт из главы «Зайцево» — увы, ничуть не устарел.
***
Красной нитью через всё повествование проходит «мысль семейная». Казалось бы, странно говорить о проблемах семьи, когда все вопросы были решены раз и навсегда — церковью?
Но вот — монах Иверского монастыря раз за разом переплывает Валдайское озеро ради коротких встреч с любимой… семья ему не положена! И почему в этом видят «романтизм», а не насилие над природой человека?
А «девушки» которые оказывают проезжим «полное гостеприимство»? И «не умирают от любви! Разве только в больнице». Семьи закрывают глаза на их заработок… впору возмутиться упадком нравов?
Но позвольте, а почему же тогда не считаются «упадком» неравные браки? Пятидесятилетний жених и пятнадцатилетняя невеста — в высшем свете — норма! Любовь? Смешно. Просто покупка — продажа, лицемерно прикрываемая словами о «муже — каменной стене». (Единственное возражение, которое находит здесь Пушкин — это то, что неравные браки — зло обыкновенное, привычное, неистребимое. И смешно в этом обвинять власть. При чём здесь образ правления?)
Крестьяне и подавно о любви не говорят: здесь невеста — работница, чтобы не сказать — рабыня. Здесь женят сыновей… в десять лет! Нередко — на восемнадцатилетних. Отношения в таких парах… «лет семь жёны бьют мужей, потом — мужья жён. Так сохраняется равновесие между полами». Горькая ирония!
(И здесь следует возражение Пушкина о том, что власть с тех пор установила минимальный брачный возраст. Это хорошо, но для крестьянок его надо понизить, шестнадцать — это много! Они и в пятнадцать уже вполне на выданье. А в крестьянских семьях так нужны работницы…)

Анюта из Едрова показалась путешественнику восхитительной, необыкновенной! Чем же? Крестьянская девушка «с виду лет двадцати, а конечно, не более шестнадцати»… И никаких ухищрений, чтобы в шестнадцать выглядеть на тринадцать? Нет, зачем скрывать здоровье и силу? Она не красоваться к речке вышла — она бельё стирает. Рассказывает любопытному барину, что живёт с матушкой, что есть у неё жених Степан…
— И что же, хочется тебе замуж?
— Хочется. Да знаешь ли, барин, для чего?
Оказывается, у подружки уже есть ребенок, и Анюта мечтает о таком же!
Удивительная «нормальность»… даже помочь захотелось — и проезжий знакомится с матушкой Анюты. Предлагает ей деньги — дочке на приданое. Не берёт: не нужны ей соседские пересуды. Всякий сможет сказать, что баре не дают девушкам приданое просто так!
Но может быть, возьмёт жених Степан? Ведь ему надо строиться! Нет…
— У меня, барин, есть две руки — ими я и поставлю дом.
Рассудительность и благородство…

Призадумался барин, вспомнил свою племянницу. Обыкновенная столичная барышня, она мечтала о красивой жизни, положении при дворе, успехах в свете… о чём угодно, только не о ребёнке. А уж как она гордится своей ножкой в три вершка, как смешны ей ноги простолюдинок — целых пять вершков, а то и шесть! Племянница, очевидно, неплохая — просто усвоила уроки среды, в которой живёт. Здесь нормально закрывать глаза на похождения мужа и смешно «показывать к нему любовь». А дети — не помеха свободе — всегда можно нанять тех, кто будет ими заниматься.
Парадокс: цель брака — что угодно, кроме создания семьи. Кроме заботы друг о друге, о старших и младших. Эмансипация? Проблема распада семьи встала во весь рост в двадцатом столетии, но Радищев заметил её в самом начале!
***
А вот прочитав главу «Торжок» мы, пожалуй, захотим поспорить с автором: он уверен, что цензура не только не полезна для общественных нравов, но и прямо вредна! Что печатать, выпускать в свет можно и должно всё. Даже вздор. Иначе читатель не научится сравнивать и отличать здравое от дурного, не научится мыслить. Зачем водить взрослого человека, как младенца на помочах? «Зачем не позволить всякому заблуждению быть явному? Явнее оно будет — скорее уничтожится!»
Не мог предвидеть Радищев состояния наших СМИ, не предполагал, что без цензуры «в народ» хлынут не искренние «заблуждения», а сознательная и циничная ложь. Сын Века Просвещения, он всерьёз полагал подлость в людях образованных — невозможной.
Если всё — таки решиться на перемены «сверху» и дать народу «вольность»? Как он ею воспользуется?
«Слово о Ломоносове» выглядит в путевом очерке вставкой, но вставка эта не чужеродна. Это и есть ответ на самый спорный вопрос эпохи.
Крестьянский сын, Ломоносов был вынужден скрыть своё происхождение. Тайной оно оставалось недолго, однако лучшего ученика не выгнали — наоборот, послали учиться в Германию. Дальнейшая судьба его хорошо известна, но для нас сейчас интересно то, что именно Ломоносов добился права поступать в гимназию и университет для «крестьянских и солдатских детей». Целое поколение учёных — его ученики, ставшие дворянами за заслуги перед наукой российской.
Для чего же, с какой целью Александр Сергеевич раскритиковал Александра Николаевича? Зачем уверял, что книга Радищева невероятно… скучна?! Неужели так нужно ему было расположение императора Николая I? Если да — то цель не была достигнута — цензура всё равно не пропустила «Путешествие из Москвы в Петербург» в печать.
Но может быть, цель была другой? Хотя бы так напомнить новому поколению читателей о писателе, самое имя которого было под запретом почти полвека?
И о книге, которой в русской литературе как будто бы и не было…
Крылов Иван Андреевич 1769 — 1844

«Чёрт возьми всех девок в свете,
От которых столько бед!
От которых в зиму, в лете
Никогда покоя нет!
От которыих крестьянам,
Управителям, боярам,
Словом, людям в свете всем
Беспокойств живут тьмы тем!»
Будущий классик написал эти стихи в пятнадцать лет. Угадаете его фамилию?
Никто из тех, кому я задала эту загадку, не угадал. Ни одного предположения! Но самое забавное, что услышав отгадку — Крылов! — не смеялись, а замирали в недоумении… Как?! Кто же не знает, что Крылов писал басни? А главное, он же — ДЕДУШКА! Неужели ему тоже когда-то было пятнадцать?!
А ведь и меньше было… Каждому ли удаётся в четыре года оказаться в списке кандидатов на виселицу? Сын офицера, вызвавшего сильнейшую «личную неприязнь» Пугачёва.
75 лет, прожитые Крыловым — не бог весть какой Мафусаилов век. Но в эти годы вместилось столько событий в жизни России, со столькими замечательными людьми свела Крылова судьба, столько великих успели при его жизни родиться и умереть… Младший современник Фонвизина, Державина, Радищева, сверстник Карамзина. На младшее поколение — декабристов, Пушкина, Лермонтова, Гоголя он смотрел уже, как на детей и внуков. На его веку заявила о себе молодая поросль великой литературы: Герцен, Тургенев, Достоевский, Толстой. Для них Крылов был не то, что «дедушкой», а патриархом, живой реликвией прошлой эпохи. Все они Крылова не просто ценили — любили. Но ведь странно, что острый ум, острый язык и острое перо не создали этому человеку врагов? Правда, не создали и друзей. Никто не мог похвастаться доверительными отношениями с Иваном Андреевичем, никто не мог опровергнуть или подтвердить те анекдоты про Крылова, которые так охотно пересказывали «в свете». Которые возможно, сам Иван Андреевич и сочинял…
Совсем не случайно Пушкин, в полной растерянности перед феноменом, записал: «Мы не знаем, что такое Крылов».
Первый русский поэт, слава которого далеко перешагнула границы России… не имел образования. Никакого. Даже начального. Отец его, Андрей Прохорович, возможно, послужил Пушкину прототипом капитана Миронова. Общего очень много: честный служака, почти вся служба которого прошла в маленькой крепостице на краю света. Более чем скромное жалование, на которое однако его жена, Мария Алексеевна, сумела создать семейное благополучие. Но вот что в этой семье было совершенно необычно — это любовь к Книге. Это сейчас мы можем наивно полагать, будто в век без интернета все самозабвенно читали. Ничего подобного, «нормальные люди» не занимались глупостями, за которые не платят! На капитана Крылова сослуживцы смотрели, как на блаженного, когда с каждого жалования он выкраивал рубли на книжки! Поначалу общее мнение разделяла и жена, но Андрей Прохорович просто… стал читать вслух. Увлеклась. Да так, что попросила мужа и её обучить грамоте! Ванюшу уже научили вместе — на пятом году от рождения. Выдавали книжки по одной, и терпеливо расспрашивали, что он там понял, и как. Книга стала для сына святыней.
Казалось, судьба улыбнулась скромному семейству — отец получил назначение в Тверь. Председателем уголовной палаты. «Хлебная» должность, на которой иные сколачивали состояние. Иные… но не капитан Крылов.
А для его сына Тверь открыла такие возможности, о которых и мечтать было нельзя под Оренбургом! Здесь Ванюша впервые увидел театр. Пусть самодеятельный, семинарский, но всё же — театр! Здесь он впервые услышал профессиональное исполнение стихов, попал на концерт заезжего скрипача — итальянца… В домах местной знати, куда изредка случалось попадать вместе с отцом, висели настоящие картины, и оказалось, что ТАК рисовать тоже можно научиться… И что российская азбука — не единственная в свете, есть ещё и «латинская» — ключ к иноземным языкам!
Где он находил себе учителей? Как, получив от них лишь самые начальные сведения, двигался дальше сам? Этого Иван Андреевич не рассказывал. Упоминал лишь о таком происшествии: отец был приглашён князем Львовым, и явился вместе с сыном.
Дети Львова заинтересовались гостем — ровесником: что он знает, что умеет? Ванюша покорил их… чтением забавного рассказа «на голоса, как в театре». Потом прочёл стихи на итальянском. Принесли скрипку — сыграл и на скрипке. Несколько песенок.
Князь восхитился тем, что капитан Крылов даёт своему сыну такое образование, каким может похвастаться не всякий юный аристократ. А Андрей Прохорович только смущённо разводил руками: таких талантов в своём отпрыске он сам не подозревал!
Предложение заниматься у настоящих учителей вместе с детьми Львовых было принято с благодарностью. Но счастье оказалось очень недолгим. Отец прихварывал давно, а умер внезапно. И двенадцатилетний Ванюша стал Иваном Андреевичем, главой семейства, единственным кормильцем матери и трёхлетнего братишки. Ведь всё наследство, оставшееся от отца — заветный сундук с книгами.
Три года, битых три года чиновник Крылов переписывал казённые бумаги в магистрате. И хотя сам он считал это время потерянным, служба обогатила его такими наблюдениями за «жизнью», каких просто не могло быть у обычного, «нормального» дворянского недоросля. Да и у взрослого дворянина с более-менее благополучной судьбой. Не потому ли с самого начала Крылов презирал «сентименталистов», издевался над ними в своих пародиях? Не потому ли настороженно — недоверчиво относился и к «новым поэтам» — романтикам?
Но литературные баталии были ещё впереди, а пока… если в бумагах чиновника Крылова попадались рифмованные строчки — взыскание. Если под ворохом чужих «уголовных дел» пряталась книга — немудрено было и получить этой книгой по голове…
И к пятнадцати годам Иван Андреевич уже отлично понимал — нет большего зла, чем покорность судьбе.
«…Препятство злом напрасно мы зовём.
Препятством в нас желанье возрастает,
Препятством вещь сильней для нас блистает!»
В этих незрелых стихах — мысль, которая сделала бы честь и зрелому автору. Но как переломить ход событий? Петербург!
И начинающему поэту (уже поэту!) удаётся уговорить мать переехать в столицу. К дальней родне. Пусть первое время придётся пользоваться добротой родственников и сослуживцев отца, но скоро, очень скоро свет узнает нового драматурга! Крылова!
Но дирекция театра, куда Крылов явился с комедией «Кофейница», не пожелала даже поговорить с пятнадцатилетним драматургом…
Литературная известность, а вместе с ней и слава, всё же пришли. И пришли довольно скоро — остроумного, языкастого, неистощимого на выдумки поэта охотно приглашали сотрудничать в журналах. Объектами его насмешек были светские нравы, модные лавки, помешательство на всяческой «иностранщине»… всё это было забавно и совсем не безобидно. Однако то, о чём Крылов действительно хотел поговорить с соотечественниками… Образ правления — об этом по условиям цензуры нельзя было и заикаться ни устно, ни тем более, в печати.
Идеалом казалось просвещённая монархия, но Екатерина — случайностью на троне. От главы государства всегда ожидают больше, чем он может сделать. Больше, чем в человеческих силах.
И вот, из номера в номер с продолжениями печатается переписка… эльфов и прочих созданий фантазии обо всём, что касается жизни странных существ — людей. О «кривосудии» и повальных взятках, о воспитании, результат которого — развращённость, о способе преподносить развращённость, как добродетель — для этого надо всего лишь вступить в гвардию…
И как же люди любят обманываться, приукрашивая свою нелепую жизнь! Какие сочиняют сентиментальные пасторали о жизни прелестных пастушек и добродетельных пейзан! Далее следует картинка с натуры о русском крестьянине и его «любезной пастушке-подружке», занятых неравной борьбой за существование…
А кого люди почитают полезнейшим? Великим? Думаете, земледельца — всеобщего кормильца? Нет. Того кто, не выходя из своего царского дворца, истребит больше всего народа!
Результатом был обыск в типографии, и… вызов Крылова во дворец. Для личной беседы с императрицей. Беседы, после которой Иван Андреевич счёл за благо исчезнуть из столицы на несколько лет. В Петербурге его не держало более ничто — мать умерла, брат определён в полк, типографии нет, вольное слово придушено из страха перед «французской заразой»…
Но — «не имей сто рублей, а имей сто друзей»! Товарищи по литературному цеху охотно приглашали Ивана Андреевича в свои имения. Гостить в дворянских гнёздах было принято подолгу, по два — три месяца. И живя поочерёдно то у одного, то у другого литератора, Крылов работал то секретарём, то домашним учителем. Играл на любительской сцене, рисовал… и обдумывал возвращение в столицу. С чем? Три его пьесы не приняты театрами. Можно прочесть и убедиться, что они не хуже того, что в театрах тогда имело успех. Но, пожалуй, и немногим лучше. Это ещё «не Крылов». Сатира? Преподнесённая иносказательно, она бы имела успех…
БАСНЯ?! Низкий жанр, который никто не принимает всерьёз… но читают все! Более того, нет поэта, который не попробовал свои силы именно в этом «презренном» жанре. Тредиаковский на этом поприще успеха не снискал, но Херасков писал басни хорошо, а Дмитриев даже очень хорошо. Вступить с ним в соревнование надо было решиться! И Крылов решился…
«Переводы из Лафонтена» — так преподнёс Крылов свои первые басни. Скромность? Осторожность? Или что-то ещё? Несложно убедиться, что от переводов, довольно точных («Лиса и виноград», «Лягушка и вол»), Крылов очень скоро перешёл к весьма вольным интерпретациям, а затем и к сюжетам, полностью оригинальным. Но и тогда он не возражал, когда его басни называли «переводами»! Лукавство поэта стало очевидно публике лишь в 1812 году, когда в «листках» — листовках разошлась басня «Ворона и курица».
«Когда Смоленский князь,
Противу дерзости искусством воружась,
Вандалам новым сеть поставил,
И на погибель им Москву оставил»…
Неслыханная вольность — в басне не должно быть конкретного указания на время и место, и уж тем более недопустимы собственные имена! Но чего не мог себе позволить тот, кого уж три года считали лучшим русским поэтом?! Ведь первый же сборник из 20 басен, выпущенный в 1809 году, сделал автора не «одним из лучших», а — бессмертным.
Злободневная басня — такого литература ещё не знала. Но цикл 1812 года… Робкая Курица уехала от наступающих врагов — и как же глупо это показалось Вороне! Это же европейцы цивилизованные, чего от них можно ждать плохого? Наоборот облагодетельствуют!
И вот — «сама к ним в суп попалась».

Карикатура «Вороний суп» — прямая иллюстрация к этой истории. Но те, кто могли бы узнать себя в Вороне, вряд ли это прочли… Это московские проститутки остались в Москве. В полном составе. Уверенные, что на французах можно хорошо заработать. А повезёт — так и во Францию заберут!
Когда пришельцы уходили с московского пепелища, девки толпой бежали за ними потому, что знали: свои их УБЬЮТ. Но и «цивилизаторы» их не могли кормить — мёрли от голода сами…
Ни одна не дожила и до Смоленска. Ни одна.
«Кот и повар», «Обоз», «Щука и кот» — отклики на события войны и шаржи на героев и «антигероев» этой войны.
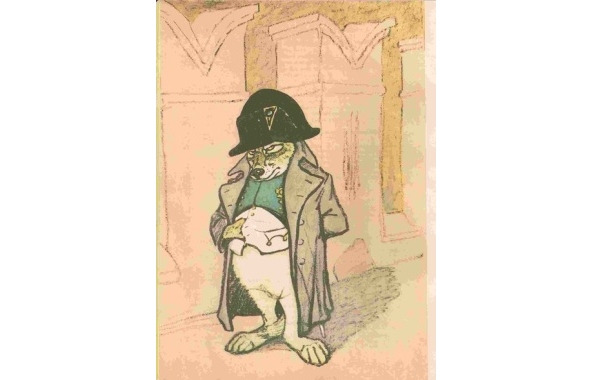

Но басня «Волк на псарне» — именно та, после которой имя Крылова стало известно действительно «всей России». Не только читающей, но и не умеющей читать! Эту словесную карикатуру на неудачливого захватчика, «непобедимого» Наполеона, прочёл сам Кутузов перед строем солдат. И объяснил, что басенку ему прислал «стихотворец Крылов». Солдатское воображение тут же нарисовало воображаемый портрет седого мудреца — ровесника и друга «дедушки Кутузова». Вот так поэт в свои сорок с небольшим стал «дедушкой». Навсегда.
Девять книжек басен Крылова — кладезь мудрости для любого возраста и для любого века. Особое очарование его в «простодушии» — ведь каждый рассказ выглядит частным случаем «из жизни». Проводить параллели, делать выводы, обобщения, искать мораль — задача читателя. Вот, например, как двести лет назад, так и сегодня считается, что учить детей за границей — это «круто». Или дома нанять им в учителя «носителя языка». А перечитаем — ка басенку «Крестьянин и змея»…
Змея пытается наняться в няньки. В воспитатели. Уверяет, что она добрая и преданная. Может, и так, но разве вслед за доброй змеёй не вползёт сотня злых? А главное, чему она может научить человеческих детей? Вот крестьянин и рассудил: «По мне и лучшая змея ни к чёрту не годится!»
Благородная публика могла снисходительно посмеяться: где уж мужику оценить змеиную мудрость… Но смех тут же замирал на устах: вот басня про Льва, который доверил воспитание сына Орлу: хоть и птичий, а всё же — царь. Научит править. Но Орёл научил Львёнка… вить гнёзда! Кто же не понимал, что речь идёт про императора Александра, которого самое лучшее европейское воспитание-образование, данное швейцарским педагогом Лагарпом, не научило ни любить Россию, ни понимать её. Но попробуй, придерись к басенке…
А вот старая Кукушка горько жалуется на равнодушие своих детей. Горлинка уточняет, всегда ли её дети были такими? А Кукушка и не знает, какими они были прежде: свои яйца она кому только не подкидывала. Не тратить же на детей свою единственную молодость!

«Квартет» — это шарж на Государственный совет, а «Лебедь, рак и щука» — на департамент Просвещения. Современники могли назвать фамилии этих «мартышки, осла, козла»… но разве теперь всевозможные законодательные собрания выглядят как-то иначе? И разве сценки про горе-музыкантов и горе-извозчиков не забавны сами по себе?
«Ягнёнок» — басенка, написанная в подарок Анюточке — дочке друзей. Подрастёт — поймёт…
Ягнёнок сдуру напялил волчью шкуру — и собаки его «потрепали» так, что бедняга «простонал весь век свой без умолку». Встречают по одёжке! И если «одёжка» девушки намекает на её доступность — с ней и обойдутся, как с особой доступной. Мода?! При чём тут мода, если твоё здоровье, как и твоя репутация — это забота твоя и только твоя! Почему это не читают в школе?
Впрочем, басни Крылова в школе читать не перестанут, пока существует русская школа. И «детские» «Демьянова уха», Кот и повар», «Мартышка и очки», «Волк и ягнёнок», «Две собаки», «Любопытный» — словно нарочно созданы для мультфильмов, диафильмов и школьных спектаклей.
Библиотекарь Публичной библиотеки, член Петербургской Академии наук, обласканный царской семьёй и бесконечно любимый читающей публикой, Иван Андреевич словно играл роль лентяя, обжоры, чудака, добродушного увальня, стороннего наблюдателя за «жизнью». Библиотечный фонд был им фактически создан (количество книг за тридцать лет службы выросло втрое). А знаменитые басни, словно рождённые на одном дыхании, известны в разных вариантах — они переписывались по нескольку раз. Тщательно вычищались из текста все штампы, все книжные обороты, все галлицизмы, пока даже щука, кот или полевой цветок не станут вполне русскими по языку и характеру.
Кипучий ум и кипучая энергия! Но маска медведя — лежебоки, случалось, обманывала даже тех, кто знал Крылова не один год. Так Гнедич уверял, что выучить что-нибудь новое в годы Ивана Андреевича уже невозможно. Иностранные языки надо учить в детстве! Крылов поспорил, что через два года он будет знать… древнегреческий язык, в котором Николай Иванович, переводчик «Илиады», был едва ли не единственным специалистом. Через два года, когда об этом споре уже никто не помнил, Крылов предложил Гнедичу проэкзаменовать его. При целом собрании знатоков.
Поначалу вопросы задавали с осторожностью, словно боясь оконфузить уважаемого Ивана Андреевича, но постепенно увлеклись и экзаменаторы, и экзаменуемый. Забрались в такие дебри…
Гнедич проиграл спор, но признать это не пожелал: «Я говорил, что не может человек»… но Крылов — сверхчеловек!
Вот так и получилось, что жизнь Ивана Андреевича разделилась на «до» и «после». «До» — безвестность, вынужденные скитания, бедность на грани нищеты и настойчивые поиски своего единственного призвания. Крылов был поэтом, драматургом, журналистом, актёром, педагогом, музыкантом, художником… учился всему и хватался за всё. Ему было так интересно жить!
«После» — всенародная слава, положение в обществе, достаток… Более, чем достаток — почти богатство! А по — настоящему близкий человек был только один — младший брат Лёвушка.
Военная карьера Льва Андреевича была самой обычной для служаки без денег и связей. Походы, сражения, переход с Суворовым через Альпы, провинциальный гарнизон. Возможность пожить своим домком. Попросил у брата денег на обзаведение, и конечно, получил сверх ожиданий — Иван Андреевич был так рад, что может теперь помогать не только добрым словом! Но через два года отстроенный с любовью хуторок… сгорел. Лев Андреевич, похоже, унаследовал и характер своего отца, и его вечную неудачливость. И некрепкое здоровье его было окончательно подорвано.
Похоронив брата, Иван Андреевич, казалось, потерял всякую связь с людьми, кроме служебной. Апатия, или как тогда говорили, хандра… Безразличие к тому, что скажут люди. К этому периоду его жизни и относятся светские анекдоты о сказочной неряшливости, безалаберности, лени поэта, и о его легендарном обжорстве. Навернёт индюка с целым блюдом кулебяк, отвалится от стола, да и скажет:
— Ну много ли человеку надо?!
Гости хохочут. Видят своими глазами, что как раз Ивану Андреевичу надо много.
А как-то Крылов поразмыслил вслух, что бы ему такое надеть на маскарад, чтобы не сразу узнали? Одна из дам подсказала:
— Да вы, Иван Андреевич, причешитесь — вас никто и не узнает!
Не сразу, далеко не сразу заметило «общество» человека, любящего Крылова верно и преданно, безо всяких мыслей о его величии. Уж очень человек-то был неприметный — кухарка. Фенюша. Если в доме был порядок и распорядок — то только благодаря ей.
Почему Иван Андреевич так и не женился? Кто знает… Очень может быть, что этого не желала сама Фенюша — какая из неё барыня? Крылов даже просил её не наводить порядок в его кабинете после того, как она разожгла печку рукописью, «самой старой». Сочла её самой ненужной!
Свой гражданский брак Иван Андреевич не афишировал, но особо и не скрывал. Случалось друзьям заставать его с ребёнком на руках. Дочка. Сашенька. И вот о будущем девочки позаботиться было совершенно необходимо. Официально Саша числилась «мещанкой», как и её мать. А Крылов был ей всего лишь «крёстным». Даже наследство по закону оставить не мог… Но его хлопотами Сашенька выучилась в пансионе, а затем Крылов сумел выдать её замуж за честного человека. Дворянина. Разумеется, Калистрат Савельев знал, почему о его невесте так заботится «крёстный», почему даёт за ней такое большое приданое.
Последние свои годы Иван Андреевич прожил в семье — при молодых. Много занимался внуками, обучал их грамоте и музыке, гордился «настоящим актёрским талантом» внучки Наденьки. И завещание оставил на «друга, который покоил мою старость». На зятя.
Кем был поэт в России в год рождения Крылова? Чиновником по делам литературы, придворным чином, которому всегда можно заказать хвалебную оду. И по трудам и заплатить. И всего одну человеческую жизнь спустя поэт в России стал властителем дум, соперником государя в своём влиянии на современников. Высшим моральным авторитетом.
Первый в нашей истории литературный праздник — это помпезное торжество в доме Энгельгардта, где было собрано всё, чем могла потрясти столица: зелень, фрукты, цветы, невиданные блюда и вина. Столица чествовала Поэта!
«На радость полувековую
Скликает нас веселый зов:
Здесь с музой свадьбу золотую
Сегодня празднует Крылов…
Весь мир в руках у чародея,
Все твари дань ему несут,
По дудке нашего Орфея
Все звери пляшут и поют.
Забавой он людей исправил,
Сметая с них пороков пыль;
Он баснями себя прославил,
И слава эта — наша быль.
И не забудут этой были,
Пока по-русски говорят:
Ее давно мы затвердили,
Ее и внуки затвердят.
Чего ему нам пожелать бы?
Чтобы от свадьбы золотой
Он дожил до алмазной свадьбы
С своей столетнею женой.
Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!»
Вот какими стихами почтил юбиляра Пётр Андреевич Вяземский.
Поэт был увенчан лавровым венком. Но кто-нибудь знает, что делать с венком после того, как он возложен на почтенную главу (а точнее, надет на шею)? Сколько его на шее держать? Когда снять и что с ним делать после?
Иван Андреевич распорядился венком весело и по-доброму: расщипал его на листочки и раздал тем, кто пришёл его поздравить. Поклонникам своей музы. И эту память о Поэте друзья хранили. Как святыню.
Да есть ли ещё хоть один русский писатель, памятник которому установили бы всего через 10 лет после смерти? Скульптура в глубине Летнего сада в Петербурге — задумчивый баснописец в окружении героев своих басен — вызывает восторг детей и самые тёплые воспоминания у взрослых вот уж скоро два столетия!

— Мартышка и очки! А вот лев! И медведь! И осёл! — не смолкают детские голоса. И непременно найдётся тот, кто с удовольствием прочтёт знакомые с детства басни тем, кто узнал их только недавно.
Жуковский Василий Андреевич 1783 — 1852
«Его стихов пленительная сладось
Пройдёт веков завистливую даль»…
Так писал Пушкин о поэте, которого называл своим учителем.
Но… не ошибся ли Александр Сергеевич? Не обернулась ли «сладость» — приторностью?

«Там небеса и воды ясны!
Там песни птичек сладкогласны!»
«Прошли, прошли вы, дни очарованья!
Подобных вам уж сердцу не нажить!
Ваш след в одной тоске воспоминанья!
Ах! лучше б вас совсем мне позабыть!»
«Сладко, сладко появление
Ручейка в пустой глуши;
Так и слезы — освежение
Запустевшия души».
Запустевшия души».
Сегодня такие стихи могут показаться пародией.
Но если не поспешим захлопнуть книгу…
«… Когда твой сын оковам обречён,
Когда его гнетут сырые своды —
Самим страданьем побеждает он,
И плен его — грядущий взлёт Свободы».
Это Байрон или Жуковский?
«Вы, журавли под небесами,
Я вас в свидетели зову!
Да грянет, привлечённый вами,
Зевесов гром на их главу!»
Это Шиллер или Жуковский?
«Царь Одиссей, городов победитель, героя Лаэрта
Сын, знаменитый властитель Итаки, мне выколол глаз мой!»
Это Гомер или Жуковский?
А сказки? «Кот в сапогах»?
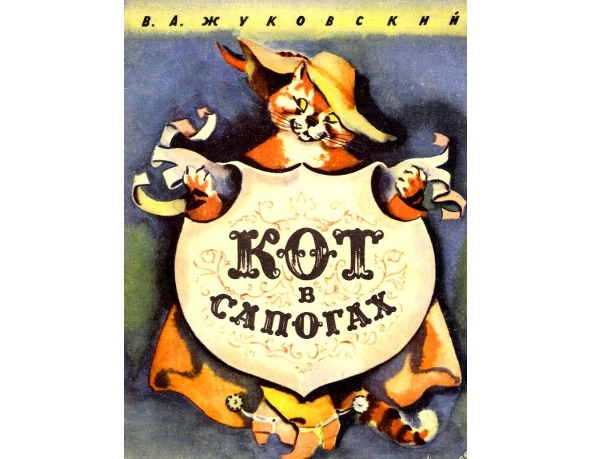
«Излишнюю верность почитаю излишнею неверностью»! Учитывая, как вольно этот переводчик зачастую обходился с первоисточниками, это — Жуковский. Именно он познакомил русского читателя с титанами Европы — распахнул перед ним целый мир идей и образов РОМАНТИЗМА.
А романтизм понимался, как способ увлечь любого читателя в необыкновенный мир, населённый необыкновенными людьми. Способными не только мыслить и чувствовать, но и сражаться.
Противостоять, если придётся, хоть целой Вселенной.
«Русский — это прилагательное». Кто бы ни был автором этого афоризма — точнее не скажешь. Француз, англичанин, поляк или даже турок — существительные. Индивидуумы. «Общечеловеки».
А русский — это «принадлежащий России». Первична именно «принадлежность», а кровь — глубоко вторична.
Отец будущего поэта, Афанасий Иванович Бунин, считал себя человеком просвещённым, образованным, не чуждым передовых устремлений. Что, однако, не помешало ему привезти в своё тульское имение… наложницу. Пленницу — турчанку. И поселить её рядом со своей женой. Сама Сальха, взятая из гарема, очевидно, не сразу поняла, что происходит: была женой турка — теперь стала женой русского. Младшей женой? Воля аллаха! Но оказалось, что у русского жена может быть только одна…

Кем же будет её сын?! Словно споря с беспощадной судьбой, она дала своему мальчику имя «Базилевс» — «Царственный!» Что ещё рабыня могла сделать для сына? Воспитывать его самой — значило, вырастить и его турком. И Сальха положила сына к ногам своей госпожи, жены своего господина: ведь Бунины похоронили шестерых детей.
Мария Григорьевна Бунина стала для Васеньки второй матерью. Позаботился и отец: зачислил годовалого сына в Астраханский гусарский полк. К шести годам Васенька «дослужился» до прапорщика, получил дворянство.
И даже много лет спустя в обществе знали: единственный вопрос, которого нельзя задавать добрейшему Василию Андреевичу — это вопрос о его родителях. Потому, что судьба матери была его болью, его незаживающей раной. Любил, мечтал хоть когда-нибудь обеспечить ей независимость — и при этом говорил с ней на разных языках. И в переносном смысле, и в самом прямом.
Принятый семьёй Буниных, мальчик жил жизнью обычного дворянского недоросля. Только Кутейкиных да Цифиркиных ему не нанимали; первыми учителями стали бабушка и старшая сестра.
А в семь лет прапорщик Жуковский подал прошение об отставке. И поступил в школу — в маленький частный пансион. Затем, через два года — в Народное училище. Но увы, наставники не заметили у «турчонка» никаких дарований, и порекомендовали продолжить домашнее обучение. А ведь именно в училище двенадцатилетний поэт сочиняет для домашнего театра две пьесы: «Камилл, или освобожденный Рим» и «Госпожа де ла Тур»…
В 14 лет, став студентом Московского Благородного пансиона, вместе с новыми друзьями Жуковский затеет выпуск собственного альманах «Утренняя заря», и поучаствует в нём лишь одним стихотворением «Майское утро».
Но литература профессией не считалась! И как быть тому, кого не интересуют никакие другие виды человеческой деятельности? Вероятно, следовало скрывать своё призвание, как стыдную болезнь — и делать карьеру. Как все. И семнадцатилетний Василий поступает на службу в московскую Главную соляную контору в должности городового секретаря.
Чем кончилось это насилие над собственной природой? Арестом «за неисполнение обязанностей» — и возвращением в родное село… под конвоем.
Здесь восемнадцатилетний Василий Андреевич открыл для себя ещё одну грань своего дарования — педагог! Старшая сестрица поручила его заботам двух своих дочерей — подростков. И внезапно вспыхнувшая любовь к Машеньке (взаимная любовь!) стала для обоих несчастьем: ведь о браке не могло быть и речи. Да, возможно, их обвенчали бы без вопросов: ведь ни в каких документах их родство не зафиксировано, но… это всё-таки ближайшее кровное родство. Дядя и племянница. Почти ровесники…

Один из самых ранних дошедших до нас рисунков Жуковского — портрет Маши Протасовой. Любви первой и, повидимому, единственной.
«Не служить» — это был настоящий вызов общественному мнению: «Он славно пишет, переводит. Нельзя не пожалеть, что с этаким умом»…
Элегия «Сельское кладбище» — перевод из Грея, — стала для Жуковского программной. Именно с этой публикации он вёл отсчёт своей литературной деятельности. Но почему?
Очевидно, благодаря рождению лирического героя — «унылого певца», тонко чувствующего одиночки, не связанного с обществом ничем — и не считающего себя обязанным разделять мнения и суждения большинства. Озирая старое кладбище, певец размышляет о тщете человеческих стремлений к славе и величию: не один ли конец ждёт всех? Не страшно ли оставить по себе дурную память? Всякий вождь, знаменосец — для кого-то враг… Так насколько же лучше жить в согласии с природой, с ближними, с собственной совестью, не страдая о том, что потомство помнить о тебе не будет!
Это — классический сентиментализм? Восемнадцатый век? Да, элегия написана под влиянием Карамзина, так же, как и первый опыт Жуковского в прозе — повесть «Вадим Новгородский».
Но в Европейской литературе стремительно набирал силу романтизм. Поэзия бунта, противостояния силе — любой. Хоть земной власти, хоть природной стихии, хоть силам неба и ада. Культ «старины», средневековья, когда, казалось, потусторонние силы развлекались, играя судьбами людей — и лишь очень немногие решались бросить им вызов.
И цикл баллад Жуковского, написанных с 1808 по 1812 год, — стал рождением русского романтизма. Почему русского, если это — переводы? А вот это и есть вершина мастерства переводчика — сделать чужое, привнесённое — своим, народным. Так, чтобы читатель удивился: как же мы до сих пор жили без этого? Без целого мира европейского средневековья, с его благородными рыцарями, прекрасными дамами, потусторонними силами?
Бесстрашие, верность долгу, постоянство — добродетели рыцаря. Культ прекрасной дамы — его религия. Но если дама прекрасна лишь лицом, но не душой? В европейской средневековой балладе «душа» интересовала авторов куда меньше, чем собственно сюжет. В балладе, ставшей русской, «душа» первична! Маленькая поэма «Перчатка» — именно об этом. Забава благородной публики — битва зверей. На арену выпущены лев и барс. Их пасти грозно оскалены, в их глазах неукротимая ярость. Рыцари, дамы и сам король Франциск замерли в ожидании битвы. И вдруг… Откуда-то с верхнего яруса на арену упала маленькая перчатка:
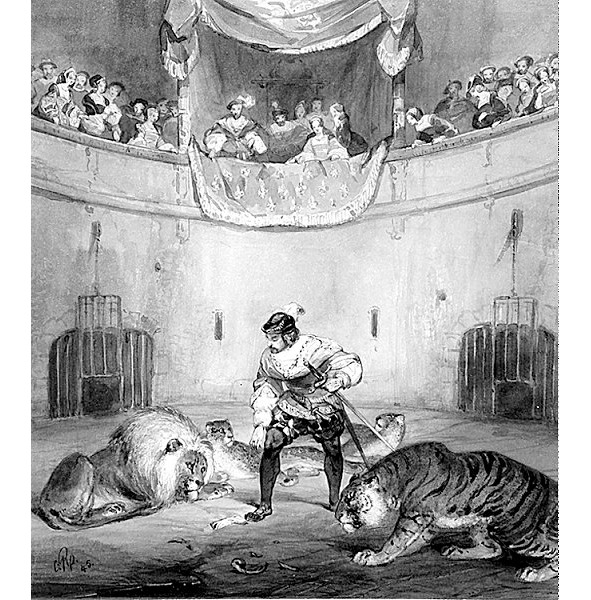
Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной
И колкою улыбкою глядит
Его красавица и говорит:
«Когда меня, мой рыцарь верный,
Ты любишь так, как говоришь,
Ты мне перчатку возвратишь».
Делорж, не отвечав ни слова,
К зверям идет,
Перчатку смело он берет
И возвращается к собранью снова.
У рыцарей и дам при дерзости такой
От страха сердце помутилось;
А витязь молодой,
Как будто ничего с ним не случилось,
Спокойно всходит на балкон;
Рукоплесканьем встречен он;
Его приветствуют красавицыны взгляды…
Но, холодно приняв привет ее очей,
В лицо перчатку ей
Он бросил и сказал: «Не требую награды».
Можно даме послать рыцаря на смерть верную и совершенно бессмысленную? Нет. Подлость.

А разве не столь же подл поступок короля из баллады «Кубок»? Короля, обязанного быть, по канонам средневековой повести, недосягаемым образцом всех добродетелей? Впрочем, читатель может этого и не заметить: величие морской стихии, красота подводного мира, открывшаяся взору юного храбреца — вот что поражает воображение!
А «Старушка…» или «Лесной царь» сегодня были бы отнесены к жанру «хорора». «Ужастики».
Разгул нечистой силы, противостоять которой — нечего даже и пытаться…
И всё же баллада — жанр европейский. О поэзии Англии или Германии русское общество до Жуковского и понятия не имело! Но Василий Андреевич не довольствовался ролью «ознакомителя» с чужими достижениями. Создать русскую балладу — именно этим стремлением объясняется внезапный интерес автора к русскому фольклору, простонародным поверьям, обрядности, гаданиям — всему тому, что просвещённые «русские европейцы пренебрежительно считали не стоящим внимания. Мужицкой серостью.
«Светлана» — «ужастик» по мотивам русской сказки. Поэтичный и нисколько не страшный. Тем более, что все кошмарные видения героини оказываются лишь… дурным сном!
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.
Тускло светится луна
В сумраке тумана —
Молчалива и грустна
Милая Светлана.
«Что, подруженька, с тобой?
Вымолви словечко;
Слушай песни круговой;
Вынь себе колечко.
Пой, красавица: «Кузнец,

Скуй мне злат и нов венец,
Скуй кольцо златое;
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
При святом налое»».
Обманули Светлану дурные предчувствия: все страхи развеялись с рассветом, и жених вернулся. Живой и здоровый.
Баллады создали автору славу лучшего из ныне живущих русских поэтов. Да, конечно, ещё был жив Державин, но… ведь это — прошлый век, молодость дедушек! Сам же Василий Андреевич ни дня не чувствовал себя «олимпийцем», даже тогда, когда к нему стали обращаться начинающие поэты, как к авторитету непогрешимому.
Когда Денис Давыдов спросил его мнения о своих стихах про пастушку и овечку, Жуковский сумел мягко объяснить ему, что стихи эти… даже если бы и были хороши — всё равно читатели бы их не заметили. Просто потому, что сельские идиллии пишут слишком многие. Главное — даже не техника стихосложения, а собственный голос, собственная тема.
Оба — и опытный стихотворец, и гусар, ещё только мечтавший о славе поэта, не могли тогда и предположить, что скоро, очень скоро, «тема» у них станет общей. И прославит обоих.
Война.
Остаться в стороне, отсидеться казалось совершенно невозможным. Даже если ты, «прапорщик в отставке», никогда не держал в руках оружия. И вот уже поэт — рядовой Московского ополчения. Резервная часть, набранная из добровольцев, выдвигается навстречу неприятелю. Под Бородино. Неужели Жуковский и впрямь вообразил себя воином? Нет. Ему, как толстовскому Пьеру, было важно ВИДЕТЬ. История творилась на его глазах! Результатом его личной военной кампании стала поэма «Певец во стане русских воинов».
Вокруг ночного костра — победители «непобедимого» Наполеона. Война ещё догорает, но уже ясно, что победители — нет силы, способной остановить русских. Потому, что сейчас они — едины, они — НАРОД. Все. От генералов до рядовых, от царя до мужика-партизана. Пенятся круговые чаши, и вдохновенный поэт произносит… тосты. За товарищей, за командиров, за государя, за русского мужика, ставшего воином… Каждый тост — самостоятельная миниатюра, облик каждого героя индивидуален. Понимаешь — автор совсем не понаслышке знает Кутузова и Платова, Раевского и Остермана, Барклая и Ермолова, Давыдова и Фигнера. Настоящего трагического звучания достигает голос певца в той части поэмы, которая стала реквиемом погибшим. Багратион, Кульнев, Кутайсов… люди — звёзды, имена — знамёна.
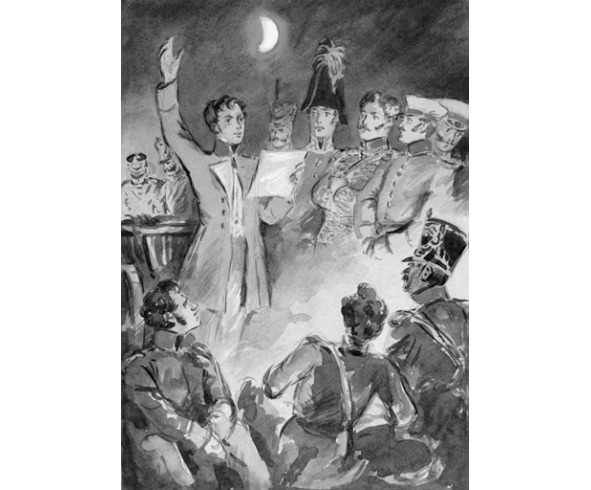
И всё это вместе, земля и люди — РОДИНА.
«Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
Но можно ли продлить этот краткий миг истории, можно ли сохранить единство, способное творить чудеса? Не от государя ли это зависит?
И написанное после войны «Послание государю Александру Первому» изобилует традиционными для этого жанра похвалами и восторгами, но есть в нём и главное — ожидания подданных, их надежды на будущее. И рекомендации, как эти надежды оправдать:
«От подданных царю коленопреклоненье;
Но дань свободная, дань сердца — уваженье,
Не власти, не венцу, но человеку дань.
…
Воззри на твой народ, простертый пред тобою,
Благослови его державною рукою.
Преобразованный, исполнен жизни новой,
По манию царя на все, на все готовый —
Доверенность, любовь и благодарность он
С надеждой перед твой приносит царский трон.
Поверь народу, царь — и будешь счастлив ты.
Но вчерашние партизаны возвращены в ярмо! «Крестьяне, верный народ наш, да получат мзду свою от Бога» — вот и вся словесная благодарность Александра крепостным спасителям отечества. А о стихотворном «Послании» восторженно отозвался Пушкин — вчерашний лицеист: пусть русская литература небогата дарованиями — зато она не знает низкопоклонства перед властью!
Однако именно «Послание» решило судьбу Жуковского: по настоянию вдовы Павла I Марии Фёдоровны он был приглашён ко двору. Сначала — на скромную должность чтеца, затем — учителя русского языка.
А вершиной придворной карьеры стала должность воспитателя наследника престола, будущего императора Александра II. Ох и смеялись друзья — вольнодумцы — будущие декабристы! Эпиграммы сочиняли:
«Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый венец,
С указкой втёрся во дворец.
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмёт… камер-лакею.
Бедный певец!»
Но сколько раз потом Жуковский хлопотал при дворе об облегчении участи сосланных декабристов! И за Пушкина, и за Лермонтова. И устраивал освобождение Шевченко…
Относясь к поручению со всей серьёзностью, Жуковский разработал план воспитания и образования, который и сегодня читать бы и перечитывать всем, кто считает себя ответственным за будущее ребёнка. Цель — вырастить человека, способного быть счастливым. Счастлив лишь человек добродетельный, а значит, учение образует его для добродетели, знакомя питомца:
1) С тем, что окружает его.
2) С тем, что он есть.
3) С тем, что он быть должен, как существо нравственное.
4) С тем, для чего он предназначен, как существо бессмертное.
В постепенном разрешении сих четырех вопросов заключается весь план учения.
Вопреки царским семейным традициям, поэт настоял на образовании гуманитарном, образующем душу, создающем мировоззрение, формирующем чувство ответственности.
А совместные путешествия наследника с наставником по России познакомили будущего императора с тем, ЧЕМ ему предстоит управлять.
Результат?
То, что именно питомец Василия Андреевича отменит крепостное право, то, что именно благодаря его реформам страна, по образу правления — средневековая, встанет на путь развития демократии (поначалу в форме местного самоуправления) — едва ли можно считать случайным стечением обстоятельств.
Призадумаешься, кто же оказался более «результативным»: декабристы или их тихий «придворный» оппонент?
Но даже самый лучший воспитатель в конце концов перестаёт быть нужным…
Друзья?
Жуковский умел не наживать врагов, умел быть искренне внимательным к молодым талантам, добрым ко всем, кто нуждался в помощи, но много ли у него было друзей «на равных»?
Едва ли не единственный — Пушкин.
А ведь в момент их знакомства — ничто не предвещало… Двадцатилетний Жуковский бывал на литературных вечерах, которые устраивал Василий Львович Пушкин — поэт, довольно известный. Тогда и заметил любопытного мальчугана — племянника поэта. Сашеньке было четыре года.

При такой разнице в возрасте люди могут стать друзьями, только если их свяжет общее дело. Дело жизни. Но можно ли было тогда предположить?.. Их знакомство возобновится через одиннадцать лет — и очень скоро лицеист и солидный поэт станут друзьями. При том, что Жуковский был тогда старше Пушкина ровно в два раза!
Но в литературном обществе «Арзамас» не было «старших» и «младших», никто здесь никого не поучал, ни на кого не давили авторитетом. Здесь собирались те, кого волновала возможность изменить жизнь — СЛОВОМ. Здесь все — от семнадцатилетнего Пушкина до пятидесятилетнего Карамзина, — сходились на том, что литература не может, не должна становиться «музеем древностей». Чтобы воздействовать на умы, она обязана не просто «отражать жизнь», но развиваться вместе с жизнью. В идеале — писать надо так, как говорят! С этим соглашались, как будто, все «Арзамасцы», но первым решился отказаться от красот «высокого штиля» — самый юный. Пушкин. «Руслан и Людмила» — сказка, написанная языком обыденным, не приукрашенным розами романтизма — сентиментализма, вовсе не вызвала единодушного восторга в читающей публике: «Язык людской и девичьей!». Поддержка Жуковского оказалась решающей — подарил Пушкину свой портрет с лаконичной надписью «Победителю — ученику от побеждённого учителя». А легко ли было мэтру чувствовать себя побеждённым мальчишкой? Но когда над этим «мальчишкой» нависла серьёзная угроза соловецкой ссылки», именно Жуковский сумеет отвратить. Вместе с Карамзиным они поручатся, что их общий друг никогда и ничего более не напишет «против властей». И вместо Соловков Пушкин поедет в Одессу, в Молдавию, в Крым.
А позже, уже в Михайловском, получит от Жуковского письмо не просто со словами поддержки, а с настоящей программой жизни:
«На все, что с тобою случилось, что ты сам на себя навлек, у меня один ответ: ПОЭЗИЯ. Ты имеешь не дарование, а гений… Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастие и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и не только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывёт, если захочет сам. А я обнимаю тебя. Плыви, силач… По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе».
В последующие годы Василий Андреевич брался «вызволять» многих, очень многих. Он не афишировал своего участия в судьбах Герцена, Кириевского, Гоголя, Боратынского… но Николая I раздражало то, что воспитатель его сына готов ручаться за каждого опасного вольнодумца:
— А за тебя, Жуковский, кто поручится?!
Услышав такое, поэт немедленно подал прошение об отставке. Которое, впрочем, принято не было. Так и остался «представителем грамотности возле трона безграмотного».
Семейная драма Пушкина, его дуэль и смерть — всё это на его глазах. Пытался помешать, остановить — но и другу не было позволено вмешиваться в «дело чести»…
Описание последних минут Пушкина Жуковский оставил потомству и в виде дневниковой записи, и в стихах:
«Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе,
Руки свои опустив, голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мёртвому прямо в глаза; были закрыты глаза.
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?
И тут же царское поручение: разобрать бумаги покойного камер-юнкера Пушкина. И выговор за то, что часть бумаг Жуковский вынес. Утаил! Действительно ли только личную переписку?!
А то, что прятать не хотелось — неопубликованное, не пропущенное цензурой? Хотелось напечатать. И появляется сказка «О купце Остолопе и работнике его Балде». Обидный компромисс…
Ещё один компромисс даже увековечен в граните: в Петербурге в Пушкинском скверике стоит бронзовый памятник 19 века, а на его пьедестале — престранная надпись:
«И долго буду тем народу я любезен,…
Что прелестью живой стихов я был полезен»…
Кто же не знает, что пушкинские строки звучат иначе:
«И долго буду тем любезен я народу,…
Что в мой жестокий век восславил я свободу»!
Но цензура пропустила только вариант, подчищенный Жуковским. И в печать, и на памятник.
Три года спустя, по случаю совершеннолетия наследника престола, поэт получил почётную отставку, и простился со свои воспитанником, с Петербургом, и с Россией. Как оказалось, навсегда. Один за другим уходят друзья. Давно нет в живых музы — милой Машеньки Протасовой…
«О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.»
Последняя попытка стать счастливым…
В Дюссельдорфе Жуковский женился. В 57 лет. На 19-летней Елизавете Рейтерн, дочери живописца. Новая семья, новая родня, новая жизнь. На все оставшиеся 12 лет. Была ли эта жизнь счастливой? Увы…
Юная хрупкая жена едва пережила первые роды, а в результате вторых была парализована. Неподвижность, потеря речи, полная невозможность ехать куда бы то ни было. Спасали заботы о двух детях и работа — смерть застала поэта за переводом «Одиссеи»! Увы, в Баден-Бадене.
Возвращение в Россию планировалось, откладывалось, и — состоялось лишь посмертно.
Жена пережила мужа на 4 года.
В Некрополе Александро-Невской лавры читаешь на саркофагах, урнах и колоннах имена, ставшие гордостью и славой России. Вот и Жуковский Василий Андреевич…
Здесь, как нигде, чувствуешь необходимость бессмертия.
Рылеев Кондратий Фёдорович. 1795 — 1826
Такой ясно-прозрачный, такой простой и однозначный поэт… Не странно ли, что вся жизнь его пронизана предвидениями, предсказаниями, настоящей мистикой? И жизнь, и поэзия, и даже посмертье…

Безвременье времён Александра III то и дело взрывалось «бунтами»: крестьяне, рабочие, студенты. И повсюду звучали «возмутительные» песни, зовущие к борьбе. Александр Ульянов и его товарищи пели:
«Когда придёт урочный час,
И встанут спящие народы,
Святое воинство свободы
В своих рядах увидит нас!»
В полиции студенты на голубом глазу пытались обвинять своих обвинителей в дремучем невежестве:
— Этим песням уже полвека, это Рылеев написал!
Шли годы — а поэта не только не забывали, но «находили» всё новые и новые его стихи, и даже озорные куплеты:
«Как у нас на троне
Чучело в короне,
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!»
Сегодня уверяют, что многие диктуют свои стихи, музыку с того света. Явление даже получило название — «психография». Но здесь ещё мистики не было!
Просто Рылееву приписали много песен других поэтов — они не могли повредить автору, давно покойному. Повешенному. Казнённому за «вольнодумство». Мёртвый поэт спасал живых.
Детство будущего поэта оказалось таким коротеньким, что он его едва помнил. Отец, Фёдор Андреевич, отставной майор, ушёл в отставку без пенсиона, женился на провинциальной барышне Анастасии Матвеевне Эссен, и убедившись, что её имение не даёт никакой прибыли, пошёл служить управляющим в богатое поместье Голицыных.
Очевидно, чувствовал себя неудачником, винил в своих неудачах всех, и прежде всего — жену.
Жизнь в крошечном селе на болоте и так была небогата радостями, но во что же она превратилась для Анастасии Матвеевны после замужества, если она сутками пряталась от побоев мужа в подвале? И похоронила одного за другим четверых детей.
Даже и трезво мыслящие люди в таких обстоятельствах становятся нервными, экзальтированными… и суеверными. Несчастная мать кинулась к гадалкам и ворожеям. И получила совет пригласить следующему ребёнку в крёстные того, кто на рассвете пройдёт по дороге первым. И дать ему имя «по крёстному», каким бы простонародным это имя ни было!
Первым оказался отставной солдат на деревянной ноге. Кондратий.
Казалось, в семье должны были воцариться мир и благоденствие? Живой ребёнок! Но через пару лет отец привёз в дом… внебрачную дочку. И приказал жене растить её, как свою. Сестрица появилась… А Кондраша заболел. Да настолько серьёзно, что врачи не оставляли надежды. Дифтерия, к утру задохнётся. Мать не переставала надеяться на чудо — всю ночь молилась. И перед рассветом…
Что произошло перед рассветом — рассказала сама Анастасия Матвеевна четверть века спустя. Рассказала в письме к сыну — и так и не решилась это письмо отправить.
Икона превратилась в окно, и из этого окна вышел ангел, скорбный и грозный. И сказал, что ребёнку лучше умереть сейчас, чем прожить жизнь, которая ему предстоит. «Смирись и скажи Господу: «Да будет воля твоя!»
— Только в этом, только в единственном да будет МОЯ воля!
Тогда ангел начал показывать живые картины: вот мальчик чуть подрос. Ещё совсем маленький, но в военном мундирчике. Почему?
Вот он — подросток, углубившийся в книгу. Вот — юноша, весело и беспечно шагающий по городу, похоже, иностранному. Вот молодой человек в каком — то многолюдном, шумном собрании. Встал — и все смолкли, слушают его пылкую речь, из которой мать не расслышала ни слова…
И в последний раз спросил ангел: «Смиришься? Если нет — всё предначертанное свершится. Но конец будет страшным».
— Покажи! Но и тогда я буду молить господа…
Ангел взмахнул крылом — и мать увидела виселицу.
Рассвет. Мальчик спокойно спал — смертельная опасность отступила.
Но обстановка в семье становилась опасной для психики, да и о будущей карьере позаботиться надо: ни денег, ни связей — пусть будет хотя бы образование. И пятилетнего «недоросля» определяют в Кадетский корпус. Вот и первый военный мундирчик…
Торжественное и прекрасное здание на Неве (Меньшиковский дворец!) было «отдано кадетам» полвека назад, и десятилетиями воспитывало элиту русской армии. Портрет этого учебного заведения, его преподавателей, служащих, учеников — в повести Лескова «Кадетский монастырь».
Директор Перский, эконом Бобров, доктор Зеленский «понятия не имели ни о какой „педагогии“ — они просто любили детей». Образование, воспитание, снабжение, питание — всё здесь было устроено, казалось, нельзя лучше. Общей картины не испортил даже Клингер — немецкий поэт, принявший бразды правления, и считавший единственным средством воспитания — розгу. И тут кадеты решили, что для них это — испытание характера. Как для юных спартанцев!
Но… одно только «но» — детей было 1200. И те, кто поступили сюда пятилетними, за 11—12 лет обучения успевали забыть родителей, и вообще «семейственную жизнь». «Дружба» была святыней, «товарищество» — главной ценностью: лишённые привязанностей за пределами корпуса, кадеты привязывались друг к другу. И справедливое, доброжелательное «начальство» любили подчас больше, чем далёких, нередко равнодушных отцов. Не отсюда ли у Кондратия равнодушие к отцу — и экзальтированная любовь к матери?
Однажды эконом Бобров явился к директору с докладом о делах хозяйственных, и обнаружил, что листок ему подменили: вместо доклада — стихи!
«Я знаю то, что недостоин
Вещать о всех делах твоих,
Я не поэт, а просто воин,
В моих устах нескладен стих.
Но ты, о мудрый, знаменитый,
Царь кухни, мрачных погребов,
Топлёным жиром весь облитый,
Единственный герой Бобров,
Не озлобися на поэта,
Тебя который воспевал»…
Не «озлобился» добрейший «Бобёр», но обиделся. Пришлось извиняться. Эта неудачная шутка и стала рождением Рылеева — поэта.
Будет и офицерский мундир, и пылкое прощание с друзьями — клятвы быть первым в каждой атаке, и заграничный поход: война ещё догорала — на подступах к Парижу.
А после победы — показалось, потеряны цель и смысл жизни. Провинция, глушь, гарнизон, учения — зачем?! Что здесь делает он, поэт, пусть пока не увенчанный лаврами? Встреча с будущей женой, Наташей Тевяшовой, — это прекрасно, но что дальше?
Матушка благословила заочно — не сомневалась, что её сын плохую жену не выберет. Но ведь и хорошую надо обеспечить? Сельцо Батово — 27 душ. Это разве что «своё молочко, свои яички», а для жизни в Петербурге нужна отставка и гражданская служба.
Столица обещала много, но каждый шаг давался здесь очень нелегко. Служба в суде принесла заслуженную репутацию судьи справедливого и неподкупного, а стихи… Рылеев и сам понимал, что дебютировать с элегией, стансами, или даже сонетами — не стоит. Этого добра пишется столько, что просто не заметят.
И когда прокатилась волна бунтов в военных поселениях — гарнизонах, где солдаты крестьянствовали, кормили себя во время, свободное от муштры, — вот тогда появилась в печати сатира «К временщику». Якобы, перевод несуществующей сатиры «К Рубелию».
«Надменный временщик, и подлый, и коварный,
Монарха хитрый льстец, и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесённый в важный сан пронырствами, злодей…
Твоим вниманием не дорожу, подлец!
Из уст твоих хула — достойных хвал венец!
Твои дела тебя изобличат народу.
Познает он, что ты стеснил его свободу:
Налогом тягостным довёл до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты…»
Кто же не понял, что «временщик» — это всесильный граф Аракчеев, царский фаворит, организатор ненавистных народу военных поселений? Общество замерло в ожидании, гадая, что теперь станется со стихотворцем. Ничего! Аракчеев «постыдился признаться явно — и туча пронеслась мимо». А Россия узнала нового поэта. И Северное тайное общество обратило внимание на единомышленника.
Новая служба — в представительстве Российско — Американской торговой компании — это было очень интересно. Позволило побольше узнать о жизни и образе правления в стране, которая казалась надеждой человечества: свобода от порабощенной Европы, жизнь с чистого листа. Но годится ли такой опыт для России, живущей обычаями и традициями? Применим ли вообще, в какой бы то ни было стране опыт, пусть удачный, но — чужой, заёмный? Не надёжнее ли опереться на собственную историю?
Вот об этом и велись нескончаемые споры в доме Рылеева на Мойке, у Синего моста.
Организация будущих декабристов была, скорее, клубом по интересам. Облик организации общество стало принимать именно с 1823 года, после вступления в него Рылеева — деятельного, энергичного, страстного, способного зажечь, вдохновить и направить.
«Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья…»
Но пути и средства захвата власти, будущее после переворота — всё это представлялось перспективой отдалённой и туманной. Цель — хотя бы отмена крепостного права. Хотя бы. А в идеале — республика. А программа на ближайшие годы была просветительской. Вот, например, надо бы донести до читающей публики русскую историю, но многотомье Карамзина доступно не всем. А если — в стихах? И не столько события, сколько примеры воинских подвигов и гражданских доблестей?
И в печати одна за другой появляются «Думы» — небольшие поэмы о славных героях прошлого. Вещий Олег, Святослав, Ольга, Рогнеда, Дмитрий Донской, Богдан Хмельницкий… В этой галерее героев и Пётр Великий, и Державин.
Кому интересно — можно поискать в думах исторические несоответствия, ляпы. Но стоит ли? Пушкин сделал это до нас, и его оценка была сурова: если поэт знает историю так приблизительно, зачем ему браться за исторический жанр? Кто — то передал это автору, Рылеев обиделся — и это помешало их личному знакомству. Всего через год Александр Сергеевич об этом пожалел — не ожидал от Рылеева такого стремительного роста. Его «Ермак» и в особенности «Иван Сусанин» Пушкина восхитили. И разве только его? По «Ивану Сусанину» Глинка напишет оперу, а судьба «Ермака» ещё завиднее — он станет народной песней.

Поэт, способный написать хотя бы одну «народную» песню — бессмертен.
А поэма «Войнаровский» — о судьбе племянника Мазепы. Был ли он таким же предателем, как дядюшка? Вероятно да, но Рылееву нравится считать, что юноша заблуждался искренне. Платой за ошибку стала пожизненная ссылка — и незадачливый патриот «Украйны» живёт «на берегу широкой Лены». Живёт достойно. За ним добровольно поехала жена, но не для неё этот климат — умерла… Буквальное предсказание участи товарищей!
А своей? Можно ли предсказать собственное завтра?
«Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю…
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!»
Это — из поэмы «Наливайко» — о неудачном восстании семнадцатого века. А разве что-нибудь изменилось? Восстаёшь — надейся на победу, но будь готов и к поражению.
Поражение восстания, каземат Петропавловской крепости, ежедневные допросы — всё это могло сломить людей, привыкших к комфорту и привилегиям. Но сломило ли?
Читая протоколы допросов, поражаешься: почему декабристы вели себя так «неправильно» — совсем не как будущие поколения революционеров? Когда положено молчать — они откровенничали, рассказывая о своих планах, целях и задачах (вплоть до цареубийства), когда нельзя называть фамилий — называли всех подряд, даже и тех, кто не был связан с обществом ничем, кроме знакомства с руководителями… И сам руководитель — Кондратий Рылеев — произносил страстные монологи, всячески преувеличивая масштаб общества, количество его членов, широту их замыслов. Зачем? Трусость исключаем — её не было. Была попытка… убедить молодого царя вступить на путь реформ. Бескровно провести их сверху, пока вся Россия не полыхнула. Или хотя бы перевербовать судей, обратить их в свою веру. В судьях декабристы не видели врагов — это были их родственники и вчерашние сослуживцы. В частности, начальник Рылеева по службе в Российско — Американской компании адмирал Мордвинов. «Один из дивных исполинов Екатерины славных дней» — написал о нём Рылеев ещё до их личного знакомства. Екатерининский вельможа проголосовал против смертной казни для декабристов — сохранил независимость. Остальные — увы… В числе пяти «злодеев», приговорённых к высшей мере, оказался и поэт. Ну кто же может быть опаснее поэта?!
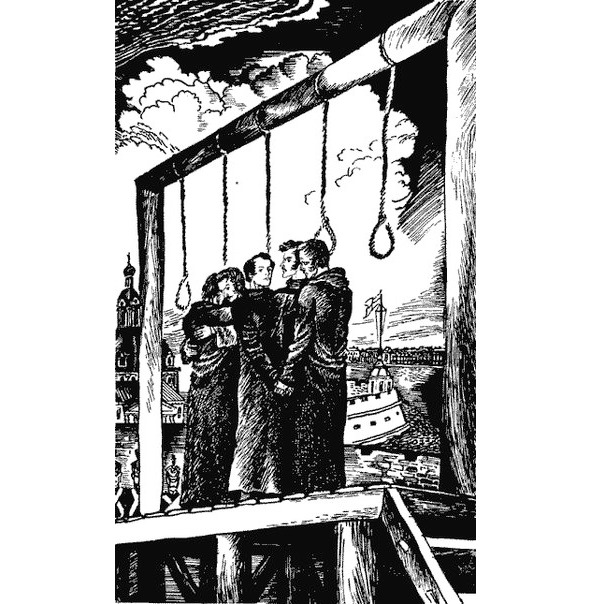
Последние стихотворные строчки Рылеева дошли до нас по недосмотру тюремной охраны: они были нацарапаны на оловянной тарелке:
«Тюрьма мне в честь, не в укоризну:
За дело правое я в ней.
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за Отчизну?
Грибоедов Александр Сергеевич 1795 — 1829
«Дорогие мои поэты, Александры Сергеевичи!» — такое письмо получили однажды «на двоих» Пушкин и Грибоедов.
В восприятии современников — «равновеликие» несмотря на то, что Грибоедов так и остался автором «Горя от ума» и двух вальсов.

Общее есть. Точно — есть. Хотя бы то, что два творения русской литературы не поддаются пересказу в принципе!
Это «Горе от ума» и «Евгений Онегин».
Это то что, безусловно, должно быть прочитано каждым, кто считает себя русским.
***
Хорош ли сюжет пьесы — это даже не обсуждалось всерьёз никогда и никем: настолько очевидно, что сюжет здесь — не главное. Но что же — главное?
Стихи, великолепные как по форме, так и по содержанию? «Половина должна войти в пословицы!» — воскликнул Пушкин, один из первых читателей.
Или, быть может, панорама Москвы? Портреты москвичей? Картины жизни и нравов колоритного московского барства, набросанные, словно кистью живописца?
Или новый герой? Первый в череде тех, кого потомки назовут «лишними людьми?»
***
Ещё совсем недавно казалось, что не найдётся русского, которого не восхитил бы язык Грибоедова. Но когда слышишь, как школьники читают ЭТО чуть не по слогам и возмущаются обилию «непонятных» слов — пугаешься. Неужели — поломка нашего генетического кода?
Но вот, «непонятные слова» объяснены, а яснее не стало. Но стало интересно: кто здесь хорош, а кто — не очень, кто прав, а кто — «просто псих», надо ли менять жизнь, подгоняя её под свои теории, или же надо просто жить…
А главное: можно ли требовать идеальности от других? Ведь тогда и другие потребуют её от тебя? Или пусть требуют невозможного, лишь бы не погрязали в сытом самодовольстве?
Словом: что такое Чацкий? Это удивительное создание Грибоедова, о котором не пришли к единому мнению ни современники, ни потомки?
Декабрист, раздражённый неизменностью (закоснелостью) своих знакомых (я вырос-поумнел, а дядюшки-тётушки всё те же), или просто подросток — переросток с вечным «да что это старьё в жизни понимает?!» Интересно, что решение «загадки» полностью зависит от режиссёра и актёра потому, что текст даёт основания… для обоих этих мнений!
Вот Чацкий пытается излагать свои взгляды на жизнь перед важным московским барином Фамусовым. А для Фамусова он пока всего лишь «сынок друга».
Так и видишь снисходительно — важного Фамусова, которому вообще непросто признать достоинства в юнце, нигде не служащем! «Не служить» — это же считалось чем-то вроде гражданской смерти… Но: «Он славно пишет, переводит… Нельзя не пожалеть, что с этаким умом»… Значит, ум видит. А «пишет-переводит» — это ещё не считалось профессией! Жаль, жаль, что не прочтём творений Чацкого.
Но, в конце концов, подростковая убеждённость в том, что «предки устарели» — это почти нормально. Ненормально говорить об этом «предкам». Дурное воспитание, или что — то похуже?
Фамусов хвалит Чацкого за «этакий ум» и досадует, что сын его друга не находит этому уму применения. Не служит. Не работает! Как мы сегодня называем того, кто не работает, уже перевалив за двадцать лет? Правильно.
Но Чацкий исполнен сознания своей правоты, своего ПРАВА жить так, как живёт. На родительские. Хватает, если нет необходимости служить ради жалования. А ради самореализации… как можно?! Гнусный мир его недостоин!
В своём негодующем монологе Чацкий действительно переходит границы дозволенного. Услышав, что за безделье его «все осуждают», он восклицает: «А судьи кто?! … Времён очаковских и покоренья Крыма!» В переводе на современные реалии это «как смеют судить меня, — МЕНЯ! — советское старичьё, мыслящее категориями Сталинграда и взятия Берлина!» Он — либерал, высмеивающий патриотов, искренне не понимает, почему это занятие не считается профессией.
Впрочем, не будем авязывать литературному персонажу современные нормы и ассоциации. Тем более что те, кого он обличает, если и скучают по временам Екатерины, то совсем не по причине великих побед. Просто тогда от них меньше требовалось! Роскошная жизнь была ещё роскошнее, и ещё безответственнее. Из «времен Очаковских» они усвоили только преклонение перед знатью и привычку относиться по-скотски к прислуге. Считать их образцами для подражания, действительно, невозможно. Но как сколько-нибудь вежливо объяснить другу отца, почему невозможно? Ведь Фамусов именно так и стал Фамусовым, одним из столпов Москвы.
Вот и получается «разговор немого с глухим», почти перебранка. Переводя на современный:
— Ты взрослый здоровый малый, а ни черта не делаешь. Пора уже работу найти, а то люди плохое подумают…
— Какие это люди? Сосед-алкаш? Или бабка-самогонщица с третьего этажа? На себя бы глядели!
Безделье Чацкого не оправдывает пожилого барина, который провел жизнь в кутежах и попойках, а верных слуг обменял на борзых собак. Существование моральных калек вроде этого барина, в свою очередь, не служит оправданием для Чацкого. Легко фрондировать, учась и кормясь за чужой счет. Чацкому кажется мерзким и нелепым не только то, что со всех сторон достойно порицания, как, например, бесчувственность помещика, распродавшего с молотка крестьянских детей. Под горячую руку обличителя попадают и вполне невинные вещи.
Подобно многим юнцам, выросшим под золотым колпаком, Чацкий склонен с первого взгляда раздавать ярлыки: один у него смешон, другой старомоден, третий глуп. При этом сам себя он считает светочем прогресса и даже гордится своим нежеланием работать. Точь-в-точь избалованный подросток, не понимающий, почему взрослые все такие скучные и усталые.

Однако все подростки рано или поздно взрослеют? Или не все?
Предположить, что Чацкий говорит умные вещи, но не там и не тем? Просто «мечет бисер перед свиньями»? Но прежде, чем начать метать бисер, желательно этот бисер создать. Не исключено, что жизненные наблюдения послужат Чацкому для будущего социологического очерка, романа или философского трактата. Как Чаадаеву.
(Из всех русских мыслителей Чаадаев и сегодня наиболее спорный. Наибольшая заслуга его, очевидно, в том, что он поднёс обществу зеркало. Заставил его взглянуть на себя со стороны.
И был объявлен сумасшедшим! Лично императором.
Интересно, не пьеса ли подсказала Николаю I cтоль остроумное решение?)
И как отнёсся бы Грибоедов к тому, что на этих классических иллюстрациях Чацкий дословно срисован с портрета самого Александра Сергеевича? Причёска, очки, подчёркнутая взрослость, серьёзность и солидность…
Но Чацкий — ни в коей мере не автопортрет автора. Грибоедов, блестящий молодой учёный, в 1812 году — служил. Отечеству. В чине корнета гусарского полка. Затем — блестящая карьера дипломата. И гибель на боевом посту.
Поразительно, но литература для него была занятием не основным и не главным.
***
Как и положено по классическим канонам пьесы, внешний её сюжет — любовный треугольник. Герой любит героиню, героиня любит «антигероя».
Софье семнадцать лет. Если Чацкий три года отсутствовал — значит, простился он не с «невестой», а с подругой детства. Не писал — за три года ни одной весточки. Не требовал и не получил никаких клятв — обещаний. И вдруг появился с комплиментами и… насмешками над общей роднёй.
Читатель-зритель в восторге от немногословных, но таких ярких, таких «вкусных» характеристик дядюшек, тётушек и кузин… так почему же у Софьи эти эпиграммы не вызывают ничего, кроме раздражения? Не видит литературного дарования, не ценит остроумия?!

Нет. Просто эти люди, вызывающие столь колкие насмешки Чацкого — ей родные.
(И какая девушка сегодня приняла бы объяснение в любви, сопровождаемое монологом на тему «все твои родные, двоюродные и троюродные — бездари, пошляки и дураки?)
Но Софья — барышня благовоспитанная. Она очень прилично даёт понять бывшему другу, что не в восторге от его остроумия. Да пожалуй, и от него самого. Но друг — то искренне считает себя подарком!
Если не оценила, значит… значит, у него есть счастливый соперник!
***
Присмотримся к сопернику.
Молчалин — секретарь Фамусова. Он принят туда, где не принимают никого, кроме родных, «потому, что деловой». Иными словами, работает хорошо. Но при этом понимает, что деловых качеств совершенно недостаточно, надо во что бы то ни стало стать абсолютно незаменимым! Всё, что только в его силах… И не только для начальника, но и для всей его ближней и дальней родни! И вообще для всех, кто может помочь ему с продвижением по службе. Хоть чем-нибудь, хоть словечко замолвить!
И его тактика уже принесла первые плоды — два награжденья. У него теперь все основания снисходительно жалеть Чацкого, которому «не дались чины, по службе неуспех». Он подсказывает, советует, поимённо называет тех, кому надо понравиться, чтобы продвинуться, он действительно не понимает, почему для Чацкого чины и ордена — вовсе не предмет мечтаний.
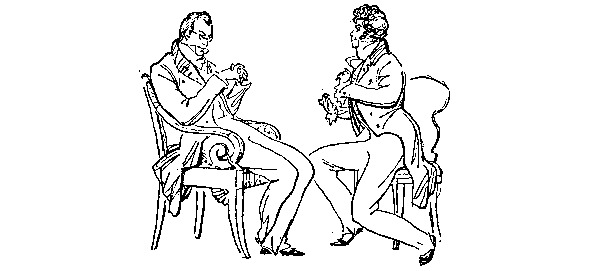
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
