
Бесплатный фрагмент - Забытая цивилизация Запада
Издание второе, дополненное
ВВЕДЕНИЕ
я не говорю: «Думай об этом». Потому что думать — значит упустить. Чувствуй это!
Согласно расхожему представлению, после падения Римской империи Европа погрузилась во тьму средневекового невежества. Этот кошмар длился без малого тысячу лет. Итальянские гуманисты, а позже французские мыслители эпохи Просвещения, это время представляли смесью варварства, мракобесия, бессмысленного и бесконечного насилия. Оттого и века были названы средними, как в конце XVII столетия их нарек скромный немецкий составитель учебников Христофор Келлер. То есть когда-то существовала блестящая античность, потом — не менее величественный Ренессанс, а между ними кровавой дырой зияло не пойми что. Провал, не имеющий даже собственного наименования. Просто средние века. Или, как их раньше еще называли, темные века. Потерянное для человечества время.
Так родился и вот уже четверть тысячелетия благополучно существует в массовом сознании не только европейцев, но и жителей других континентов и стран миф о примитивной и жестокой эпохе нищеты, убийств, тотального подавления личности. Как писал французский философ и политик Кондорсе, «Европа, зажатая между тиранией духовенства и военным деспотизмом, ждала в крови и в слезах того часа, когда воссияет новый свет, который возродит ее для свободы человечности и добродетелей». То есть миллионы человек много веков только тем и занимались, что «зажатые» ждали, когда найдется какой-нибудь герой и освободит их. Бедняги. Они штурмовали Иерусалим и бились с варварами, пускались в безрассудно отважные плавания на край света и за его пределы, создавали потрясающей красоты храмы и утонченные философские системы, что было под силу лишь гениям и героям. И все это время продолжали безмерно страдать в ожидании героя-спасителя, который почему-то задерживался. По мнению высокомерной эпохи Просвещения. На самом деле такой «освободитель», конечно, был. Только не в конце эпохи, а в начале ее, и даже за несколько веков до начала. Его как раз и звали Спаситель. Христос.
Спустя полтысячи лет после крестной казни Иисуса, на развалинах античности, родилась та самая «невозможная», уникальная цивилизация, просуществовавшая более тысячи лет. Цивилизация, где бок о бок с людьми жили лешие и русалки, скакали яростные, но сентиментальные единороги, грешили загадочные онокентавры, а по ночам безнравственные и злокозненные ведьмы на метлах слетались на свои шабаши. Цивилизация, в которой наш мир, «юдоль скорби», был нераздельно связан с «тем», потусторонним горним миром, миром идеалов, правды и справедливости. Цивилизация и государства, целый субконтинент, бывший, по большому счету, единой церковью. Где власть императора была не менее религиозна, нежели власть папы. Где светское и церковное переплелись до полного слияния. Где потустороннее постоянно вторгалось в повседневность и, собственно, было ее частью.
Именно в это время сформировалась современная карта Европы, ее основные институты, началась история большинства европейских стран. Поняв ее, может быть, нам будет проще осмыслить и нынешний запад нашего континента, с огромным разнообразием стран, народов и культур, раздираемых противоречиями, но стремящихся к объединению. Увидеть всю современность Средневековья. Как современны нам банки и национальные границы, города и европейские языки, книгопечатание, игральные карты, Санта Клаус (он же святой Николай Мирликийский), летоисчисление, часы, бумага, помолвка и венчание, дошедшие до нас неизменными вплоть до символов отдельных слов, и многое, многое другое. Мы обмениваемся рукопожатиями, снимая при этом перчатку, подаем руку даме при выходе из автобуса, не задумываясь о смысле этих жестов. А они своими корнями уходят в ту же самую эпоху. Она — ключ к пониманию сегодняшних проблем, наше общее детство, к которому надо возвращаться постоянно, как возвращаются к истокам.
Попробуем на мгновение взглянуть на эпоху в глобальном масштабе. В то время, наряду с христианскими странами, в мире существовал еще целый ряд великих цивилизаций: исламская, китайская, японская, индийская, империи Мезоамерики… Находились они примерно в одинаковых условиях с аналогичным во многом уровнем развития общественных и политических институтов, экономики. Со своими, конечно, особенностями, но примерно на одной ступени. Причем Европа была отнюдь не передовой, уступая и арабам, и китайцам. Они, кстати, к концу средневековья даже завершили свою эпоху Великих географических открытий, которая европейцам еще только предстояла.
И все же нации и культуры в конце XV века, как и в предыдущие столетия, по-прежнему продолжали свой исторический путь в рамках строя, который можно назвать феодальным или сеньориальным. Похоже, он был готов продолжаться еще много, много столетий, и наша сегодняшняя жизнь не сильно бы отличалась от XIII века. Но христиане, европейцы инициировали тектонический сдвиг мирового масштаба. Причем важнейший его исток стоит искать в христианстве с его рационализированной теологией и покровительством наукам в университетах, а также в свободных городах, с их коммунами самоуправления. Ведь другие слагаемые «цивилизационного прорыва» — варварские племена, воспринявшие монотеистическую религию, и античное наследие — вполне были присущи и мусульманской культуре. Но только европейцы смогли сформировать принципиально иную «матрицу», которая в течение столетий трансформировалась в современную технологическую цивилизацию, позже распространив ее на весь мир. Исток ее именно там, в средних веках. Метафизическая его составляющая таится в полагании Бога-человека. Т. е. Бог воплощается в человеке, который, в свою очередь, несет абсолютную ответственность за все. Позже этот принцип ляжет в основу демократии и организации жизни в европейских государствах.
Постараемся же более пристально вглядеться в это загадочное, иногда жестокое, но всегда чарующе-волшебное время.
Часть 1. Пролог

Сначала несколько слов о Европе. С точки зрения сегодняшнего человека, может показаться странным, но корнями Европа уходит на Восток. Еще в незапамятные времена греческие племена, перекочевав из региона между Кавказом и Ираном, осели на самом западе Азии — в Ионии. Им было суждено «родить» одну из самых фантастических идей в мировой истории. Идею о полисе как объединении равных и о человеке как носителе политических свобод, данных ему по праву рождения. Идея вместе с ее носителями легла в основу греческой и позже европейской цивилизации. Ее реализация породила Античность.
Второй «компонент» для создания современной Европы тоже имеет чисто азиатское происхождение. Это христианство. Не случайно после распада Римской империи 4 из 5 важнейших христианских центров находились на Востоке и были со временем захвачены мусульманами.
Да и само слово «Европа» пришло с Востока. Оно имеет семитское происхождение, и поначалу служило финикийским морякам для обозначения заката. Согласно греческому мифу, Европой звали дочь Агенора, царя Финикии, на территории которой сейчас находится Ливан. В нее влюбился Зевс. Превратившись в быка, он похитил Европу и, переплыв с ней море, остановился на Крите. От Зевса у Европы родился сын Минос — царь-просветитель и законодатель, который после смерти стал одним из трех судей Аида. В новом значении слово «Европа» начали употреблять с VIII века до н. э. Так, благодаря грекам, обитатели западной оконечности азиатского континента стали «европейцами».
Этот субконтинент всегда населяло огромное множество народов, отличающихся друг от друга до полной противоположности. Жители жаркой Испании и суровые обитатели норвежских фиордов, живые, солнечные итальянцы и сумрачный немецкий гений. Тем не менее, так получилось, что вскоре после начала своей великой истории европейцы оказались объединены, — под властью Римской империи. И в дальнейшем, разлетевшись на множество отдельных «фрагментов», они веками пытались объединить свои страны в рамках империи или иного единого государственного организма. Карл Великий, Наполеон и даже Гитлер… Последняя попытка происходит на наших глазах в виде создания Евросоюза. Несмотря на первоначальные успехи, увы, пока трудно судить, насколько она окажется удачной и не канет ли в лету, подобно империи Карла.
А теперь вкратце о том, что происходило на европейском пространстве после краха великой Римской Империи.
Глава 1. Разрушение античности. Вакханалия смерти

Пятый век нашей эры. Римская империя превратилась в огромное поле боя, на котором в смертельной схватке сошлись, с одной стороны, «римские» армии, наиболее боеспособную часть которых составляли романизированные германцы, а, с другой, рвущиеся в Империю до зубов вооруженные те же самые германские народы. И не только они.
476 год н. э. Преторианская гвардия во главе с германским наемником Одоакром, взбунтовавшись, низлагает последнего римского императора Ромула Августула. Одоакр отказывается от императорского титула и отсылает инсигнии, символизирующие власть, в Константинополь. На этом великая Римская империя прекратила свое существование. За исключением относительно небольшой территории на востоке известной как Византия.
Когда впервые могущественный вождь вестготов Аларих захватил и разграбил Вечный город, даже святой Иероним, ненавидевший Рим, был потрясен и трое суток, уединившись в пещере где-то в горах Палестины, беспрестанно молился. «Мой голос дрожит, и от рыданий перехватывает горло. Мертвых всего света мы горько оплакали… люди во всем мире, ныне живущие, в скором времени умрут», — писал он. После этого Империя протянула еще несколько десятилетий, прежде чем ее великая история подошла к финалу. Многие решили, что наступает конец света. Собственно говоря, они не ошибались. Блестящий мир античности кончился, наступало НЕВЕДОМОЕ, полное разрушений, страхов и страданий. Неведомое, в котором дожить до «естественной» смерти удавалось немногим. Даже сам Одоакр, ставший первым варварским королем в Риме, был убит королем остготов. Причем прямо на примирительном пиру. Теодорих разрубил его мечом от ключицы до бедра. Брата Одоакра, убегавшего от преследователей, застрелили из лука, жену уморили голодом, сына казнили… Что ж, нельзя было верить никому. Время было такое. «Золотой якорь рода человеческого» — как называли Рим современники — оборвал цепь и утонул. А сам «род человеческий», гонимый «роком событий», понесся по воле волн.
А вот что происходило в 6 веке на Апеннинском полуострове. Все города Италии разрушены. Милан снесен до основания. Рим лежит в руинах. Из миллиона человек, населявших могущественнейший город мира, в живых осталось едва 50 тысяч. На некогда прекраснейших площадях лангобарды сеют хлеб и пасут свиней. Плодороднейшая область Компания превратилась в пустыню. Римское право повсеместно отменено, государственная и административная системы — уничтожены. Местные муниципальные органы прекратили свое существование. Наступило смутное время.
Утонченных античных аристократов либо убили, либо превратили в рабов. Хозяевами земли стали представители варварских племен, пришедших с востока. При всех своих различиях, они сходились в одном, — радикальной бесчеловечности, как в поступках, так и во внешнем облике.
Так, например, лангобарды представляли собой звероподобных существ с огромными всклокоченными бородами и лицами, измазанными зеленой краской. Не менее дикими были вандалы, и многие другие покорители Европы, которым, по большому счету, нечего было предложить ей, кроме меча. Но хуже всех были гунны. Поначалу они мало кому были известны, поскольку, по словам писателя 5 века Приска, «…жили по ту сторону Меотийских болот (Азовского моря) — в нынешней Кубани», т.е. на самом краю тогдашней Ойкумены. Но вскоре они захватили Скифию и двинулись дальше на запад, став на века настоящим «бичом Божьим» для всей Империи. По свидетельству Аммиана Марцеллина, «своей дикостью гунны превосходили все мыслимое. Они покрывали щеки новорожденных глубокими шрамами, чтобы на лице не росли волосы. Они уродливы, шириной своих плеч внушают ужас и их скорее можно принять за двуногих животных. Пищу они не готовят, питаясь кореньями и сырым мясом, которое лишь согревают, положив на лошадь наподобие седла. С лошадей же они не слезают почти никогда, даже если едят или спят. Одеждой служат сшитые шкурки полевых мышей, которые они носят, не снимая, пока те не истлеют от ветхости». Надо полагать, гунны были не только страшны, но и издавали дикий смрад. Подытоживая сказанное, автор отмечает: «… это невиданный дотоле род людей, поднявшийся как снег из укромного угла, потрясает и уничтожает все».
Варварские воины действительно выглядели страшно: они надевали себе на лицо собачьи головы, как бы превращаясь в волка или бешеную собаку; идя в атаку, рычали по-медвежьи или лаяли, подобно свирепым псам; от охватившего их неистовства вгрызаясь зубами в край своего щита. Предводители варваров, которых называли королями, нередко пили из чаш, сделанных из черепов поверженных врагов. Эти короли и их воинство, как отмечается в источниках того времени, были неуязвимы, свирепы, бесстыдны (то есть у них отсутствовали какие бы то ни были нравственные представления), а также весьма пристрастны к оргиям.
Разгромив остатки Римской империи, варвары приступили к истреблению друг друга. Предаваясь этому увлекательному занятию, огромные конгломераты племен перемещались так активно, словно это были современные туристы, приехавшие в Европу на шоппинг. Так всего за 10 лет вестготы «посетили» Италию, потом Галлию (нынешняя Франция), далее — Испанию, а затем отошли назад — в Аквитанию. Гунны же «прошлись» по большей части Европы, переместившись сюда через Прикаспий и Кубань аж из Китая, где были известны под именем хунну или сюнну. В то время как вандалы, аланы, свевы, вестготы разоряли Иберийский полуостров, на севере территорию бывшей империи рвали на части скандинавы, саксы, юты. Они захватили Британию, выдавив бриттов, часть которых, в свою очередь, бежав, переправилась через Ла-Манш и завоевала Бретань. Гунны разгромили и отбросили алан, аланы давили на остготов, остготы на вестготов. Подчас целые народы в 200 тысяч душ, за неимением плавательных средств, теснились на берегах рек, лишенные возможности перейти их. Разгром — бегство — завоевание разгромленными более слабых соседей и так далее по цепочке: ситуация типичнейшая для всей истории раннего средневековья.
Война всех против всех, уничтожение государства, экономики, инфраструктуры вызвали повсеместный голод, а вместе с ним и эпидемии. Вот как выглядела Испания в описании епископа Иллирия: «На Испанию набросились варвары, с не меньшей яростью обрушились заразные болезни… Голод свирепствует столь жестокий, что люди пожирают человечину. Матери режут детей, варят и питаются их плотью. Дикие звери, привыкшие к человечине, набрасываются даже на живых и полных сил людей, не довольствуясь мертвечиной, они жаждут свежей плоти. Война, голод, болезни и звери как четыре бича неистовствуют во всем мире, и сбываются прорицания Господа нашего и пророков его».
Мы еще не раз встретимся с этими «четырьмя бичами», — они будут кошмаром проклятья довлеть над человечеством всю тысячелетнюю историю средневековья.
А вот что писал о Галлии того же времени епископ города Оша: «…Немало гибло в засадах врагов, но не меньше — из-за насилия, творимого народом. Те, кто сумели устоять перед силой, пали от голода. Господин вместе со своими рабами сам оказался в рабстве. Многие стали кормом для собак, другие сгорели в домах, охваченных пламенем. В городах, деревнях, виллах, вдоль дорог, здесь и там — повсюду смерть, страдание, пожарища, руины и скорбь. Лишь дым остался от Галлии, сгоревшей во всеобщем пожарище».
В центре некогда великолепного античного мира — на территории нынешней Италии — дела обстояли не лучше. Как пишет хронист Павел Диакон, «многолюдные некогда деревни и города оказались погруженными в полное безмолвие из-за всеобщего бегства. Бежали дети, бросив непогребенными тела родителей, родители же бросили еще теплыми своих детей. Если кому-то случалось задержаться, чтобы погрести ближнего своего, то он обрекал себя самого на смерть без погребения… Время вернулось к тиши, царившей до сотворения человека: ни голоса в полях, ни свиста пастуха… Земля тщетно ждала жнеца, и виноградные гроздья оставались висеть до зимы. Поля превратились в кладбища, а дома людей — в логовища диких зверей».
И даже за морем, точнее, за проливом не было никакого спасения. Англосаксы разбили ополчение бриттов и опустошили Логрию, — государство на юго-востоке Англии, сердце острова, на месте современного Лондона. «Печальное зрелище! — восклицал современник. — Повсюду на улицах, среди камней поверженных башен, стен и святых алтарей лежали тела, покрытые запекшейся красной кровью, словно их раздавил некий чудовищный пресс, и не было для них иных гробниц, кроме развалин домов или внутренностей диких зверей и птиц небесных… Иные из несчастных, — продолжал он, — были загнаны в горы и безжалостно вырезаны. Другие, изможденные голодом, вышли и покорились врагу, готовые принять вечное рабство за кусок хлеба, если только их не убивали на месте. Некоторые отправлялись за море, громко сетуя… Другие остались на своей земле и, охваченные страхом, вверили свои жизни высоким холмам, укрепленным и неприступным, густым лесам и приморским скалам».
Этот кошмар продолжался несколько веков кряду. Но все же даже среди них особняком стоит VI век. А в нем чудовищные полтора десятилетия 536—551 гг. Многие историки их считают худшими за всю историю человечества!
…Все началось с сильнейшего извержения гигантского супервулкана где-то в Исландии. Полтысячи лет назад Везувий похоронил Помпеи, но та давняя трагедия казалась лишь небольшой неприятностью на фоне развернувшегося апокалиптического действа. По свидетельству Прокопия Кесарийского, потрясенным народам явилось величайшее чудо: «весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно потеряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть».

На целых полтора года Европа и Ближний Восток погрузились в непроглядный мрак. Солнце почти исчезло, что стало очевидным свидетельством наступающего конца света; говорили, будто оно больше никогда не будет сиять, как прежде. На земле воцарились страшные холода, подобных которым не знала античность. Сегодня такое воздействие на климат вулканических выбросов ученые называют «эффектом ядерной зимы». Последствия были поистине ужасны. Толпы нищих людей кутались в жалкое тряпье, жались друг к другу, пытаясь хоть как-то согреться. Но тщетно. В Европе царил его Величество Холод. Он уравнял множество некогда цветущих самобытных территорий, низведя их до однообразной бесконечности. Вместо них теперь была ледяная пустыня размером с целый субконтинент. Дул нескончаемый заунывный ветер, время от времени сменяясь лишь на буйство вьюги, и только поземка в сумерках заметала остатки руин и едва заметные следы немногих уцелевших.
Сегодня мы забыли, как выглядит настоящий холод и насколько он страшное испытание. Мы не знаем, что к нему невозможно привыкнуть. К голоду еще можно, а к холоду — нет. Только подчиниться. Он проходит через тебя насквозь, не задерживаясь, и помутневшее сознание чувствует его каждой клеточкой, каждым органом, каждым миллиметром замороженного словно бревно, но по-прежнему пронзаемого болью организма, который еще недавно был Тобой. От Тебя же не осталось ничего. Одни инстинкты. И то самые примитивные. Тут главное — выжить. Как? Для начала — не дрожать. От этого только холоднее. И не терять надежду на приход тепла. Увы, в те страшные зимы дождаться его довелось далеко не всем. Сошедший по весне снег обнажил жуткую реальность: в городах и селах, на улицах и в домах повсюду валялись неубранные трупы. Ночью их обгладывали одичавшие собаки и забегавшие из леса и тоже ошалевшие от холода и бескормицы волки.
Результатом беспрецедентных заморозков стал тотальный неурожай и страшный голод, угрожавший стереть с лица земли всю цивилизацию. Вскоре к нему добавился еще один всадник Апокалипсиса: мор. Точнее, чума. Начавшись в Египте, она очень быстро достигла Константинополя, после чего распространилась по всей тогдашней ойкумене. Вымерло от трети до половины населения Византии, поэтому чуму назвали Юстиниановой, по имени тогдашнего императора ромеев. В иные дни только Константинополь лишался 10 тысяч жителей. Оставшиеся в живых беспомощно шептали строки из Откровения Иоанна Богослова: «Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух… Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней — как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера… От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей…».
Впрочем, природные катаклизмы вовсе не остановили массовых убийств. Войны продолжались. Жизнь шла своим чередом. Та же Византия, несмотря на голод, мор и отсутствие Солнца, на западе вела яростные битвы с готами, а на востоке — с сасанидским Ираном. Франки завоевали Южную Бургундию и Прованс. Привычно бесчинствовали гунны…
Всего же на территории современного Ближнего Востока за несколько лет погибло 100 миллионов человек, в Европе — 25 миллионов. Даже отдаленная Ирландия была опустошена, лишившись не только множества граждан, но и королей и святых. Параллельно, в 540 и 547 годах в разных частях света опять произошли мощнейшие извержения вулканов с эффектом, аналогичным 536 году. Хаоса добавили землетрясения, одно из которых в 539 году полностью уничтожило Антиохию. Не лучше дела обстояли и в отдаленном Китае, север которого, например, потерял до 80% населения, и в других частях света, рассказ о которых выходит за рамки нашего повествования. Воистину, это была катастрофа планетарного масштаба.
*** *** ***
Молох разрушения уничтожил экономические связи, городским жителям стало нечем платить за товары, поставляемые сельской округой и импортируемые издалека, что вызвало повальное бегство оставшихся в живых горожан в деревни и, как следствие, полнейший упадок культуры, искусств, ремесел, производственной сферы, — всего того, что давал город. Разрушению городов способствовало и то, что чаще всего завоеватели не хотели селиться в них, а предпочитали жить в более близкой им сельской местности. Великолепные памятники, настоящие шедевры архитектуры использовались лишь как каменоломни. Это неудивительно, ведь камень больше не умели добывать и обрабатывать. Безразличный к полезному труду и, тем более, к творчеству варварский мир занимался единственным доступным ему занятием — утилизацией.
Однако, именно эти варварские племена, терроризировавшие Европу и, казалось бы, ни на что, кроме убийств, не способные, через несколько веков явят миру ярчайшие образцы добродетели, благочестия, святости; украсят Землю непревзойденными в своей возвышенности готическими соборами и утонченными, стройными и всеобъемлющими философско-теологическими системами, объясняющими устройство мира и место каждой твари в нем. Как это нередко случается, падение в бездну сменилось взлетом в небеса.
А пока выжившим оставалось лишь хоронить своих мертвых. Общие потери были просто чудовищны. Для наглядности попробуем сравнить их с самой разрушительной войной в истории человечества и с самой пострадавшей страной. Речь идет, разумеется, о Второй мировой и о СССР. Его потери составили примерно 20% от общего количества населения, что дает нам все основания говорить о демографической катастрофе. Потери же европейского населения после окончания эпохи античности никто достоверно подсчитать не смог, но, по оценкам, его численность сократилась с 75 до 28 миллионов человек, — почти в три раза или на 75%! То есть это была всеевропейская трагедия, по масштабу как минимум не уступавшая мировой войне. Так рождался Новый мир. В великой крови и страданиях. Впрочем, Новый мир всегда рождается в крови.
Глава 2. Появление арабов. Окончательный распад Римской империи

С середины 7 века на южных рубежах бывшей империи появляются арабы. Всего за нескольких десятилетий они завоевывают всю Северную Африку и Испанию. Единая средиземноморская цивилизация, которую сформировал Рим вокруг «маре нострум» («нашего моря»), завершила свое существование. В той Империи не было деления на Африку, Европу, Азию, — все они составляли единое целое. «Мы, обитающие от Фасиса до Геракловых Столпов… теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота» — писал Платон. С еще большим основанием эти слова можно отнести к эпохе Рима. Тогда враждебные варварские территории начинались за Рейном. С разрушением средиземноморского единства европейский субконтинент постепенно становится субъектом истории.
Африка, бывшая богатейшей провинцией Римской Империи, навсегда выпала из европейского мира. Катастрофические последствия этого события сегодня каждый может наблюдать сам, сравнив, скажем, уровень развития инфраструктуры, сельского хозяйства, уровень благосостояния населения в Тунисе или Египте с Испанией и Лазурным берегом Франции. А ведь две тысячи лет назад дела обстояли с точностью до наоборот: провинция Африка была более развитой, нежели северный берег средиземноморья. Более того, по сей день уровень комфорта и обустроенности на африканских землях по-прежнему значительно ниже тех, древних, римских показателей. Да и не только римских. Вспомним, что во время Второй пунической войны карфагенский полководец Ганнибал повел свои войска на Рим через территорию современного Туниса, Алжира, Марокко и далее через Испанию. Так вот они шли по панафриканской дороге, протянувшейся с востока на запад через весь континент. Наличие такой магистрали характеризует в целом уровень развития территории. А в римскую эпоху ее ждал подлинный расцвет. Повсюду были парки, облагороженные ландшафты, благоухали прекрасные сады, великолепные города были средоточием наук и искусств. Здесь буквально слеп глаз от белизны роскошного мрамора общественных зданий, били фонтаны чистейшей холодной воды, доступной каждому путнику, богатство и благополучие определяли весь уклад жизни. На этом райском фоне не удивительно, что именно эти благодатные земли стали важнейшими центрами монашества и отшельничества. Что поделать, такова противоречивая человеческая натура.
Откуда появились арабы? Для современников практически ниоткуда. Никто о них толком ничего не слышал. Ведь всего лишь в сентябре 622 года никому не известный Мухаммед бежал из Мекки в Медину. Это сейчас мы знаем, что хадж пророка стал великим событием, положившим начало мусульманской цивилизации. А тогда он не привлек внимания, тем более в Европе. Но всего через 14 лет после смерти Магомета, арабские войска разбили византийскую армию на берегах реки Ярмук, захватили Дамаск и Иерусалим. Еще через несколько лет они уже полностью контролировали Сирию, Палестину и Египет. За двадцать лет вся персидская держава склонилась перед оружием арабов, за тридцать — Афганистан и большая часть Пенджаба. Затем они обратили свои взоры на Запад. Меньше чем через сто лет после того, как арабы вышли за пределы своей пустыни, они достигли Атлантического океана, захватив огромные территории, и, преодолев тысячи километров, дошли до самого Тура во Франции. Даже Пиренеи не стали для них преградой.
Арабское продвижение на Запад было остановлено только в 732 году, всего в 250 километрах от Парижа, когда дед Карла Великого мажордом Карл Мартелл под Пуатье разбил войско Омейядского халифата во главе с Абдуром Рахман ибн Абдаллахом, несмотря на двукратное превосходство последнего. Арабские источники назвали сражение «битвой когорты шахидов». Христианская община в арабско-мусульманской Кордове отпраздновала ее как победу «европейцев», — то был первый в истории признак общеевропейского сознания и чувства.
Значение битвы при Пуатье трудно переоценить, особенно учитывая то, с какой легкостью арабы захватывали гигантские территории и преодолевали тысячекилометровые расстояния, разгромив две сильнейшие державы того времени, — сасанидский Иран и Византию. Пало королевство вандалов, оккупирована Испания, захвачена Аквитания. Легкая арабская конница, перемахнув через Пиренеи, уже топчет поля и виноградники благословенной Франции. Казалось, никто и ничто не могло противостоять колоссальному государству, протянувшемуся от Испанской марки до Китая. Вот что об арабской армии пишет историк Гиббон: «Победоносный поход длиной в тысячу миль дошел от Гибралтарской скалы до берегов Луары; его повторение на такое же расстояние привело бы сарацинов на равнины Польши и высокогорья Шотландии; Рейн ничуть не более непреодолим, чем Нил или Евфрат, и арабский флот легко мог войти в устье Темзы». Не будь той победы при Пуатье, «возможно, сейчас бы в Оксфорде преподавали толкование Корана», а люди никогда бы не узнали величайшего творения европейцев, — современной технологической цивилизации. Равно как и не менее великого средневековья с его Монте-Кассино, Нотр Дам де Пари, Фомой Аквинским и Данте.
Арабы были остановлены, но ценой уничтожения остатков античности. Именно в тот момент, в течение буквально сотни лет был разорван единый мир, концентрировавшийся вокруг Средиземного моря. Мусульмане не только отторгли от него колоссальные территории на юге, востоке и западе, но и парализовали всякую торговлю, из-за чего южная Европа окончательно пришла в упадок. Западное Средиземноморье, превратившись в «мусульманское озеро», перестало быть главным средством коммуникации огромного региона, важнейшим путем торгового и культурного обмена.
Для христианства арабские завоевания стали настоящей катастрофой. Были уничтожены три из пяти патриархатов — Александрия, Антиохия и Иерусалим; все великие церкви Северной Африки прекратили свое существование, уцелела только коптская в Эфиопии и Египте, которой удалось сохранить немногие опорные пункты. Земли, на которых зародилось христианство, оказались полностью утрачены.
Запад оказался в блокаде и был вынужден опираться исключительно на собственные силы, при этом постоянно отвлекая свои скудные ресурсы на отражение разрушительных набегов. Разрозненная Европа еще тысячу лет будет противостоять непрекращающемуся давлению мусульманского мира. Окончательно угроза будет снята только в 1683 году, когда турки-османы осадили Вену и почти взяли ее, но все же, в конце концов, были наголову разгромлены объединенными польско-немецко-австрийскими силами. Европа Леонардо да Винчи и Коперника, Галилея и Шекспира, Европа, в которой в тот момент трудился великий Ньютон, была спасена.
Глава 3. Катастрофа. На руинах римского мира

Вот так, казалось бы отвлеченные рассуждения постепенно приводят к необходимости метода и эксперимента. Возникает понятие гипотетического знания и гипотезы как примерной конструкции реальности, в основе которой — непостижимая божественная природа. Так и только так рождается новая логика, философия, рождается современная наука. Только благодаря схоластам и европейским Университетам, и больше никому, нигде и никогда, несмотря на всю великую мудрость Востока. Так в дискуссиях в маленьких подслеповатых учебных аудиториях, благодаря напряженным размышлениям в тихих кельях, освещенных лишь тусклым пламенем свечи, продумывались важнейшие понятия и принципы современного общества и государства, основы новой цивилизации.
Лики времени: Фома Аквинский

В VI веке на место утонченных римлян окончательно пришли германцы. Но что представляло собой германское общество? Это была когорта воинов, доблестных мужей и «юношей с орлиным взором». Настоящее мужское общество свободных людей, спаянных доблестью, храбростью, честью. Попадал в него лишь свой, соплеменник, через инициацию, поклявшись перед товарищами над обнаженным мечом. И не было в мире ничего священнее той клятвы. Но право на нее еще надо было заслужить. После тяжелых испытаний община сообща выбирала достойных, и на народном собрании старейшины вручали юношам щит и копье. До того они были лишь частицей семьи, после того — племени.
Личное достоинство добывалось только на поле боя, в безудержной атаке, кровавой сече. Ее возглавлял вождь, король, которому все были бесконечно преданы. Место в бою было местом в обществе: и там, и там знатность зависела от близости к вождю. Он всегда был самым смелым, сильным, находчивым. Он знал: дать слабину — значит навсегда остаться обесчещенным. Но если вдруг случалось невозможное, если враг одерживал победу, а вождь погибал в битве, оставшиеся в живых завидовали мертвым: им приходилось влачить жалкое существование в постоянном унижении и всеобщем презрении.
Инициация имела у германцев сакральное и магическое значение. После нее, например, люди получали возможность обращаться в зверей. Дело в том, что, согласно распространенному тогда мнению, каждый человек имел своего двойника, который мог менять внешность и обращаться в животное. При этом он приобретал от зверя не только облик, но и физические, и даже моральные качества. Христианство долго боролось с такими представлениями, но они пережили все Средневековье, лишь немного трансформировавшись. Они жили в легендах об оборотнях, в «звериных» прозвищах, которыми награждались особенно храбрые воители (например, Ричард Львиное Сердце), в геральдике.
Воинский образ жизни германцев находил свое отражение в языке того времени. В нем полностью отсутствовали такие понятия, как милосердие, мир, прощение, любовь к ближнему. Не было даже их эквивалентов. Поэтому попытка первых христианских миссионеров донести подлинный смысл христианского учения любви и мира изначально была обречена на провал. Чтобы без нужды не возбуждать кровожадные инстинкты новообращенных, из первого перевода Библии на готский язык даже пришлось изъять «Книгу Царей», изобилующую сценами насилия.
Как вынудить народы, у которых насилие было возведено в ранг сакрального, для которых кровная месть была как гражданским, так и религиозным долгом, а оружие имело магическую и религиозную ценность, — как их вынудить принять религию любви и прощения? Тут компромиссы неизбежны. И первые миссионеры пошли по этому весьма скользкому, но единственно возможному пути. Не удивительно, что лучше всего германцы усвоили образ Христа воинствующего и победоносного, образ Бога армий, хорошо запомнили всадников-мстителей из Апокалипсиса, огромной популярностью пользовались слова «Не мир я принес вам, но меч» и святой Михаил, сошедшийся с воинством Князя Тьмы в апокалиптической битве и победивший его, свергнув с небес на землю. Но образ страдающего Бога, воплотившегося в сыне человеческом, германцы отвергли.
Так что принятие ими христианства в раннем средневековье не привело к глубокому изменению духовного мира варварских племен. Язычество вовсе не исчезло, давая место новой религии; напротив, это христианству пришлось приспосабливаться к язычеству. Произошло взаимопроникновение мировоззрений, что видно на примере обрядов. Так в суде справедливость своего дела доказывали либо принесением клятвы, либо в ходе поединка; клятву же приносили либо на Библии, либо на обнаженном мече. Установление знака равенства между оружием и Евангелием — типичное проявление слияния римско-католической церкви с германским язычеством. В дальнейшем оно станет основой для возникновения рыцарства, военно-монашеских орденов, сформирует дух средневековья в целом.
Языческие боги и в дальнейшем не прекратили своего существования, но превратились в злых и опасных демонов, которые, однако, были слабее единого Творца. Такая трансформация происходила как у германцев, так и у других народов, скажем, норманнов. Какое-то время Христос уживается со «старыми» богами, ведь еще не совсем ясно, кто сильнее. И очень долго, много веков, даже искренне уверовавшие в Христа, в особо сложных ситуациях продолжают обращаться к Тору, Одину и другим богам. На всякий случай.
Изменение уклада жизни
Уничтожение городов, переселение людей «на землю», в деревни предопределило весь облик средневековой цивилизации. Она была аграрной. Но аграрный характер общества не означает какого-то приоритета сельского хозяйства. Оно деградировало вместе со всей экономикой: были уничтожены системы орошения, забыта агротехника, многие технологии и орудия труда; в итоге немногочисленному населению, уцелевшему среди войн и других несчастий, урожая в лучшем случае хватало лишь для выживания. Запасов никаких не было, и в случае малейших проблем с погодой (или военными действиями) разражался ужасный голод.
Экономическая катастрофа усугублялась и фактическим отсутствием коммуникаций. Дороги в античном понимании перестали существовать (за исключением небольших фрагментов, оставшихся со времен Римской Империи). По большей части они заканчивались за пределами населенных пунктов. Главным (и самым скоростным) средством сообщения на целое тысячелетие стали реки.
В этом хаосе уничтожения, однако, очень быстро — уже к началу 6 века — начинают появляться первые протогосударства, постепенно в общих чертах формируя карту Европы, которая дожила до сего дня. Так англосаксы осели в Британии, франки — в Галлии, бургунды — в Бургундии, вестготы стали хозяевами Испании, а остготы — Италии, на севере которой появилась провинция Ломбардия, названная по имени осевших тут лангобардов. На обломках Западной Римской империи возникло шесть «варварских» королевств: Бургундское, Вандальское, Вестготское, Остготское, Свевское и Франкское. Но вливание в европейский мир новых народов (так называемых варваров) будет происходить еще долго, вплоть до XI века.
Вышеупомянутые государства были неравнозначны. Если, например, Вандальское королевство представляло собой лишь небольшую территорию вокруг знаменитого некогда Карфагена, то Франкское уже в начале VI века, благодаря дипломатическим и военным усилиям Хлодвига, превратилось в огромное государство, включающее в себя земли современных Франции, Швейцарии, Бельгии и других стран. В конце V века его официальной религией Хлодвиг избрал католицизм. Таким образом уже тогда, в самом начале средневековья, четко обозначилась важнейшая страна эпохи, — Франция. Ее роль ненамного уступает роли Рима в период античности. Достаточно сказать, что европейская знать, например, те же англичане, несмотря на весь антагонизм и Столетнюю войну, говорили между собой на французском языке.
Падение нравов
В те времена естество человеческой натуры словно вырвалось из плена. Взрыв, выплеск наружу смертельной для окружающих сущности человеческой, не сдерживаемой более ни моральными установками, ни культурой, ни общественными запретами. Человек мог себе позволить абсолютно все. Он и позволял. Другой вопрос — как долго это «все» продолжалось? В обществе было как в диком лесу, только еще опаснее. «В те времена было совершено множество преступлений… и каждый видел справедливость в своей собственной воле», — писал епископ VII века Григорий Турский. И действительно. Вот лишь самые краткие иллюстрации к сказанному, позаимствованные нами у французского историка Анри Пиренна:
— Все короли вестготов, за редким исключением, приняли смерть от ножа наемного убийцы.
— Хильперих II взошел на франкский престол в 715 г., а в течение 25 лет до этого ни один франкский король не доживал даже до совершеннолетия. Это объясняется разгульной жизнью, постоянными дебошами и развращенностью принцев, которым дозволялось практически все. Большинство из них, безусловно, были просто дегенератами. Хлодвиг II умер безумным.
— Суд при правлении Меровингов представлял собой настоящий притон.
— В целом короли являли примеры клятвопреступления, лжесвидетельства и вероломства.
— Теодагат приказал убить собственную жену.
— Мужчины бездельничали и прозябали в праздности в ожидании новых военных походов, и совершенно невиданное падение нравов стало повсеместным. Они были постоянно пьяны — это было их нормальным состоянием.
— Женщины подбивали любовников убивать мужей.
— Весь уклад жизни снизу доверху был пропитан пьянством, буйством и дебоширством, алчностью и жадностью, супружеской неверностью и развратом, жестокостью, изменой и вероломством.
— Все продавалось за золото.
— Продажность и мздоимство были распространены и среди духовенства, причем даже среди монахов.
Европа: стремление к единству
Как уже говорилось, несмотря на бесконечные войны с языческими и полуязыческими племенами, христианский мир, еще сам в большой мере варварский, уже с 6 века начинает попытки самоорганизации. А вместе с ними приходят и мечты об объединении Европы или хотя бы ее части в рамках Империи. Почему именно такая форма казалась предпочтительной? Во-первых, по-прежнему актуален был пример Рима, и воссоздание его еще очень долго находилось в политической повестке дня, а во-вторых, империя мыслилась как модель Царствия Божьего на земле, а, следовательно, наилучшая из всех возможных.
Задача построения европейской империи облегчалась тем, что, какие бы политические противоречия не раздирали государства и отдельных феодалов, европейское единство существовало все средневековье. Его важнейшими элементами был латинский язык, на котором общались представители разных народов; религия и культурное пространство, где достижения одних очень быстро становились достоянием других, неважно, идет ли речь о литературном жанре, архитектуре или особенностях церковного уклада.
Однако на пути осуществления идеи строительства империи как царства Божия было немало трудностей.
Трудности формирования государств
Государства того времени представляли собой, скорее, некий плавильный котел, в котором еще только предстояло родиться новому миру. В них удивительным образом уживались остатки античности (которая, несмотря ни на что, так полностью и не умерла), христианство и древние племенные традиции, верования, культы, привнесенные варварами. Так, например, во многих местах господствовал столь чуждый римлянам принцип персональности права. То есть не существовало единого закона, распространяющегося на всех жителей того или иного королевства и даже небольшой территории, города. Каждый отвечал перед судом по законам своего рода или племени. Скажем, за насилие над девушкой римлянину полагалась смертная казнь, в то время как бургунд или франк отделывались небольшим штрафом. В то же время свободная женщина, живущая с рабом, для «римской» части населения де-юре оставалась свободным человеком со всеми правами, а для варварской — становилась рабыней и, следовательно, прав не имела. Такая юридическая неопределенность приводила к полнейшему хаосу, неразберихе и дезорганизации всего общества. Довольно быстро стало понятно, что «так жить нельзя». Этому способствовало то обстоятельство, что одной из важнейших функций короля в то время было отправления правосудия. И, значит, ему лично, разбирая судебные тяжбы, регулярно приходилось пребывать в центре правового хаоса. Попытки юридически-правовой унификации способствуют становлению государств.
Другой проблемой, препятствующей этому процессу в эпоху раннего средневековья, является исчезновение самого духа государственности, так характерного для античности. Страны — оптом и в розницу — большими и малыми частями, отдельными городами и деревнями продавались, дарились, делились между разными родственниками. Их можно было заложить или проиграть. Например, когда франкский король Хильперик женился на вестготской принцессе Галесвинте, на следующий день после бракосочетания он преподнес ей в качестве традиционного «утреннего дара»… пять городов южной Галлии, среди которых был и такой немаленький и известный по настоящее время город как Бордо.
Время от времени, конечно, случались объединения территорий. В силу разных причин. Это могло быть отстранение от власти короля Хариберта его кузеном Дагобертом по причине откровенного безумия первого. Или же — самый знаменитый случай — «собирание» земель Карлом Великим.
Разумеется, столь «легкий», почти анархичный подход к государству, его постоянные дележки не мог не стать причиной постоянных конфликтов, перерастающих в войны. Они велись по любому поводу и стали одной из характерных особенностей средневековья.
Часть 2. Первая империя новой эпохи

Строго говоря, будущий император не был даже королевских кровей. Его отец — Пипин Короткий — был всего лишь мажордомом (т.е. управляющим, главой королевской администрации, если говорить современным языком). Однако он сумел убедить папу Захария, что корона должна принадлежать тому, кто обладает реальной властью, т.е. ему. Вскоре архиепископ Майнца Бонифаций короновал его, а беспомощный король Хилдерик был низложен и закончил свои дни в монастыре. 28 июля 754 года сам папа Стефан II совершил помазание короля, а заодно его жены и двух сыновей — Карла и Карломана, даровав им, кроме того, титул римских патрициев.
Карл взошел на престол после смерти отца. Правил, как тогда говорили, не слезая с коня. За время его правления территория франкского государства многократно расширилась, и составила первое после падения Рима государство огромных размеров. На Рождество 800 года Карлу была вручена алая орифламма — знамя возрожденной Римской империи, после чего он принял императорскую корону из рук папы Льва III. Перед могилой святого Петра (держащего, как известно, ключи от Рая) сам папа римский преклонил перед ним колени, приветствуя его как Августа. Отныне король франков должен был вести к спасению весь христианский мир.
Тем самым, как тогда многие считали, было положено начало созданию Европейской империи, аналога Римской, сменившего ее всего через три с четвертью века. И действительно, королевство франков, бывшее лишь слегка «модернизированным» племенным союзом, превратилось в единый политический организм огромных масштабов, не имевший себе равных со времен Рима. Не в последнюю очередь такая трансформация стала возможна в результате продолжения заложенной еще отцом Карла Пипином линии на союз с папой. Отсюда и помазание, и императорская коронация.
Побочным явлением такого союза была борьба с лангобардами для защиты папских интересов. Завершилась она уничтожением королевства и присоединением его к владениям папы. Правда, формально владельцем этих территорий считался апостол Петр. Так, собственно, возникает «государство святого Петра», т.е. папское государство. Параллельно с Апеннинского полуострова вытесняется Византия.
Надежды на восстановление Римской империи были не так уж беспочвенны, как может показаться на первый взгляд. Для этого, в первую очередь, нужен был союз с Византией, которой в то время правила императрица Ирина. К ней-то и прибыло в начале 802 года посольство Карла. Идея была проста: заключить брак и воссоединить два государства, получив в итоге несколько урезанный Рим. Ну а там, чем черт не шутит, может быть, даже приняться за арабов.

Ирина была вовсе не против такого предложения. Ее нетрудно понять: казна пуста, везде упадок и нищета, постоянная угроза государственного переворота. Да и то сказать, из своих 50 лет 22 года она вдовствовала в удушливой атмосфере византийского двора, в окружении женщин и евнухов, а тут такой видный мужчина, перепрыгивающий сразу через двух коней. Ведь про него рассказывают, что он высок и очень красив, прекрасный охотник с приятным певучим голосом и сверкающими синими глазами. И пусть себе дворцовые сплетники нашептывают, мол, варвар, не умеет даже писать, одет в странную холщовую тунику с красными крест-накрест повязками на ногах, говорит на непонятном языке…
Разумеется, придворные от такой перспективы пришли в ужас: как, воссоединиться с грубыми варварами-франками? Наследникам Рима? Так что в последний день октября 802 года Ирину арестовали, низложили и отправили в монастырь. Год она проплакала, кляня свою судьбу, а потом умерла.
*** *** ***
Самостоятельно воевать Карл начал достаточно поздно — в 27 лет, подавив мятеж западных аквитанцев и басков. Вскоре после этого умирает его брат Карломан и какое-то время уходит на улаживание внутренних дел, связанных с наследством и борьбой различных группировок. Умиротворив всех недовольных, Карл в 772 году начинает самую долгую и кровавую войну в своей жизни — против саксов. Официальная причина — почитание ими демонов. Требовалось, чтобы саксы отвергли демонов, приняли таинства христианской веры и объединились с франками. Но саксам родные демоны, очевидно, были ближе пришлых завоевателей. Объединяться они не захотели. Пришлось целых 33 года (!) воевать.
Параллельно, с 791 года в течение 12 лет ведется тяжелейшая война с аварами. В те же годы создаются королевство Аквитанское и испанская марка как плацдармы в борьбе с мусульманами. Буквально вся жизнь короля и императора состоит из военных и военно-политических предприятий, и большую часть своего 46-летнего правления Карл сражался минимум на двух, а то и на трех и более фронтах, — военных походов не было только в 790 и 807 годах.
Карл подавляет многочисленные мятежи, в течение шести лет воюет с могущественной Византией, присоединяя Истрию, Венецию, Далмацию, вступает в схватку с норманнами, громит лютичей и бриттов, и даже принимает участие в мусульманских усобицах (на стороне губернатора Сарагосы против эмира Кордовы). О последнем эпизоде мы еще поговорим, поскольку благодаря выдающемуся литературному произведению «Песнь о Роланде», эта незнаменитая война приобрела эпический характер.
Непростую жизнь короля, помимо бесконечных войн и проблем строительства империи (необходимо было практически на ровном месте создавать новые государственные структуры) «разнообразили» многочисленные заговоры. Карл постоянно был в походах, и возможностей для подготовки переворотов у недоброжелателей было более чем достаточно. Таков был, например, заговор горбуна. Т.е. его возглавил злобный карлик-горбун, незаконнорожденный сын самого Карла Пипин Горбатый. Но, как и остальные подобные замыслы, он был вовремя раскрыт. Однако, император карлика практически помиловал (его всего лишь сослали в монастырь). Да еще несколько человек были ослеплены, трое казнены. По тем временам обошлось практически без репрессий.
Каков был характер войн Карла? Случалось по-разному. Иногда боевые действия заканчивались, даже не начавшись, ввиду устрашения противника, как это было в войне с Баварией, но очень часто столкновения носили крайне жестокий характер. Так, например, обозленный вероломством саксов, Карл вынудил выдать зачинщиков очередного мятежа и принародно казнил их. А «зачинщиков» оказалось много, — 4500 человек! Этот акт вошел в историю как Верденская резня (по иронии судьбы именно здесь, в Вердене, внуки Карла вынесут окончательный приговор его империи, поделив ее на три части).
Известие массовом убийстве в Вердене потрясло не только современников, но и их далеких потомков. Спустя одиннадцать веков, в 1935 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в Вердене был построен мемориал в память жертв репрессий. Он представляет собой комплекс из 4500 стоящих вертикально необработанных камней.
Или вот, война в Паннонии (регион в Центральной Европе). С аварами и гуннами. Теми самыми гуннами, жестокими и ужасными, веками сеявшими смерть по всему континенту. Но времена были уже не те. И все-таки 8 лет беспрерывных сражений. «Сколько пролито крови, можно судить по тому, что в Паннонии не осталось в живых ни одного ее обитателя, а место, в котором находилась резиденция кагана, не сохранило и следов человеческой деятельности. Вся знать гуннов в этой войне была перебита, вся их слава — предана забвению», — пишет современник. История племени завершилась. Это было настоящее воздаяние за все то зло, что они причинили. Их деньги и награбленные за долгое время сокровища были захвачены. Франки же обогатились. По мнению Эйнгарда, они «законно исторгли у гуннов то, что прежде гунны незаконно исторгали у других народов».
К концу правления Карла Великого произошло формирование сословий воинов и крестьян. Все его подданные, находящиеся в прямом подчинении у суверена — короля, считались воинами. Все должны были служить с оружием в руках, каждый свободный мужчина — потенциальный солдат, и он либо сам, либо в составе отряда, набираемого его сеньором, должен участвовать в военных походах государя. Походы осуществлялись с весны до осени, поскольку лошадям нужна трава для пропитания.
Крестьяне же добиваются от сеньоров ряда свобод, благодаря чему сельское население переходит в категорию свободных людей, тем самым освобождаясь от барщины, а сеньоры оказываются вынуждены или смириться с уменьшением своих владений, или проводить политику повторного закабаления. Второй вариант был реализован только на востоке Европы и стал еще одной причиной размежевания Западной и Восточной ее частей и отдаления их друг от друга.
Лики времени:
из жизни короля Карла

Сразу отметим, что наше представление о короле, основанное на повествованиях из жизни блестящих дворов Версаля, Мадрида, Вены или Петербурга, надо забыть. До этого блеска оставалась еще добрая тысяча лет. Ну, или почти тысяча. А сейчас, в VIII—IX веках, по свидетельству близкого Карлу интеллектуала Эйнгарда, оставившего воспоминания о жизни двора, король «ездил в повозке, запряженной, по деревенскому обычаю, парой волов, которыми правил пастух. Так ездил он во дворец, на народные собрания… и так же возвращался домой». Великий король, великий двор, перевернувший европейскую историю, как и раньше, оставался безнадежно провинциален. И упомянутая двуколка по-прежнему считалась символом царского величия.
Первоначальные наброски образа Европы, следы которого сохраняются по сей день, проходили в очень скромной атмосфере. Возможно, ее авторов мы бы просто не заметили. За внешней простотой, а подчас и бедностью. Характерный факт: за 100 лет до Карла, в 693 г. франкский король просит настоятеля монастыря Сен-Дени отказаться от государственной пенсии в 300 солидов. Взамен он отдает ему свое крупное земельное владение в Массини. То есть всего лишь пенсия одного аббата была настолько существенна в структуре расходов казны, что король был вынужден вести переговоры и просить отказаться от этих денег, закладывая свои земли! Почему? Просто в новом государстве, в отличие от античных времен, сбор налогов и пошлин прекратился. Главным активом короля была земля. Казна, разумеется, постоянно пустовала. Кое-какие поступления давала лишь военная добыча. В случае успеха.
Во дворце всем заправляли чиновники — мажордомы, которые даже назначали королю содержание (!). Помимо него, он имел поместье, служившее жилищем и поставлявшее немногочисленную прислугу. Вдобавок к этому королю полагался пустой и пышный титул, столь же пышная борода и длинные волосы, считавшиеся символом высшей власти, поскольку напоминали о верховном боге германцев Одине. Обычное занятие, помимо войны, — прием иноземных послов и ответы на их вопросы (нередко, как отмечают источники, — продиктованные, записанные и заученные). Вот и все. Поэтому целая плеяда руководителей франкского государства вплоть до отца Карла Пипина Короткого вошла в историю под именем «ленивые короли».
Правда, и сам Карл тоже любил отдохнуть: после обеда в течение 2—3 часов он голым лежал в саду, кушая яблоки и запивая их вином. (Кстати, современники поражались его трезвости, — обычно в обед он выпивал не более четырех кубков вина, т.е. всего лишь литра полтора. Обычный человек тогда выпивал 3 литра в день, правда, крепость большинства вин не превышала 5—6 градусов). Представьте себе: голый мужчина в одиночку валяется в саду, грызя яблоко. Ну кто бы заподозрил в нем великого государственного деятеля?
Но король того времени мог быть ленивым, мог и много выпивать, и творить всякие непотребства. Единственно, на что он не имел права — это быть слабым, нерешительным или, того хуже, трусливым. И уж тут Карл точно вписывался в образ идеального правителя. Он всегда был в форме, всегда готов к войне: лучший наездник и боец, один из сильнейших людей своего времени, он легко ломал железную подкову и одной рукой носил воина, закованного в железо. Будучи уже пожилым человеком, он прыгал через коня. Но не в смысле гимнастического снаряда, а через самого настоящего живого коня. Точнее, двух коней, поставленных рядом.
Так что с физическим развитием у королей было все в порядке. А вот с интеллектуальным подчас ощущались проблемы. Начнем с того, что они поголовно были неграмотны. Теодорих в свое время даже придумал некий паллиатив: ему изготовили золотую пластину с вырезанным факсимиле, которое он закрашивал, получая на выходе свою подпись.
Неграмотными были не только короли, но и вся аристократия, а уж тем более и весь простой народ. Карл, правда, пытался научиться читать-писать. Но делать это приходилось тайком, ночью, так как грамотность в то время в глазах широкой общественности не красила государя. Простые люди считали, что человеку откровенно нечем заняться, если он тратит время на такую ерунду. А большинство клириков и вовсе полагало, что «учиться грамоте — значит повредить душу». Вот что пишет о Карле хронист: «пытался он также писать и с этой целью постоянно держал под подушкой дощечки для письма, дабы в свободное время приучать руку выводить буквы; но труд его, слишком поздно начатый, имел мало успеха». Спустя несколько веков это презрение к образованности исчезнет без следа, и в 1159 году епископ Шартрский Иоанн Солсберийский в своем сочинении «Поликрат» напишет: «Король необразованный — все равно что осел коронованный». А слово «idiota» стало обозначать монаха, не умеющего читать.
Но, хотя руку «приучить» так и не удалось, франкский король отличался от своих царственных коллег стремлением к образованию. Он «овладел латынью настолько, что мог изъясняться на ней, как на родном языке», а по-гречески не говорил, но понимал. Другие предметы — риторику, диалектику, астрономию, — ему преподавал Алкуин, сакс из Йорка, один из ученейших людей своего времени. Характерная деталь: 33 года великий король ведет самую ожесточенную и кровавую войну своего времени с саксами, но именно сакс является его ближайшим другом и наставником, с именем которого во многом связано Каролингское возрождение.
Слава о Карле Великом — храбром, мудром и гуманном государе — распространилась далеко за пределы его империи, а при дворе постоянно можно было встретить послов из самых отдаленных государств. Приезжало как-то даже посольство от легендарного Гаруна аль-Рашида, вручившее Карлу ключи от Иерусалима, Гроба Господня! А славяне вообще его имя сделали нарицательным для обозначения королевского звания (то есть «король» от слова «Карл»).
Летом же 802 года от халифа Багдада Карл получил… слона по имени Абу-ль-Аббас. Слон прожил при франкском дворе около девяти лет, сопровождая императора в походах. Он даже принял участие в одном из сражений, принеся победу: датчане, едва узрев невиданное чудовище, бросились наутек. Но во время очередной войны с саксами слон умер. Это событие расценивалось современниками как одно из самых печальных в году. Как сказано в летописи, «В том же году, когда умер слон, скончался и король Италии Пипин».
Политические и военные победы нашли отражение в титуле Карла, который, в конце концов, приобрел следующую формулировку: «Карл милостивейший августейший, коронованный Богом, великий властитель-миротворец, правитель Римской империи, милостью Божьей король франков и лангобардов».
Глава 4. Не только меч. Каролингский ренессанс

Конец 8 века н. э. Вот уже 4 века подряд идет яростное сражение между европейцами и ордами варваров, волна за волной накатывавшими из темных глубин необъятного евразийского континента. Варварские нашествия в течение последних трехсот лет дополняются беспрерывными войнами между европейскими государствами, а также постоянными междоусобицами баронов, графов, герцогов и прочей знати. Римская империя давно, увы, превратилась в руины и почти забыта. Война стала самым естественным, обыденным явлением. Война везде, война всюду.
Как можно представить себе четыре века войны? На шкале истории это расстояние, отделяющее эпоху первого русского царя из династии Романовых Михаила от наших дней. Представьте, если бы мы все это время воевали. Постоянно. Со всеми. С кровью, ужасом, мучениями. Без всякой надежды на мир. Именно так проходила человеческая жизнь в то время.
Но как часто бывает, «там, где опасность, идет и спасенье»: один из самых великих воинов того времени, почти полвека проведший в военных походах и, следовательно, внесший свой вклад в формирование «ужаса», о котором шла речь, стал, пожалуй, первым за много веков правителем, использовавшим свою власть для развития культуры, искусства, образования. Это был Карл Великий, а изумительное в своей неожиданности явление получило название Каролингское Возрождение. Оно стало первым, самым ранним провозвестником той великой средневековой культуры, которая сформируется позже, только лишь через 300—400 лет.
А началось все с двух событий. Во-первых, на древних землях франков Карл основал новую столицу — Ахен, Он мечтал сделать ее «будущим Римом». А, во-вторых, в нем была создана «Палатинская (Дворцовая) Академия», — небольшой кружок любителей наук и исторической древности. В том кружке Карла звали Давидом, поэта Ангильберта — Гомером, а руководил им уже упоминавшийся Алкуин, он же «Флакк» (Гораций).
Конечно, над кружком веял миф великой античности. Отсюда и новые имена его членов, да и само название «Академия», — калька с платоновской Академии. Но кружок не был просто имитацией. В нем собрались лучшие умы своего времени, перед которыми стояла задача не подражать, а, изучив, превзойти славные деяния предков. Превратить двор в Ахене в «Афины даже прекраснее древних, ибо теперь они будут облагорожены учением Христовым» (Алкуин). Нужно отметить, что Карлу удалось собрать культурную элиту не только со всех концов своей обширной империи, но и привлечь представителей других стран, — ирландцев, англосаксов, испанцев. Он даже выписал из Италии певчих и поручил им обучать франков. Но голоса последних были так грубы, что итальянцы сравнивали их с ревом диких зверей или со стуком телеги по бревенчатой мостовой.
Наибольшего расцвета культурный ренессанс достиг на севере Империи, в монастырях и церквях, расположенных между Сеной и Везером. Одна из их важнейших его заслуг заключалась в копировании трудов античных и христианских авторов, многие из которых дошли до нас исключительно благодаря усилиям скромных монахов. В то время многие монастыри превратились в настоящие типографии. Сегодня нам сложно оценить всю грандиозность труда безвестных переписчиков. Но попробуем представить, что за годы каролингского Возрождения вручную пером было переписано 50 тысяч экземпляров Библии! Примем во внимание, что для переписывания всего одной Книги Книг одним человеком требовался год напряженного, физически очень тяжелого труда. А ведь переписывалась не только Библия. Да и издания те — не чета современным книгам. Это были роскошные произведения искусства из телячьей кожи, украшенные разноцветными миниатюрами. К примеру, в Утрехтской псалтири их насчитывается 166. А Евангелие Годескалька, преподнесенное Карлу, выполнено на крашеном пурпуром пергаменте, а текст написан золотыми и серебряными чернилами.
Сегодня большинство самых ранних экземпляров произведений античных авторов, которые дошли до нас, датируются IX веком, а значит, Каролингским Возрождением. Не будь его, мы бы просто лишились многих произведений античной литературы и ее авторов.
В то же самое время был и еще один центр сохранения культурного наследия античности. Далеко-далеко от империи Карла. В Багдаде. Там сыну легендарного Гаруна аль-Рашида во сне явился прекрасный рыжеволосый юноша, который подсел к нему на кровать. Это был… Аристотель. Абдуллах аль-Мамун расспросил его о благе и других вещах. Ответы потрясли халифа. Так было положено начало арабскому Возрождению. Его центром стала первая исламская академия — Дом мудрости. Сюда с захваченных территорий доставляли рукописи античных авторов. За драгоценными манускриптами отправляли посольства и целые караваны в Византию и Индию. Сюда же прибывали лучшие интеллектуалы из Ирана, и Средней Азии. Главный переводчик Дома мудрости владел четырьмя языками и «зарплату» получал в зависимости от веса переведенных книг. Чистым золотом. Он перевел на арабский язык Платона, Аристотеля, Гиппократа, Галена и других авторов. Рядом с Академией была построена обсерватория, специалисты которой, в частности, измерили земной меридиан. Ошибка составила всего 1%. Так начался взлет арабской культуры, философии, науки. Через три столетия изумленная Европа заново откроет для себя эти спасенные тексты греческих гениев.
*** *** ***
Труд монаха-переписчика был не только тяжел, но и крайне опасен. В недрах древних текстов их подстерегал сам Сатана, а потому приходилось прибегать к специальным методам защиты от диавольских искушений и прочих напастей. Универсальных способов не было, каждый изобретал свои; например, клирики из Клюни (один из важнейших монастырей в христианском мире) в таких случаях, прежде чем взяться за перо, чесали рукой за ухом, на манер собаки, «ибо неверного по праву можно сравнить с этим животным».
Помимо сохранения античного наследия, в империи Карла впервые после античности начинают создаваться протогосударственные институты. Среди них даже зачатки системы социальной защиты. Один из капитуляриев, например, обязывает все «государственные учреждения», в том числе монастыри, безвозмездно предоставлять кров, хлеб, и воду любому путнику.
Каролингский Ренессанс охватил всю Империю франков, по расположению его наиболее важных центров мы можем видеть, что культура, ранее процветавшая в Средиземноморье, теперь перекочевала в центр и на север Европы. А большинство писателей и авторов того периода были по происхождению ирландцами, англосаксами или франками; другими словами, все они были родом из районов, расположенных намного севернее средиземноморья. Именно здесь отныне формируется ядро средневековой цивилизации.
Язык и литература
В качестве небольшого отступления. Во время Каролингского Возрождения не только переписываются книги, сочиняются стихи и прозаические произведения, но и совершенно незаметно даже для современников возникают новые литературные жанры. Например, такой популярный сегодня жанр как триллер. Только тогда он имел библейскую основу.
Около 780 года монах Беат из монастыря в Лиебане, неподалеку от Сантандера пишет «Комментарии» к Откровению святого Иоанна. Заметим, что ныне знаменитый Апокалипсис в то время был не очень распространенной книгой. «Комментарии» все изменили. Чистый Ад, ожидающий человечество еще на земле, был разъяснен Беатом в деталях и очень доходчиво, что и вызвало огромный интерес. Число иллюстрированных копий этого издания постоянно росло в течение IX–X веков. Тем более, что к 1000 году ожидался конец света (о чем мы еще поговорим), и в преддверии этого события тема Апокалипсиса выглядела как никогда актуальной. Художники украшали книгу все более реалистичными изображениями самых адских мук. Но апофеозом стали все же не книги, а… гобелен. Да какой! Самый большой в мире, длиной более 100 метров! Десятки, сотни страшных, мучительных сцен, выполненных по заказу Людовика I Анжуйского украшали, начиная с XIV века, стены замка одного из самых блестящих дворов Северной Европы. К этим сюжетам обращались и после окончания эпохи средневековья. Так, благодаря Беату, в Европе появился первый настоящий триллер.
Приблизительно в те же годы возникает и такой жанр как fantasy. Начался он с издания записок о плавании святого Брендана, ирландского монаха, куда-то на запад, возможно, к берегам нынешней Америки. Книга быстро стала бестселлером, выдержала много переизданий и продолжает публиковаться поныне, вот уже вторую тысячу лет. Это яркий, красочный рассказ о необычайном путешествии, в котором люди смогли преодолеть все препятствия и найти свою чистую землю, освещенную несотворенным светом. Правда, само путешествие состоялось еще за 200 лет до его описания, но тогда в этом не было ничего удивительного: цивилизация, по большому счету, была еще не письменная, в основном она полагалась на устную традицию.
В области лингвистики была проделана очень большая работа. Это касается как франкского языка, словарь которого был впервые составлен по личному указанию Карла, так и латыни. Последняя, по мнению «академиков», подверглась «одичанию», т.е. «нашествию» массы вульгаризмов, разговорных слов. Важно было вернуться к классической латыни, для чего был введен т.н. каролингский минускул, — новое, более простое и изящное начертание букв, распространившееся по всей Западной Европе. Кроме того, ранее все слова писались без пробелов, ни знаков препинания, ни переносов не существовало вовсе. Один, единый, слитный текст. Теперь же впервые появляются пунктуация, заглавные и строчные буквы, абзацы, а вместе с ними и правила латинского языка, которые с тех пор больше не меняются. Как свидетельствуют исследователи данного вопроса, такая разбивка текста впервые положила начало практике чтения «про себя», а не вслух. С другой стороны, возврат к «классике» стал концом латыни как общеупотребительного разговорного языка. Отныне латынь перестает быть народным языком.
Через 200 лет, однако, минускул забыли, предпочтя готический шрифт. Но, спустя еще 300 лет, во времена последнего, классического Возрождения, заново обнаружили. Петрарка и его товарищи, читая тексты античных авторов, записанных монахами тогда, во времена Карла, пораженные красотой и удобочитаемостью шрифта, начали его копировать. Правда, они считали, что это подлинные античные книги. Так возникли современные латинские буквы, к которым мы все привыкли. И таймс нью роман, и любые другие шрифты, которыми мы пользуемся ежедневно (например, шрифт антиква появился в монастыре Клюни, готический — в Монте-Кассино), все они — формы каролингского минускула.
Образование
В 787 году, после издания «Капитулярия о науках» по всему франкскому государству при каждом монастыре и епископской кафедре открываются школы. В 802 году «Капитулярий» дополняет указ об обязательном образовании для мирян. Эти документы, в частности, обязывали каждого главу семейства отправлять сыновей в школу. Правда, данное указание не пользовалось популярностью и повсеместно саботировалось.
Впервые после многовекового перерыва появляются библиотеки. До нас дошли формуляры с записями, кому и на какое время выдана данная книга (почти как в современных библиотеках). Причем нередко отметка о возвращении отсутствует, — свидетельство того, что ничего не меняется в мире, хотя, конечно, «замыленные» читателями тысячу лет назад книги — большая потеря для историков.
Образование состояло из двух ступеней: тривиума (грамматика, риторика и диалектика) и квадривиума (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). А все вместе они составляли программу семи свободных искусств.
Основой служила грамматика. Как писал член «Академии», епископ Майнца Рабан Мавр, это «наука, которая учит нас понимать поэтов и историков, и искусство, благодаря которому мы правильно говорим и пишем». Наряду с собственно грамматикой изучались словообразование, литература и даже стихосложение.
Следующее искусство — риторика — нужна для того, чтобы «эффективно использовать светскую беседу в повседневной жизни». В нее входило умение выражать свои мысли не только вслух, но и письменно, а также основы юриспруденции и правила составления официальных документов.
То есть риторика — это не красноречие, часто совершенно пустое, в сегодняшнем понимании этого слова, а еще одно важнейшее искусство. Уметь выражать свои мысли, также как и понимать мысли других, — это то, что должно предшествовать всяческому изучению, любым наукам; то, что пригодится вам, в отличие от подавляющего большинства наук, везде и всюду, всю жизнь. Кстати, странно, во времена Карла, то есть в эпоху натурального хозяйства, людей учили тому, как составить официальное письмо, а сейчас, когда документооборот возрос в тысячи и миллионы раз, когда каждый из нас всецело зависит от работы других, — от ЖЭКа до властей всех уровней, такое знание считается излишним.
И, наконец, логика (диалектика), согласно Мавру, — это наука понимания и, следовательно, наука наук. Кроме всего прочего, она включала в себя искусство ведения дискуссии. Логика важна для проверки того, верно ли ты строишь текст, не допускаешь ли какую-то ошибку и т. д. Таким образом, логика — это еще и искусство толкования и интерпретации текстов. Важнейшая на самом деле вещь. Без нее ничто не имеет смысла. Ну, какой прок от того, что вы прочли от корки до корки «Войну и мир», если вы в ней ничего не поняли или же — самый распространенный вариант — поняли совершенно не то, о чем хотел сказать автор. Ведь люди сегодня даже не пытаются понять текст и правильно его интерпретировать, считая его и так интуитивно понятным. От этого возникает непонимание и огромное количество конфликтов, не говоря уже о проблемах в обучении.
Семь искусств и составляли базис, освоив который человек мог переходить к изучению естественных дисциплин, музыки или чего-то еще. Он просуществует все средневековье, но исток его возрождения после античных времен здесь, в каролингском ренессансе.
Унификация
Очень важная часть нововведений Карла, — приведение различных государственных систем и институтов к единому стандарту.
Во-первых, было устранено персональное право, то есть правовая система стала едина для всех жителей территории. Также было записано обычное право всех народов, проживавших во Франкском государстве, и изданы 65 капитуляриев, положенных в основу юридической системы.
Во-вторых, была проведена финансовая реформа, и учреждена единая денежная система, в основании которой лежала серебряная монета — денье. Тем самым фактически была основана денежная система всего Средневековья.
В-третьих, введена система мер и весов, эталоны которых были выставлены в королевском дворце.
В-четвертых, что тоже очень важно, к «единому знаменателю» были приведены Библии. Ибо поскольку в те времена каждый экземпляр книги был уникален, да еще и переводчиков было много, то разночтений в священных текстах было более чем достаточно и неясно, какой текст действительно священный, а какой — нет.
Также св. Бенедиктом Аньянским был разработан «Монастырский
капитулярий», несколько модернизировавший «Устав» Бенедикта Нурсийского и ставший образцом уставов для множества монастырей в течение будущих столетий.
Часть 3. После Карла: распад великой империи франков

В 814 году великий Император умирает. Он передает самую могущественную империю христианского Запада в руки своего сына — Людовика Благочестивого. Целиком. Неразделенную. Но всего через два года Людовик делит ее между своими тремя сыновьями. Объединению Европы — а империя франков включала территории современных Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Голландии и даже Балеарские острова — на этот раз не суждено было сбыться.
В дальнейшем, в результате Верденского раздела в 843 году, на месте великой империи возникли Западно- и Восточно-Франкское королевства, ныне известные как Франция и Германия. Было еще и странное образование, — срединное королевство, которое, впрочем, вскоре распалось. Войны за его территории, например, такие как Эльзас и Лотарингия, будут идти следующие тысячу лет, вплоть до 1945 года.
Империя Карла Великого уходит в небытие. В 877 г. со смертью Карла Лысого приходит конец и Каролингскому возрождению. Общество, государство, жизнь в целом погружаются в пучину варварства. Почти такого же, как после распада Римской империи. Наступают Темные века. «Днесь вы видите гнев Господень… Запустели города, монастыри сожжены или лежат в руинах, поля зарастают травой… Сильный повсюду теснит слабого, люди уподобились морским гадам и жадно пожирают друг друга». Так говорили епископы Реймской провинции, собравшиеся в 909 году на свой съезд в Трозли.
А вот что пишет современник о распаде государства Карла Великого: «…придя в упадок, эта великая держава утратила сразу и свой блеск, и наименование империи; вместо государя — маленькие правители, вместо государства — один только кусочек. Общее благо перестало существовать, всякий занимается своими собственными интересами: думают о чем угодно, одного только Бога забыли».
Издание законов прекратилось. В Германии сразу после Карла, во Франции продержалось еще лет 70, после чего тоже угасло. Светскому праву нигде не обучали. Адвокатов упразднили, и всякий, кто имел власть, был судьей. А поскольку большинство властьимущих (они же судьи) не умело читать, они были не в состоянии прочесть даже свой собственный приговор. Никто не знал, что там записал единственный грамотный из присутствующих, какой-нибудь диакон. Между тем, нередко возникала необходимость обращения к этим решениям через несколько лет (например, по вопросу межевания земель). Поэтому их письменное изложение было крайне важно. Увы… Более того, право, в большинстве случаев, возвращается к обычаю в его устной передаче, — колоссальный регресс. И даже само слово «Европа», «отцом» которой был назван Карл Великий, предали забвению.
Формирование нового мира: феодалы сменяют чиновников, к свободе стремятся все
«X век представляет ужасное соединение невежества, грубости и суеверия: науки буквально скрылись в монастыри, которые сделались их убежищем; монахи — только их хранители, но не истолкователи; нравственное состояние общества в таком же жалком и отчаянном положении; всеобщая грубость нравов дошла до высшей степени; приятное обращение, изящный вкус, все связи и сношения, украшающие жизнь, как будто покинули общество», — пишет один современный исследователь.
Подтверждений этим словам множество. О повсеместном упадке можно судить хотя бы по денежному обращению. Так, если Карл Великий ввел единую денежную систему с единым монетным двором, то уже сразу после его смерти «звонкую монету» начали чеканить графы округов, затем к тому же приступили отдельные города, а закончилось все настоящей финансовой вакханалией, когда «эмиссионным центром» мог стать кто угодно: отдельные монастыри, церкви и даже совсем мутные, непонятные конторы, существовавшие при немногочисленных рынках. Впрочем, особой необходимости в деньгах не было, в силу катастрофического упадка торговли. Свободная хозяйственная деятельность, как и денежное обращение, упали до самого низкого уровня, который когда-либо существовал. Дело дошло до того, что некий бравый джентльмен, укравший меч у самого графа Бургундского, так и не смог продать его, после чего вернул меч владельцу. Что произошло дальше с сим «джентльменом» история умалчивает.
В те годы настоящими, а не номинальными правителями на местах становились военачальники, сумевшие организовать сопротивление и как-то противостоять армиям вторжения. Гарантом безопасности становится не король, а его вассалы, которые, естественно, стремятся к независимости от сеньора. Вообще в Х-XI веках к свободе и независимости стремятся все: князья — от центральной власти, аббаты — от епископов, «еретики» — от церкви, горожане в коммунах — от территориальных сеньоров. Любой, кто владел крепостью, окруженной полями и лесами, создавал вокруг нее маленькое независимое государство.
Власть постепенно переходила от государства в частные руки; другими словами, страна все более и более распадалась на отдельные вотчины. Возглавили этот процесс самые могущественные люди того времени, — герцоги. Они теперь получали права на свои феоды не от короля, а по праву рождения. Власть стала собственностью, а ее источником — сами герцоги. Такое обособление произошло еще в начале Х века. А дальше распад пошел как цепная реакция: от герцогов отделились графы; от графов — бароны и т. д. вплоть до мельчайших суверенов. Каждый на своем клочке земли строил свое собственное маленькое государство. Страна, во главе которой по-прежнему стоял король, — помазанник Божий — в действительности распалась на ячейки, каждой из которых руководил абсолютно суверенный сеньор. Подобно королю, он являлся гарантом соблюдения Божьего мира и справедливости на своей территории. Законы для нее сочинял сам суверен, сидя в собственном административном центре — замке.
В это время (IX—X вв) шел процесс перехода от назначаемых королем руководителей территорий, управленцев, к наследованию этих территорий и становлению потомственной аристократии. Этому способствовало два обстоятельства. Во-первых, отсутствие дорог, регулярного транспортного сообщения, приведшее к фактическому разрыву коммуникаций и обособленности отдельных регионов. Европейские страны того времени стали напоминать архипелаги из сотен и тысяч средних, малых и мельчайших островков. А во-вторых, информационная изоляция этих островков, как от столицы, так и друг от друга. Увы, регулярное почтовое сообщение тогда осуществлялось всего по одной линии: между Венецией и Константинополем. Все. В самой Европе ничего похожего не было. В результате бароны, прелаты и даже короли вынуждены были передавать письма, указы и другие документы через нарочных. Лица же менее высокого ранга прибегали к услугам странников, паломников. А те, разумеется, никуда не торопились. К тому же никогда не было уверенности, что послание вообще дойдет. В дороге всякое могло случиться. Такое положение дел привело к тому, что действенной была только местная власть. И тут на авансцену выходили «управленцы». Они не имели возможности получить по каждому конкретному случаю указания из «центра», и были вынуждены брать всю ответственность на себя, действуя на свой страх и риск. При этом, разумеется, решения принимались с учетом собственного интереса. А этот интерес, он же стратегическая цель, заключался в закреплении территории за собой и основании независимой династии. Огромное количество самых знаменитых аристократических родов Европы начиналось именно в те незапамятные, Темные века и именно таким образом.
В результате сложилась ситуация, когда король — слаб, а феодалы обладают всем, кроме самого главного, — они не помазаны церковью на царство, а значит, их власть не была сакральной, «от Бога», они не могли быть посредниками между Богом и людьми. Установившийся порядок везде трещал по швам.
Атаки извне
Общий упадок усугублялся внешними обстоятельствами. Они были не просто плохими, а скорее, ужасными. Все южное средиземноморье, впрочем, как и восточное, и западное, было оккупировано арабами. Их флот господствовал по всей водной глади, беспрерывно нанося удары то в одном, то в другом месте. Были захвачены многие ключевые пункты: Сицилия, Сардиния, Балеарские острова и другие. Не прекращались попытки прорыва с территории Пиренейского полуострова вглубь континента. Европа в страхе отпряла от обустроенного средиземноморья, подавшись в центр и на север.
Но и там был тот же ужас и кровавый террор. Только на этот раз его обеспечивали викинги. Варяги, норманны. Их дружины огнем и мечом год за годом проходились по всем прибрежным городам. Юркие ладьи поднимались вверх по рекам. И негде было укрыться от них. Не раз и не два они подвергали разграблению Руан, Париж, Лондон, Йорк, Гамбург, Кельн, Тулузу и многие другие города. Целые области пришли в запустение. Дело дошло до того, что в качестве «отступного» норманнам пришлось выделить целую область. Она и поныне называется Нормандией. В отсутствие у франков и германцев флота противостоять викингам, казалось, было невозможно.
Своей жестокостью норманны внушали ужас. Пример тому — знаменитая оргия 1012 года, во время которой был забит костями съеденных быков епископ Кентерберийский. В саге упоминается один исландец, его еще называют «детолюбом», поскольку, вопреки традиции, он отказывался насаживать младенцев на копье. Невиданный в рядах суровых северных воинов слюнявый гуманизм так поразил его товарищей, что даже вошел в эпос.
Убийство епископа тоже не должно смущать, поскольку христианами викинги больше считались, чем были на самом деле. История сохранила для нас один любопытный документ, — письмо папы римского скандинавам. В нем он мягко отказывает в просьбе признать какого-то их товарища святым, замечая, что «какой из него святой? Он же попросту был убит в пьяной драке?». После описанной оргии прошло более полутора веков, но норманны по-прежнему были далеки от христианского духа.
«Вы должны возлюбить мир как средство для ведения новых войн. И короткий мир — больше долгого. Мой совет вам — не работа, а сражение. Мой совет вам — не мир, а война. Вы говорите — хорошо ли это освящать войну? Я говорю вам — хорошая война освящает все. Война и храбрость совершили больше великих дел, нежели любовь к ближнему. Что пользы в долгой жизни? Какой воин хочет, чтобы щадили его?», — эти слова, сказанные, правда, через тысячу лет, прекрасно характеризуют мировоззрение незваных варяжских гостей. И пощады от них ждать не приходилось.
А с востока — традиционной обители варваров — пришла не менее безжалостная, сокрушительная сила. На сей раз это были мадьяры, венгры. Они захватили Моравию и за короткое время предприняли 45 опустошительных набегов по всей Европе, разграбив Северную Италию, Саксонию, Баварию, Швабию, Галлию, дойдя аж до испанской Андалусии. Они перерезали такую важную транспортную артерию как Дунай, из-за чего товары из Византии и других стран Востока пришлось везти через Киев, что, правда, принесло процветание Киевской Руси. Большинство европейцев не без основания усматривали в венграх упомянутый в Апокалипсисе народ Гога и Магога, каким-то образом прорвавшихся из-за золотой стены на краю земли, и теперь несущих весть об Антихристе.
Итак, вторжения извне следовали одно за другим, или же все одновременно. Венгры, арабы, норманны год за годом, подобно разрушительному торнадо проходившие по Европе, сеяли смерть и разрушение. Вслед за ними приходили верные спутники — голод и эпидемии. Так опустошались огромные территории. Европа вымирала…
Неуклюжие королевские войска, тратившие огромное количество времени на сосредоточение (поскольку необходимо было дожидаться подхода воинских контингентов с отдаленных территорий), раз за разом показывали свою полную несостоятельность, вечно опаздывали и терпели поражения. Новая западная цивилизация, представляла собой в эту пору осаждаемую, а точнее, уже наполовину завоеванную крепость. Казалось, что шанс выжить у взятой в кольцо могущественными силами, раздробленной, да к тому же раздираемой внутренними противоречиями, Европы стремился к нулю. Она неминуемо должна была погибнуть.
Но как всегда в критические моменты европейской истории случалось почти невозможное. Появлялся тот, кто мог его совершить, невероятным образом старые враги становились союзниками, небольшие отряды стояли насмерть перед многократно превосходящими их силами. И побеждали! Так было при Фермопилах, так было при Марафоне, при Пуатье и еще много, много раз.
Глава 5. Христианская империя: вторая попытка

Предыстория
Через 100 лет после смерти Карла Великого положение восточно-франкских земель осложнилось. Причина тому — новые вызовы, на которые по-прежнему не было достойного ответа. Главным кошмаром для франков стали уже упоминавшиеся венгры. Подобно гуннам, раньше они обитали где-то в районе Азовского моря, впервые обнаружив себя в 833 году. Но уже в 906 году им удалось захватить Моравию, организовав на ее территории нечто вроде операционной базы для последующих стремительных и безжалостных атак по всей Европе.
В том же 906 году венгры вторглись в Саксонию, на следующий год — в Баварию, потом дважды (в 909—910 годах) в Швабию. Противопоставить оказалось нечего. Сопротивление лишь усугубляло разгром. Так, в 907 году под Пресбургом (Братислава) было уничтожено баварское ополчение, собранное маркграфом Лиутпольдом Пресбургским, а в 910 году на Лехфельде под Аугсбургом наголову разбито восточнофранкское войско во главе с королем Людовиком Дитя, который после разгрома заболел, и вскоре умер в возрасте 18 лет.
Тем временем внутри восточнофранкского общества шла ожесточенная борьба. В кровавых междоусобицах были полностью истреблены многие влиятельные рода, особенно во Франконии и Лотарингии. В борьбе за первенство наибольшие потери понесли знатнейшие семейства. Выжили лишь самые сильные и хитрые. Благодаря этим качествам вскоре они составили новую элиту. По своему драматизму и разрушительности для высшего класса это взаимное уничтожение можно сравнить разве что с войной Алой и Белой розы, случившейся на территории Великобритании через пять столетий. К сожалению, в германских землях в Х веке не нашлось своего Шекспира, чтобы увековечить ту грандиозную бойню. Век был Темным, поэтому страсти и катастрофы той поры давно забыты.
Нельзя сказать, что серьезность положения не осознавалась. Внешняя угроза в сочетании с кризисом элиты, — что может быть хуже! Мудрый король Конрад мучился в поисках выхода даже лежа на смертном одре. Его последние слова были: «у нас есть все, — могущественное войско, крепости, оружие, — за исключением лишь того, от чего все в конечном счете и зависит: королевского блага. Счастью сопутствуют благороднейшие нравы». В 918 году король умер… Его приемником стал герцог Саксонии Генрих I Птицелов (он узнал о своем назначении, предаваясь любимому занятию, — ловле птиц, оттого и прозвище). Вместе с ним саксы, против которых столько десятилетий воевал Карл Великий, впервые получили власть во всем Восточнофранкском государстве, — это был важный шаг к появлению на мировой арене такой страны как Германия.
Впервые, пожалуй, германское единство было продемонстрировано в 933 году в битве при Риаде. За год до этого собрание в Эрфурте приняло решение прекратить выплату дани венграм, что и было сделано в исключительно вызывающей форме. Мадьяры, разумеется, вызов приняли и не замедлили явиться с большим войском. Но времена изменились, и теперь им противостояла объединенная армия всех германских племен.
Генрих I повел в бой воинов под знаменем святого Михаила, одержал победу, что произвело сильное впечатление на всех германцев. А когда на следующий год он разгромил датского конунга Кнуба, принудив его выплатить дань и принять крещение, и тем самым ликвидировал последние остатки норманнской угрозы, стало ясно, что на востоке Европы появилась новая мощная держава.
Однако через пару лет Генрих I скончался, и по-настоящему заявить о себе на весь христианский мир новая держава смогла лишь спустя четверть века, уже при другом короле. Им стал Оттон I, коронованный в Ахене, в базилике Карла Великого.
Оттон I. Начало
И наступил день коронации. В воздухе витал дух Большого праздника.
Церемония состояла из нескольких частей. Сначала герцоги подняли нового правителя на руки и усадили на трон. По очереди они подходили к нему и приносили вассальные клятвы, присягая на верность. После этого последовала вторая, духовная часть церемонии. Оттон, одетый во франкское платье, вышел на середину церкви, где архиепископ Майнцский Хильдеберт представил публике «Богом избранного, некогда владыкою Генрихом назначенного и всеми князьями произведенного в короли Оттона» и призвал народ дать согласие на этот выбор, если он ему нравится. Народ выразил свое одобрение вскинутыми вверх руками и громкими приветственными возгласами. Тем временем короля подвели к алтарю, где лежали инсигнии -символы королевской власти: меч, плащ, скипетр и корона. Далее последовала их передача, освящение, помазание и, в завершении, коронация. Церемонию проводили два архиепископа — Майнцский и Кёльнский. Она включала в себя, в частности, повторное возведение на трон, на этот раз на мраморный трон Карла Великого в верхней галерее собора между колоннами. Духовная часть завершилась мессой.
И наконец, пришло время долгожданной третьей части, — коронационного пира. О его статусе можно судить хотя бы по тому, что техническими служащими выступали самые знатные люди империи, — герцоги. Лотарингский был камерарием (распорядителем пира), франконский — стольником (официантом), швабский — кравчим (начальником стольников), баварский — маршалом (следил за порядком и исполнением церемоний). Так прошел незабываемый день 7 августа 936 года.
Основание империи
Постепенно оправившись от разгрома, венгры опять попытались захватить Европу, и в 953 году пересекли границу. Их полчища огнем и мечом прошлись по Баварии, опустошив ее, дошли до Рейна. По словам хрониста, на этот раз варвары превзошли сами себя, устроив такую кровавую баню, что германцам грозило полное истребление.
К страшной резне, учиненной венграми, добавился кошмар гражданской вой ны. Швабия, Франкония, Бавария, Саксония сошлись друг с другом в братоубийственной схватке. Сражения шли даже в Лотарингии. Причиной стали претензии на трон со стороны Людольфа, старшего сына Оттона. Оскорбленный тем, что отец сделал своим наследником другого сына, он вместе с зятем Оттона Конрадом Лотарингским поднял открытый мятеж и призвал венгров на немецкую землю, чтобы вместе одолеть отца (!). Это была измена семье, родине, Богу. Князья, спешно созванные со всех концов германской земли, осудили Людольфа.
Венгры пришли вновь, и прошлогодний кошмар повторился с удвоенной силой. Оккупанты были многочисленны, как никогда раньше. Казалось, мадьярский дракон по-прежнему силен, и никто не в силах противостоять ему. Но жестокость вторжения образумила «горячие головы» и сплотила многих бывших оппозиционеров. Даже Людольф, осознав свое падение, в одиночку пришел к отцу и упал перед ним на колени, охваченный раскаянием. Прощение он получил, но «венгерская проблема» от этого отнюдь не уменьшилась. Важно было выиграть время…
Кто сдержит натиск? Истории было угодно, чтобы эта честь выпала Аугсбургу. Его оборону возглавил отважный епископ Удальрих. На требование нападавших сдать город по-хорошему, он ответил категорическим отказом, запер ворота и приготовился к битве. Начался штурм. Волна за волной. Но натиск непобедимых мадьяр раз за разом разбивался о стойкость защитников. Они не только обороняли стены, но и переходили в контратаки. Неизменно их возглавлял неустрашимый епископ.
Тем временем король спешно собирал войско. К оружию были призваны все немецкие племена, — саксы, швабы, баварцы, франки, богемцы. И грянул бой. Сражение состоялось в день св. Лаврентия, 10 августа 955 года, в долине Лехфельда, чуть южнее Аугсбурга. Как раз там, где 45 лет назад потерпел страшное поражение Людовик Дитя. На этот раз 10 тысячам германцев противостояло 50 тысяч венгров. Казалось бы, с неизбежностью история повторится. Ведь каждому немцу противостояло пять мадьяр. Но…
Битву начал сам король. Он мчался вперед, воздев к небесам победоносное священное копье! Согласно легенде, это было то самое знаменитое копье судьбы, кровью Христовой дарующее победу его обладателю. И все германцы знали, что сколь бы враг ни был силен, само провидение сегодня на их стороне. (Это священное копье Генрих I выкупил у короля Бургундии Родольфа II, отдав за него много золота, серебра, а также город Базель со всей округой).
Кровавая сеча стала великим уравнителем, заставив позабыть обо всех старых распрях, смертных обидах. Графы, герцоги, сам король сражались бок о бок с рядовыми общинниками. В битве особенно отличился Конрад Рыжий, — бывший герцог Лотарингский, разжалованный за измену. Он искупил свой грех, смыл его кровью. Ценой жизни… Накал ожесточения не уменьшился даже после окончания битвы, — все пленные были казнены. По обычаю того времени их жизнь закончилась либо в петле, либо на эшафоте, — деревья по всей округе были буквально увешаны телами недавних врагов. Правда, венгерскому полководцу Лехелю перед смертью Оттон, в качестве особой милости, разрешил сыграть на его любимом рожке.
Комментаторы единодушны в оценке: победа на Лехфельде затмила собой все прочие виктории, одержанные за последние столетия. Фактически она разрешила вопрос исторической важности: абсолютно дикие мадьяры, «враги людей и христианства», чья конница доходила до Кастилии, Бургундии и Южной Италии, были принуждены к миру, прекратили свои грабежи и осели на небольшом выделенном им участке земли, который сегодня всем нам известен как небольшая и тихая европейская страна Венгрия. На этом история противостояния не только венгров, но и варварских племен в целом и европейцев заканчивается. Оттон же одержал крупнейшую победу над язычниками, устранив самую страшную угрозу христианскому миру.
Здесь, на поле боя, вместо восточных франков и династии каролингов впервые на исторической сцене появляется немецкая нация, впоследствии одарившая мир невероятным созвездием гениев и героев. Боевое братство, сплоченность перед лицом смертельного врага превратили отдельные разрозненные племена, подчас с трудом понимавшие друг друга, в единый народ.
Правда, после поражения венгры еще какое-то время по инерции продолжали войну на границе с Баварией. Для ее безопасности Оттону даже пришлось создать две марки — пограничные области — одну в Альпах, вторую на севере на реке Энс, ее вскоре стали называть восточным округом — т. е. Ostarrichi, иными словами, Австрией.
Победа, явившаяся, по убеждению современников, величайшим триумфом Оттона, возвысила его и над предшественниками, и над другими королями. Согласно Видукинду Корвейскому, сама империя Оттона была обязана ей своим рождением: по его словам, во время торжеств войско провозгласило победоносного владыку «отцом отечества» и «императором». Автор называет Оттона освободителем Европы, подчеркивая уже сложившееся европейское единство. Конечно, прежние времена «солдатских императоров», когда армия сажала своих военачальников на главный трон Римской империи, давно канули в лету, и желание солдат нельзя было выполнить немедленно. Поэтому от Победы до основания Империи прошло целых 7 лет. Тем не менее, связь между этими двумя событиями очевидна.
Оттон на поле боя защитил не только Европу и ее народы, он защитил христианскую веру и христианскую церковь. А значит, и отношение к нему со стороны Святейшего престола резко изменилось. И если еще в 952 году первая попытка добиться императорской короны закончилась фиаско по причине противодействия со стороны папы, то через 10 лет все было иначе. Папа Иоанн XII сам в конце 960 года призвал Оттона к римскому походу и, соответственно, к принятию императорского титула. Конечно, у него были и собственные мотивы (в виде просьбы о помощи в борьбе с некоторыми враждебными феодалами, особенно с мятежным герцогом Беренгарием), тем не менее 2 февраля 962 года христианский мир принял коронацию Оттона в соборе св. Петра с воодушевлением, подтверждением чему служили одобрительные возгласы римлян, наблюдавших церемонию. В Европе появился новый император. И новое государство, — Священная римская империя. Получив императорскую корону, Оттон, как преемник Карла Великого, стал главой западного христианства.
О роли Священной Римской империи
Священная Римская империя стала настоящим лидером западного мира. Об уважение к ней и ее правителю говорит хотя бы тот факт, что на собрания, проводимые Оттоном (как, например, хофтаг в 973 году), помимо высшей знати со всех концов империи, прибывали многочисленные посланники из Рима и Византии, Руси, Венгрии, Болгарии, Дании, Богемии, Польши и даже Африки. Оттон Великий, по словам хрониста Видукинда, стал подлинным «королем народов».
Рим и Карл Великий — вот два идеологических истока нового государства. О нем уже много десятилетий мечтали христиане. Ведь именно имперские Рим и Аахен олицетворяли золотой век, то есть порядок и изобилие. Позже сын Оттона I Оттон II официально примет на себя титул Августа (формальное основание дала женитьба на византийской принцессе), а его внук Оттон III объявит «реновация империум Романорум», т.е. обновление, возрождение Римской империи и даже перенесет столицу в Рим, построив свой дворец на Авентинском холме. Впервые немец становится римским императором! Правда, в конечном счете, эксперимент закончился довольно печально, — в 1000 году римляне восстали, а вскоре монарх умер.
Однако Священная римская империя всю свою историю оставалась децентрализованной. Она объединяла несколько сотен самых разных территориально-государственных образований, а у ее императора даже близко не было той власти, какой обладали давние римские «коллеги». Достаточно сказать, что титул Оттона не был наследственным, а присваивался по итогам избрания коллегией курфюрстов, власть ограничивалась высшей аристократией Германии, а с конца XV века — рейхстагом, представлявшим интересы основных сословий империи. Кроме того, постоянно ощущалось противодействие со стороны Церкви. Иногда очень сильное. Дело доходило до открытых столкновений. Так в 1077 году в результате конфликта папа Григорий VII предал императора Генриха IV анафеме, после чего от него отвернулись все вассалы. В итоге Генрих (Император!!!) был вынужден зимой в одиночку отправиться из немецкого города Шпейер в папский замок Каноссу, расположенный в Северной Италии. Сотни километров пешком по горным альпийским тропкам и бездорожью, на пронизывающем ветру он шел за прощением. А потом еще трое суток стоял перед закрытыми воротами замка голодный, на коленях, в рубище, как простой паломник, пока его папа не принял и не простил. С тех пор выражение «отправиться в Каноссу» на языках многих народов мира означает униженно признать свое поражение, умоляя о пощаде.
Обычно этот инцидент трактуется как борьба между церковной и светской властью, известная как борьба за инвеституру, т.е. наделение клириков властью, шире — источник этой власти. Кто должен вручать им инсигнии — папа или император? Нужно, однако, принять во внимание, что само разделение власти на духовную и светскую отчасти надуманно. Ведь император сам — духовное лицо и помазанник божий. Поэтому все конфликты между «властями» проходили исключительно в рамках церкви, которая, собственно, и создала христианский Запад и европейское средневековье.
Но, несмотря на всю кажущуюся внутреннюю слабость и раздробленность, Империя (получившая в середине XV века свое полное название — Священная Римская империя германской нации) явила собой чудеса выживаемости, просуществовав почти 850 лет вплоть до 1806 года, когда ее упразднит Наполеон Бонапарт. Поскольку эпоха империй уже закончилась, сегодня можно с уверенностью сказать, что 850 лет является для этих государственных образований рекордом, по крайней мере, в Европе.
Внутренняя аморфность, однако, не помешала Священной Римской империи, буквально с момента ее появления стать главной силой европейского Запада. Вместе с ней на рубеже 1000-го года постепенно завершается складывание облика средневековой христианской цивилизации, и она выходит как единое целое на мировую арену.
Глава 6. Проблема тысячного года

Многие из нас помнят так называемую «проблему-2000». Она заключалась в страшилках, распространяемых средствами массовой информации во всем мире, будто все компьютеры при переходе с 1999 на 2000 год выйдут из строя, а вместе с ними попадают самолеты, произойдут аварии на АЭС, в системах жизнеобеспечения городов, одним словом, наступит настоящий апокалипсис. Ближе к 31 декабря 1999 года эта раздутая проблема (если вообще она когда-либо существовала технически, а не была от начала до конца выдуманной) приобрела характер массовой истерии. После 31 декабря, когда ничего не произошло, о ней все благополучно забыли.
Ровно тысячу лет назад, в преддверии 1000 года, народы христианской Европы также ждали конца света. Ждали его давно. Календари, выпускавшиеся за десятки и сотни лет до этого события, неизменно заканчивались на 1000 году. Дальше — все, время заканчивалось. В скобках заметим, что это прекрасный пример, иллюстрирующий, как, с одной стороны, в мире меняется почти все, а с другой, не меняется ничего. Через 1000 лет, несмотря на весь научно-технический прогресс, история повторилась: ученые и специалисты пытались сказать что-то разумное, но их никто не слушал: пресса старательно раздувала очередную сенсацию, а широкие народные массы заходилась в истерике, ожидая очередной Апокалипсис по причине круглой даты. Продрав глаза после отмечания юбилейной даты, миллионы представителей «народных масс» не обнаружили за окном никаких изменений, что даже немного разочаровывало. Так что несостоявшимся участникам всемирного катаклизма, ничего не оставалось как позевывая, отправиться к своим холодильникам за остатками вчерашнего пиршества.
Но есть и разница. В наше время отсутствие конца света ни на кого особого впечатления не произвело. Уже 1 января, посудачив насчет счастливого спасения, люди, даже не доев новогоднее оливье, принялись обсуждать очередное грядущее уничтожение мира. На этот раз по календарю майя. В 2012 году.
1000 лет назад все было гораздо серьезнее. Еще в античные времена Ипполит Римский, трактуя Библию, утверждал, что дьявол был побежден и скован Христом всего на тысячу лет. Потом «Сатана освободится от цепей и всадники, сеющие смуту, появятся со всех концов земли». Диавол будет царствовать на земле три с половиной года, со всеми предсказанными в Апокалипсисе последствиями: небесным огнем, эпидемиями, нашествием саранчи и так далее. Потом вернется Иисус и состоится последнее сражение времен между христианской Церковью и силами тьмы под предводительством Антихриста. Он обольстит, привлечет на свою сторону очень многих из мира сего. В частности, иудеев, этих, как полагали, детей зловещей планеты Сатурн, которые признают в нем мессию, обещанного ветхозаветными пророками, и вместе с другими иноверцами развернут гонения против христиан. Почему? «Ибо они народ, потерявший рассудок. И нет в них смысла». Но все же Иисус победит.
Ближе к искомой дате широкие круги общественности стали искать знамения. И, конечно, находили их в изобилии. В качестве таковых поначалу фигурировал захват огромной части Европы армией Отгона I Великого и создание в 962 году Первого рейха. Но это было еще не очень убедительно. В конце концов, мало ли кто кого оккупировал? Карл Великий, вот, в свое время захватил еще больше.
Более солидно выглядело утверждение, что апокалипсис состоится, когда Пасха совпадет с Благовещением. В 992 году Благовещение пришлось на Страстную пятницу, и, конечно же, этот день люди ждали как последний. Но обошлось. Тогда начали говорить, что День Х наступит в течение трех с половиной лет (ведь именно столько отведено бродить по Земле антихристу, а где он сейчас строит свои козни — неизвестно). Но и в 995, и в 996 годах ничего не случилось. На удивление всем, благополучно минул и 999 год, которого боялись еще больше. Еще бы, ведь это перевернутое число дьявола — 666. Более того, об этом тогда говорили не только торговки на рынке, но и высшие авторитеты, например, папа Сильвестр II, известный маг и чернокнижник, «ставивший» именно на 31 декабря 999 года. А кто лучше осведомлен о конце света, если не наместник Бога на земле.
Так постепенно, боясь, мир приблизился к смене тысячелетия. В этот момент христианские страны охватила предапокалиптическая паника. Многие католики тут же вспомнили учение Христа о том, что в День гнева не поможет богатство, а спасутся лишь те, кто совершает добрые поступки и ведет богоугодную жизнь. Люди принялись раздавать имущество бедным, жертвовали земли в пользу Римской церкви, уходили в монастыри и сутками напролет замаливали грехи в храмах. Никто ничего не делал — не обрабатывали землю, не сеяли, не лечили болезни, не ухаживали за животными, — все ждали Конца!
Считается, что именно с тех пор начали хоронить умерших в центре города. Ведь если понимать Откровение буквально, после второго пришествия Христа мертвые восстанут из могил. Так зачем усопшим далеко ходить?
Итак, живые разместили мертвых в городах. Невиданное дело. Античный мир смотрел на труп со страхом, а подчас и с отвращением. Почитание мертвых осуществлялось только в семейном кругу; покойников часто хоронили вдоль дорог. Но сейчас все полностью изменилось. Могилы переместились не только внутрь города, но и в его центр. Это укрепляло взаимоотношения между живыми и мертвыми и стало традицией, которая соблюдалась в течение половины следующего тысячелетия, и лишь с XVI столетия власти начали запрещать захоронение тел в черте города.
Как писал известный историк Мишле, «наступал закат мира. Заключенный ожидал во мраке темницы, заживо похороненный; крепостной крестьянин ожидал на своем поле, в тени зловещих замковых башен; монах ожидал в уединении монастыря, в одиноком смятении сердца, мучимый искушениями и собственными грехами, угрызениями совести и странными видениями, несчастная игрушка дьявола, упорно кружившего вокруг него ночью, проникавшего в его убежище и злорадно шептавшего на ухо: «ты проклят!».
А за много-много веков до Мишле пророк Софония предвещал: «День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен».
А слухи все продолжали будоражить европейцев! Согласно пророчествам, антихрист должен был родиться среди людей, причем, скорее всего, стать военным лидером, а потому был сделан вывод, что он появится в какой-нибудь не принявшей христианство стране. Тут же усилилась борьба с язычеством, и в 1000 году официально принимают христианство Норвегия, Исландия и Венгрия, а чуть раньше — в 988 году — Киевская Русь. Мотивы были самые разные. Но в любом случае нельзя сбрасывать со счетов, что, во-первых, времена были не очень толерантные, и при определенных подозрениях по поводу антихриста вполне можно было нарваться на превентивную войну, а то и какое-нибудь подобие крестового похода. Во-вторых, речь ведь шла о спасении, и поэтому в марте 1000 года исландцы всем островом перешли в христианство. Чтобы спастись! А уж когда случилось землетрясение (что в Исландии вообще-то не редкость), все поняли, — это Оно! Началось! Вот они, чудеса и катастрофы, — верное свидетельство прихода Антихриста. С ним грядет тысячелетнее царство, давно и не без ужаса ожидаемый «Миллениум»!

Но наступило второе тысячелетие, а обещанного апокалипсиса так и не произошло. Более того, как писал в своих хрониках епископ Титмар Мерзебургский, «Наступил 1000 год от рождения непорочной Девой Марией Христа Спасителя, и над миром воссияло солнечное утро». Ажиотаж вокруг несостоявщегося события явно пошел на спад. Некоторые люди, особенно лишившиеся имущества, и вовсе начали потихоньку возмущаться, а в Риме даже случился традиционный для этого города бунт. И тогда священники предложили новую дату: оказывается, слова Ипполита Римского были неправильно истолкованы. Дело в том, что Христос спустился в ад, победил дьявола и сковал его на тысячу лет уже после того, как воскрес. А значит, и дату апокалипсиса нужно считать не с момента рождения Иисуса, а со дня его распятия. Значит, описанные в Апокалипсисе события должны были начаться около 1033 года. Плюс три с половиной года, которые дьявол пойдет гулять по земле, выходит, что где-то в 1037 году. Но, устав бояться, Европа на все эти изыски реагировала уже довольно вяло. Разве что подогрели ожидания появившаяся аккурат под 33-й год комета, которую приняли за дракона, «летевшего на юг и испускавшего снопы искр», да всплывшее «морское чудовище» — кит, «напоминавший остров. Он появился в ноябре на рассвете и был виден до третьего часа дня». Но прежнего ажиотажа уже не было.
Зато на этот раз в апокалиптическую игру вступила недавно принявшая христианство Русь. Наиболее вероятным годом второго пришествия Христа русичи посчитали 1038-й — именно в этом году Благовещение совпадало с Великой субботой. Страной тогда правил Ярослав Мудрый, который решил основательно подготовиться к пришествию Мессии. Согласно «Повести временных лет», именно в 1037 году в южной части Киева были построены знаменитые Золотые ворота. Главная их функция — встреча явившегося на землю Спасителя. Они были роскошны и больше напоминали храм, причем располагались так, чтобы путник еще издали видел — он подходит к христианскому граду. Для встречи Спасителя к 1037 году с помощью мастеров из Константинополя возвели Софийский собор. Но опять ничего не произошло.
А в Европе тем временем после 1003 года начался настоящий подъем. Монах клюнийского монастыря Рауль Глабер отмечает: «С наступлением третьего года, последовавшего за тысячным, все земли, а особенно Италия и Галлия, оказались свидетелями перестройки церковных зданий… Настоящее соперничество толкало каждую христианскую общину к тому, чтобы обзавестись церковью более роскошной, чем у соседей. Мир как будто стряхивал с себя ветошь и облачался в новое белое платье церквей… даже маленькие деревенские часовни были перестроены верующими и стали еще краше».
Мирное движение около 1000 года
В тысячном году в Европе, повсеместное ожидание Апокалипсиса, все же не мешало такому важному занятию как война. И виной тому далеко не всегда были вторжения диких племен. В случае побед над ними война не прекращалась, просто на место одной «большой» приходили десятки мелких междоусобных стычек, место религиозных разногласий занимали соседские склоки. Но в то же время, около тысячного года, по всей христианской ойкумене возникает мощное движение за мир. Мир — один из главных идеалов христианства, воплощением которого служил поцелуй мира — губы в губы — которым на протяжении многих веков обменивались исключительно мужчины.
В христианстве «мир» — сакральное понятие, одно из предвоплощений райского мира. Поэтому главным действующим лицом пацифистского движения была Церковь. Церковные соборы, в которых также принимали участие крестьяне (!), впервые издают множество предписаний о защите слабых: крестьян, торговцев, паломников, женщин, священников. В общем, рядом с сословием воинов вырисовывается «сословие» безоружных. Движение за мир одобрили и «сильные мира сего». Было введено понятие «Божьего перемирия», согласно которому с вечера среды и до утра понедельника, а также в Великий пост и некоторые другие дни войны не велись. Но даже если война началась, необходимо было следовать определенным правилам. Так, зимой все расходились по домам. Но если вы все же завязали бой, то вам придется его закончить с наступлением вечера или в случае начала дождя (!).
Поскольку в обществе, по большей части неграмотном, Слово было выражением власти, почти материальным свидетельством, воинов побуждали торжественно клясться сохранять на своих землях мир между собой, щадить слабых, клириков и простой люд. Это и был мир Божий. Клятву приносили прилюдно, на реликвиях или распятии; она гарантировала честь и спасение. Отказаться же от нее значило обречь себя на вечную погибель. Начало движению было положено в Центральной Франции около 990 года, позже оно распространилось на всю Европу. Тех, кто отказывался принести клятву, помимо адских проклятий принуждали силой, — для этого, во имя «общего блага», Церковь без колебаний вооружала крестьянские отряды. Нарушение Божьего мира или Божьего перемирия считалось особо тяжким преступлением, поэтому за него не только отлучали от церкви, но и привлекали к «трибуналу мира», в который входили прелаты и сеньоры. А уж он судил «отступника», и судил крайне сурово.
Постепенно Божий мир становится миром королевским или, как в некоторых областях (например, в Нормандии), герцогским. При этом мир по-прежнему является идеалом религиозным; на государственном уровне, а потом и на международном он остается до сегодняшнего дня одной из главных коллективных задач всей Европы.
Нужно понимать, что многочисленные установления «во имя мира» вовсе не были пустыми декларациями, типа нынешних постановлений ООН. В них продумывались тонкие юридические и практические материи, и они были обязательны к исполнению. Преступавшие «табу» наказывались анафемой, изгнанием, или же на них налагалось, во искупление греха, обязательство совершить паломничество в Иерусалим.
Собор в Шарру (989) предает анафеме тех, кто жестоко обходится с клириком, «так как клирик лишен оружия». На Втором Лиможском соборе, в 1031 году, на будущих нарушителей мира наложено проклятье: все епископы одновременно погасили свои свечи и бросили их наземь, воскликнув: «Да погасит так Господь радость тех, кто не желает признавать мира и справедливости». Те, кто отказывался давать клятву о стремлении к миру и справедливости, отлучались от церкви. Отлучение распространялось даже на их оружие и лошадей. («Мы, епископы… отлучаем тех воинов, что не желают подтвердить приверженность миру и справедливости. Да будут прокляты они сами и пособники их во зле, проклятие на их оружии и на их конях»).
Чуть позже, в 1068 году, собор в Тулузе запретил нападения на церкви за исключением тех случаев, когда они укреплены: укрепления, очевидно, меняют их статус, превращая храмы в крепости. И напротив, рыцарь, если он, например, пашет землю, не имея при этом оружия, не должен подвергаться нападению, так как он не в состоянии отправлять обязанности своей профессии, — гласит одиннадцатый канон Верденского собора. Запрещаются грабежи, уничтожение урожая, виноградников, мельниц, увод в плен крестьян ради получения за них выкупа и т. д. Конечно, запрет не был абсолютным, обставлялся целым рядом оговорок, да и далеко не всегда выполнялся, но само обсуждение этих вопросов было уже огромным шагом вперед.
В 1024 году в Бургундии по инициативе короля Роберта Благочестивого, состоялась первая всеобщая ассамблея мира. На нее из всех областей Франции съехались священники, аббаты, сеньоры, крестьяне. Многочисленные реликвии, привезенные издалека по случаю этого события, явили немало чудес, вызвав прилив энтузиазма у всех собравшихся. С тех пор подобные ассамблеи много раз проводились в разных районах королевства. В подписанных на них документах, войны ограничивались как по количеству участников, так и по времени. Воины, конечно, по-прежнему обнажали меч, но уже не размахивали им без нужды направо и налево, о чем клялись на святых реликвиях. Так постепенно рождался образ рыцаря как защитника слабых.
Еще один аспект будущего наметился на этих ассамблеях: в их работе участвовали крестьяне. Это было просто невероятно, но они могли брать слово и говорить, более того, они сидели рядом с сеньорами! Бывший до того пассивной игрушкой истории, западноевропейский труженик земли постепенно входил в число ее действующих лиц. Он приобретал достоинство и ответственность, присущие человеку.
*** *** ***
Спустя 400 лет, уже на закате средневековья, движение за мир найдет свое продолжение и развитие в удивительном документе, созданном на европейской периферии. Его автор, король Богемии Иржи Подебрад, предлагает создать содружество европейских государств. Главный побудительный мотив в то время был, конечно, защита от турок (прошло всего 10 лет со дня падения Константинополя), но замысел, несомненно, более широкий, — это был, по сути, первый проект объединенной Европы. Текст датируется 1464 годом и называется «Трактатом о Европе». В нем четко определяется цель и средство создания европейского единства — отказ от войн между государствами. Впервые полтысячи лет назад из уст короля звучит призыв к мирной Европе, причем мир объявляется главным достоянием европейского содружества.
В случае конфликтов между членами содружества предусматривается вмешательство общеевропейской силы, которая должна выступить в роли третейского судьи. Предполагалось, что Ассамблея в дальнейшем будет принимать в свой состав все новых членов из числа христианских государств. Раз в пять лет все ее участники должны были собираться в разных европейских городах. Вводились общие герб, печать, казна, архивы; а также налоговый прокуратор, чиновники и т. д.
Правда, идеи Подебрада так никто и не попытался реализовать, — в середине XV века говорить о единой Европе было еще слишком рано, — но характерно, что мысли об объединении всех стран для достижения идеала — мира без войн — выдвигались политическими деятелями уже тогда.
Часть 4. V — XII века: основные черты

Как нам представить в своем воображении средневековую Европу тысячу лет назад? А человека того времени? Как он выглядел? Что думал? Что ел, наконец? Разумеется, «человека средневековья» или «города средневековья» никогда не существовало: за тысячу «средневековых» лет абсолютно все — камни, деньги, мысли, чувства — не раз поменялось. Изменения происходили не только во времени, но и в пространстве, — от жаркой Андалусии до норвежских фиордов и от Шотландии до Греции. Так что воспримем термин «средневековый» как упрощающую конструкцию, и постараемся выделить важнейшие элементы с раннего утра до наступления полудня эпохи. То есть в течение V- XII веков.
Пространство
Мы уже говорили о такой характерной особенности организации средневекового пространства как полное отсутствие средств навигации. Не только GPS и других навигационных систем. Карт не было. Дорожных указателей тоже. Как и, в большинстве случаев, самих дорог. Но как все-таки человек жил, а значит, передвигался в таком мире?
Однозначного ответа нет. Существует предположение, что люди того времени обладали врожденным чувством пространственной ориентации, способностью интуитивно чувствовать окружающий мир (причем, видимо, включая весьма отдаленные области). Как птицы, как рыбы. Не исключено, что это качество досталось им «по наследству» от предков-кочевников. Последние — и это уже исторический факт — обладали уникальной способностью ориентации в пространстве, подобно крылатым или водоплавающим братьям, плывущим/летящим за тысячи километров, руководствуясь лишь собственным инстинктом.
Источники полны описанием случаев, когда самые обычные люди, не путешественники, не купцы в силу той или иной необходимости отправляются в долгий путь и, в целом, идут верной дорогой, выходя в те точки маршрута, которые нужны, и о которых, по идее, они не могли ничего знать.
А вот совершенно невероятный для нашего понимания пример. Когда по Верденскому договору в 843 году Лотарь, Людовик Немецкий и Карл Лысый разделили на три части огромную империю Карла Великого, они очень внимательно отнеслись к тому, чтобы никого не обидеть: лес, пашни, виноградники, города, — всем поровну… В наши дни трудно представить себе столь сложный раздел территории площадью больше миллиона кв. километров без использования очень точных и подробных карт. Однако их попросту не было. Никаких. И еще очень долго не появится, особенно если иметь ввиду земли вдали от морского побережья.
В течение всего Средневековья, в документах, имевших юридическую силу, даже наиболее сложные территориальные вопросы разбирались посредством словесного описания. Сегодня мы в первую очередь стараемся соотнести данные с картой; но ни к одному из этих текстов вплоть до XVI века не прилагались даже схемы. Однако ж люди понимали друг друга и умели каким-то загадочным для нас образом обходиться без графических изображений.
Время
Средние века… Другой мир. Другое пространство. И другое время! Совершенно иное, нежели сейчас, восприятие времени человеком, пожалуй, ярче всего показывает нам, насколько отлична эта цивилизация от всего, к чему мы так привыкли. Это была по-настоящему другая планета.
Для человека той эпохи не существует исторического времени, все события происходят здесь и сейчас. Ну, или почти сейчас, недавно. Иными словами, все мы становимся современниками событий мировой истории. И не стоит удивляться, что в XI или XII в. в поэмах Карл Великий, гунны Аттилы и античные герои изображаются рыцарями… все того же XI или XII вв. А король Артур предстает перед читателем в латах, которые появятся лишь лет через 600 после его смерти.
Римские императоры становятся абсолютно схожими с современными государями, что полностью соответствовало реальности, ведь это для нас античность и средневековье — принципиально разные цивилизации. В сознании же человека, скажем, XII века Римская империя по-прежнему продолжала свое существование, он был ее современником, а саксонские или франкские короли — прямыми наследниками Цезаря и Августа. Все люди продолжали отвечать за грех Адама и Евы, все евреи — за распятие Христа, все мусульмане — за магометову «ересь».
Поэтому эпохе был присущ принципиальной иной взгляд на то, что мы сейчас расцениваем как подделки, фальшивки, в изобилии встречающиеся в средневековых исторических сочинениях, документах и прочих свидетельствах эпохи. По большей части они не намеренное введение в заблуждение, а порождение сознания и его восприятия времени. Именно огромное уважение к прошлому парадоксально заставляло «реконструировать» его, делать настоящим.
Такое же «смешение» (с современной точки зрения) происходит и с пространством. Например, авторы поэм, восхищаясь прекрасными средиземноморскими оливковыми деревьями, помещают их на холмы Бургундии или Пикардии. И это никого не смущает.
Все существенное в мировой истории для средневекового человека является также и современным, — по большому счету, это и по сию пору так, только не столь явственно проявляется, и в этом глубочайшая истина эпохи. Люди того времени не были чужды чисел и дат, просто у них существовали иные понятия о том, что важно, что и как нужно датировать и т. д. Например, «Сколько времени Адам и Ева пребывали в Раю? — Семь часов — Почему не дольше — Потому что немедленно, после того как женщина была создана, она предала…».
Проблема измерения
О наступлении нового дня подавляющее большинство людей средневековья узнавало от петуха. Его «кукареку» было столь знакомо всем, что превратилось в символ раннего утра, утренней зари.
Песочные, водяные, солнечные часы были только при дворах очень богатых людей, либо в монастырях (церквях). Песочные, к тому же, активно использовали моряки, заменяя, правда, песок мраморной крошкой. Так что, исключая очень узкий круг избранных, для всех остальных именно церковь обладала монополией на время, — самый фантастический вид монополии из всех возможных. Монахи, по части измерения времени, были весьма изобретательны. Например, в Клюнийском монастыре это делали следующими способами. Перво-наперво, конечно, петух. Куда ж без него! Требование Устава предписывало вставать зимой до петушиного пения, а летом — как раз в тот момент, когда оно раздается. Был еще целый сборник «Монастырские звездные часы». В нем рекомендуется находиться в монастырском саду, около куста можжевельника, и, увидев определенную звезду, звонить в колокол, пробуждая монахов, либо зажигать светильники в церкви. Аббата полагалось будить со словами «Господи, уста мои отверзеши», а поскольку часто этого было недостаточно, рекомендовалось тянуть его за ступни! Из других способов измерения времени можно отметить наблюдение за длиной тени, чтение псалмов с одинаковой скоростью и горение свечи.
Солнечные же часы нередко украшались надписью: «Non numero horas nisi serenas», имевшей двойной смысл: «Отсчитываю лишь часы светлого времени суток» или «Отсчитываю лишь светлые (счастливые) часы».
Монахи несколько раз в сутки звонили в колокол, возвещая вечерню, заутреню или полдень. Так монастырь оповещал сельскую округу о наступлении того или иного часа. Этих знаний было более чем достаточно, если не сказать много. Крестьянина совершенно не интересовало, какой час дня наступил: его деятельность не включала в себя ничего такого, что следовало делать точно по часам. Поэтому, если поблизости не было монастыря, а следовательно и часов, он не очень страдал.
По вопросу измерения времени существовал полнейший разнобой, если не сказать, анархия. Не могли даже договориться, когда отмечать Новый год. Можно было выбирать практически любой день, за исключением 1 января. Последнее было заблокировано Церковью как языческий праздник, во время которого римские магистраты вступали в должность; последний день карнавала, «праздник безумцев», когда все вставало с ног на голову.
В Германии и Англии (хотя и далеко не везде) начинали год с Рождества, т.е. с 25 декабря. Такого же мнения придерживались в графствах Анжу, Пуату и в Суассоне год начинался 25 декабря, в Бовэ, Реймсе, аббатстве святого Бенедикта на Луаре — 25 марта, на праздник Благовещения, то есть зачатия Спасителя. В Париже — на Пасху, в Мо — 22 июля (праздник святой Марии Магдалины). Если говорить в целом, то для начала года чаще всего выбирали следующие дни: Рождество — запад и юго-запад Франции, Благовещение — Нормандия, Пуату, центр и восток, Пасха — Фландрия, Артуа. Поскольку Пасха не имела фиксированной даты, то в году бывало два апреля или наоборот половина. Так, в 1209-й начался 29 марта и закончился почти через 13 месяцев — 17 апреля, то есть в апреле оказалось 47 дней (30+17). Напротив, в 1213-й начался 14 апреля, а закончился 29 марта, то есть апрель насчитывал всего лишь 16 дней.
В общем существовало 6—7 дат, в широком диапазоне от 25 марта, например, 999 года до 31 марта 1000 года, т.е. наступление одного и того же года можно было праздновать в течение целого года и даже больше! Так что, хотя у всех народов Европы календарь начинается «от рождества Христова», но буквально любой желающий «начальник», вплоть до канцелярии или аббатства, мог вести свое летоисчисление с какой угодно даты. Но разнобой на этом не заканчивался. Поскольку так и не удалось прийти к согласию относительно даты рождения Иисуса, постольку, например, на всех христианских территориях Пиренейского полуострова отсчет вели от 38 года до новой эры. То есть для французов или немцев первый крестовый поход начался в 1096 году, а в Испании в то же время шел 1058 год.
Сам по себе год для средневекового человека был наполнен религиозным содержанием и воспринимался как последовательность событий из истории святых и Христа, начиная от Рождества. К этим праздникам привязывались все хозяйственные события, — день уплаты налогов, выходные и пр. — тем самым религиозное и практическое, деловое содержание жизни переплетались до полной неразличимости.
Не только год, но и сутки начинались по-разному: помимо привычного для нас ноля часов, в каких-то местностях было принято отсчитывать их с полудня, а где-то — с заката. Час был примерно равен нашим трем, но не всегда, т.к. у него была разная протяженность. Понятно, что при таком разнообразии смысла в часах было немного.
И, тем не менее, именно средневековью мы обязаны появлением первых «настоящих» механических часов (1386 г., собор в английском Солсбери). В XIV- XV веках они украсили собой многие ратуши в центрах больших городов. Правда, тогда еще у них была всего одна, часовая стрелка. Ее вполне хватало. Счет минут был излишним. И вопрос «который час?», который мы по сей день задаем, он оттуда, с тех давних лет, когда минуты не имели значения.
Города и люди
Если бы мы взглянули на средневековый ландшафт с высоты птичьего полета, а еще лучше с космической орбиты, то нам бы открылась удивительная картина, абсолютно не похожая на современную Европу. Бескрайний зеленый океан. В нем, словно проплешины, виднеются островки полей, с прилепившимися по обочинам немногочисленными убогими домиками с хозяйственными постройками. Это деревни, в которых проходила жизнь абсолютного большинства населения. А везде, куда ни кинешь взор, — нескончаемые просторы, где, как и десятки тысяч лет назад, на заре человеческой истории, царят примитивные охота да собирательство. После античного праздника жизни мир вновь обезлюдел.
И таким безлюдным он будет оставаться еще очень долго. Жоффруа Легро в «Житии святого Бернара Тиронского» (речь идет уже о начале XII века) пишет: «Обширное безлюдье, простирающееся на границе области Мэн и Бретани, давало в то время приют, подобно новому Египту, множеству анахоретов, живших в уединенных кельях, — святым отшельникам, известным отменной строгостью своей жизни… Среди них был пустынник по имени Петр… Свое жилище он построил, используя кору деревьев, в развалинах церкви, посвященной Св. Медару, лучшая часть которой была разрушена бурей». Речь идет не о каком-то труднодоступном захолустье, а о местности на северо-западе Франции, менее чем в 200 км от Орлеана. Так что не будет преувеличением сказать, что Европа того времени представляла собой огромное пространство, где небольшие группы людей, живших в уединении и редко общавшихся друг с другом, предпринимали робкие попытки освоения земли.
Даже самые крупные города в подавляющем большинстве по современным меркам были ничтожны. В Лондоне и в конце XIV века жило всего 35 тысяч человек. В Йорке — чуть более 10 тысяч, еще в пяти городах Англии 5—10 тысяч. Все остальные были значительно меньше! В огромной Священной Римской империи лишь полтора десятка городов имели размер Йорка. Самым большим был Регенсбург, — он насчитывал около 25 тысяч. На этом фоне Париж с его 100 тысячами населения в XIII—XIV вв. (некоторые оценки доходят и до 200 тысяч) кажется просто монстром. Но следом за ним шли Гент и Монпелье с 40 тысячами населения, потом Тулуза с 25 тысячами, а дальше… Обычные города представляли собой всего лишь небольшие рыночные местечки с сотнями, в лучшем случае тысячами жителей.
Одна из причин такого безлюдья — фантастическая смертность: из десяти родившихся семеро умирали еще в младенчестве! Что говорить о простонародье, если даже у высшей аристократии, к примеру, у королевы Бланки Кастильской (а это уже XIII век) из 11 детей умерло четверо.
Но, несмотря на малолюдность, плотность населения в городах была не ниже нынешней. Почему? Все очень просто. Их площадь была крайне незначительной. Не было широких проспектов, их заменяли узенькие кривые проходы между домами. Не было огромных торгово-развлекательных центров, скверов и парков, стадионов. Не было даже магазинов и аптек. Отсутствовала вся жизненно необходимая инфраструктура. Так что Париж в XIII в. занимал около 380 га, Лондон в XIV в. — около 290 га, а подавляющее большинство городов — всего несколько десятков гектаров (Тулон, например, в XIII в. имел площадь 18 га, — меньше очень среднего по размерам современного завода).
Города чаще всего представляли собой остатки античных поселений, в которых жили священники, воины, ремесленники. «Внутри» они состояли из узких улиц, темных, лишенных свежего воздуха и солнечного света, без какого-либо дорожного покрытия. Ведь даже в Париже мостовые появились только в XII веке, после того как власти обязали каждого горожанина замостить улицу перед домом (т.е. «тротуар» состоял из десятков или сотен разномастных «заплаток»). К XIV веку то же самое сделали и жители других французских городов, где в то же время появились и водосточные канавы. Но, например, в Аугсбурге мостовых и тротуаров не было до XV в.
А в VIII—XI вв., да и позже, в смрадном чаду грязных, не мощеных городов, на месте нынешних роскошных и супердорогих мест, вроде Марсового поля в Париже или Вестминстера в Лондоне, была непролазная грязь, слонялись свиньи и другая домашняя скотина (нередко их специально выпускали попастись, чтобы естественным образом избавиться от помоев, выплеснутых горожанами из своих жилищ). Чтобы представить себе размеры поселений того времени, достаточно сказать, что холм св. Женевьевы — самый центр нынешнего Парижа — был тогда всего лишь пригородом.
Улицы в городах не имели названий, дома — номеров, а люди — фамилий. Вместо этого на строениях рисовали щиты с красным медведем, волком, полумесяцем, золотым мечом или еще каким-нибудь символом. Тем и отличали. Кроме того, каждый дом как-нибудь назывался. Обычно так же, как и его хозяин. Отсюда и произошла немалая часть нынешних европейских фамилий. Тут мы опять имеем дело с радикальным отличием мировосприятия средневекового человека от современного: вместо бездушных цифр — «личностное» отношение. Каждый дом имел имя собственное, равно как и колокол и даже какая-нибудь темница. Почему? Просто весь мир одушевлен. Что-то (кто-то) в большей степени, а что-то — в меньшей, но ничего не воспринималось всего лишь как бездушный предмет, противостоящий человеку.
Почти всегда ремесленники одного цеха или купцы, торговавшие однородным товаром, жили на одних и тех же улицах, образуя товарищества, — богоугодные братства, имевшие свой устав, хоругвь и покровителя. Последний защищал купцов и ремесленников от притеснителей.
Полицейских в то время не существовало, поэтому жители сами контролировали ситуацию, для чего в определенное время выходили из дома с зажженными смоляными факелами Вечером, после удара колокола, наступали «запрещенные часы», в домах гасили огонь, городские ворота запирались и жизнь замирала. Летом — в 9 вечера, а зимой — еще раньше, с наступлением темноты. Иначе можно было попасть под арест как «ночной бродяга». Из дома выходили лишь в случае крайней необходимости. И не только из-за «лихих» людей. На улицах в дождливое время бывало столь грязно, что по ним было возможно передвигаться или верхом или на ходулях. Больше никак. Сырость была так велика, что ржавчина моментально покрывала железо на дверях и окнах. Смрадные испарения порождали и распространяли страшные болезни, преимущественно проказу.
Сырость дополнялась пожарами, — вечными спутниками открытого огня, настоящим бичом средневековых городов. Например, Руан только в 1200—1225 годах сгорал шесть раз, — в среднем раз в четыре года! Чтобы как-то препятствовать этой напасти, дома ставили перпендикулярно улице, хотя проблемы это не решало. Положение усугублялось отсутствием пожарных. Существовали, конечно, дозоры и ночные сторожа, но часто не было водоемов, что делало тщетными все усилия. Из страха перед огнем умышленный поджог стога, хлева, любого строения приравнивали к «преступлению с пролитием крови», за что следовало строгое наказание: виновников заколачивали в бочки и сжигали. По принципу «око за око, зуб за зуб».
В те годы город и природа не противопоставлялись друг другу. До создания техносферы было еще очень далеко, а потому городская стена вилась меж полей, прекрасных садов и виноградников. В самом городе явственно чувствовалась смена времен года, свежесть наступления весны и холодные зимние сумерки. Связь человека и природы ощущалась непрерывно. Нередко даже короли и герцоги проводили свои торжественные ассамблеи за оградой, на ее лоне. Например, Людовик Святой любил творить правосудие, не во дворце или суде, а в Венсенском лесу. Он лежал на ковре под огромным дубом, «одетый в тунику, грубого сукна безрукавку и плащ, свисавший до черных сандалий».
Такое тесное сосуществование с миром мы видим, например, в старейшем описании Лондона, сделанном в конце XII века: «На востоке высится большая и мощная королевская цитадель (Тауэр), внутренний двор и стены которой воздвигнуты на глубоком фундаменте, скрепленном раствором на крови животных. На западе находятся два хорошо укрепленных замка, а стены города высокие и толстые, с семью двойными воротами и на севере укреплены через равные промежутки башнями. Подобным образом и с юга Лондон был укреплен стенами и башнями, но большая река Темза, изобильная рыбой, своими приливами и отливами незаметно в течение долгого времени подмыла и разрушила стены. Также на западе над рекой возвышается королевский дворец — здание несравненное, с крепостным валом и укреплениями.
Дома горожан в пригородах повсюду окружены большими и великолепными садами. На севере также расположены поля, пастбища и живописные луга с бегущими по ним речками, которые с приятным рокотом приводят в движение мельничные колеса. Невдалеке находится огромный лес с густой чащей — убежище диких зверей: оленей, серн, вепрей и туров. Пахотные поля города — не бесплодные пески, но подобны тучным полям Азии…
В северном пригороде, имеются замечательные источники с целебной, сладкой, прозрачной водой, которые струятся по светлым камням. Среди них наиболее известны Святой источник, Источник монахов и святого Клемента; их чаще всего посещают школяры и городская молодежь, гуляя летними вечерами. Город благоденствует, если имеет доброго господина…
На берегу реки в Лондоне, среди винных лавок, находящихся на кораблях и в погребах, имеется открытая для всех харчевня. Здесь ежедневно, в зависимости от времени года, можно найти тертые, жареные, вареные кушанья, крупную и мелкую рыбу, грубое мясо для бедных и более изысканное для богатых, дичь и разную птицу… Какое бы множество воинов или паломников ни пришло в город или ни собиралось уйти из города, в любой час дня и ночи ни те, ни другие не останутся голодными…».
В этом коротеньком тексте бросаются в глаза две вещи. Во-первых, наличие чистых источников и дремучих лесов на территории столицы Англии (!); а во-вторых, харчевня. О ней говорится в единственном числе, и, судя по описанию, она считалась предметом гордости горожан. Сравните с XVII веком, когда, согласно Т. Деккеру, в Лондоне насчитывается «добрая тысяча кабачков», которые давно никого не удивляют.
И еще. Представление о городе того времени будет неполным, если мы не вообразим себе две важных составляющих повседневной жизни: шума и запаха. С рассвета и до заката на его узких улицах не смолкали крики носильщиков и водовозов, гремели телеги, звонили колокольчики, стучали молотками кузнецы и изготовители оловянной посуды, перекликались мастеровые, плотники и бондари, работающие бок о бок. Сыромятни и пивоварни, бойни и лавки, где продавали уксус, харчевни и мусорные кучи создавали непередаваемый «букет» запахов. К нему добавлялась вонь помоев из канав, проложенных посреди улиц. Это «амбре» в своей густоте не уступало смогу, который будет царить в этих местах через полтысячи лет, после наступления индустриальной эпохи Его не мог разогнать даже самый сильный ветер. Кроме того, пивовары, пекари и кузнецы в своих «технологических процессах» использовали уголь, застилавший городское пространство едким дымом.
Справедливости ради, однако, отметим, что средневековье вовсе не было полностью чуждо гигиене, как это нередко представляется. Так в конце XIII века в Париже работало 26 общественных бань. Помимо помывки, клиентам предлагались услуги парикмахера, застолье, ну и, разумеется, старый, как мир, сервис, — «девушки по вызову».
В целом, конечно, для раннего средневековья, вплоть до XI века, город был довольно редким явлением. Он малонаселен, необустроен, лишен любой, даже самой необходимой инфраструктуры. Но постепенно он принимает на себя все новые функции. Административные центры сочетаются с торговлей (ярмарки на перекрестье путей), ремеслом, цехами, производством в целом, культурными и религиозными функциями, а в конце рассматриваемого периода сюда можно добавить и образование, появление первых университетов. Плюс сельскохозяйственная округа, которая, взаимодействуя с городом — потребителем своей продукции и городом — источником инноваций и инвестиций, процветала. Иными словами, происходит формирование того города, который в XIII—XIV веках произведет переворот в средневековой цивилизации.
Плоский мир
Мир средневекового человека был плоским. Во всех смыслах. Именно поэтому, а вовсе не из-за отсталости и неумения средневековье не знает перспективы. На любой картине или миниатюре того времени предметы, расположенные вдалеке, ничуть от этого не уменьшаются в размерах. Возникает вопрос, — как, столь чуткие к малейшим нюансам окружающего мира, люди могли упустить настолько очевидный факт? И тут мы сталкиваемся с особенностями мировосприятия. Картина средневекового мастера — это не фотография, она призвана не копировать видимость, стремясь к полной идентичности, а попытаться отразить иную реальность, ту, которая управляет нашим миром. Поэтому Мастеру не нужна была перспектива, ведь он не срисовывал объекты, это считалось слишком просто.
Столь же «плоским» было и восприятие времени, о чем уже говорилось. Все исторические события интерпретировались как случившиеся совсем недавно. А потому ныне живущие евреи, например, несли прямую ответственность за распятие Христа. Об этом мы уже говорили.
Ну и, конечно, взгляды на мир как таковой, нашу планету. Она тоже, разумеется, была плоской. Рассмотрим вопрос о ней поподробнее. Как она виделась интеллектуалам того времени (не интеллектуальной элите, но, скажем, образованному среднему классу)? Возьмем энциклопедию (очень популярный литературный жанр времен расцвета средневековья). Вот произведение первой половины XII века «Об образе мира» Гонория Августодунского.
Из него любознательный читатель узнает, что Земля похожа на огромный диск, окруженный океаном. Она делится на пять зон. Две крайние необитаемы по причине холода (что, странным образом, сущая правда), так как солнце никогда не приближается к ним. Центральная зона необитаема по причине жары, потому что солнце никогда не удаляется от нее. Две срединные зоны обитаемы — умеренный климат им обеспечивают холод и жара соседних территорий. Эти зоны, или круги, называются: северная, солнечная, равноденственная, зимняя и южная. Но только в солнечной живут люди, в других вряд ли, по крайней мере, об этом ничего не известно. Солнечная зона образует обитаемый круг. Средиземное море делит его на три части. Они называются Европа, Азия и Африка.
Азия находится недалеко от Земного Рая, который есть место наслаждений. Но он недоступен для людей, так как окружен золотой стеной высотой до неба. В Раю растет Древо жизни, плоды которого делают всякого вкусившего их бессмертным и избавляют от старения. Там есть также источник, из которого вытекают, и тут же уходят под землю, четыре реки. В дальнейшем они вновь появляются, на этот раз в разных странах. Это Ганг, Нил, Тигр и Евфрат. Удаляясь от Земного Рая, можно встретить много пустынных земель. Люди в них не живут по причине обилия змей и диких зверей. Далее следует Индия, получившая название от реки Инд, которая берет начало на Северном Кавказе. Интересно, что Инд, в отличие от Ганга, к Раю не причастен. Река эта из Индии течет на юг и впадает в Красное море. Последнее не совпадает с Красным морем известным нам, а охватывает весь Индийский океан. В нем расположены роскошные острова, такие, например, как Тапробанес (Цейлон), где находятся десять городов и каждый год бывают два лета и две зимы. Он покрыт вечнозеленой растительностью. Есть там еще остров Криза (Япония) земля, богатая золотом и серебром, с золотыми горами, недоступными из-за кишащих там драконов и грифонов.
Индия делится на 44 области. Каждый год здесь бывает по две зимы и два лета. В высоких, достающих до самых облаков лесах растут удивительные деревья: у одних — листья шириной с дом и даже больше, у других — огромные и красивые с виду плоды, внутри полные пепла, третьи снабжают необыкновенным углем, горящим целый год без перерыва. Орехи там с человеческую голову, а виноградные гроздья — такие тяжелые, что за один раз можно унести не больше одной. У змей вместо глаз — драгоценные камни. А во всех реках, кроме Ганга, можно найти золотые самородки; Ганг же славился огромными угрями длиной более 100 метров.
Страна населена множеством народов, некоторые из которых просто удивительны. В горной части страны живут пигмеи в два локтя ростом, которые почему-то постоянно воюют с журавлями, дают потомство, начиная с трехлетнего возраста, и стареют к восьми годам. Есть еще макробии с туловищем льва и орлиными крыльями. Ростом они в двенадцать локтей, сражаются с грифонами. А вот брахманы ни с кем не воюют. Они любят иную, загробную жизнь и, движимые этой любовью, бросаются в огонь. О еще одном народе сообщается, что там люди, повзрослев, убивают своих престарелых родителей, варят их, едят и считают нечестивцами тех, кто так не поступает; также их меню включает в себя сырую рыбу и морскую воду. Нередко в Индии можно встретить человекоподобных и иных чудовищ. Из первых назовем сциоподов, которые на одной ноге бегают быстрее ветра и этой же ногой прикрывают голову от солнца, когда ложатся отдыхать; есть люди без головы, с глазами на плечах, с носом и ртом на груди. Одно племя, живущее у истоков Ганга, питается только запахом определенного плода, чтобы не умереть от голода его всегда носят с собой.
На юго-западе, между Индией и Египтом находится Эфиопия. Местные племена, как и индийские, весьма странные. Одни питаются исключительно сушеными кузнечиками и потому живут не более 40 лет. Другие едят мясо львов и пантер, по причине чего рычат, как хищные звери; одежды они совершенно не носят и абсолютно ничего не делают. У одних королем была собака (!), у других — гигантский циклоп. И еще одна важная особенность, которую необходимо знать каждому путешественнику в эфиопские края: источником драгоценных камней здесь служат не змеиные глаза, а мозг драконов!
Край земли теряется во мраке и населен жуткими племенами, одноногими людьми, людьми-волками и т. д. Говорят, что время от времени они собираются в страшные полчища, нападая на добрых христиан. Это предвестники прихода Антихриста. Он заточен в темнице, там же, где-то на краю земли. Но он еще освободится, он вернется в мир, и день этот поистине будет страшен. А пока от нас его отделяют стены, до которых, при должном упорстве, также можно дойти. За ними же находятся проклятые до скончания века племена людоедов Гог и Магог, которых, как считают ученые, заключил туда Александр Македонский.
У плоского мира есть центр — Иерусалим. Все люди доброй воли обращают свои взоры к этому святому месту, где когда-то Спаситель принял мученическую смерть и вознесся на небо. Центр этот, однако, пребывает в плену и удерживается неверными. Так что общеизвестно: на земле есть райский уголок, где всегда сухо, хорошая погода, всегда тепло; там бьет ключом вода, горит огонь и расцветает земля, радуя глаз и веселя душу. Досадно лишь, что он очень далеко и принадлежит мусульманам.
Впрочем, другие авторы более толерантны, нежели Гонорий. Так францисканец Бертольд Регенсбургский поместил «все состояния мира» в единую семью Христову. Исключение составили лишь евреи, жонглеры и бродяги, которые включены в семью Диавола.
Мир, таким образом, расколот на три области: область господства ислама, — царство зла, прихватившее к тому же самые святые и лакомые кусочки; Византия, православные, — полузло; и, наконец, сам Запад. Запад, понятное дело, пытается отстоять свою область добра от набегов сил зла, а заодно освободить от него территории, занятые злом и полузлом. Вот такая нехитрая география вкупе с геополитикой того времени.
Мироощущение человека
Тысячелетие назад наша цивилизация была молодой. И, подобно юному человеку, каждый миг существования переживался ей намного более остро, волнительно, нежели на закате жизни. Краски были ярче, чувства — обнаженнее. Добро и зло, алчность и великодушие выступали во всей своей силе из светлых высот и темных глубин божественной души.
Религиозное, сказочное, волшебное мироощущение, имеющее отчасти еще дохристианские истоки, придавали этим чувствам тем более сильный, а зачастую и возвышенный характер. Церковные таинства служили мерой человеческой жизни: крещение, бракосочетание, посвящение в рыцари, смерть, — благодаря им, она приобретала характер мистерии. Человек жил бок о бок с чудом, рядом со сказкой; точнее даже, человек жил в чудесном и сказочном мире. Но самое главное было то, что он всякий раз удивлялся этому миру; в течение веков не утрачивая эту, на самом деле ключевую способность.
Беды и несчастья в то время были намного суровее: моряку в шторм или купцу в дальней дороге можно было рассчитывать только на себя. Хотя нет, не совсем так. Несмотря на страх перед стихией и смертельный риск, странник не чувствовал себя одиноким. Ему всегда было на кого положиться. По многочисленным свидетельствам того времени, на помощь в трудной ситуации приходили духи, отшельники, звери, неизвестно откуда появляющиеся люди, в крайнем случае — ангелы и Бог. Такое вмешательство, с нашей точки зрения, выглядит фантастично, но в те годы оно было весьма распространено; оно — свидетельство веры в то, что человек в этом мире не был покинут, брошен на произвол судьбы, за ним всегда кто-то «присматривает» и может прийти на помощь.
У каждого человека был свой ангел, — милый, но могущественный спутник. А, с другой стороны, имелся и свой, «персональный» демон. Миллионы ангелов, но миллионы и демонов, поэтому расслабляться, уповая на высшие силы, никогда не стоило. Будучи под двойным надзором, как со стороны сил добра, так и зла; он был буквально опутан целой сетью зависимостей между землей и небом. Так и существовал в двух шагах от Бога, обдаваемый жаром преисподней, постоянно глядя в лицо Вечности этот загадочный средневековый человек.
*** *** ***
Медицины в современном понимании не было, а потому граница между здоровьем и недугом выглядела более резко. Болезнь зачастую протекала быстро и катастрофично, а лечение нередко не уступало ей с точки зрения опасности для жизни. С учетом полного отсутствия анестезии и антисептиков люди часто умирали от болевого шока или различных заражений. Даже природные катаклизмы несли гораздо больше смертей и разрушений, чем сейчас. Например, обычный град. В 1359 году близ Шартра во время Столетней войны он был размером с гусиное яйцо и в течение дня только в английской армии Эдуарда III убил более тысячи человек и 6000 лошадей! О раненых не сообщается, но ясно, что их было значительно больше. Можете вообразить себе град, который людей косит словно пулемет? А представьте замерзший Нил, Черное и даже Средиземное море (1326 г.), обозы, спокойно переезжавшие зимой 1210—11 гг. Адриатику, паводок, снесший в 1316 году все мосты в Париже? Из-за холодов, — а в Иль-де-Франс в течение нескольких месяцев температура опускалась до -24, — колокола трескались во время звона, а замерзшее вино продавалось кусками, на вес.
Жизнь была очень короткой, и закончиться могла в любой миг, а потому от нее нужно было брать по максимуму, как можно скорее, здесь и сейчас, не откладывая на потом. Потому с таким азартом люди демонстрировали все самое лучшее, кичась богатством, но не копя его, раздавая, нередко, другим. Тем более, от богатства до кричащей нищеты было рукой подать, — часто их разделяли всего лишь стены замка. За ними сотни прокаженных вертели трещотки, сообщая о своем приближении, — отверженные, мертвые в мире живых; нищие вопили на папертях, обнажая свое убожество и уродства; голод и болезни выкашивали людей тысячами.
Еще более резкая граница отделяла лето от зимы, свет от тьмы, тишину от шума. Четкая отгороженность, границы, пролегающие везде, — от общества до природы, — вот что отличало средневековый город от современного, в котором невозможно ни увидеть настоящую темноту, ни услышать настоящую тишину.
Люди стремились по максимуму и как можно быстрее использовать все имеющиеся возможности, здесь и сейчас насладиться властью и богатством, ибо завтра будет поздно. Но и самые незначительные блага жизни доставляли им огромное удовольствие, — потрескивающие дрова в камине, бокал доброго вина, теплый плащ на меху, гостеприимно скрипнувшая во тьме ночи дверь, — спасение запоздалого путника от лютой стужи и пронизывающего ветра.
Люди, жившие среди этих контрастов черного и белого, света и тьмы, голода и изобилия, тишины и шума, сами часто бросались из одной крайности в другую, резко усиливая нестабильность и без того совершенно неустойчивого мира. Им были присущи спонтанные взрывы необузданности, переходящей в жестокость, которые сменялись раскаянием, слезами, абсолютно искренней душевной отзывчивостью. Но это видимое противоречие: добро не существует без зла, если есть одно, тут же появляется другое; чем выше дерево тянется к свету, тем глубже его корни впиваются вглубь, в недра земли.
В средневековом сознании существуют как бы два полюса: к одному, благочестивому, аскетическому устремляются все добродетели; но тем необузданнее и опаснее становится другой, мирской полюс, полностью предоставленный в распоряжение диавола. Когда что-нибудь одно перевешивает, человек либо устремляется к святости, либо становится злодеем, грешит, не зная ни меры, ни удержу. Но, как правило, эти воззрения пребывают в шатком равновесии, хотя чаши весов то и дело колеблются, устремляясь вверх или вниз, и мы видим обуреваемых страстями людей, чьи грехи временами заставляют еще более ярко вспыхивать их рвущееся через край благочестие.
Вот поэт слагает прекраснейшие хвалебные гимны вслед за стихами, полными всяческого богохульства и непристойностей. Вот богач, известный своим пристрастием к роскоши, переходит на хлеб и воду и погружается в абсолютно аскетичное благочестие. Вот Неаполитанский король Иаков Бурбонский, торжественно вступает в город. Но не с триумфом, как все ожидали, а в убогой одежде, сидя… в помойном корыте, как писал очевидец, «отличий не имевшем от носилок, на которых выносят обычно отбросы и нечистоты», и «во всех городах, куда он вступал, из уничижения вел он себя подобным же образом».
И, разумеется, были вещи, явления, перед которыми абсолютно любой знатный, богатый, властный аристократ чувствовал свое ничтожество, благоговел с замиранием сердца. Один из самых возвышенных, пожалуй, примеров, — это история выкупа и доставки во Францию тернового венца Спасителя. Вот последний этап этой драматичной истории. Вся знать страны во главе с 25-летним Людовиком IX и его матерью Бланкой Кастильской встречают сокровище не в своем дворце, и даже не у городских ворот, а в десяти днях пути от Парижа, в местечке Вильнев-Ларшевек. Дрожащими руками король поднимает крышку ларца, и их взору предстает бесценное сокровище.
Не в силах больше сдерживаться, цвет европейского рыцарства, высшая аристократия Франции, в голос начинает рыдать. Каждый из них потрясенно лицезреет муки Господа на кресте. Тысячелетняя мистерия предстает наяву. В слезах, с разорванным от боли сердцем, король и его младший брат Роберт принимают бесценный дар. Босоногие, прикрытые лишь холщовым рубищем, много километров, под палящим солнцем, они идут до города Санса. За ними следуют такие же босые, умиленно и возвышенно плачущие рыцари. Герои многих кровавых схваток. Санс их встречает колокольным звоном, божественными звуками органов. Улицы устланы коврами и богато украшены. Клирики и монахи вынесли самые почитаемые мощи святых. Людей охватило раскаяние. Повсюду можно было видеть слезы и рукоплескания. Очевидцы вспоминали, что время в те божественные мгновения остановилось, и все словно застыли на пороге вечности.
Меж тем смерклось, но процессия продолжала движение, теперь уже при свете множества свечей. Ее по-прежнему вел босоногий король (он так и будет идти «нищим паломником» вплоть до Парижа, и в самой столице тоже не сменит «одеяния»). Эта «униженность» становится понятной, если учесть, что дорогу Людовику освещал не только факел, но и сам Христос. И он, и весь город в эти часы поклонялись не реликвии, но живому Господу. Они видели Его, и эти часы, по признанию архиепископа Санса, стали необыкновенной и высшей наградой за всю его жизнь, посвященную Богу и королю.
Глубокие, самые интимные религиозные чувства в ту эпоху захватили всех, даже самых красивых и знатных женщин: молодые аристократки, поглощенные пустословием и легкомысленностью, казалось бы, наслаждались жизнью, сплетнями, интригами. Но… Возьмем, к примеру, Беатрису ван Равестейн, — одну из первых дам Бургундского двора. На ней, как и подобает, роскошнейшее платье с множеством драгоценных каменьев. А под платьем — власяница, надетая прямо на голое тело. Овечья или козья шерсть, из которой она сделана, очень жесткая и ежесекундно колет веселящуюся или ведущую учтивую беседу даму. Современник говорит о Беатрисе: «Одетая в золотошвейные одежды, убранная королевскими украшениями, как то подобает ее высокому рангу, и казавшаяся самой светской дамой из всех; обращавшая слух свой ко всякой пустой речи, как то многие делают, и тем самым являя взору внешность, полную легкомыслия и пустоты, — носила она каждый день власяницу, надетую прямо на голое тело, нередко постилась, принимала лишь хлеб и воду, и, в отсутствие мужа, немало ночей спала на соломе».
А вот потусторонний мир: черти, ведьмы, лешие, просто умершие, пришедшие к живым. Их видели бессчетное количество раз: мужчины и женщины, старые и молодые, богатые и бедные. Такой выдающийся интеллектуал как Рауль Глабер признается, что лично видел демонов и самого Сатану. Последнего — целых три раза. Причем он не соблазнял, а ужасал и преследовал проницательного монаха как жертву. Один из таких случаев произошел в предрассветной мгле, в монастыре Сен-Лежар-де-Шампо. От Глабера не ускользнули даже мельчайшие детали внешнего облика Нечистого. «Вдруг я увидел, как у меня в ногах появилось некое страшное на вид подобие человека. Это было, насколько я мог разглядеть, существо небольшого роста с тонкой шеей, худым лицом, совершенно черными глазами, бугристым морщинистым лбом, толстыми ноздрями, выступающей челюстью, толстыми губами, скошенным узким подбородком, козлиной бородой, мохнатыми острыми ушами, взъерошенной щетиной вместо волос, собачьими зубами, клинообразным черепом, впалой грудью, с горбом на спине, дрожащими ляжками, в грязной отвратительной одежде».
Кажется, дух Средневековья с его кровавыми страстями мог царить лишь в мире идеального. Каким-то феерическим крещендо он взвинчивается до предела, до невозможности, недостижимости. Он — настоящее испытание, ниспосланное людям. Он настолько высок, что даже достигнув высочайших вершин, даже уровня Франциска Ассизского, человек все равно оставался в полной уверенности в своей ничтожности, бесконечной греховности, его мучало постоянное чувство вины. Без неистовства, охватившего миллионы мужчин и женщин, без фанатиков и изуверов святые той эпохи просто не могли существовать.
И только один звук объединял всю эту феерию цветов, эмоций, криков, красок; соединял пестроту и многообразие быстротекущей жизни в единый лад неба и земли. Это звук колокола: он возвещал горе и радость, покой и тревогу, созывал народ и предупреждал об опасности. И каждый отличал эти колокола по звучанию и именам: Роланд, Страшный, Толстуха Жаклин… Их голоса раздавались первым человеческим криком и завершались последним погребальным звоном, призывающим недостойного раба божьего в укромные недра бытия.
Отношение к детям
Не будет преувеличением сказать вслед за одним историком, что хотя средневековье — это эпоха молодых, тем не менее, она не знала детей. На протяжении целой тысячи лет мы не видим маленьких королей жизни, не встречаемся с бесконечными попытками угодить им. Ни сюсюканий, ни нарочитых обожаний со стороны взрослых, ни забрасываний игрушками и другими подарками. К слову отметим, что такая ситуация продолжалась вплоть до XVII столетия, и изменение отношения к детям — еще одна важная деталь в процессе «изживания» остатков средневековья. А в те далекие века даже де-юре человек считался взрослым, начиная с 12 лет. В этом возрасте, скажем, в Англии он приносил присягу на верность королю и обществу (позже эта клятва легла в основу английского общего права), а также вступал в «сообщество десяти». Т.е. десяти человек, которые сообща несли ответственность за деяния каждого.
Равно как и не было никакого особого отношения к беременной женщине. Последние были беременны почти постоянно, лишь с небольшими перерывами, поэтому равнодушное или, точнее, нейтральное отношение к ним характерно для всех без исключения слоев общества.
Несмотря на колоссальную детскую смертность, общество в те времена было (в среднем) очень молодым, — возраст половины населения не превышал 18 лет! Понятно, что немногочисленные (в процентном отношении) труженики, обладавшие, к тому же, крайне низкой производительностью труда, физически не могли обеспечить всех. Поэтому детям с самого раннего возраста приходилось много и тяжело трудиться. Хотя и время для игр все равно всегда находилось. Доказательством тому служит множество игрушек, найденных археологами, — от свистулек и мячей до маленьких предметов кухонной утвари и кукол.
В целом, бросается в глаза, что у средневековых авторов отсутствуют, пожалуй, две такие естественные и общераспространенные сегодня вещи: умиление детьми и жалобы на усталость. Последних тоже нет вообще. Интереса ради каждый может сравнить нынешние тяготы, вызывающие столько стенаний (вроде маленькой зарплаты или дорогой ипотеки), с теми, которые приходилось испытывать людям в средние века.
Конечно, ровное отношение к детям не означает, что в те годы не существовало родительской заботы и любви: эти чувства универсальны для всех времен и народов. Они были. Но иные, не такие, как сейчас. Даже родительская любовь другая. Вот воспоминания отца, потерявшего от чумы в середине XV века жену, сына и семерых дочерей, о смерти единственного наследника. «Подойдя к порогу смерти, он являл собой восхитительное зрелище, когда, несмотря на свой столь юный и нежный возраст — 14,5 лет — сознавал, что умирает… В течение своей болезни он три раза с большим раскаянием исповедался, принял святые дары Господа Нашего Иисуса Христа с таким благоговением, что все присутствующие преисполнились любовью к Богу; наконец, попросив священного елея и продолжая читать псалмы вместе с окружавшими его монахами, он мирно отдал душу Богу».
Жесткость средневековья выражалась в том, что Церковь раздражало даже самое ненавязчивое, скорее мимолетное, хотя может быть и глубокое, проявление любви: все эти поцелуйчики, это «милование», могло показать (по ее мнению), что создания Бога для кого-то важнее Его самого. От церкви же исходили и важные советы в деле воспитания. Например, не расспрашивать ребенка, не смотреть на него чересчур пристально — это ему повредит; внимательно следить, чтобы в него не вселился бес, как это нередко случается.
Так что, с одной стороны, расцвел культ святых невинных младенцев, а с другой, в случае любой провинности, ребенка наказывали; ведь если он плачет, значит, в него вселился злой дух, и он будет бит. Как и все в ту эпоху, родительская суровость имела религиозный характер.
Итак, родительская любовь, конечно, была. Но было и нечто выше ее. Вот один из примеров. Любимый сын Бланки Кастильской Людовик, король Франции. Он отправляется в очередной крестовый поход. Бланка провожает. Проходит день, и второй, и третий. Она все едет рядом. Наконец король мягко намекает, что пора бы и расстаться, ведь в столице много дел. На что властная, железная Бланка разражается потоками слез и падает без чувств. Придя в себя, она, рыдая, в отчаянии кричит, что никогда больше не увидит своего любимого сына (так и случилось), и вновь падает в глубокий обморок. Но, с другой стороны, Людовик всю жизнь помнил ее слова, что лучше увидеть своего сына мертвым, чем впадающим в смертный грех. То есть их связь самая глубокая, но честь, совесть, тем более Бог стоят выше.
Учитывая исключительно высокую детскую смертность, важнейшее значение имело своевременное крещение. То есть обряд необходимо было провести как можно раньше. Проблема смерти некрещенных младенцев в то время была одной из самых важных. Она волновала и интеллектуалов, и общество в целом. Что с ними будет? Куда они попадут? После долгих ожесточенных дебатов возобладала мысль, высказанная Фомой Аквинским, что умершие без крещения младенцы попадают в преддверие рая, так называемый «детский лимб», где они не будут испытывать каких-либо мучений, однако лишаются возможности видеть славу Божию. Не самое плохое, кстати, место, учитывая то, что если бы у них состоялось крещение и дальнейшая жизнь, то количество грехов в ней в абсолютном большинстве случаев вряд ли позволило бы рассчитывать даже на вариант «преддверия рая». А в XV веке появляются «алтари отсрочки», куда приносили мертвых младенцев. Считалось, что они там на короткое время обретают жизнь, исключительно с целью покреститься.
Но в целом христианская традиция, начиная со святого Августина, всех людей считает греховными, даже если они живут всего один день. Сам Августин подолгу наблюдал за младенцами, пытаясь прояснить важнейший вопрос: откуда в мире берется зло? И пришел к выводу: младенец не добр сам по себе, он просто по причине слабости не в состоянии нанести взрослым вред. А само Зло рождается вместе с ним. Ребенок же должен встать на путь борьбы с ним, и чем раньше, тем лучше. Разумеется, с помощью родителей. И именно в этом, а вовсе не в слащавой сентиментальности, заключается родительская любовь. Ведь только борясь со злом, пусть поначалу усилиями матери и отца, маленький человек мог обеспечить будущее спасение своей души.
Казни и слезы
Пожалуй, нигде жизнь на грани, контраст между жестокостью и милосердием, не проявлялась так ярко как в казнях, в которых в средние века недостатка не было. Соучастие в экзекуциях, лицезрение эшафота, палача и преступника стали важной частью народных празднеств. Более того, казнь нередко превращалась в настоящий спектакль, «педагогическую поэму» с ярко выраженным назидательным уклоном. Причем действенность ее была исключительно высока, поскольку более наглядного урока воздаяния за грехи, раскаяния нарушителей законов и установлений человеческих и божеских, даже представить себе нельзя. Вот в Брюсселе молодого поджигателя и убийцу сажают на цепь, которая с помощью кольца, накинутого на шест, может перемещаться по кругу, выложенному горящими вязанками хвороста. Пока не разгорелся костер, он искренне кается и «трогательными речами ставит себя в назидание прочим». В конечном итоге, по свидетельству очевидца, «он столь умягчил сердца, что внимали ему все в слезах сострадания».
А мессир Мансар дю Буа, которого обезглавили в 1411 году, в Париже по политическим мотивам, не только дарует от всего сердца прощение палачу, о чем тот просит его со слезами, но и желает, чтобы палач обменялся с ним поцелуем. И опять говорит свидетель: «Народу было там в изобилии, и чуть не все плакали слезами горькими».
Поскольку казни были важным событием в жизни людей того времени, подобным нынешним шоу, то каждый уважающий себя город обустраивал для их проведения подобающее место. Во французской столице это была Гревская площадь. Сегодня она называется Отель-де-Виль. Рядом с ней в стародавние времена находился речной порт, загружали и разгружали суда, так что здесь всегда было оживленно, и трупы казненных еще долгое время служили назиданием множеству снующих по своим делам людей. На площади стояли виселица и позорный столб. И они не пустовали. Более 500 лет здесь пытали, вешали, сжигали, четвертовали, варили заживо преступников, еретиков и политических противников. Здесь в 1240 году Людовик IX Святой сжег 20 телег — целую гору — Талмуда, отобранного у местных евреев. Множество жертв было принесено уже в «просвещенные» времена, — после Великой революции. Эпоха разума началась с гильотины, и в конце XVIII века она работала непрерывно. Случалось, в день казнили до 60 человек, но врагов «нового порядка» меньше не становилось. Среди них был и король Франции Людовик XVI. Зловещий конвейер работал без перерыва.
Гильотина, однако, понравилась далеко не всем. Многие зрители были разочарованы. Шоу получалось так себе, вяленькое, без задора и драматизма. Одно движение ножа и человек уже на небесах, или где там еще. А экшн, как в старые добрые времена? Для привлечения искушенных зрителей приходилось брать массовостью. Зловещий конвейер работал непрерывно. Кровь, море крови… От нее сходили с ума. Знаменитый палач Шарль Сансон даже не мог есть. Везде — на скатерти, на тарелках, на столе ему мерещилась кровь. Ей было залито все.
То ли дело раньше. В минувшие столетия казнь была праздником. Его ждали, к нему готовились. В назначенный день на Гревскую площадь толпами валили парижане. Бывало, собиралось до 100 тысяч человек! Приходили целыми семьями, с детьми, а жильцы окрестных домов с выгодой сдавали свои комнаты состоятельным зевакам. Король же наблюдал за казнью из ВИП-ложи, расположенной в ратуше.
Но вскоре одной Гревской площади оказалось недостаточно, и вот на рубеже XIII—XIV вв. на окраине Парижа воздвигается поистине циклопическое сооружение — зловещий Монфокон. Оно представляло собой куб высотой 16 метров и сторонами по 12 метров. На каждом из трех этажей, на трех сторонах куба находилось по 5 окон. Внутри куба не было ничего. За ненадобностью. Ведь это была виселица! Много виселиц. В каждом из окон. Иногда в них висело сразу по два человека. Бывали времена, когда, обойдя Монфокон по периметру, в его окнах можно было насчитать до 90 трупов. Но места все равно не хватало. Сооружение «работало» более 300 лет, вплоть до 1629 года. Одной из первых жертв стал… ее же проектировщик, советник короля Филиппа Красивого де Мариньи.
*** *** ***
Но плакали не только на казнях, — зрелище поистине трагическом и тяжелом даже для несентиментальных людей. Рыдали и без всяких трагедий. Вот брат Ришар, в дальнейшем назначенный исповедником к Жанне д'Арк, заканчивает свою последнюю, десятую за день, проповедь в Париже и объявляет, что на этом все, власти, мол, запретили мне говорить долее. Так, опять же со слов очевидца: «все, стар и млад, рыдали столь горько и жалостно, как если б видели они предание земле своих близких, и он сам вместе с ними». К слову, свою первую проповедь брат Ришар каждый день начинал около пяти утра и заканчивал между десятью и одиннадцатью часами (т.е. длительность речи — 5—6 часов!!!). Слушателей набиралось по 5—6 тысяч человек. Он взывал к горожанам, стоя на высоком помосте спиной ко рву, заваленному до верха трупами, лицом к изображению «Пляски Смерти». Когда же брат Ришар покидал Париж, шесть тысяч человек, в надежде на хотя бы еще одну проповедь, заранее, накануне вечером, двинулись в Сен-Дени, заняли место, и провели там под открытым небом, в ожидании, целую ночь.
И все же брату Ришару было далеко до настоящей звезды XIII века, — немецкого проповедника Бертольда Регенсбургского. Его проповеди привлекали по 20, 40, 60 и даже почти невероятные 100 и 200 тысяч человек. Разумеется, помещений, способных вместить такое количество народа, тогда попросту не существовало. Поэтому в чистом поле или посреди прекрасного заливного луга сооружали деревянную башню, — что-то вроде кафедры. Над ней водружали знамя, благодаря которому, к тому же, можно было определить направление ветра и выбрать место, с которого лучше будет слышно оратора. Конечно, его проповеди был присущ высокий пафос (ср. «подобно саламандре, которая имеет много цветов, вы должны обладать многими достоинствами и добираться до небесного царства, противопоставляя свое противоядие ядам дьявола»). Но и решением бытовых, практических вопросов Бертольд «не брезговал». Например, как-то раз во время выступления одна публичная женщина раскаялась и захотела встать «на путь истины». Он тут же перевел вопрос в деловую плоскость и поинтересовался, кто в таком случае возьмет ее замуж? Один желающий нашелся. Правда, при этом запросил 10 фунтов приданого. Проповедник пустил шапку по кругу, и она очень быстро наполнилась деньгами. Причем сбор пожертвований был остановлен Бертольдом ровно в тот момент, когда они достигли искомой суммы в 10 фунтов. Без чуда сие было бы невозможно, — заключает очевидец. «Молодые» сразу же поспешили в церковь.
Многие очевидцы видели вокруг головы проповедника сияющий нимб. Так или нет, но количество раскаявшихся под влиянием его проповедей — огромно. По словам Роджера Бэкона, он один принес больше пользы, чем все проповедники обоих орденов (францисканцы и доминиканцы) вместе взятые.
К сожалению, сегодня мы не в состоянии воспроизвести атмосферу средневековой проповеди. Тексты, дошедшие до нас, никогда не заменят ее живого звучания. Ведь даже на современников письменное изложение не производило особого впечатления. Слышавшие проповедника, а потом читавшие то же самое утверждали, что они улавливали едва ли тень Его слов. Собрания проповедей, дошедшие до нас, это, скорее, конспекты, лишенные ораторского блеска, сухие и рассудочные.
Но как мы можем узреть эти накатывающие огромными волнами на многотысячную толпу устрашающие картины адских мучений? Эти внезапно разверзнувшиеся бездны неотвратимых наказаний за грехи: страх, ужас, смятение, охватывавшие людей. Падшие души дрожащих, как осиновый лист слушателей, уже готово было поглотить адское пламя, как волею проповедника им бросался спасательный круг, — это лиризм Страстей Христовых в божественной любви ко всем нам, грешникам.
О громадном потрясении людей мы можем только догадываться, читая, как разные города завлекали на «гастроли» проповедников, точно поп-звезд, как чиновники и горожане окружали их чуть ли не монаршими почестями; и как проповедники вынуждены были порою прерывать свои страстные речи из-за тяжких рыданий толпившихся вокруг них слушателей.
Но не только выдающиеся проповедники заставляли людей рыдать. На мирном конгрессе 1435 года в Аррасе все присутствующие, внимавшие проникновенным речам послов, в волнении попадали на землю, словно онемев, тяжело вздыхая и плача. Люди не стеснялись эмоций, ибо «благочестие есть некая умягченность сердца, когда легко разражаются кроткими слезами». А слезы — это крыла молитвы, или, по словам св. Бернарда, вино ангелов. Ведь через них сам Господь посылает знак, что услышал твое раскаяние. И это, пожалуй, самое важное. Говоря современным языком, слезы — признак эффективности обратной связи между человеком и Богом! Людовик Святой молит о них Всевышнего, как о «слезном даре», но часто сердце его остается сухо и черство. Но все же, по словам его исповедника Жоффруа де Болье, «если Господь порой посылал ему несколько слезинок во время молитвы, ему сладостно было ощущать, как они струятся по его щекам».
Неожиданное подтверждение глубинной, самой интимной связи между слезами, Богом и человеком подарило нам в XVIII веке творчество великого немецкого композитора Баха. Оно было настолько религиозным, что его и поныне многие считают «пятым евангелистом», только писавшим свою священную книгу языком музыки. А потому ответ на часто задаваемый вопрос: «Почему музыка Баха так чистит душу, почему она вызывает слезы?», по мнению выдающегося музыканта и мыслителя современности Андрея Гаврилова, совершенно очевиден: «В каждой ноте музыки Баха Jesus живой. Этот человек настолько глубоко впустил Христа в свое сердце, что он стал изливаться в мелодиях, идущих от него. Вместе со звуками Христос проникает в вашу душу. Отсюда слезы. Так что ничего удивительного. Христианство, адекватно изложенное в звуках, — великая сила очищения и умиления. На том стоит уже 2000 лет».
Но, быть может, слезы лили лишь особо впечатлительные, сентиментальные граждане? Ничуть не бывало. Закаленные в боях и неимоверных тяготах походов, мужественно переносившие адские муки от ужасающих ран и увечий, рыцари плакали как дети при расставании с родным краем, любимой, при утрате друга или боевого товарища.
Нет рыцаря и нет барона там,
Чтоб в грудь себя не бил и не рыдал.
Без чувств от горя многие лежат.
Говорится в «Песне о Роланде». А главный герой даже падает в обморок, и лишь ноги, предусмотрительно вдетые в стремена, позволяют удержаться ему в седле. И в таком проявлении чувств нет ничего постыдного. Ведь сам Иисус, по свидетельству Священного писания, не раз плакал. Отнюдь не сентиментальные отшельники, десятилетиями жившие во враждебном окружении пустыни и диких зверей, и ежедневно совершавшие духовные и физические подвиги плакали от раскаяния, стыда за свои грехи. Они полагали, что слезы молитвы и покаяния благотворно воздействует на человека, заставляя его обратиться к горним высям, они — свидетельство искренности, очищения от грехов и божьей благодати, а для рыцаря — еще и доказательство его мужественности (!) и силы духа. Самый знаменитый из рыцарей Круглого стола Ланселот, рыдает, уткнувшись в плечо своей любимой, королеве Гвиневере, то из-за пропуска очередного турнира, то из-за кратковременной разлуки. А она, ничуть не осуждая, утешает его. Настоящий мужчина того времени не стеснялся проявлять свои чувства ни перед возлюбленной, ни в переполненных залах, ни на площадях. И все же существовало одно место, где плач, равно как и проявление боли, страданий были попросту недопустимы. Это — поле боя. Даже после окончания сражения изрубленный рыцарь, показывая свои раны, не жаловался, а хвалил противников, которые так умело и профессионально нанесли ему эти ужасные удары.
Итак, впечатлительность и душевная восприимчивость, — вот две важнейшие черты средневекового человека. Именно так ведет себя живая душа, со всеми взлетами и падениями, в противоположность холодному цинизму мертвой души современного человека.
Религия
Сказать, что религия играла важную роль в средневековье, — значит, не сказать ничего. В то время она была настолько везде и всюду, что даже понятия «религиозный» не существовало. В нем просто не было необходимости, ибо ничего вне религиозного восприятия мира не существовало. Само же понятие появится лишь в XVIII веке. В противопоставление своему антониму, — атеизму.
Конечно, и в средние века, бывало, человек покидал лоно своей веры, переходил из христианства в ислам (и наоборот), намного реже в иудаизм, бывало, даже продавал душу дьяволу, но все это было лишь падением грешников. Неверные, язычники все равно оставались в религиозных рамках. Они верили в истуканов, в огонь, в звезды, в дьявола, т.е. в какого-то злого, неправильного, с ног на голову перевернутого, но «бога».
Атеизм же для средневекового человека, то есть мир без Бога и вне Бога, был таким же фантасмагорическим бредом, каким нам, в свою очередь, представляется мир средневекового человека с лешими, русалками и пр. Да, интеллектуалы того времени иногда цитировали псалом, где приводится дискуссия иудейского царя и его ненормального оппонента: «И воскликнул безумец в сердце своем: «Нет Бога!», но только лишь для того, чтобы обратить внимание на содержащееся в ней противоречие (откуда, мол, понятие Бога могло взяться в сердце, если Он не существует?). Противоречие служило подтверждением того, что изрекающий сие — настоящий безумец! В этом с интеллектуалами полностью соглашалась и менее образованная публика. Т.е. безбожие приравнивалось к безумию. Причем последнее было не ругательством, а клиническим диагнозом. Отсюда можно сделать вывод, что мнение о нас наших отдаленных предков, если бы при помощи какой-нибудь машины времени мы встретились, вряд ли оказалось столь лестным, как представляется авторам некоторых фантастических книг, завороженных техническим прогрессом и считающих его единственным мерилом развития цивилизации. Нет, скорее всего, люди того времени решили, что встретились с настоящими унтерменьшн, недочеловеками, происками Сатаны. А все достижения современной науки и техники были бы восприняты как дьявольское наваждение, с которым, безусловно, надо бороться.
Но это отступление, и всего лишь предположение. Основывается оно на том, что религия в то время не «играла роль». Религия была самим средневековьем. Его жизнью и его историей, его душой и движущей силой. Она была везде: в монастырях, соборах, дворцах, хижинах, в книгах, мебели, календаре, праздниках и буднях, в привычках и одежде. Вся культура, искусство, литература были пронизаны религиозной идеей высшего божества, а сей мир мыслился лишь как слабый отблеск Его. Мир и все твари в нем — лишь символы. Уловить этот отблеск, связать его с божественной сущностью, понять его природу, а еще лучше, его высшую природу, восходящую к Единому, к Божественному Лику, — в этом главная задача человека. Ее, каждый по-своему, решали скульпторы, архитекторы, философы, теологи и даже короли (ведь строительство государства тоже надо осуществлять, максимально приближая страну к идеалу Небесного града).
Следующий случай прекрасно иллюстрирует разницу между средневековым мировоззрением и современным, нынешней наукой и тогдашней «доктриной». Как-то раз во дворике Парижского университета между учеником и учителем — «ангелическим доктором» Фомой Аквинским и «универсальным доктором» Альбертом Великим — вышел спор о том, есть ли у крота глаза. Несколько часов длится этот словесный турнир — и все безрезультатно. Каждый стоял на своем истово и непоколебимо. Крики гениев (а эти двое были величайшими умами средневековья) случайно услышал проходивший мимо садовник. Он тут же предложил изловить животное, рассмотреть его, да и покончить с дискуссией (то есть, по-современному, провести эксперимент). «Ни в коем случае, — воскликнули в один голос спорщики. — Ни в коем случае. Никогда! Мы ведь спорим в принципе: есть ли в принципе у принципиального крота принципиальные глаза»…
Да, Боги были и раньше, и в больших количествах: в Риме, в Греции, да хоть в Египте или Карфагене, но такой силы Идеи, такой всеобъемлемости ее и проникновения повсюду, вплоть до последнего крота, Европа еще не знала (а в дальнейшем и подавно не узнает). Пожалуй, и в других странах и континентах ничего подобного не было. По масштабу охвата народных масс, накалу страстей, подчас доходящих до фанатизма и истерии, овладевавшей целыми народами. А, с другой стороны, в достижении высочайших идеалов святости, мужества и самоотречения.
Для человека той поры вопрос о смысле жизни не стоял, в силу очевидности ответа. Единственная цель человека в этом мире — напрямую обратиться к Небу. Достучавшись до небес, излиться в Бога и тем самым победить смерть. Те, кто твердо шел по этой дороге, дороге отречения и покаяния, правды и любви, везде, в каждой вещи обнаруживали Его во всех видах и формах. Христос был всюду: о Нем свидетельствовал животный и растительный мир, очертания памятников, украшения, краски; куда бы человек ни обернулся, он видел Иисуса.
Тот мир, заколдованное Божественное творение, был полон загадок и тайн. Везде, стоило лишь вглядеться, постепенно, как при печати старых фотографий, начинал проявляться Божественный смысл, волшебный и непредсказуемый. В нем не существовало четких границ между обыденностью и чудом, между живыми и мертвыми. Мертвые не покидали этот мир, они всегда были с живыми. Жизнь несла в себе колорит сказки.
Вера присутствовала во всем. В каждом предмете, действии, помысле. Вот перед нами выдающийся интеллектуал Генрих Сузо. Он кушает яблоко. Просто он любит яблоки. Многие и сейчас любят яблоки. Но кто их может есть так, как делает это Генрих Сузо? Он разрезает плод на четыре дольки: три съедает во имя св. Троицы, а четвертую — «в любви, с коею божия небесная матерь ясти давала яблочко милому своему дитятке Иисусу», и посему очищает кожуру, ибо малые дети едят яблоки очищенными. В течение нескольких дней после Рождества четвертую дольку он не ест вовсе, ведь Иисус был еще слишком мал, чтобы есть яблоки. Эта долька приносится в жертву Деве Марии, дабы через мать яблоко досталось и сыну. Всякое питье Генрих выпивает в пять глотков, не больше и не меньше, по числу ран на теле Господа нашего; в конце же делает двойной глоток, ибо из раны в боку Иисуса истекла и кровь, и вода.
Презрение к телу
На протяжении веков тело человека рассматривалось как его враг, орудие дьявола, которое порождает желания, уводящие душу от Бога. Оно считалось «мерзкой оболочкой души» (Григорий Великий) и подвергалось умерщвлению различными способами. От простого повсеместного презрения к комфорту (в том числе отказа от омовения и других гигиенических процедур), до самобичевания флагеллантов, ухода в пустыни, самозамуровывания в пещерах и т. д.
Тело презирали, унижали и осуждали, ведь только так можно было достичь спасения. Воздержание и целомудрие причислялись к высшим добродетелям. В противоположность чревоугодию и сладострастию, считавшихся самыми тяжкими грехами.
Во имя Евангельской нищеты множество людей восставало против роскоши и излишеств (впрочем, все еще весьма скромных) формирующегося «общества потребления», а также против развращающего влияния городов. В относительно благополучном XIII веке появляются монашеские ордена, которые будут беднее самих бедных, причем они умышленно создаются в новых точках экономического роста — непосредственно в городах. Чтобы противостоять разъедающему духу наживы и голого практицизма. Это нищенствующие ордена францисканцев, объединившихся вокруг св. Франциска Ассизского, а также кармелитов и доминиканцев. Позднее к ним присоединятся тринитарии, мерседарии, сервиты…
Вместе с тем, хотя тот же святой Франциск изнурял себя бесконечными постами, нищетой и лишениями, он не отвергал телесного, называя самого себя «брат тело», и, в конце концов, получил высшую телесную награду — стигматы, как знак отождествления с Христом (речь об этом еще впереди). Более того, несмотря на презрение к телу, в средневековье расцвел культ мощей, т.е. телесных мумий. Люди преодолевали тысячи километров, подвергаясь лишениям и опасностям, лишь бы только прикоснуться к ним или хотя бы взглянуть. На бывших святых. А в честь обычных покойников на кладбищах устраиваются торжественные церемонии, во время погребальных литургий восхваляется прошлое каждого трупа индивидуально. Само тело на протяжении всей жизни освящалось таинствами от крещения до соборования. А вот что с ним будет после окончания этой жизни — большой вопрос. Положение тела в потустороннем мире на протяжении всего средневековья вызывало жаркие дискуссии. Например, теологи бились над вопросом: обретут ли умершие наготу первозданной невинности или же после земной жизни они пребудут в белых одеждах, дабы прикрыть стыд.
В целом отношение к телу было двойственным, — как и все средневековье. Как разгульные и бесшабашные праздники, бесконечный поток веселья и богохульства, в один момент сменяемый самым строгим и благочестивым постом, как жестокая и разрушительная ярость, во мгновение ока оборачивающаяся чистосердечным и искренним раскаянием. В отношении к телу, как в капле воды, отражается вся великая эпоха.
Идеал святого
Образец святости практически не менялся на протяжении всего средневековья. Вот св. Франциск (не Ассизский, это другой Франциск), калабрийский отшельник, которого еле-еле уговорили и доставили ко двору Людовика. Пройдя все испытания, он убедил короля, что перед ним не мошенник, а самый настоящий святой.
Каким человеком был этот святой? Мягко говоря, очень необычным. При виде женщин он убегал. С детских лет пальцем не притрагивался к золоту. Спал чаще всего либо стоя, либо облокотившись на что-нибудь, волос не стриг, бороду не брил. Никогда за всю жизнь не ел ни мяса, ни рыбы, соглашаясь принимать только коренья.
Или вот монах Дионисий. Ежедневно прочитывает почти всю Псалтирь целиком. Чем бы ни был занят, даже когда одевается или раздевается, он читает молитвы. После всенощной, когда другие уже отдыхают, он все еще бодрствует. Ест только испорченное: масло с червями, вишни, объеденные улитками. Если вдруг встречает свежий продукт, то предпочитает его предварительно подготовить, то есть испортить. Например, сельдь подвешивает и ждет, пока она не протухнет, ведь «вонючее лучше, чем соленое». Любимый предмет его проповедей — бесы, яростно набрасывающиеся на умирающего. Он постоянно общается с покойниками. Часто ли ему являются их духи? — спрашивает как-то один из братьев. О, сотни и сотни раз, ответствует Дионисий. Он узнает своего отца среди обитателей чистилища и добивается его вызволения. Видения, откровения, образы наполняют его беспрестанно, однако говорит он об этом с неохотой. Он стыдится экстазов, которые испытывает в связи с разными внешними поводами: прежде всего, когда слушает музыку, иной раз — когда находится в окружении благородных людей, внимающих его мудрости и увещеваниям.
Авторитет святых был столь высок, что обладание хотя бы частичкой мощей, пусть даже самого заурядного из них считалось большой удачей. Ради этого можно было поступиться своей репутацией, да и вообще, пойти на многое. Так велико было искушение. Даже для епископа, даже для святого. Как св. Гуго из английского города Линкольн. Вот он посещает обычный нормандский монастырь Фекан. Коллеги, в знак уважения, выносят из сокровищницы самое ценное — мощи Марии Магдалены. Ничтоже сумняшеся Гуго ловко выхватывает ножик, вскрывает им защитный чехол и тут же… впивается зубами в мумию. Пока оторопевшие монахи сообразили, что к чему, он успел, хотя и не без труда, отгрызть пару кусочков, а в ответ на крики братии, довольно нагло заметил, что тем самым «изъявил сугубое почтение святой, ведь и Тело Господне он принимает внутрь зубами и губами». Спешно покинув обитель, он любовно упаковал частички Христовой грешницы в обруч, в котором хранились останки еще трех десятков святых. Тем самым это украшение представляло огромную ценность, и обладатель носил его на руке, никогда не снимая. А уж про силу благословляющей руки епископа в глазах современников и говорить не приходится. Пусть сомнительное деяние, но игра стоила свеч: мощь руки Гуго достигла почти неземной силы.
Смерть
Мы уже говорили, что в Средние века граница между миром живых и миром мертвых была размыта, переходы как в одну, так и в другую сторону совершались регулярно. Это проявилось, в частности, в появлении кладбищ в центре городов, что было невозможно в античности. Более того, самых знатных покойников, в том числе королей, хоронили не просто в центре города, а еще и в центре соборов, чтобы они были близки к месту молитвы, в том числе молитвы за них, к месту общения с Богом.
Смерть в представлении человека того времени — это не конец, а начало, к которому следует готовиться с верой, почти с радостью. Она освобождает душу и дает возможность воссоединиться с идеальным миром, достичь истинного света. Это, конечно, не исключало ни боли, ни страданий при расставании с миром, но давало самое главное — надежду, ожидание встречи с Всевышним. Невероятное событие, самое главное в твоей жизни. Жизнь же дается как награда, как некий шанс от Бога. Главное, чтобы ты проявил себя и не подвел Его. Вот почему так важно, как ты живешь и как ты умираешь. Вот почему самоубийство — смертный грех. Ведь из-за него твоя ничтожная воля нарушает величественный замысел божий, постичь который мы не в состоянии.
Миры живых и мертвых интенсивно общаются друг с другом. Люди просят (и получают) помощь с «того света», бывает, даже возвращаются обратно, то есть умирают «не навсегда». Иногда их отпускают буквально «на минутку». Так один монах снял клобук и надел легкую рабочую одежду. По причине жары. Потом, от полученной производственной травмы, он скончался. Вроде бы, он монах, все хорошо, беспокоиться особо не о чем. Но нет, святой Бенедикт, не пускает его в рай. Куда, мол, прешь в «рабочем»? Одет не по форме. Ибо «если ты монах, где же твое одеяние? Сие есть место упокоения, а ты лезешь в него в рабочей одежде». Покойник устыдился, с разрешения святого вернулся в свое тело, ожил, доложил обо всем аббату, оделся, причастился и поспешил вновь испустить дух. На сей раз представился как положено, не придерешься.
А в аду полный ералаш — шум, суета, путаница. Одни тащат души усопших, другие принимают, третьи пытают. Запарка, суматоха. Не обходится без «накладок». Вот вталкивают гильдесгеймского епископа Конрада, намереваясь, не откладывая дела в долгий ящик, приступить к пыткам и издевательствам. Но князь Тьмы раздраженно бросает бестолковым бесам: оставьте, «не наш он, ведь убит невинным».
А вот как происходила встреча представителей двух миров на «этом свете»: монах пасет овец, внезапно перед ним возникает недавно умерший родственник. Нисколько не удивившись, монах спрашивает: «что ты здесь делаешь?». Следующий короткий диалог ведется абсолютно спокойно, как о самых обыденных вещах:
— После смерти я попал в чистилище, и вот пришел просить вас молиться за меня.
— Мы будем молиться.
На этом покойник поворачивается и идет восвояси. На краю луга он сливается с природой и исчезает.
Живые не оставляли своей заботой мертвых. Последние были благодарны за это. Так некий рыцарь читает на кладбище молитву за усопших и вдруг видит тысячи рук, взметнувшиеся из-под земли, — так мертвые выразили свою благодарность. Те же руки из отверзшихся могил тянутся к священнику, читающему мессу. На этот раз за святой водой. А голоса из-под земли вторят ему: «Аминь!».
Старый призыв «Помни о смерти» материализовался в каждодневную реальность для всего населения Европы во время эпидемии Великой чумы в середине XIV века. Смерть постоянно врывалась в человеческую жизнь и если не забирала последнюю, то, по крайней мере, властно напоминала о себе. Человек не только жил перед лицом смерти, он готовился к ней, понимая, что, как мы уже говорили, важнейшее дело в жизни — это правильно умереть. Отсюда и восхищение отца очень «правильным» умиранием совсем еще юного сына.
Со временем люди приспособились жить вместе со смертью, насколько это вообще возможно. Они с большим уважением относились и к покойникам, и к потустороннему миру, понимая его могущество. Поэтому кладбище имело столь высокий статус. Это совершенно отдельное место, место убежища и мира. Де-факто оно пользовалось статусом экстерриториальности. Никто, даже знатный вельможа, не мог появиться там верхом или при оружии. А беглецы и изгнанники получали здесь защиту от преследования. Тут же собирались на свои сходы жители деревни или квартала, обсуждая животрепещущие вопросы; встречались молодые, проходили ярмарки и праздники урожая. Тому было и чисто утилитарное объяснение: кладбища зачастую располагались в центре города, и в условиях сверхплотной застройки были одним из немногих более-менее открытых мест.
Один из примеров, — парижское кладбище Невинноубиенных младенцев. Позже на его месте разместился гигантский рынок, — знаменитое «чрево Парижа». Среди непрерывно засыпаемых и вновь раскапываемых могил гуляли и назначали свидания. Подле склепов ютились лавчонки, а под арками слонялись женщины, предлагавшие себя за скромную плату. Какая-то фанатично настроенная особа добровольно замуровалась в келье у церковной стены. Рядом нередко проповедовали нищенствующие монахи. В день похорон, после того как помолились «всем святым», здесь же танцевали и пировали. А везде и всюду, вдоль галерей для променада, стояли гробы, валялись черепа и кости. На стенах красовались многочисленные интерпретации одного сюжета, — Пляски смерти. В нем Смерть в облике обезьяны, ухмыляясь, тащила за собой всех без разбору, — папу и шута, монаха и императора. В конце концов, самое популярное в Париже место веселья и скорби украсила огромная статуя смерти.
Время от времени под ней собирались огромные толпы детей (до двенадцати с половиной тысяч). Процессия со свечами направлялась к собору Notre Dame, а после мессы шла обратно. Ну и, конечно, в дни праздников тут было особенно многолюдно. Непреходящий ужас современного человека в то время стал обыденной повседневностью. Как повседневной была и смерть, и жизнь после смерти. Правда, по «вольности» отношения к покойникам европейцам все же было далеко до индийцев. Там в те же времена на кладбище нередко можно было увидеть сцену, когда некий гуру в позе лотоса медитировал верхом на трупе. А аскеты агхоры шли еще дальше. Они всячески показывали, что ничего не боятся и демонстративно ели и пили вино из человеческих черепов, жили на кладбищах, практиковали каннибализм и кровавые жертвоприношения. Зловещая вакханалия продолжалась сотни лет, вплоть до конца XIX века, пока безжалостным колонизаторам, хотя и с огромным трудом, не удалось наконец порушить традиционные ценности и разогнать эту веселую религиозно-трупоедскую компанию.
Духи «длинного средневековья»
Могущественные и необъяснимые силы в самых разных проявлениях, подчас жуткие и необъяснимые, сопровождали всю жизнь человека. Вот 22 апреля 1494 года около Мона скончался Филипп де Кревеккёр, тот самый, который предал Марию Бургундскую и отдал Аррас Людовику XI после трагической гибели Карла Смелого. В ту ночь во Франции засохло много виноградников, птицы кричали необычными голосами, земля дрожала от Анжу до Оверни. Повсюду, где прошла похоронная процессия, прежде чем она достигла усыпальницы в Булонь-сюр-Мэр, «происходили страшные бури и грозы, и все было затоплено — дома, овчарни, конюшни, скот и коровы с телятами».
А вот некий обычный человек, проходя мимо соседнего кладбища, имел привычку каждый раз читать молитву за упокой усопших. В один не самый хороший день на него напали то ли грабители, то ли хулиганы. Он бросился бежать, а мертвецы встали из могил на его защиту. С серпами, топорами, косами, — каждый со своим привычным орудием труда, которым пользовался при жизни.
Общение человека с потусторонним миром продолжалось еще долгие годы и даже века спустя после формального окончания средневековья. Тень отца Гамлета зрителями XVI и XVII в. воспринималась вовсе не как красивая метафора.
Так что, хотя рациональное время потихоньку вступало в свои права, жизнь нередко по-прежнему была жутковатой. Как, например, в описании теолога Ноэля Тайепье: «Когда дух умершего появится в доме, собаки жмутся к ногам хозяина, потому что они сильно боятся духов. Случается, что с постели сдернуто одеяло и все перевернуто вверх дном или кто-то ходит по дому. Видели также огненных людей, пеших и на коне, которых уже похоронили. Иногда погибшие в битве, равно как и мирно почившие у себя в доме, звали своих слуг, и те узнавали их по голосу. Часто ночью духи ходят по дому, вздыхают и покашливают, а если их спросить, кто они, то называют свое имя».
Отсюда вытекали конкретные, практические вопросы. Например, должен ли жилец платить хозяину за аренду, если в доме поселились привидения? Этот вопрос разъясняет эксперт, советник управы Анжера, юрист Пьер Ле Луайе: «…если… жилец не однажды испытывал этот страх, то он вправе не платить хозяину за квартиру, но только в том случае, если причина страха законна и обоснована».
Несмотря на прогресс, дух средневековья не спешил покидать обыденную жизнь. Проявляясь иногда в самых причудливых формах. Например, в виде настоящего ренессанса покойников в конце XVII — начале XVIII века в Венгрии, Силезии, Богемии, Моравии, Польши и Греции. В Моравии души умерших постоянно принимали участие в застольях в компании друзей и знакомых. В Силезии вещи покойников ни с того, ни с сего начинали передвигаться по дому. В Сербии вампиры нападали на жертв, и пили их кровь из шеи, пока те не умирали. После вскрытия могил трупы обнаруживались в них румяные, как живые, с кровью на губах. Им отрубали головы и заливали гашеной известью.
Не все мертвецы, однако, зловещие. В Бретани, к примеру, в середине XVII века, отец Монуар пишет о тех, «…кто сложил очаг и, стоя перед ним, читает „Отче наш“, полагая, что души умерших родственников собираются там, чтобы согреться у огня». Здесь никто не решается мести пол ночью, чтобы невзначай не задеть и не прогнать уважаемого предка. Их тени объединены в особое сообщество «Анаон», члены которого по ночам покидают могилы и расходятся по своим земным домам. Трижды в год они собираются вместе: перед Новым годом, на праздник Святого Иоанна и День всех Святых. Местные жители раз за разом становятся свидетелями целых процессий покойников, среди которых многие узнают знакомых и родственников, а потому подобные шествия неизменно вызывают огромный интерес. В общем, живые к мертвым настолько привыкли, что отношения между ними нередко становились фамильярными. Хотя покойников все же побаивались, поэтому не рекомендовалось ходить ночью на кладбище. Мертвые не считались кем-то абсолютно, принципиально иным. Нет, они живые, но несколько особенные. Ведь они теперь не могут умереть. Хотя бы в течение некоторого времени.
Живые, как могли, продолжали заботиться об усопших. Так в Лангедоке разбирали часть крыши дома, чтобы душа беспрепятственно его покинула. В гроб или прямо за щеку покойника клали монетку. Это вовсе не плата перевозчику душ Харону. Это символическая «компенсация» за имущество: мол, мы его делим и приобретаем честно, поэтому у покойника нет причин возвращаться и оспаривать свое состояние. В Бретани, едва сгрузив гроб, катафалк разворачивали и гнали коней прочь, чтобы усопший не успел вскочить на повозку и вернуться домой.
Мирное сосуществование живых и мертвых намного пережило свое время, иногда встречаясь и в наши дни. К примеру, исследователь Ван Женнец отмечает: «Во Франции в течение веков во всех слоях населения жила вера в то, что покойник все же может вернуться в свой дом. Лишь в последнее столетие эта вера начала угасать, причем в промышленных центрах быстрее, а в деревне — очень медленно».
Глава 7. Пир

Как выглядел средневековый пир? Что из себя представляла кухня того времени? Что ели и как развлекались гости? Чтобы лучше представить себе что из себя представляла финальная часть коронации Оттона, о которой мы говорили ранее, постараемся прояснить эти вопросы.
Но сначала несколько слов о том, чего не было. Скатертей не было. Они появились еще в эпоху первых римских императоров, но после крушения империи исчезли, а возродились только в конце XIII века.
Ни салфеток, ни вилок. Тарелки тоже были далеко не у каждого, обычно по одной на 2—3 и более человек, а часто их не было вообще. Все эти привычные нам предметы вошли в обиход значительно позже эпохи Оттона, например, личная тарелка для каждого — только с наступлением Нового времени.
Тем не менее, появлению большинства привычных нам столовых приборов мы обязаны средневековью. Так, считается, что первая вилка появилась в 11 веке у венецианца Доменико Сильвио (в Венецию же она пришла из Византии). До этого ели руками, иногда надевая перчатки, чтобы не обжечься. Хлеб часто служил не только вместо тарелки, но и вместо ложки. Супы и пюре из овощей ели, макая в них куски хлеба. В остальных случаях за столом обычно действовало старое правило: «Бери пальцами и ешь». Траншир (так называлась почетная должность при дворе, занимать которую мог только дворянин) разделял кушанья на удобные порции и распределял их среди участников трапезы.
Вилка в Европе не могла прижиться очень долго. Виной тому -дьявольская форма, — она в точности воспроизводила трезубец самого Диавола. Да и вообще, как считала Церковь, «для еды Господь предназначил пальцы». Хотя, конечно, вилка широко использовалась в античном мире. С огромным трудом вновь пробиться на стол «трезубец дьявола» смог только в качестве большого прибора с двумя зубьями для накалывания мяса. Позже, в эпоху Барокко, вилки в основном употребляли дамы, а споры об их достоинствах и недостатках даже ожесточились. Людовик XIV, например, прямо запрещал их использование.
В Англии об употреблении вилок не упоминается ранее 1600 года, да и тогда их воспринимали как курьез. Например, в начале XVII века англичанин Томас Кориат, побывавший в Италии, писал: «Я видел обычай… который не распространен ни в одной христианской стране, а лишь в Италии. Итальянцы… всегда пользуются маленькими вилами, когда режут мясо. Причина этой диковины такова, что итальянцы не хотят, чтобы блюд касались руками, считая, что пальцы человека не всегда чисты». Тем не менее Кориат быстро привык к вилке и продолжал пользоваться ею по приезде в Англию, за что получил от соотечественников прозвище «вилконос», а со своей стороны, охарактеризовал их как «грубых, невежественных, неуклюжих, жадных варваров».
В том же XVII веке был введен в обиход столовый нож с закругленным лезвием. Сделал это небезызвестный кардинал Ришелье, — в целях безопасности, поскольку учтивые застольные диалоги в то время нередко перерастали в поножовщину.
Сменивший Ришелье кардинал Джулио Мазарини (тот самый, у которого служил реальный Д'Артаньян) придумал глубокую тарелку для супа. До этого первое ели из общего казанка, демонстративно обтирая ложку после поглощения ее содержимого и перед каждым погружением в общую супницу. После «изобретения» появляются деревянные тарелки для низших слоев и серебряные или даже золотые — для высших. Однако обычно вместо тарелки для этих целей использовался все тот же черствый хлеб, который медленно впитывал жидкость и не давал испачкать стол.
А вот кубок мог быть персональным. Но далеко не всегда. Очень часто его «пускали по кругу», передавая от соседа к соседу. Помимо ритуала, здесь таилась и чисто практическая хитрость: золотая и серебряная посуда стоила дорого, а ставить на стол деревянные или глиняные бокалы не хотелось, как говорится, «не уровень». Вот и получалось, как в «Песне о Нибелунгах», «обходили стол чаши с брагою». Главное, чтобы, соответствуя правилам приличия, протягивать кубок соседу не тем краем, с которого только что отпил сам.
Пир: масштабы
Нужно понимать, что средневековье, особенно раннее и вплоть до полудня эпохи, — V—XII в., — это по преимуществу мужская культура. Причем мужчин исключительно брутальных, воинов, привыкших к походам и сражениям, и чуждых даже мысли о каком-нибудь уюте и комфорте. Это в полной мере касается и пира.
Тут все было каким-то неестественно огромным, до гротеска. О масштабе самих пиров можно судить хотя бы потому, что, скажем, при дворе английского короля Ричарда II трудилось 1000 поваров! И без работы они не сидели. Кухня же представляла собой монстрообразное сооружение. Например, в герцогском дворце в Дижоне в ней насчитывалось семь огромных каминов. Между ними, на возвышении, вооружившись гигантской поварешкой, восседал шеф-повар.
Если же говорить о главной зале, где пировали хозяева и гости, то нужно представить себе громадное помещение с высотой потолков 10—15 и более метров, стенами толщиной метра три, площадью во многие сотни квадратных метров. В качестве примера можно привести размеры одной такой «комнаты»: 16х40 метров и 16 метров в высоту. При этом пол был каменным или даже земляным, если зала располагалась на первом этаже. Такие размеры залов были характерны не только для богатых дворцов и замков, но и для монастырей. Например, в парижском аббатстве Сен-Жермен-де-Пре трапезная имела 40 метров в длину и 20 метров в ширину. По всей длине гигантского помещения в форме буквы «П» стояли длинные столы со скамьями, за которыми в абсолютной тишине «вкушали пищу» сотни монахов.
Конечно, отапливать такое помещение — нетривиальная задача даже для сегодняшнего дня. А в те времена средство обогрева было только одно — камин (правда, монахи зачастую обходились без него, усмиряя свою плоть). Последний был под стать помещению и достигал совершенно колоссальных размеров. В нем помещалась на вертеле целая туша быка, а за одну топку сгорал огромный дуб. Сам камин мог быть размером с комнату и высотой до 3 метров. Иногда верх этих огромных очагов украшался копьями и алебардами; чаще же над ним были скульптурные изображения — рельефы, а с XIV века появляются гербы хозяев жилища.
И, конечно же, современного человека буквально шокирует и обилие блюд, и количество съеденного. Вот лишь один пример из многих сотен: позднее средневековье, дворянин средней руки позвал приятелей. Собралось 30 человек. Пировали три дня. В итоге за три дня тридцать сотрапезников поглотили 4 телят, 40 свиней, 80 цыплят, 10 коз, 25 головок сыра, 210 мучных блюд, то есть пирогов или бисквитов, 1 800 «убли», кондитерских изделий. Выпили 450 литров вина!
В более поздние времена к умопомрачительному изобилию добавляется просто-таки римская изысканность. Естественно у высшей аристократии. В пищу идут лобстеры, устрицы, языки фламинго, верблюжьи пятки, мясо свиней, откормленных сушеными фигами и пропитанных медовым вином, гребни живых петухов, мозги павлинов, молоки мурен и т. д.
Пир как высокое искусство
Конечно, несмотря на презрение к комфорту, важность мероприятия, как говорится, обязывала. Поэтому оно сопровождалось многочисленными изысками как по гастрономической части, так и прочего креатива.
А креатива средневековым поварам было не занимать. В одном случае «перед каждым гостем находилась тончайшая салфетка, в которую была завёрнута маленькая птичка. После мытья рук салфетку, естественно, разворачивали, и, о чудо, оттуда щебеча выпархивала птичка. Вскоре, по воспоминаниям очевидцев, множество птичек прыгало по столу, клюя крошки. В другом случае, те же птички, самых причудливых расцветок, могли неожиданно вылететь из огромного пирога, внесенного целой толпой слуг и разрезанного виновником торжества.
Большое эстетическое удовольствие гости испытывали, когда блюда имитировали живых животных или птиц. На одном из пиров «главным блюдом был баран, тушку которого сначала варили, потом мясом фаршировали шкуру и ставили на поднос — такой баран выглядел как живой». Жареных павлинов заворачивали в предварительно снятую с них кожу с перьями, распускали хвост, клюв покрывали позолотой, вставляли в него кусок зажженной пакли; из животных делали своеобразные матрешки — внутрь жареного поросенка помещали жареного петуха, которого, в свою очередь, фаршировали орехами. Существовало блюдо под названием «пилигрим»: оно представляло собой щуку, варенную с головы, жаренную в середине и испеченную с хвоста (подавалась вместе с жареным угрем, символизировавшим посох пилигрима).
Вот после рыцарского турнира герцог бургундский дает пир в честь победителей… Вдруг в зале появляется огромный единорог; на нем сидит леопард, державший английское знамя и маргаритку, которая подносится герцогу. Карлица Марии бургундской, одетая пастушкой, въезжала верхом на огромном золотом льве: лев раскрывал пасть и пел рондо в честь Марии…
А масштаб все рос, — в зал пиршества внесли кита длиной более 20 метров, сопровождавшегося двумя великанами. Тело его было так громадно, что в нем мог бы поместиться всадник. Кит ворочал хвостом и плавниками, вместо глаз были два больших зеркала. Он раскрывал пасть, откуда выходили прекрасно поющие сирены и двенадцать морских рыцарей, которые танцевали, а потом сражались до тех пор, пока великаны не заставляли их опять войти в кита.
Тридцать парусников с гербами герцогских владений, шестьдесят женщин в национальных одеждах, и в руках у всех клетки с птицами и корзины с фруктами; ветряные мельницы и охотники на пернатую дичь…
А на пиру у герцога Бургундского в зал вообще вошел некий сарацин, ведущий на веревочке слона с башней на спине. В башне сидела пленница, со слезами на глазах обвинявшая тех, кто оставил ее беззащитной. Все, конечно же, узнали в ней христианскую религию. Было это в 1455 году, спустя всего лишь пару лет после падения Константинополя. На пиру предложили возобновить крестовые походы, и прямо там, в зале рыцари начали давать обеты и принимать крест…
Как писали репортеры светской хроники того времени, «на столах громоздились съедобные грандиозные декорации: карак, под парусами и с экипажем; лужайка, обрамленная деревьями, с родником, скалами и статуей св. Андрея; замок Лузиньян с феей Мелузиной; сцена охоты на дичь поблизости от ветряной мельницы; уголок лесной чащи с движущимися дикими зверями; наконец, собор с органом и певчими, которые, попеременно с помещавшимся в пироге оркестром из 28 музыкантов, приятными мелодиями услаждали присутствующих». Подумать только: в пироге помещался оркестр из 28 музыкантов! Над украшением этих пиров работают выдающиеся мастера художественного искусства, например, знаменитый художник Ян ван Эйк.
Социальная функция застолья
Но средневековый пир — это не просто совместный прием пищи, а один из очень важных элементов жизни. Не зря ведь в Вальхалле — царстве мертвых у викингов — все загробное существование состоит из сражений и пиров. У живых викингов хозяева каждой большой усадьбы обязаны были собирать гостей на пир не менее трех раз в год. Иначе им грозил большой штраф. Как сказано в одной саге, «для мужчин веселье, — когда они пируют большим обществом».
Еще Тацит писал, что у германских народов не считается зазорным пить день и ночь напролет. Довольно часто пиры заканчивались перебранками, и в ход шло оружие. Даже такие серьезные дела, как покупка и продажа усадьбы, помолвка и обсуждение приданого, выбор конунга всегда обсуждались за столом. Люди выпивали и, не стесняясь, говорили правду в лицо, невзирая на разницу в положении и другие условности.
Пир — это и театральное представление, и концерт. Пир — это и цирк с фокусами, и место для ведения важных переговоров. На пиру соревнуются все и во всем: в роскоши, транжирстве, удали, силе и ловкости. На пиру заключаются сделки и завершаются войны, решаются вопросы государственного значения. Он, как и все средневековье, полон знаков. Например, на серебряной посуде кушанья подают только замужним женщинам, незамужним — на фаянсовой и более дешевой.
Во многих случаях пиры продолжаются не один день и даже не одну неделю. Они сопровождаются игрой странствующих музыкантов и пением певцов, которых сменяют акробаты, жонглеры и другие артисты. Вино льется рекой, все условности давно позабыты, разговоры непринужденны, а между столами свободно бродят активные участники пиршества, — объевшиеся собаки.
После завершения обеда гости вставали из-за стола, мыли руки и расходились по залам замка. А вечером хозяин радушно приглашал их в обеденный зал, чтобы послушать там песни о славных подвигах легендарных рыцарей и святых. Потом слуги вносили в зал свечи и вновь накрывали стол, но уже для парадного ужина. Только после окончания ужина гости начинали покидать замок. Согласно правилам этикета, хозяин провожал каждого до коня или повозки. Они выпивали по кубку вина и прощались.
Разумеется, ритуал столь важного действа был отработан до мельчайших деталей. Большое значение уделялось рассадке гостей: она проводилась по старшинству и по заслугам. Чем выше то и другое, тем ближе к хозяину пира, который восседал на самом видном месте, обычно в центре зала, на возвышении и на стуле, в то время как остальные сидели вокруг длинных столов на лавках. Хозяин одаривал своих приближенных и гостей, при этом подчеркивая полное пренебрежение к своему имуществу. Мог, например, не только подарить дорогущие вещи, но и демонстративно сжечь конюшню с очень дорогими скакунами.
Причем, чем более алчный был хозяин, тем более щедрыми дарами он осыпал присутствующих. Для нас — парадокс. Для средневековья — нет. Просто скупость позволяла накопить больше средств, чтобы затем потратить их на том же самом пиру. Жмотов в современном понимании тогда не было. Нынешнее восприятие денег, которые в поте лица зарабатываются и копятся всю жизнь, вплоть до смерти, люди того времени восприняли бы как род опасного психического заболевания. Деньги нужны были только для того, чтобы потом ими кого-нибудь одарить, показывая тем самым свою щедрость и благородство.
Кое-что от пира перепадало и простым людям: время от времени им выносили на большом блюде подношения с барского стола. По объедкам доморощенные аналитики оценивали степень значительности проводимого мероприятия, текущую финансовую ситуацию у местного графа или герцога и т. д. Такие оценки, бывало, даже влияли на политическую ситуацию. Возьмем, к примеру, Париж времен Столетней войны. 1431 год. Регент Франции — английский герцог Бедфорд. Вполне прогрессивный аристократ умеренных взглядов. Он хочет завоевать симпатии горожан, для чего организует пир. По случаю коронации Генриха VI. Торжество назначили на субботу, и предусмотрительные англичане стали к нему готовиться загодя. Сильно загодя. Например, жаркое приготовили еще в четверг, а перед подачей на стол просто разогрели. Это была роковая ошибка. Парижане восприняли такое угощение как кулинарное оскорбление, символ невероятного неуважения. Банкет характеризовали как «нищенский», и даже местные бомжи возмущенно заявляли, что такие невкусные объедки они не помнят, когда ели в последний раз. И все, на этом Париж для герцога был потерян навсегда. Сколько бы он не сделал хорошего, но чудовищного разогретого (!) жаркого ему не забудут никогда.
Обеты на обеде
За столом было принято давать различные клятвы. Часто клялись на каких-нибудь птицах: фазане, павлине, цапле. Предварительно выносили либо живую ее (в последствии птицу готовили и ритуально съедали), либо, что бывало чаще, уже приготовленную, но как бы живую: с оперением, распушенным хвостом, из клюва мог вырываться огонь и т. п. Клятва «на фазане» и прочей птице считалась самой твердой, изменить ей было никак нельзя. Нередко гости клялись один за другим, в порядке рассадки за столом. Страсти при этом кипели нешуточные. Еще бы, ведь на кону стояла не только личная честь, но и нередко судьбы целых наций. Вот, например, как было принято решение о начале столетней войны между Англией и Францией.
На пиру граф Солсбери, сидевший у ног английского короля Эдуарда III, обращается к даме с просьбой закрыть ему пальцем глаз. «О, могу даже двумя», — отзывается она. После чего он дает обет: «Ну что ж, клянусь тогда всемогущим Господом и его сладчайшей Матерью, что отныне не открою его, каких бы мучений и боли мне это ни стоило, пока не разожгу пожара во Франции, во вражеских землях, и не одержу победы над подданными короля Филиппа»:
Так по сему и быть. Все умолкают враз.
Вот девичьи персты освобождают глаз,
И то, что сомкнут он, всяк может зреть тотчас.
Граф так потом и воевал с закрытым глазом.
Вот как принималось поистине эпохальное решение. А вскоре ко Дню всех святых 1337 г. в Париж прибыл епископ Линкольнский Генри Бергерш. Он привез послание короля Англии, адресованное «Филиппу Валуа, именующему себя королем Франции». Это означало постановку под вопрос наследования французской короны и объявление войны, которой суждено было стать самой длительной в мировой истории. А продолжалась она даже не 100, а 116 лет, — с 1337 по 1453 год.
Итак. Вопрос о войне и мире решили на пиру. Это так по-средневековому! Но и попытка избежать войны, предпринятая Эдуардом III ранее, была чисто средневековой. Вот что рассказывал о ней английский посол на встрече с венецианским дожем. Эдуард-де предложил Филиппу де Валуа, «именующему себя королем Франции», целых три способа мирного урегулирования. Во-первых, они могли бы сразиться один на один. Во-вторых, могли бы для аналогичной цели отобрать по 6—8 рыцарей с обоих сторон. И третье, «Если Филипп де Валуа является, как он это утверждает, французским королем, то пусть войдет в клетку с голодными львами, ибо никогда львы не набросятся на истинного короля; или же пусть совершит чудо с исцелением болящих как совершают его испокон веку все истинные короли». (Правда почему-то проверке предполагалось подвергнуть только французского короля, о себе самом англичанин скромно умалчивает). Естественно, Филипп благоразумно отказался от такого «предложения» и к голодным львам не пошел.
В большинстве случаев обеты, конечно, не имели таких глобальных последствий, но личных неприятностей доставляли более чем достаточно. Вот рыцарь клянется, что не будет ложиться в постель по субботам, а также не останется в одном и том же городе более пятнадцати дней кряду до тех пор, пока не убьет сарацина. Другой по пятницам не будет кормить своего коня, пока не дотронется до знамени Великого Турки. Еще один добавляет аскезу к аскезе: никогда не наденет панциря, не станет пить вина по субботам, не ляжет в постель, не сядет за стол и будет носить власяницу.
Не менее странные обещания дают и женщины, причем самые что ни на есть аристократки. Так, когда в 1601 году был осажден город Остенде, то Изабелла — утонченнейшая испанская принцесса — поклялась: «Пока не освободим город, я не сменю своей сорочки!». Длилась осада три года… А вот королева Филиппа Геннегауская, жена Эдуарда III, на уже упоминавшемся пиру перед началом столетней войны с Францией сообщает во всеуслышание, что беременна и далее говорит:
Но я клянусь Творцу и приношу обет…
Плод чрева моего не явится на свет,
Доколе же сама, в те чужды земли вшед,
Я не узрю плоды обещанных побед;
А коль рожу дитя, то этот вот стилет
Жизнь и ему, и мне без страха пресечет;
Пусть душу погублю и плод за ней вослед!
От такого сообщения, как гласит поэма, даже видавшие виды рыцари несколько обалдели. Ведь обет — это не пустые слова. В те времена, в отличие от современности, аристократия, а тем более политические деятели языком просто так не мололи и за свои слова отвечали. Обещания соблюдались неукоснительно, даже по прошествии многих лет. Так одному поляку пришлось целых девять лет кушать стоя, как в бистро, в том числе и на пирах. Что поделаешь, поклялся…
Что и говорить, большинство обетов, на взгляд современного человека, были, мягко говоря, диковинными. Иначе как отнестись к заявлению герцога Иоанна Бурбонского, которое он сделал, «желая избежать праздности и помышляя стяжать добрую славу и милость той прекраснейшей, коей мы служим», то есть явно мучаясь от безделья. Вместе с шестнадцатью другими рыцарями и оруженосцами он дает обет в течение двух лет каждое воскресенье носить на левой ноге цепи, подобные тем, какие надевают на пленников, пока не отыщут они шестнадцать других рыцарей, желающих сразиться с ними в пешем бою «до последнего».
Пиры русского царя. Как это было.
На Руси пиры любили не менее, если не более, чем в Западной Европе. Царь давал их примерно раз в две недели. Обычная такая, скромная пирушка, гостей на 600—700, не более. Бывали, конечно, и праздники посерьезнее. Особым размахом они отличались при Борисе Годунове. В Серпухове такой пир шел без малого почти полтора месяца. Тогда под сводами шатров угощались до десяти тысяч человек. Кушанья подавались только на серебряной посуде. Расставаясь с войском, Борис дал роскошный обед в поле, где на прибрежных лугах Оки пировало пятьсот тысяч (500000!) человек. Яства, мед и вино развозили обозами. Только ухи могли подавать 25—30 различных видов, угощали даже жареной рысью, которая за белое мясо считалась лакомым блюдом.
А вот как описывается пир Ивана Грозного. «С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресло. Множество слуг стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушанием. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался обед… Когда съели лебедей, слуги вышли и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевеловым и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель. Обед продолжался…
На столы поставили сперва разные студни, потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем, бескостных кур и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. (Ухой в старые времена именовались любые супы). За ухою подали рябчиков со сливами, гусей с пшеном и тетерок с шафраном. Тут наступил перерыв, в продолжении которого разносили гостям меды: смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и мальвазию. Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Уже более четырех часов продолжалось веселье. Отличились в тот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, привезенные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров показалось тут в полном блеске. Осетры и севрюги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змеев с разверстыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали со столов соль, перец и уксус, сняли все мясные и рыбные яства. Они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашеных деревьев, на которых, вместо плодов, висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблок, ягод и орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты…».
*** *** ***
Меню обеда, устроенного герцогом Ланкастером в честь короля Ричарда в Лондоне, в 1387 г.
Первая перемена
Оленина с зернами пшеницы. Мясной бульон. Кабанья голова. Жареная говядина. Жареные лебеди. Жареный поросенок. Ломбардский пирог, с сушеными фруктами и сладким кремом. Т.н. sotelte (блюдо-сюрприз, это могли быть сделанные из сахара фрукты, пирог в виде в крепости, павлин в собственных перьях, извергающий огонь, и т.д.).
Вторая перемена
Суп из телячьих ножек. Белый суп. Жареный молочный поросенок. Жареный журавль. Жареный фазан. Жареная цапля. Подрумяненные цыплята. Рыба. Мясо, нарезанное мелкими ломтиками. Жареный заяц. Снова sotelte. Пирожные.
Третья перемена.
Суп с миндалем. Ломбардское рагу. Жареная оленина. Жареные цыплята. Жареные кролики. Жареные куропатки. Жареные перепела. Жареные жаворонки. Хлебный пирог. Желе. Milkfritters
Глава 8. Мир животных

В Средние века мир людей не был отделен непреодолимой преградой не только от загробной обители мертвых или от разных леших, ведьм, кикимор и русалок, но и от более привычного нам мира животных. Все эти пространства переплетались, взаимодействовали и составляли единый универсум.
Да, животные, птицы, рыбы стояли на более низкой, чем человек ступеньке, но были такими же представителями сотворенного богом мира. Так что даже последняя блоха, таракан, вредное насекомое, — все они своим существованием поют славу Господу. И в этом смысле они стоят практически наравне с человеком. И вообще природа была не бездушной биосферой, а языком, на котором Бог говорил с людьми. Надо было только понять этот язык.
Средневековье признавало и права, и обязанности животных. Они регулировались обычными законодательными и нормативными актами. Звери, птицы, насекомые в средние века были субъектами права и несли юридическую ответственность за свои деяния. Если их деяния попахивали уголовщиной, люди сначала пытались решить конфликт в досудебном порядке. В основном, обращаясь за заступничеством к высшим силам. Например, к св. Гертруде Нивелльской, покровительнице котов и мышей, обращение к которой избавляло от засилия последних, или даже на самый «верх» с просьбой «Богородица, мышей прогони». Если вредительские действия продолжались и после этого, «потерявшим берега» животным кричали что-то вроде «встретимся в суде», после чего подавали исковое заявление. Начиналось непростое судебное разбирательство. В ходе его несознательные фигуранты дела постоянно желали увильнуть от возмездия, используя для этого все уловки.
Процессы над хвостатыми подсудимыми велись с соблюдением всей процедуры и не вызывали ни у кого удивления (кроме самих ответчиков). В большинстве случаев общины подавали исковое заявление против «неопределенного круга» лиц животного и насекомого происхождения из-за претензий последних на урожай. Представитель деревни являлся в места обитания ответчиков и вызывал их в суд. В случае неявки (равно как и при проигрыше в суде) мерами воздействия служили заклинания, проклятия и даже отлучение от церкви.
Судья повелевал этим существам, опять-таки под угрозой божьего проклятия, в трехдневный срок покинуть данную местность. Требование повторялось троекратно. Если звери подчинялись, возносилась благодарственная молитва, в противном случае процесс продолжался. В ходе него стороны прибегали к разного рода ухищрениям. Например, адвокаты долгоносиков, клопов-черепашек и крыс, как это случилось, например, в 1480 году в Бургундии, оправдывали неявку в суд своих подзащитных тем, что, во-первых, не все священники в своих приходах объявили об их вызове. Ведь они — начал свою знаменитую речь адвокат Бартолми-Шасоне, — живут по всей стране в глубоких норах и не слышали о начале уголовного процесса против них. Кроме того, они живут на обширной территории и им нужно больше времени на сборы и дорогу, особенно беременным и пожилым. Суд согласился с доводом защиты и постановил пройтись по всем населенным пунктам округи и оповестить мышино-крысиное население. Более того, для донесения информации избрали самое верное средство, — зачитали ее в церквях по всему епископству. Понятно, что воскресную службу любая добропорядочная крыса должна была посещать.
Увы, и следующее заседание крысы проигнорировали. На то были свои веские причины. Во-первых, заявил адвокат, времени для ознакомления с материалами дела даже самым образованным крысам было явно недостаточно. А, во-вторых, подзащитные не без оснований опасались неспровоцированного нападения со стороны агрессивно настроенных котиков, которым, ведь, тоже известно время и место судебного заседания. Они, мол, совсем недавно несколько «ответчиков» уже приговорили. Так что неявка вовсе не означает проявление неуважения к суду со стороны крыс. Они-то как раз суд очень даже уважают, но опасаются за свою жизнь. (В соответствии с нормами действовавшего права ответчик должен был иметь возможность явиться в суд без риска для собственной жизни и здоровья).
На третьем заседании защитник задал суду вопрос: а как вы отделите злоумышленников от невинных, честных крыс, которые никогда не вредили людям и могут пострадать из-за огульного обвинения? Суд долго размышлял над этой непростой головоломкой и в итоге принял решение… в пользу крыс!

Но все же обычно, после долгих прений, мыши-полевки, крысы и всякие клопы-черепашки проигрывали. Иногда вина была столь ужасающа, что их даже предавали анафеме (отлучение от церкви считалось тяжким наказанием, и применялось далеко не всегда), — после чего торжественное шествие с крестом, знаменами и свечами отправлялось на виноградники и поля, кропя их святой водой. Во время крестного хода пелись молитвы, а червей, мышей и клопов именем Бога-Отца, Христа и Святаго Духа заклинали удалиться в места, где они никому не смогут навредить. Нередко, в ходе процесса сторонам удавалось выработать компромиссное решение, устраивающее всех. В нем уже были юридически оформлены новые территории, выделяемые животным для проживания. Им даже выдавалась охранная грамота, не говоря уже об оформлении всех документов на землеотвод. А детенышам и беременным самкам предоставлялась отсрочка в исполнении приговора. Применялись ли такие послабления в отношении насекомых, история умалчивает.
Однако в большинстве случаев подсудимыми выступали домашние животные и чаще всего — свиньи. Память о казненных свиньях все еще жива, — одно из предместий Парижа до сих пор носит название «Повешенная свинья». Хотя приговор далеко не всегда был обвинительным. Так, например, 10 января 1457 года суд в Савиньи оправдал пять поросят, поскольку их участие в преступлении осталось недоказанным. Они были переданы под опеку в местный женский монастырь.
Но бывало, что судили и вовсе почти неразумных тварей. Например, жуков-вредителей «вишневых слоников», обглодавших сады общины Сен-Жюльена. В своей речи их адвокат убеждал суд, что они не только Божьи твари, но и в определенном смысле избранные, поскольку были в свое время на Ноевом ковчеге, а потому заслуживают снисхождения. Обвинение засомневалось и запросило дополнительную экспертизу по поводу ковчега. Пока шло препирательство проклятый жук никуда уходить не торопился и как ни в чем не бывало продолжал «столоваться». Теперь уже с полным юридическим основанием. Наконец судья постановил переселить его в другую местность и даже выписал документ на право владения новой «недвижимостью» на территории старого карьера. Но тут уже возмутились крестьяне: «мы, — говорили они, — привыкли ходить по этим землям, а жуки могут воспрепятствовать нам, т.к. это теперь их собственность». Суд продолжил работу, и в качестве компромисса разрешил людям ходить по территории жуков, но только осторожно, чтобы не потревожить подлинных хозяев этой земли. Но тут воспротивился ответчик, чей адвокат заявил о прямой угрозе жизни и здоровью своих подзащитных, вследствие совместного пользования территорией. Они ведь попросту могут быть раздавлены местными жителями. Чем закончился процесс нам неизвестно, но он продолжался более 40 лет, — с 1445 по 1487 год! С учетом длительности можно констатировать беспрецедентную моральную победу «вишневых слоников», — самую славную во всей истории этого вида «тварей Божиих».
Прекрасный пример (правда, несколько иного рода) ведения на равных переговоров с животными являет собой история св. Франциска. Он выходит из города, где остановился, и направляется для диалога с волком. В ходе него он предлагает серому ежедневное снабжение провиантом в обмен на отказ от нападения на животных и жителей города. Вот как описывается процесс достижения этого соглашения:
«…Но если я добьюсь …этого для тебя, ты должен обещать, со своей стороны, никогда больше не нападать ни на животных, ни на людей. Обещаешь ли ты это?». Тогда волк склонил голову в знак того, что он согласен. Святой Франциск заговорил вновь: «Брат волк, можешь ли ты дать мне залог твоей искренности, чтобы я поверил твоему обещанию?» И протянув руку, он получил ручательство волка, который поднял лапу и дружески вложил ее в руку Святого Франциска, давая единственный залог, какой был в его силах (т.е. волк совершил ритуал вассальной присяги) … Тогда все люди в один голос пообещали кормить его до самой смерти… Волк прожил в Агуббио два года. Он свободно ходил из дома в дом, никому не вредя, и все люди приветливо принимали его, кормя волка с великим удовольствием, даже собаки не лаяли на него, когда он проходил мимо. Наконец, через два года, «серый» умер от старости, и жители сильно оплакивали эту потерю. Его похоронили по-христиански, а небольшой волчий саркофаг с крестом по сей день можно наблюдать в местной церкви Санта Мария де ла Виттория. Выбитая на ней надпись гласит: «Здесь Франциск усмирил волка».
Переговоры с животными и даже насекомыми, представление их в качестве равноправной стороны процесса просуществует очень долго. Подобные прецеденты встречаются и в XVII, и даже в XVIII веке (последние известные нам случаи: в Пон-дю-Шато в Оверни в 1718 году, в районе Безансона около 1735 года, а также в Словении в 1866 году (!). В последнем случае местные жители, не сумев прийти к судебному компромиссу с саранчой, приговорили ее к смерти — и отправились на поле истреблять насекомых.).
*** *** ***
Такие «равноправные» и, более того, личностные отношения с миром животных существовали не только на средневековом Западе, но и на Востоке. Причем на Востоке они сохранялись значительно дольше. Вот что пишет, пожалуй, самая выдающаяся фигура последних веков в чань-буддизме Сюй Юнь (умер в 1957 году): «…пришел монах из храма Инсян, чтобы сказать мне о том, что кто-то у них там выпустил петуха, и что птица эта агрессивная. Я отправился в этот храм и подробно объяснил птице правила поведения в монашеской среде и ее заповеди, а также научил ее произносить имя Будды. Вскоре петух перестал драться и сидел в одиночестве на ветке дерева. Он больше не убивал насекомых и ел только тогда, когда ему давали зерно. Через некоторое время всякий раз, когда слышал звон колокола и гонга, он шел за монахами в главный зал и после каждого молитвенного собрания возвращался на ту же ветку дерева… в конце концов он прокукарекал: „Фо, Фо, Фо“ („Будда“ по-китайски). Два года прошло с тех пор, и однажды после молитвенного собрания петух встал во весь рост в зале, вытянув шею. Он трижды взмахнул своими расправленными крыльями, будто собираясь произнести имя Будды, и умер стоя. В течение нескольких дней его внешний вид не менялся. В конечном итоге его положили в коробку и похоронили». Удивительно, но столь доверительные отношения с обычным петухом были возможны в чаньских монастырях Китая еще в начале ХХ века. А безвестная птица даже удостоилась проникновенных строк от великого мастера:
…Он внял запретам, и бешеный ум затих,
Ел лишь зерно, сидел на насесте один, не трогая даже букашки.
Взирал на золотой образ
И без труда кукарекал имя будды.
После трех кругов простираний вдруг отошел в мир иной,
Разве все существа отличны чем-то от будды?
*** *** ***
Мы уже говорили, что природа виделась средневековому человеку огромным хранилищем символов. Минералы, растения, животные, — все было символами. Поэтому каждое животное, его поведение, повадки воспринималось как отблеск чего-то высшего, запредельного, как часть замысла Божьего, частичка Вселенной, в которой таится нравственное, моральное значение. Любое конкретное животное — это образ, зачастую фантастический. (Но фантастический — это с нашей сегодняшней точки зрения, в те времена никто его фантастикой не считал).
Отсюда вытекало совершенно иное, по сравнению с современным, отношение к миру. Мир — как дом, а не как бездушное, часто враждебное тебе существо. Ты не покоряешь его как альпинист гору, ты живешь в ладу с ним. Человек в нем сосуществует, находится в непрерывном взаимодействии с произведениями Творца, и сам становится Им, только в миниатюре; несовершенным, но стремящимся к идеалу.
Искусственный мир технологий и массового производства, убивший индивидуальность, еще не пришел, поэтому очень часто вещи носят собственные имена. Вот Роланд, умирая на поле боя, трубит в рог, призывая Карла. Но это не просто рог, один из тысяч подобных, — это Олифант. В руке героя не просто обычный меч — продукт массового производства. Это Дюрандаль — верный спутник, вещь почти сакральная. Замок, в котором живет Роланд, как и любой другой сеньор, тоже имеет имя. И не только замок. Дома простых людей на узеньких улицах средневековых городов тоже зовут по-своему. Мы об этом уже говорили.
Не будем забывать, что каждая вещь уникальна. Мастер вкладывает в нее частичку своей души. А потому вещный мир как совокупное творение мастеров и мир природы как творение Бога вместе окружали человека, включая его в свой универсум. Поэтому он даже в океане на утлой лодке, как ирландский монах, никогда не был брошенным, оставленным.
Но для символической трактовки Сущего очень важным было правильно понять происхождение названия, ведь назвать для средневекового человека означало тем самым объяснить. Например, верблюд выводится из греческого «смиренный», ибо он должен опуститься на колени, чтобы принять свою ношу. Пантера — из греческого «все», ибо она — друг всех животных. Паук — от латинского «из воздуха», так как он питается воздухом…
В этом отношении средневековые книги — бестиарии — это и энциклопедии известных животных, и сборники нравоучений, и указатели символических значений, связывающие чувственный и высший миры, а также увязывая их с общим замыслом Божиим. Причем подчеркивается двойственность каждого символа, ибо «двояко каждое творение, хотя бы в нем предполагали зло, но и добро обретается». Исключительно глубокая мысль безвестных авторов бестиариев, перекликающаяся с «Фаустом» Гете. Сравните: «Я — часть той силы, что стремится к злу и вечно совершает благо».
Так, змея воплощает зло, но она же и символ мудрости; страус, забывающий яйца в песке, — образ губительной безответственности, но он же сравнивается и со святым отшельником, покидающим родных ради созерцательного одиночества в пустыне…
Но самое разительное противоречие являет собой лев. Царь зверей. Символ Христа и евангелиста Марка. Он всегда спит с открытыми глазами, уподобляясь Христу в склепе, человеческая оболочка которого покоится, но божественная природа бодрствует. Он заметает хвостом следы, чтобы сбить с толку охотников, как Христос, который скрывает свою божественность, во чреве Марии перевоплощается в человека, чтобы ввести в заблуждение Дьявола. Кроме того, он величествен, исполнен отваги и великодушия. Он единственный, кто не боится даже мантикоры, — страшнейшего зверя с туловищем льва, хвостом скорпиона и головой человека. Он — самый быстрый на свете, да еще обладает тремя рядами острейших зубов. Зато царь зверей боится левтофоноса, — самого мелкого грызуна, одного запаха которого достаточно, чтобы лишить льва жизни.
Не удивительно, что львы пользовались огромной популярностью. Живые были главными «звездами» зверинцев королей и прочих титулованных особ, центром внимания зевак на ярмарках; искусственные встречаются повсюду в виде рисунков, скульптур, лепнины, вышивки и т. д. Их статуи по сей день охраняют памятники, могилы и входы в церкви, а также удерживают в зубах дверные ручки-кольца. В то же время вместе с аспидом, драконом и василиском лев символизирует Сатану. Ему присуща дикая злоба (иногда — гордыня, один из смертных грехов), поэтому его голова украшает порожки перед дверью.
Слон был могуч и покорен, верен и целомудрен, робок и благороден, полон мудрости и знания. Вдобавок он — непримиримый враг дракона, то есть Сатаны. Его кожа, кости и особенно бивни способны отгонять змей, отводить искушение, защищать от паразитов. Порошок из них — прекрасное противоядие. Кроме того, слон — самое умное из всех животных; у него необыкновенная память; он легко приручается, «приятен в обхождении» и, по словам некоторых авторов, может удержать на своей спине замок и даже целый город.
Крокодил представляется как огромная желтая змея с четырьмя мощными лапами, без языка и с довольно непостоянным характером. Не желая ограничить себя, крокодил ест до тех пор, пока ему не станет плохо; тогда он растягивается на песке и в течение нескольких дней не двигается, переваривая пищу. Завидя человека, он не может удержаться от того, чтобы не поймать его и не съесть, хотя обладает натурой в некоторой степени доброй и чувствительной. Именно поэтому после завершения своей зловещей трапезы крокодила охватывает раскаяние, он сожалеет о столь низком поступке и плачет много часов подряд.
Верблюд, «корабль пустыни», — воздержан, отличается исключительной выносливостью и умением испытывать привязанность. Пчела, дающая мед подобно тому, как Мария давала молоко, стала символом семьи. Рыбам свойственно сострадание, любовь к детям и особенно благочестие. Поэтому их нередко ставили в пример людям. Разные породы рыб не смешиваются, т.к. они хотят сохранить себя в чистоте, в отличие от человеческой склонности к прелюбодеянию.
Идеалом стал единорог, — символ целомудрия Богоматери и мирской чистоты. Его рог имеет божественную природу Христа, он исцеляет и освящает, его хранят в церквах наравне с мощами самых почитаемых святых. Яростное, неудержимое, смертельно опасное и вместе с тем сентиментальное животное. Поймать его может лишь непорочная дева, к которой единорог выходит сам, кладет голову на лоно и засыпает. Вот как описывает это престранное существо позднейший писатель Питер Бигль:
«Единорог жил в сиреневых лесах, и жил он там совсем один. Он был очень стар, хотя и не знал этого. Его цвет уже не казался таким беззаботным, какой бывает морская пена, — теперь он, скорее, напоминал падающий снег в лунную ночь. Но взор его был по-прежнему ясен и неустанен, и передвигался он все так же — словно тень по волнам.
Он вовсе не походил на рогатую лошадь, какой часто рисуют единорогов, — нет, он был меньше, копыта его были раздвоены, а сам он обладал той древней дикой грацией, какой у лошадей отродясь не было. Олени лишь робко и слабо подражали ей, а у коз эта грация проявлялась только в каких-то издевательских плясках. По сравнению с длинной и гибкой шеей его голова казалась меньше, чем на самом деле, а грива, спадавшая почти до середины спины, была мягкой, как пух одуванчиков, и нежной, как усики бабочек. У него были острые уши и тонкие ноги с белым оперением у лодыжек, а длинный рог над глазами сиял и переливался собственным жемчужным светом даже в самую темную полночь. Им единорог убивал драконов, им лечил одного знакомого короля, чья отравленная рана никак не затягивалась, и им же сшибал с веток спелые каштаны для медвежат.
Единороги бессмертны. Им свойственно жить в одиночестве в каком-нибудь одном месте: обычно это лес, где есть озеро, достаточно чистое, чтобы они могли видеть в нем себя. Единороги немножко тщеславны от сознания, что они — самые прекрасные существа в целом свете и к тому же — волшебные. Вступают в брак они очень редко, и нет леса более зачарованного, чем тот, где живет единорог».
Первое из дошедших до нас упоминаний этого существа относится аж к V в. до н. э. Ктесий Книдский оставил нам его описание как животного с «белым телом, коричневой головой и голубыми глазами». Единорог известен как любимое средство передвижения волшебников и волшебниц. Это неудивительно, ведь при изгнании Адама и Евы из рая Бог предложил ему выбор, но Единорог из верности остался с людьми и покинул рай, за что получил божественное благословление.
Известно, что эти существа для своего житья облюбовали горы Гарца в центральной Германии. Там в пещере в 1663 году и был обнаружен скелет одного из них (ныне сохранился только череп). Никого это даже не удивило, ведь недалеко от той пещеры находится знаменитая гора Брокен, куда со всей Германии и из-за ее пределов регулярно на свои шабаши слетаются ведьмы, так что для тех мест сверхъестественное выглядит вполне естественно.
Глава 9. Дороги. Мир глазами странника

Давно устоявшийся стереотип: средневековое общество — общество оседлых людей, крепко-накрепко привязанных к своему клочку земли. Да и мы сами говорили об обособленности человеческого мирка в то время по сравнению с открытостью античности. И все-таки общество, вроде бы скованное в неизменных границах, пребывало в непрерывном и всеобщем движении. Не будет преувеличением сказать, что население стран Запада в течение всего средневековья так и не избавилось полностью от кочевых привычек. Знатные люди — от короля до какого-нибудь графа или барона — со своими дворами, большими и малыми, постоянно перемещались от одного владения к другому. Одним из побудительных мотивов такого перемещения был «прокорм» суверена и его двора, — потребление на месте продуктов, произведенных подведомственным населением и по праву причитающихся ему. Разумеется, сразу возникает вопрос; а чтобы не наоборот — не король к продуктам, а продукты к королю. Увы, тогда такой естественный для нас подход в те века был абсолютно нерационален. Свезти товары в одно место, а потом хранить долгое время не было возможности, как из-за трудностей с транспортировкой, так и по причине отсутствия надлежащих складских помещений и технологий хранения.
Еще один мотив лежал, скорее, в области психологии: невозможно было управлять королевством, тем более огромной империей, невозможно заставить подчиняться всех этих своенравных графов и баронов, если ты им практически неизвестен, если они знают о тебе лишь понаслышке, абстрактно. В ту абсолютно «личностную» эпоху вассал должен был ощущать, осязать, представлять себе суверена. Только тогда он подчинялся его приказам. Абстрактный король власти не имел.
Но не только на заре эпохи, но и во времена ее расцвета — в XII—XIII вв. — короли не сидели на одном месте. Вот подсчеты относительно одного из самых знаменитых английских монархов — Ричарда Львиное Сердце. Из 117 месяцев своего правления (6 июля 1189 года — 6 апреля 1199 года) он 6 месяцев провел в Англии, 7 — на Сицилии, 1 — на Кипре, 3 — в плавании по различным морям, 15 — в Святой земле, 16 — в тюрьмах Австрии и Германии, 68 — во Франции, из которых 61 — в собственных феодах. Таким образом, английский двор находился не в Лондоне или Йорке, а там же, где и король: в Бордо или Линкольне, в Кентербери или Руане.
А дороги все полнятся. Кто-то, собрав армию, идет на соседа, — начинается очередная война. Кто-то подался в пилигримы и направляется в святые места. Кто-то ведет караван, полный различных заморских товаров. А кто-то, увы, разорился и теперь приходится нищенствовать. Благо средневековое общество благожелательно относится к бродягам, полагая, что их молитва «ближе к Богу». Местные жители охотно их кормят и оставляют на ночлег. В поисках своей аудитории шагают первые профессора, а в поисках профессоров — первые студенты. Рядом с ними — трубадуры, менестрели и миннезингеры. Между путниками завязываются оживленные диалоги на самые разные темы — от литературы до богословия. В общем, люди всегда были в дороге, в седле, и прерывали странствования только на время затяжных дождей. А главным препятствием для перемещения было вовсе не жалкое состояние дорожного хозяйства или непогода, а отсутствие корма для лошадей в определенные периоды времени. Так что нередко самым надежным способом передвижения, как и тысячи лет назад, был пеший. Поэтому, например, Карл Лысый во время своего второго похода в Италию, обеспечивал связь с Галлией с помощью пеших гонцов. Ходокам приходилось перебираться через Альпы, и все равно данный вид связи был наиболее предпочтительным.
И опять парадокс, которыми полно средневековье: люди постоянно двигались по путям и направлениям, замечая вешки, используя броды. Но важнейшего элемента транспортной инфраструктуры — дорог — фактически не было! Правда, трудности в те времена никого не останавливали.
Да, отсутствие дорог не смущало пилигрима. Ведь его путь вовсе не был кратчайшим расстоянием из «точки А в точку Б». Более того, он вообще не пролегал «от точки до точки» и не зависел от времени. Странники обычно никуда не торопились. Они часто сворачивали в сторону, чтобы миновать замок рыцаря-разбойника или посетить какое-нибудь святое место. Больше ходили проселками, вьющимися полевыми тропинками, межевыми тропами или корявыми булыжными трактами. Сливаясь друг с другом, они приводили к местам паломничества, но чтобы достигнуть их приходилось миновать броды, чащобы, перевалы. Для путника тропинки нигде не кончались, увлекая его далеко-далеко, а за каждым поворотом, за каждым извивом реки открывались новые дали.
Странник не строил планы на будущее. Он не думал об обратном пути, и еще меньше представлял себе, чем займется после опасного путешествия. Как герои Круглого стола, которые отправлялись в поход, не зная, когда вернутся, и вернутся ли вообще. Человек брел по незнакомым дорогам, которые могли вести в никуда… Внезапно заканчиваясь, они оборачивались бескрайней пустошью. Ландой, по-французски.
А вокруг ни души. Тишина, только пчелы деловито жужжа, летят по своим делам. Это та самая «заброшенная» земля из рыцарских романов, конец всех дорог и начало чудесных и опасных приключений. Тропинка, последняя связь с миром прерывается. Но что ему до того? Внутренне он давно оторвался от него, и такая оторванность означала высшую свободу.
Человек легко переходил от оседлости к жизни в пути, тем более, что «своим» он был только в своей деревне, а почти сразу за ее околицей «чужим» в той же мере в какой и через тысячу километров пути, если, конечно, не выходил за пределы европейской цивилизации. Он покидал издавна знакомый и докучный мирок и вырывался на просторы огромного христианского мира, а самые отважные проникали далеко за его пределы. Недаром на скандинавском Севере слово «домосед» служило синонимом слова «глупец».
И только в самом конце средневековья с ростом благосостояния и «мирских» дел постепенно начинает выветриваться дух крестовых походов, ослабевать вкус к путешествиям и общество делится на две неравные части. Большая — становится миром домоседов. Евангельское понимание человека как вечного странника на земле изгнания и слова Христа: «Оставьте все и следуйте за мной» становятся фигурами речи и уходят в прошлое. Меньшая, напротив, фантастическим рывком выходит за пределы ойкумены, буквально бросается за горизонт, в края, о которых еще совсем недавно страшно было даже подумать. Так началась эпоха Великих географических открытий.
Долгий путь. Опасности того времени
Нужно ли говорить, сколь трудные и опасные испытания поджидали отважных странников, рискнувших отправиться в неизведанные земли за пределами христианского мира? Они могли повстречать суровых амазонок, скачущих на диких конях, или антропофагов с лошадиными ногами, услышать лай псоглавых людей-кинокефалов, почему-то любящих прясть, или попасть к совсем уж странным племенам, которые питаются лишь запахом яблок. В тех местах муравьи величиной с собаку охраняли золотой песок, огромные змеи проглатывали оленей, а в реках плавал червь, который своими клешнями хватал и топил слона. А какие страшные были люди! Вот, например, эфиопы. Лица у них без носа, ровные и плоские. Вид — безобразен. А вот человеческие существа со сросшимися устами, через маленькую дырку в которых сосущие с помощью овсяного колоса свою еду. Где-то в африканской пустыне обитают панотии-ушаны, — маленькие человечки с огромными растопыренными ушами. Ночью, когда становилось прохладно, уши служили убежищем, куда они укрывались, как в створки раковины. А неподалеку обитают люди со ступнями, повернутыми назад, по восемь пальцев на каждой; существа, которые ложатся на спину и поднимают вверх огромную единственную ногу, чтобы спастись от солнца; ресничники, рождающиеся из земли, со ртом на животе и глазами на плечах. Есть еще люди с тремя головами, люди с глазами, светящимися, как плошки, а также чудовища с острова Цирцеи, у которых тела человеческие, а головы взяты от самых различных зверей. Не менее страшны бородатые женщины из Армении; и чудовищные девицы высотою в двенадцать локтей, с волосами до коленок, с бычьим хвостом пониже спины и с лапами, как у верблюда, живущие на берегах Красного моря. (Обо всех этих опасностях подробно информируют читателей средневековые энциклопедии).
Рядом с людьми-монстрами — настоящий зоопарк из самых разнообразных нелюдей, собранные из частей и кусков. Таков, например, «bestia leucocroca» с туловищем осла, задними ногами оленя, грудью и лапами льва, конскими копытами, большим раздвоенным рогом, широким ртом до ушей, из которого исторгается почти человеческий голос. Не менее страшна мантикора. У нее человеческое лицо, три ряда зубов, тело льва, хвост скорпиона, голубые глаза, кровавый цвет лица, голос подобен змеиному шипению; а передвижение стремительнее летящей птицы. Завершают этот паноптикум чудовищные людоеды, которые живут на островах Индийского океана, сторожа золото и серебро. Так что людям не избежать схватки с ними. Ибо невозможно, несмотря на опасности, игнорировать острова Хриз и Аргир, целиком состоящие из чистого золота и чистого серебра.
Схожая ситуация и в Атлантическом океане или, по-средневековому, в Море Мрака. Там, предположительно где-то в районе Ирландии, находилась магнитная гора Гиверс, притягивавшая железные части кораблей. Гора скрывала волшебное королевство, замки в котором выстроены из серебра и золота, и даже морской песок серебряный. Если корабль у этого островка дождался благополучного ветра, он без проблем добирался до порта, вдобавок его экипаж до конца жизни ни в чем не испытывал нужды.
Если суммировать, то можно выделить несколько основных населенных миров, окружающих наш, человеческий: под водой обитали рыцари-дельфины, под землей прятались рыжие низкорослые людишки — наны, в облаках плавали корабли, на островах моря-Океана жили отшельники, грешники и разные Божьи твари, где-то там, далеко возвышался Рай, а во чреве земли сияли раскаленные докрасна железные плиты Преисподней. Примечательно, что каждый из этих миров был достижим, если только долго-долго идти или плыть в определенном направлении, точнее говоря, «туда, куда глаза глядят».
Морские странники
Странствие на пути к тому, что достойно вопроса, — не авантюра, а возвращение домой (Мартин Хайдеггер)
«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откровение св. Иоанна)
Труден был путь странника через леса и поля, бурные реки и высокие горы. Но еще труднее было тем, кто отправился вплавь по морю. Такое путешествие было не просто риском, а скорее, каким-то безумием.
Море… ужасное и в то же время манящее, такое соблазнительное. Человек — млекопитающее сухопутное; жидкая стихия ему враждебна, опасна, вызывает отторжение. Приближение к ней его тревожит; ее безмерность порождает страх и панику. Десятки тысячелетий в водной пустыне видели мир Зла. Там все зыбко, обманчиво, непредсказуемо, одним словом, трагично.
О ней говорила и мудрейшая книга — Библия. Море это место страха, смерти и безумия, пропасть, скрывающая Сатану, демонов и чудовищ. Оно должно исчезнуть в день возрождения мира. Не случайно среди знамений «пришествия Господа нашего», первые четыре связаны с морем и водой: «Первым знамением Страшного суда будет море, которое поднимается на 15 локтей выше самой высокой горы в мире. Вторым знамением будет море, которое опустится ниже самой глубокой пропасти, такой глубокой, что дно ее едва можно разглядеть. Третьим знамением будут морские рыбы и чудища, которые с громким криком появятся на его поверхности. Четвертым знамением будут море и реки, воды которых запылают огнем, идущим с неба».
С начала времен, море предстает как мир хаоса, как место, где живут и действуют демонические силы, чудовища и мертвецы, враждебные и Богу и людям. Постепенно земля цивилизуется, а море по-прежнему остается диким, страшным и могущественным. Иногда из него выходят чудовища, вроде Левиафана, но лишь, чтобы вселить в людей еще больший страх. Венец кошмара предстает в Апокалипсисе, когда в конце времен «И увидел выходящего из моря зверя с семью головами; на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные». Иными словами, от начала и до конца времен ничего хорошего от морской стихии ждать не приходилось. Ну а в конце мира Бог уничтожит ее в первую очередь, чтобы перед Страшным судом и вечностью воцарилось спокойствие. «И моря уже нет… и смерти уже не будет» (Апокалипсис). Ибо море — это смерть.
В Европе поселения располагались на расстоянии не более 350 километров от побережья, а многие и гораздо ближе. Фактически, приморский субконтинент. Однако, парадокс, моряки веками не отплывали от побережья более чем на шесть часов хода под парусом (исключением стали, разве что, викинги). Позже лишь храбрый до безумия Колумб рванул в океан без единого ориентира и более месяца не поворачивал обратно (образно говоря, одной рукой он твердо держал штурвал, а другой постоянно отбивался от обезумевшей от страха команды, требовавшей срочно повернуть обратно, прочь из пасти Дьявола). И это когда даже самые смелые отваживались лишь плыть вдоль берега, на ночь ложась в дрейф. Для тех времен — беспрецедентный поступок.
А теперь представим: утлое суденышко, никаких навигационных приборов, карт, лоций с указанием мелей и прочих морских опасностей, никакой возможности подать сигнал бедствия. (Первая известная нам карта — портолан — появится только лишь на борту судна, перевозившего в 1270 году умершего короля Людовика IX из Туниса в Европу, но на ней обозначена лишь конфигурация берегов Средиземного моря). Плюс пираты. Плюс злокозненные бароны на берегу, подающие ложные световые сигналы, в надежде, что корабль сядет на мель и его содержимое, согласно обычаям того времени, станет их законной добычей. А помощи ждать было решительно неоткуда. Мрачными свидетелями смертельной опасности труда моряков, рыбаков, пилигримов были побережья, усеянные обломками кораблей. Здесь царило безлюдное безмолвие и лишь чайки, в которых переселялись души погибших, реяли над грохочущим прибоем.
Но море, со всеми его ужасами, — это еще и чудесный мир, который можно обрести на островках счастья, драгоценных уцелевших, забытых и почти утраченных осколках золотого века. Их поиск стал настоящим святым Граалем для морских пилигримов. Они знали, что где-то на западе, посреди моря, расположена новая Земля Обетованная, таинственные острова, провидением предназначенные для народа Божьего. И искали дорогу и к острову, и к Богу. Собственно, это была одна цель, к которой шли множеством разных путей. Они не оставляли следов, и только кильватерная струя свидетельствовала об их присутствии. Но через мгновение и она растворялась в безбрежном океане.
О, эти райские кущи волшебных земель, воспетые кельтами, скандинавами, греками и римлянами; эти сказания об Атлантиде, острове Туле и Гренландии! Где же тот «народ Божий», который их заселит?
О, эта тоска по Чистой земле, Обетованной стране, где так привольно живет Божий народ, святые люди, не разделенные ничем «слишком человеческим». Земли столь же материальные, сколь и духовные, их тайны неподвластны пониманию современных критиков, они не видны ни в один самый мощный бинокль. Чудесные острова Брендана невозможно найти, не став самим Бренданом. Ну, или кем-то вроде него. Можно, конечно, искать (и находить) возможные варианты, сличая описание пути великого ирландца и современную географическую карту, но как таковые эти острова обозначены только на особых картах — картах человеческого духа.
Только вера двигала людей, и всегда своей тяжкой долей странник платил за стремление к нравственному совершенствованию: в результате движение по горизонтальной земной поверхности трансформировалось в движение по восходящей линии — в небесные выси.
Отсюда неизбежная двойственность: в то время как в летописях говорится о том, как взору мореплавателей открывался неведомый остров, их душа входила в ясный, не видимый нами свет, — источник постоянного, безмятежного счастья. Души Брендана и других моряков после многих лет странствий и тяжких испытаний нашли Бога, потеряли «индивидуальность» и обрели бессмертие, вечное блаженство.
Однако тогдашние моралисты с недоверием смотрели на беспокойный бродячий люд. Паломничество, мол, — это, бесспорно, богоугодное дело, но вместе с тем и опасное для благочестия: ведь пилигримы шли к чужим народам — еретикам и язычникам. А достаточно ли крепка ли их вера? Устоят ли перед соблазнами? А как в путешествии достичь самоуглубления и сосредоточенности, необходимых при движении души к Богу: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?», — повторяли обеспокоенные клирики евангельский вопрос.
Но подозрения ревнителей благочестия не могли стать препятствием для десятков тысяч людей, желавших узнать «а есть предел там, на краю земли, и можно ли раздвинуть горизонты?». Ради спасения души, отпущения грехов, телесного излечения. Ради покаяния. И когда после тысячного года, да и позже — в XII и XIII веках — волна кающихся захлестнула христианский мир, идея паломничества обрела второе дыхание.
Паломник — человек вне родины, изгнанник. И добровольная аскеза одухотворяла пилигримов, которых встречали сперва с подозрительностью, потом — с почтением. Но простого странствия недостаточно: чтобы паломничество состоялось, нужна была некая святая цель.
Паломники: география маршрутов
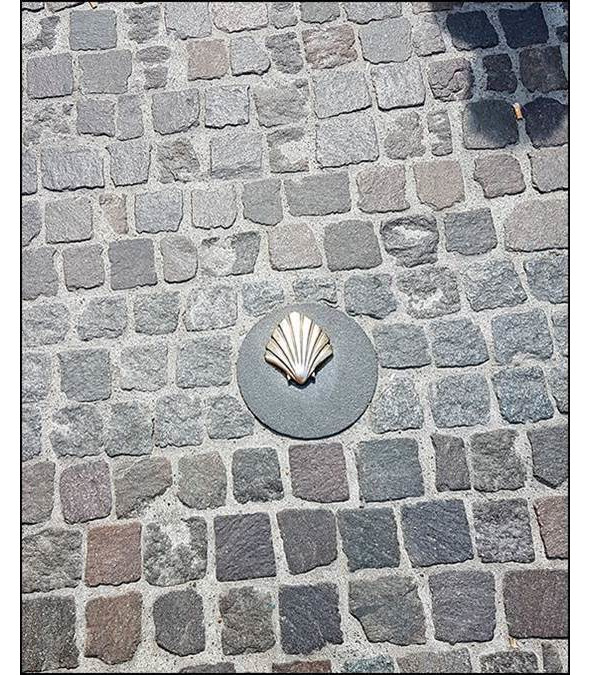
Постепенно возникает целая сеть маршрутов к святым местам, куда паломники отправлялись ради духовной встречи с Богом или святым, которому они собирались поклониться. Еще в 333 году галлы составили трактат «Маршрут из Бордо в Иерусалим», а в 384 году испанская монахиня Эгерия надиктовала книгу о своих странствиях по святым местам. При полном отсутствии карт такие записки имели большую практическую ценность.
Первым по значимости центром паломничеств был, разумеется, Иерусалим. Но далеко не все имели возможность добраться до города Страстей и Гроба Господних. Намного ближе и проще было посетить Рим, где находились мощи двух святых основателей Церкви — Петра и Павла, могилы мучеников, а кроме того, красивейшие церкви, зачастую украшенные великолепными фресками. Вскоре добавляется третье по популярности святое место, — Сантьяго-де-Компостела в Галисии, на северо-западе Испании. Как утверждалось, после того как святой Иаков во время проповеди в Иерусалиме был схвачен и умерщвлен по приказу Ирода Агриппы, его ученики положили тело в лодку и отправили в открытое море по воле волн. Челн унесло из Палестины к галисийским берегам, где христиане обнаружили его гроб, весь облепленный ракушками (с тех пор символ Иакова — ракушка), и спрятали в городе Ириа Флавиа. После чего забыли на много столетий. Вторично его обнаружил в 813 году некий местный отшельник Пелайо.
В те времена в таком невероятном путешествии утлой лодки через все Средиземное море ничего необычного не усматривали. Ведь после смерти Христа апостолы разошлись по миру, проповедуя его учение, и святой Иаков направился в Испанию. Так что не было ничего странного, когда лодка, по Божьему соизволению, после смерти доставила его обратно. Разумеется, эта находка вызвала огромный энтузиазм во всем христианском мире. Во время борьбы с мусульманами святой Иаков покровительствовал христианам в сражениях и получил имя Матаморос, то есть «истребитель мавров». В Сантьяго сходились богомольцы со всей Европы, это был крупнейший центр паломничества. Вокруг него разворачивались целые сражения, подчас заканчивающиеся для христиан неудачей. Как, например, в 997 году, когда Аль-Мансуру удалось-таки взять штурмом и разрушить базилику.
Среди других известных святых мест — город Тур, где находилась гробница святого Мартина, умершего в 397 году: святой был весьма популярен во всех христианских странах, и Тур привлекал самых значительных исторических деятелей, от Карла Великого до Филиппа Августа и Ричарда Львиное Сердце. Людовик Святой побывал там трижды.
Появляется даже паломнический маршрут в аббатство Святого Михаила (Мон-Сен-Мишель). Хотя Михаил и был бесплотным архангелом, а значит, никаких мощей оставить не мог, но уж очень популярна была его фигура, такая понятная человеку того времени фигура воина, сражающегося и побеждающего самого Сатану.
Начиная с XI века, организуется много маршрутов, связанных с Девой Марией, поскольку происходит небывалое развитие ее культа. В Шартре, например, поклонялись платью Святой Девы.
Популярностью также пользовалось местечко Рокамадур в епископате Кагор. Здесь, на вершине скалы высотой 120 метров находилась небольшая часовня. С XII века она стала центром устремления паломников со всей Европы и даже из Балтийских стран. Чтобы попасть наверх они, ползя на коленях и читая молитвы, преодолевали 197 ступенек. В толпе кающихся можно было заметить как простолюдинов, так и аристократов первой величины. Например, король Англии Генрих II Плантагенет побывал здесь дважды. Король Франции Людовик IX Святой поднимался по ступенькам на коленях со своей матерью Бланкой Кастильской и братьями — Альфонсом де Пуатье, Робером д’Артуа и Карлом Анжуйским. Был здесь и Филипп IV Красивый, и Карл IV, и королева Мария Люксембургская, и Филипп VI, и Людовик XI и многие, многие другие. То есть физические трудности, как и проявление смирения (никаких преимуществ для вип-персон), не отвращали даже царственных особ от духовных подвигов пилигримов.
Более того, самоуничижение считалось весьма полезным средством для сильных мира сего, так как умеряло самый смертный грех — гордыню. Что поразительно, важность усмирения своего эго, буквально втаптывания его в грязь, понимали сами властители и коронованные особы. Многие из них к этому искренне стремились. Так император Священной Римской империи Оттон III, в сопровождении одного лишь епископа Вормса Франкона, переодевшись нищим, «босой и облаченный во власяницу» втайне от всех, сторонясь людей, пробирается за тридевять земель к отшельнику, святому Нилу. Найдя его, они укрываются в пещере, где проводят «две недели в уединении, посвящая себя молитве, посту и бдению». Аналогично французский король Людовик Святой каждый день (!) идет к беднякам и 12 из них кормит своими руками. Тем самым воссоздавая подобие тайной вечери Иисуса.
В XIV веке большую популярность приобретают также детские паломничества, по мере возрастания интереса к ребенку и возникновения в обществе культа Младенца Христа…
Поиски Рая для себя лично или же места, где возможно построение идеального (или близкого к идеалу) общества, продолжаются по сей день. Когда-то это были острова святого Брендана, через 1000 лет — Америка, а сейчас такая возможность обсуждается применительно к будущим колониям на других планетах. Места разные, но суть одна.
Плавание святого Брендана
Святой Брендан, ирландский святой VI века, ныне покровитель Военно-морского флота США.

Все страны, что утратили легенды,
Обречены окоченеть навек.
Патрис де ла Тур дю Пен
В V—VI веках среди ирландских монахов существовал такой обычай: садиться в лодку, сшитую из шкур, посреди бескрайнего моря выбрасывать весла и плыть, куда будет воля Господа. Отдаваясь на волю волн и Провидения, монахи на утлом челне странствовали не по водам Северного моря или Атлантического океана, а по волшебному, потустороннему миру, связывающему нашу обыденную землю с неведомой, духовной, «чистой» страной.
Сегодня мы вряд ли сможем представить себе не только мужество и силу воли этих людей, но и, в первую очередь, силу веры, которая вела их на эти подвиги. Плавания, если кончались успешно, длились многие недели и месяцы. Лишения на утлой лодке посреди бушующей Северной Атлантики были невероятны. Спасательных средств не было никаких, и человека от поглощения бескрайней бездной враждебного океана отделяла лишь тоненькая шкура животного. Приборов тоже не было. Никаких. Вообще. Не только GPS, но и секстанта, астролябии, даже компаса. Последний получил распространение только спустя 700—800 лет после рассматриваемых событий, в конце XIII века. Но мужественное противостояние стихии было не только средством для достижения цели — неведомых Божьих Земель, но и самой целью — уходом от мира, подобно анахоретам и столпникам в раскаленных пустынях Египта и Палестины. Тут была та же пустыня, только водная. Они уходили от мира, чтобы прийти к себе и Богу.
Ирландцы очень любили свою землю. Для них разлука с соплеменниками и родным отечеством, добровольное изгнание, было, пожалуй, самым суровым испытанием. И именно потому они стремились на чужбину, как отшельники, миссионеры, искатели Рая. Они оставляли свою горячо любимую родину, быть может, навсегда, совершая этот христианский подвиг во славу Господа…
Вот песнь изгнанника, написанная одним из самых известных святых того времени преподобным Коломбом:
Боже, как бы это дивно, славно было —
волнам вверясь, возвратиться в край мой милый,
В Эларг, за горою Фойбне, в ту долину —
слушать песню над Лох-Фойлом лебедину;
Где отрадой веет ветер над дубравой,
где вспорхнув на ветку, свищет дрозд вертлявый,
Где над дебрями Росс-Гренха рев олений,
где кукушка окликает дол весенний…
Три горчайших мне урона, три потери:
отчизна моя, Тир-Луйгах, Дарроу, Дерри.
*** *** ***
Святой Брендан был солидным, состоявшимся, как сейчас говорят, человеком, настоятелем одного из крупнейших монастырей Ирландии в Клонферте. Обитель так и называлась «Мед чудес святого Брендана». Его жизнь, хоть и была подчинена служению Господу, но имела все черты стабильности, размеренности, столь ценимые людьми в уже немолодом возрасте. Но однажды все изменилось. Один из монахов — Барринд — рассказал как он, вместе с отшельником Мерноком, искали «землю обетованную». Они достигли прекрасной, неведомой страны, богатой плодами и цветами. Пятнадцать дней бродили по ней, пока не встретили человека, который сказал, чтобы они возвращались домой. По возвращению оказалось, что они пробыли на этой земле не полмесяца, а целый год!
Кстати, отметим интересную особенность: в сказаниях о духовных исканиях в дальних странствиях пилигримов нередко отмечается относительность времени. Причем исключительно в сторону его замедления. В Новое время ученые немало потешались над этой нелепой выдумкой невежественных монахов. Потом пришел Эйнштейн и доказал, что правы монахи, а не ученые: время действительно течет с разной скоростью, причем для странника оно замедляется относительно «обычного» наблюдателя. А древние опять оказались умнее, чем мы думали. Или они что-то «такое» знали?
Выслушав Барринда, Брендан загорелся идеей поиска таинственных земель. Была и еще одна причина, побудившая его предпринять это беспримерное путешествие. Говорили, что он сжег книгу, в которой была «вся правда жизни». Ибо верил «только тому, что видел сам». Поэтому Бог послал его убедиться лично в истинности учения и всего того, что сказано в Книге.
Как бы то ни было, решение было принято. 14 монахов изъявили свое согласие стать членами команды, после чего, помолясь и попостясь, приступили к постройке судна. В результате их усилий появилась новая карраха, — лодка из ивового каркаса, обтянутого бычьими кожами. Обработка настоем дубовой коры и жиром, защищала швы от протекания. К мачте прикрепили парус, поставили руль, погрузили припасы на сорок дней, — провиант, запасные кожи, жир для их смазки… Все было готово к отправлению.
*** *** ***
Мир еще спал, когда монахов разбудил удар колокола. Предрассветная мгла постепенно отступала, как бы рассеиваясь звуками нового дня: скрипом ворота, плеском воды, наливаемой в ведра из колодца, ленивым лаем собак. Заутреню, как обычно, сменила трапеза. После нее все разбрелись по кельям. Но лишь на несколько минут. Вскоре монахи вышли в монастырский дворик, неся свои нехитрые пожитки. Был тот час, когда утро уже готово вспыхнуть новым светом, но тьма еще не уступила свои права и как бы сжалась, сгустившись до самой темной темноты. А природа уже встречает наступающий новый день пением птиц.
Монахи мысленно прощались с родными местами, стараясь напоследок как можно более детально запечатлеть в своей памяти массивные своды церкви, ворота и стены монастыря, колодезь… Они пытались это делать незаметно для окружающих, словно стараясь унести кусочек родины в самом укромном уголке своего сердца.
За воротами команда растянулась по узенькой тропинке, пересекая вересковую пустошь… Шли в тишине. Сосредоточенное молчание как нельзя более соответствовало значимости момента. Да, медовый аромат весенних ирландских полей еще долго будет будоражить их души. После очередного поворота тропинки впереди показались прибрежные скалы. Где-то там, внизу о них бились волны моря-океана, издалека возвещая о себе гулким рокотом. По крутому уступу монахи спустились вниз. Здесь, в уютной бухточке покачивался маленький кораблик, который на долгие годы станет им надеждой и родиной, домом и церковью.
Вот и все. Прощай берег, братья, мир. После короткой проверки готовности экипаж отчалил от пристани. Беспримерное плавание началось.
*** *** ***
Они все гребли и гребли, и с каждым взмахом весел родной берег все более утончался, пока не превратился в тонкую нитку на горизонте. Тишина, даже чайки, похоже, умолкли на несколько мгновений, словно проникшись печальной торжественностью момента. Монахи же старались не подавать вида, но все же время от времени украдкой оглядывались туда, где в прозрачном рассветном воздухе растворялась родная земля. Откуда, казалось, все еще веяло теплом монастырского очага, кельей и до боли родной братией.
Дни и ночи бесконечной чередой сменяли друг друга, бескрайняя водная гладь постепенно, но неумолимо, как губка, стирала воспоминания, обрывая последние связи с землей. Мысли о ней становились все более общими, абстрактными, пока не стали чем-то эфемерным, подобно иллюзии. Вскоре и она исчезла. А вместе с ней и прошлое. Будущего тоже не было. По крайней мере, о нем ничего не было известно. Оставалось только настоящее. Только текущий момент. И они жили, тщательно, миг за мигом проживая каждую секунду, Как умеют жить только маленькие дети и святые.
Вокруг них было лишь одно бескрайнее море, оно играло солнечными бликами до самого горизонта, отражая божественный свет. Но в своем чреве оно несло все ужасы преисподней. Страшны были морские глубины, и не одна душа человеческая сгинула в них.
Но монахи бросили настоящий вызов высшим силам. Сколь же они дьявольски велики! Сколь ничтожен человек пред их могуществом! И все-таки дерзновение воли, решившейся «проверить» божественные заповеди, воли, помноженной на смиренное покаяние, может творить чудеса. Но у них бы ничего не вышло, если бы в Брендане со спутниками был хотя бы гран гордыни. Любая «задняя мысль» привела бы их к краху. Но отделенные от водного Ада лишь тонкой полоской шкур, служившей им кораблем, они продолжали плыть по Бескрайнему прямиком в Вечность, где нет «Я», добра и зла, и много чего еще, из чего состоит жизнь человеческая.
Они плыли вперед, стремились вверх и пребывали в «сейчас». На полпути между зловещей морской пучиной и хрустальной высью неведомых райских островов, чистой землей.
Время на утлой лодке посреди необозримой морской глади тянулось мучительно медленно, постепенно все более замедляясь. Еще более мучительной была неопределенность. Сколько продлится плавание: год, пять, вечность? Как тут не сойти с ума? Но монахи нашли выход из этого, казалось бы, безвыходного положения: они стали жить осмысленно, т.е. осознавая каждое свое движение, каждый шаг, дуновение ветерка, плеск волны и т. д. И конечно, каждое слово молитвы. Это, при всей внешней простоте, оказалось очень трудной задачей. Но в ней и заключается единственный доступный человеку смысл жизни, — жить осознанно, каждое мгновение, и тогда мир явится тебе совсем в другом свете.
Добавим сюда постоянный диалог монахов с представителями других миров. Современный ученый-физик сказал бы, что они пребывали в состоянии суперпозиции. Т.е. сразу в нескольких состояниях, в нескольких измерениях. Так, как-то на Пасху нужно было отслужить мессу, а на лодке для этого просто не было места. Брендан вознес молитву, и Небо услышало его, — вскоре посреди моря-океана появился остров. Сразу после мессы он погрузился в пучину. Это был кит. Другие комментаторы, правда, больше склоняются к некоему неизвестному ныне животному — щиточерепахе.
Но путешественники не уповали лишь на помощь высших существ. Они хорошо знали, что она дается лишь тем, кто изо всех сил, с чистым сердцем стремится к цели. Поэтому им приходилось ежедневно решать проблемы своего быта, пополнять скудный рацион. Страшно донимала невероятная сырость и холод, пробиравший до костей. Об огне, а значит, горячей пище, на лодке не приходилось и мечтать.
Тяготы «длинного времени» усугублялись постоянной борьбой со свирепой, беспощадной стихией Северной Атлантики. Особенно зимой. О, эта первая зима великого плавания! Эти гигантские седые валы до самого горизонта. Несчастная скорлупка, скрипя и едва не разваливаясь, с трудом взбиралась на волну, закрывавшую собой весь белый свет. Она стремилась вверх, туда, где край воды, смыкался с низким, свинцовым небом. Но лишь для того, чтобы уже в следующий миг рухнуть в разверзнувшуюся бездну. И так волна за волной, час за часом, день за днем.
Но вот как-то внезапно ветер стих, шторм кончился, и над миром установилась хрустальная, почти неестественная тишина. Постепенно предрассветная мгла рассеялась, и взору изумленных путников предстал гигантский сверкающий монолит, — «огромный кристалл». Так впервые европейцы увидели айсберг.
Брендан и его «secret land»
Плавание было долгим и тяжелым. В течение семи лет огромное и страшное море несло утлую лодку, время от времени прибивая ее к неведомым островам. Плыли, как и многие другие паломники того времени, просто по воле волн; иной раз руководствовались собственными видениями, а иной — знаками, которые подавало Провидение. Так птица, севшая на нос лодки, сказала Брендану: «Ты вместе со своими братьями пропутешествовал уже год. Осталось еще шесть. Где сегодня справляете Пасху, там и будете справлять ее каждый следующий год, а затем ты найдешь то, что запало в сердце твое, то есть Землю, святым обетованную».
Первой землей, показавшейся на горизонте, стал маленький остров с «потоками воды, низвергающейся с обрывов». Здесь усталые путники нашли жилье и пищу. По мнению современных исследователей, это мог быть остров Св. Килды из числа Гебридских островов (кстати, известно, что там было древнее ирландское монашеское поселение). Продолжив свой путь, монахи вскоре встретили два острова, на одном были «стада белоснежных овец и реки, полные рыбы», на другом — «трава и белые птицы», которые на поверку оказались раскаявшимися падшими ангелами. Возможно, это были острова Стреме и Воге из Фарерского архипелага. После них последовали еще два острова, которые сложно идентифицировать: первый с монахами, второй с водой, которая «отупляет того, кто ее пьет».
А потом начались сильные штормы. Они увлекли лодку Брендана на север, где он увидел «горы, извергающие пламя», и «красные скалы», а «воздух там дышал дымами». То была Исландия. Позже очередной шторм занес мореплавателей на пустынное побережье, где они жили некоторое время «во чреве кита», то есть, укрывшись за толстыми ребрами китового скелета. Пустынным побережьем, скорее всего, была Гренландия.
Им встречались и совсем крошечные островки, которые даже сегодня редко на какой карте найдешь. На одной такой скале, прямо посреди моря, сидел заросший «как медведь» человек. Он сказал, что находится здесь 109 лет, и людей за все это время вовсе не видывал, о чем, впрочем, совершенно не жалеет. Внутри скалы была пещера, где он прятался от непогоды. Этого ему было достаточно, ибо он «такой же, как ты, Брендан». Т.е. не обращает внимания на тело, на невзгоды и лишения, а заботится лишь о душе. Впрочем, и такая аскеза ему казалась недостаточной. Вымолвив эти слова, он словно спохватился, что сильно заболтался со странниками и, сказав «иди своим путем, я больше не буду говорить с тобой», поспешил удалиться.
После сильной бури и длительного плавания отважные путешественники оказались «в стране с солнцем, лесами и большой рекой, уходившей внутрь страны». Трудно сказать однозначно, но не исключено, что это был полуостров Лабрадор в Канаде, и река Св. Лаврентия.
Много чудес явили райские острова, пребывавшие в благостной тишине. Странствуя по тропинкам одного из них, путники повстречали группу седовласых длиннобородых старцев. Они огорошили монахов совершенно невероятным известием: пока для них прошло 6—7 лет, на родине уже сменилось 6—7 поколений! Старой, доброй Ирландии уже нет, а к моменту возвращения и вовсе пройдет 300 лет. Стоит лишь причалить к берегу, как монахи состарятся и в скором времени умрут. (поразительно точное описание «путешествий во времени» с точки зрения физики ХХ века).
А вот что говорили сами монахи о своем странствии: на одном из островов они видели уже упомянутых баранов (или овец), которые были величиною с оленя. На другом, белые птицы, сидя на ветках громадных деревьев с красной листвой, пели славу богу; на третьем царило глубочайшее молчание, и лампады здесь загорались сами в час богослужения. После пасхи, которую путешественники справили на спине кита, им довелось быть свидетелями боя между драконом и гриффоном, наблюдать морскую змею и других чудовищ. Но они преодолели все опасности, благодаря своему благочестию. Во второй половине странствия их взорам предстал роскошный алтарь, подымающийся из океана на сапфировой колонне. Место казалось просто райским, но неподалеку находилось отверстие, откуда вырывалось пламя. То был вход в ад. Совсем рядом с ним на крошечной скале сидел Иуда. С востока дул огненный ветер, с запада — ледяной, о клочок земной тверди беспрерывно и яростно бились волны, то и дело заливая его. Но, несмотря на скорбный плач, разносившийся над океаном и заставивший путешественников пролить слезы, для Иуды, это было не наказание, а отдых, предоставленный по случаю праздника. Просто в преисподней царили своеобразные представления о праздниках и отдыхе. Кстати, Брендан, на правах очевидца, впервые в истории дает описание ада.
Наконец монахи достигли дверей рая, окруженного стенами из драгоценных камней: топазов, аметистов, янтаря, оникса. Это была цель путешествия — Земля обетованная. Она представляла собой широкую равнину, полную плодоносящих деревьев. Путники ели плоды, пили из источников, и так шли в течение сорока дней, но не смогли обнаружить предела земли. Вокруг них по-прежнему простирались роскошные луга с цветами, деревьями, полными плодов; повсюду струились ароматы, а в лесах паслись ласковые ручные животные. Реки текли молочные, а роса выпадала медовая. Здесь не было ни жары, ни холода, ни голода, ни печали.
Около большой реки они повстречали отрока, который сказал Брендану: «Плоды здесь такие зрелые потому, что все время они остаются на дневном свету и ночь здесь не наступает. Свет же этот есть Христос. А теперь возвращайся в страну, где ты родился, взяв с собой из плодов и драгоценных камней этой земли столько, сколько сможет увезти твой корабль. Приближается твое последнее странствие, когда почишь ты вместе с отцами своими».
Обратный путь занял всего полмесяца. И вот, говоря словами японского монаха Догэна, «Наш путь, во время которого я вверял свое иллюзорное тело вздымающимся волнам, наконец подошел к концу». Но, увы, у причалов их не встречали восторженные толпы. Не пришли ни друзья, ни знакомые, ни родственники. Все они давно умерли, и даже память о детях и внуках наших отважных героев истлела во глубине веков. Сменились власти, исчезла королевская династия и даже церковь, в которой монахи молились перед отплытием, была разрушена и предана забвению. Ничто уже их не связывало с некогда родной землей, и вскоре они спокойно отдали Богу свои души.
*** *** ***
Многое из рассказанного кажется фантастикой? Но не будем забывать, что через несколько сотен лет викинги, часть которых еще не перешла в христианство, т.е. представляла совсем другую культуру, плавали теми же маршрутами и рассказывали примерно такие же истории.
Что можно утверждать со значительной долей уверенности, так это то, что ирландские монахи плавали к Северной Америке в VI веке нашей эры — за 900 с лишним лет до Колумба! Но плавсредством для них послужила не эскадра крепко сколоченных каравелл, а всего лишь кожаный мешок, натянутый на каркас из прутьев. Принципиальную возможность такого вояжа экспериментально подтвердил в 70-х гг. ХХ века известный путешественник Тим Северин.
Передвигаясь на утлых лодках, Брендан и его последователи открыли Шетлендские и Фарерские острова, Исландию и Гренландию. Причем, как отмечает хронист-современник Дикуил, с конца VIII века между Ирландией и Исландией было налажено регулярное сообщение. В дальнейшем викинги уничтожили многие христианские общины, часть поселенцев погибла от великой чумы в середине XIV века и от иных заболеваний, часть по другим причинам. У нас нет точных сведений о судьбе первых европейцев на Американском континенте. Но недавно при раскопках приморского индейского селения в штате Мэн (США) археологи обнаружили монету, отчеканенную в правление Олава Тихого между 1066 и 1093 гг. Тем же временем датируется и сам поселок, в котором, по-видимому, жили норманны. А слава ирландских монахов, бесстрашных мореплавателей, ведомых верою, пережила века…
Нашу короткую «сагу» об ирландцах, нашедших самую трудную в мире дорогу: дорогу к себе и к Богу, и попутно обнаруживших загадочные дальние земли, завершим отрывком из стихотворения известного современного писателя Толкиена, посвященного св. Брендану:
…Целый год мы плыли вперед и вперед,
и нам не встречалась земля,
нигде мы не видели птиц на воде,
ни встречного корабля.
Вдруг темное Облако встало — и гром
раскатами загремел.
О нет, не закат то был, не рассвет,
но запад побагровел.
И прямо под Облаком встала гора —
отвесные склоны черны,
вершина курилась, и были в тиши
удары прибоя слышны;
жерло на вершине пылало светло,
как пламя небесных лампад:
гора, словно столп, подпирающий Храм,
корнями сходила в ад.
Стояла она, основанье тая
во мгле затонувшей земли,
куда после смерти ушли навсегда
далекой страны короли.
Во мраке угрюмом утихли ветра,
и весла ворочали мы —
нас мучила жажда, и голод был жгуч,
мы больше не пели псалмы.
Зато миновали мы Облако то,
и открылся берег высок:
спокойной волною стучался прибой,
катая жемчужный песок.
Нам мнилось — неужто здесь будет волна
наши кости катать века?..
Найти не могли мы на скалы пути —
уж больно стена высока.
Вокруг мы пошли и увидели вдруг
обрывистый фьорд меж скал —
по водам свинцовым вошли мы в него,
и сумрак нас вновь объял.
Гребли мы все дальше в глубь этой земли,
ни звука вокруг — тишина,
лишь слабые всплески из — под весла —
святою казалась она.
И мы увидали долину, холмы,
чредой уходившие вдаль,
горела долина та, вся в серебре,
как будто Священный Грааль.
И Белое Древо росло посреди —
такие, должно быть, в Раю, —
в бездонное Небо вздымалось оно,
подъемля вершину свою.
Тяжелою башней высился ствол,
и крона была густа:
как лебедя перья, снега белей,
ладонь любого листа!
Недвижным казался нам, словно во сне,
под звездами времени бег.
И думали мы, что себе на беду
не уйдем отсюда вовек,
что останемся здесь, — и, отверзши уста,
тихо начали петь,
но сами дивились, что голоса,
словно в храме, стали греметь.
И листья, как белые птицы, взвились,
и дрогнуло Древо тогда —
лишь голые ветви остались да ствол,
а листья смело без следа.
И слово певучее к нам донеслось,
какого не знали вовек!
Не птицы то пели из горных границ,
не ангел и не человек,
а род благородный, что в мире живет
за дальней гранью морской:
но моря холодны и воды темны
за Белого Древа землей».
«Два чуда ты мне описал. Я хочу
о третьем узнать наконец!
О, где твой последний рассказ — о Звезде?
Зачем ты таишься, отец?»
«Звезда? Ее я увидел, когда
встал на развилке путей —
лучи на окраине Внешней Ночи,
у врат Нескончаемых Дней.
С карниза там мир обрывался вниз,
и вел на неведомый брег
висящий над бездной невидимый мост,
но там не ходил человек».
«А мне говорили, ты в некой стране,
в последней стране побывал —
без лжи мне об этой стране расскажи
и что ты там повидал!»
«Звезду еще в памяти, может, найду,
и помню развилку морей —
дыхание смерти там бриз колыхал,
нет слаще его и нежней…
Но коль ты желаешь изведать ту боль,
узреть, как растут те цветы,
на небе ль каком или в дальней стране —
тогда выйди в плаванье ты.
И море подскажет дорогу само,
и парус тебя будет мчать —
и там ты изведаешь все это сам,
а я теперь буду молчать».
В Ирландскую землю, где колокола
в Клуан — ферта на башне бьют,
где лес темнеет под сводом небес
и туманы стеной встают,
пришли корабли из дальней земли,
откуда пути нет назад —
сюда святой Брендан пришел навсегда,
и здесь его кости лежат.
Глава 10. Монастыри

Средневековое христианство — это, прежде всего, путь. Дорога к Богу. И прийти к Богу можно лишь отрекшись от всего мирского: денег, славы, семьи, себя, то есть от всего, что связывает человека с этим, полным несправедливости, жестокости и страданий, миром, «юдолью скорби».
Поначалу, в первые века нашей эры, еще в эпоху Римской империи, люди просто бросали свое имущество и уходили прочь. В горы, в пустыни. Там, замуровывая себя заживо в отшельнических скитах, либо десятилетиями сидя на столбе, подвергаемые немыслимым тяготам и лишениям, они искали свой путь к Богу. А значит, и к самим себе. Отказываясь от своего «я», они старались обрести себя, пусть зачастую и весьма экстравагантным образом.
За шаг до монастыря. Отшельники

Помимо личного стремления обрести себя в Боге подвижниками двигало нечто большее. Христианство, в отличие от язычества, — это религия жертвы. Сам Иисус отдал себя на заклание ради спасения всего человечества. То же завещал апостолам. И анахореты стремились повторить крестную стезю своего Бога. Добровольно. Не в своих корыстных интересах. А ради всех людей.
Начало движению отшельников положил во второй половине III века святой Антоний Великий. Он происходил из вполне зажиточной семьи коптов, жившей на юге Египта. Был обычным благочестивым христианином. Но как-то раз с ним произошел случай, подобный тому, что будет через тысячу лет со святым Франциском. В церкви он услышал небесный голос со словами Евангелия от Матфея: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной». Он так и сделал. Продал все, захватил запас хлеба на полгода и ушел в пустыню. В развалинах старого воинского укрепления на берегу Нила он соорудил крохотную келью, в которой провел много лет. С внешним миром ее соединяло лишь небольшое отверстие, через которое раз в несколько месяцев ему передавали еду. Но даже в эти редкие мгновения Антоний сводил общение с людьми к минимуму, и уж тем более остерегался смотреть на них. Так прошло 20 лет! Но это было только начало. Всего в отшельничестве он провел более 80 лет, дожив до 105! Все эти годы он носил власяницу, никогда не мылся, почти не спал и постоянно постился.
Правда, добровольное заточение после первых двадцати лет было уже не столь жестким. Во-первых, ему пришлось «переехать» еще дальше, в Писпирские горы, на побережье Красного моря. Во-вторых, чтобы меньше обременять последователей, он стал сам добывать пищу, обрабатывая небольшой клочок земли. А в-третьих, иногда выбирался в Александрию и другие города, споря с арианами или ободряя христиан во время гонений.
И все же его жизнь по-прежнему проходила в одиночестве. За редким исключением. Хотя, конечно, он так не считал. Это с нашей точки зрения Антоний был одинок. А в действительности он вел крайне напряженную жизнь, полную самых драматических баталий с невероятным количеством потусторонних сил и всякой нечисти. Сам Диавол смущал его «обычными в юношеском возрасте искушениями»: ночными мечтаниями о прекрасных женщинах, «призраком золота», привидениями. А бесы часто действовали по-простому: бывало, застанут его врасплох, набросятся и избивают, кто дубиной, кто еще чем-то. В ответ стойкий монах лишь кричал: «Никто не может отлучить меня от любви Христовой». Но обычно он все же встречал напасть во всеоружии. Вот свидетельство самого святого:
— Я видел от демонов много коварных обольщений и говорю вам об этом, чтобы вы могли сохранить себя среди таких же искушений. Велика злоба бесов против всех христиан, в особенности же против иноков и девственниц Христовых: они всюду расставляют им в жизни соблазны, силятся развратить их сердца богопротивными и нечистыми помыслами. Но никто из вас пусть не приходит от этого в страх, так как горячими молитвами к Богу и постом бесы немедленно прогоняются. Впрочем, если они прекратят на некоторое время нападения, не думайте, что вы уже совершенно победили, ибо, после поражения, бесы обыкновенно нападают потом с еще большею силою. Если они не могут прельстить человека помыслами, то пытаются обольстить или запугать его призраками, принимая образ то женщины, то скорпиона, то великана, высотою с храм. Они являются прорицателями и силятся, подобно пророкам, предсказывать будущие события, а если не выходит, на помощь призывают уже самого своего князя, корень и средоточие всяческого зла.
Великую силу… имеют против дьявола чистая жизнь и непорочная вера в Бога… Сколько раз бесы нападали на меня под видом вооруженных воинов и, принимая образы скорпионов, коней, зверей и различных змей, окружали меня и наполняли собой помещение, в котором я был. Когда же я начинал петь против них, то, прогоняемые благодатною помощью Божьей, они убегали. Однажды они явились даже в весьма светлом виде и стали говорить: «Мы пришли, Антоний, чтобы дать тебе свет». Но я зажмурил свои глаза, чтобы не видеть их дьявольского света, начал молиться в душе Богу, и богопротивный свет погас. Случалось, что они колебали самый монастырь мой, но я с бестрепетным сердцем молился Господу. Часто вокруг меня слышались крики, пляски и звон; но когда я начинал петь, крики их обращались в плачевные вопли, и я прославлял Господа, уничтожившего их силу и положившего конец их неистовству.
А однажды Антонию дьявол явился в образе великана, головой попирающего облака. Объявив: «Я — Божья сила и премудрость», он предложил: «Проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе». Старец же в ответ, размахнувшись, с недюжинной силой плюнул в наглую рожу и, с именем Христовым наперевес, немедленно устремился на великана, одержав полную победу. Вскоре, однако, тот, как ни в чем не бывало, снова явился. На сей раз под видом чернеца (монаха) радушно предложив «преломить хлеба». А то, мол, ты совсем уже отощал от постов и молитв. Но Антоний и тут смекнул, что имеет дело с коварным обольщением лукавого змея. Тогда, желая унизить своего противника, он сначала сообщил: «Христос Своим пришествием окончательно низложил твою силу, и, лишенный ангельской славы, ты влачишь теперь жалкую и позорную жизнь во всяческой нечистоте», после чего осенил себя и его крестным знамением. «Монах» в ужасе ретировался и, превратившись в струю дыма, «вылетел» через окно.
Так и жили отшельники. В бесконечной борьбе с Дьяволом и самими собой. Одинокие, но вместе с тем погруженные в подлинную жизнь. Проживающие ее шаг за шагом, мгновение за мгновением. Как прекрасный бриллиант в обрамлении бескрайней пустыни. Подобно вечной Луне в великой пустоте. Их духовные подвиги привлекали все новых и новых последователей, и вскоре некогда пустынные места оказались тесно заселены множеством анахоретов, которые постепенно стали собираться в общины. Так созрели условия для появления первых монастырей.
Начало. Святой Бенедикт
Чуть позже, в горах Каппадокии, на территории современной Турции, а также в египетской и сирийской пустынях, появляются первые монастыри и первые монахи. Само слово «монах» по-гречески означает «уединенный». В русском языке ему соответствует слово «инок» — «иной». Кельи, в которых эти «иные» люди жили, имели площадь всего в пару квадратных метров и высоту меньше человеческого роста. Чтобы анахорет при всем желании не мог распрямиться.
В 500 году юный римлянин Бенедикт Нурсийский бросает свою аристократическую семью, уходит от мира и становится отшельником. Он ищет уединения. Правда, не в Сирии или Египте, а недалеко от «Вечного города», в пещере на берегах реки Анио. Здесь он живет в посте и молитвах несколько лет, пока монахи из местного монастыря не уговаривают его возглавить их общину. Результат, правда, оказался обескураживающим. Скандалы, интриги и даже попытка отравления нового аббата. Бенедикт был вынужден бежать в горы, где и основал, пожалуй, самый знаменитый в Европе монастырь Монте-Кассино. Через тысячу лет его украсит своими изумительными фресками Леонардо да Винчи.
Но полученный в среде склочных монахов опыт не пропал даром. Бенедикт понял, как должна быть устроена жизнь тех, кто посвятил себя Богу, и пишет знаменитый монастырский «Устав», который доживет до наших дней. Так же как и орден, созданный им в 529 году, орден бенедиктинцев. Именно со святого Бенедикта, провозглашенного в 1964 году папой Павлом VI «Покровителем Европы», и начинается история средневековых монастырей.
Монастыри: случай Ирландии
Разговор о монастырях, пожалуй, начнем с уникального случая. Это случай Ирландии. Он хотя и стоит особняком, но, тем не менее, является неотъемлемой частью европейского монашеского движения.
Христианство на этом отдаленном от библейских мест острове появилось, можно сказать, случайно. Как-то местные пираты, промышлявшие неподалеку, захватили очередную партию «живого товара» и продали его в рабство, — совершенно обычная для начала V века военно-торговая операция. Среди пленных был ничем не примечательный парень по имени Патрик. Ему поручили пасти овец в отдаленном и диком местечке Коннахт, на самом западе Ирландии. Но он был сыном диакона и знал, что куда бы его ни забросила судьба и как бы ни складывались обстоятельства его главной задачей остается нести людям слово Божие. Не откладывая дело в долгий ящик, он начал проповедовать.
Безусловно, Патрик был религиозным гением. Бежав от рабства и не имея абсолютно ничего, даже Евангелия, он обращал в христианскую веру тысячи людей, в большинстве своем язычников и варваров. Постепенно его миссионерская деятельность охватывала все новые и новые территории, а Ирландия стала островом святых. Причем христианизация здесь проходила бескровно, в отличие от многих других стран.
Один за другим строятся монастыри, которые поначалу представляли собой просто множество хижин, выстроенных вокруг жилища аббата. Уже в 450 году Патрик организует первую христианскую школу. Из ее стен выходят тысячи миссионеров, которые разносят Слово Божие не только по всей Ирландии, но и на сопредельные острова, в частности, в Англию. Вскоре они буквально хлынули на континент, куда принесли свои обычаи, ритуалы, практику выстригания тонзур, а также неутомимую страсть к строительству новых монастырей.
О колоссальном уважении к Патрику не только в Ирландии, но и во всей Северной Европе свидетельствует такой случай. Как-то он, опираясь на посох, рассказывал королю шотландцев о Страстях Христовых. Вышло так, что святой случайно поставил конец посоха на королевскую ногу и проколол ее насквозь. Король же подумал, что это часть ритуала, в соответствии с которым, принимая веру Христову, необходимо терпеть боль и страдания. Патрик же, поняв, что произошло, пришел в изумление, и в знак признательности «молитвами своими излечил короля и осенил благодатью целую страну, в которой с тех пор ни один ядовитый зверь обитать не может».
В VI—VII вв. Ирландия «экспортировала» в Германию 115 святых (около 620 года они прошли ее с севера на юг, вплоть до Баварии, где устроили скиты), во Францию — 45, в Англию — 44, в нынешнюю Бельгию — 36. Всего же самый ранний из дошедших до нас списков ирландских святых, датированный VIII веком, содержит 350 имен. И это в стране, где не было мученичества, через которое обычно и становились святыми!
Множество основанных ими монастырей жило по уставу ирландского святого Колумбана, который одно время даже успешно соперничал с уставом св. Бенедикта. Отличали его непоколебимый дух сурового северного народа и основанная на нем крайне суровая аскеза. Например, ирландцы любили стоять со скрещенными на груди руками. Долго, очень долго: св. Кевин так простоял 7 лет. Он опирался на доску, и за все это время ни разу не пошелохнулся, даже глазом не моргнул, так что птицы свили на нем гнездо и вывели птенцов. Также пользовались популярностью купания в ледяной воде рек и прудов с громким пением псалмов. Святая Монина каждую ночь, стоя в таком источнике, прочитывала всю Псалтирь (наверное, из-за такой закалки прожила целых 85лет, и это в V—VI вв.)! Ели ирландцы не чаще одного раза в сутки.
Интеллектуалы при дворах просвещенных правителей, поэты и хронисты, деятели каролингского Возрождения, — везде и всюду мы встречаем ирландских монахов, либо их учеников. В их числе, например, такой гений как «первый отец схоластики», «Карл Великий схоластической философии» Иоанн Скот Эриугена. Так что небольшая окраинная страна совершенно неожиданно сыграла колоссальную роль в христианизации Европы, ее культуре, искусстве, теологии, философии.
Что такое монастырь?
Монастырь — это размеренная жизнь, сочетание умственной и эмоциональной сдержанности, молчания и неспешности, с крайней одержимостью целью, преследуемой непрестанно, сутки напролет.
Монастырь — это чтение духовных книг, скудная пища, умерщвление плоти.
Монастырь — это униженность, личная нищета, отказ от собственного «я» и внутренняя святость.
Монастырь — это восстание против мирской фальши, привязанности к миллиону вещей вокруг нас и порабощения ими.
Монастырь — это попытка научиться самому простому, а на самом деле самому трудному искусству в мире, — жить здесь и сейчас, в каждый конкретный миг, не думая ни о вчера, ни о завтра. Как в Библии: «не заботьтесь о завтрашнем дне, он сам о себе позаботится».
Монастырь — это попытка построить идеальное общество.
Монастырь — это молитва. Молитва — это страх или угрызения совести, доверие, надежда или признательность, средство либо приблизиться к Богу, либо понять, насколько его лик, невзирая на все усилия, остается далеким, глубинным, неясным, безличным. Молитва — это бесконечная общность с мирозданием.
Монастырь — это шанс обрести свободу.
*** *** ***
Сегодня мы вряд ли в состоянии понять чувства монаха, молящегося в предрассветных сумерках Клюни или Монте-Кассино. Приблизительное представление об эмоциях этого человека, живущего на неведомом теперь духовном уровне, можно получить, если вспомнить или вообразить себе самые сильные переживания своей жизни: первую любовь, вдохновение творчества, спортивный триумф, совершение открытия, радость материнства, созерцание красоты, жертвенные порывы героизма, — словом все, что можно называть «мирскими молитвами». Разумеется, это представление — лишь крайне слабый, почти неприметный отблеск той мощной палитры чувств, которые в молитве и созерцании охватывают тех, кого принято называть затасканным и почти потерявшим смысл словом «святые». «Часто ему казалось, что он парил в воздухе, находясь между временем и вечностью, окруженный глубокими водами невыразимых чудес Божиих», — безмолвный опыт доминиканского монаха Генриха Сузо говорил ему, что смерть — лишь ступень к подлинной свободе.
Чтобы спастись, монах должен был умереть. Умереть для этого мира и, создав себе «новое тело», воскреснуть после «смерти». Только тело это должно быть не физическим, а духовным.
Вот как это происходило на примере монаха по имени Ансельм. «Вдруг какой-то неземной свет залил его келью. Ее стены, нехитрая утварь и даже воздух и пространство разом перестали существовать. Не осталось ничего, на что можно было бы опереться, что привязывает нас к повседневной жизни, к земному существованию. Ничего. Один лишь яркий свет, огромная блистающая неземным свечением сфера. В ней не было ни пространства, ни времени, а потому он не мог сказать, сколько времени прошло, прежде чем появились ангелы. Видимо, такой вопрос просто не имел смысла. Ангелы совсем не походили на тех крылатых существ, которых он видел на иконах и барельефах местного собора. Они были бесформенны, а потому невидимы в привычном для нас понимании этого слова. И все же они были реальнее всего, что Ансельму доводилось видеть в предыдущей жизни. И разговора между ними не тоже было. Хотя это была самая важная беседа за все 35 лет пребывания его в этом мире. Они „говорили“ молча, не произнося слов даже мысленно. Как будто все их мысли, идеи, все вопросы ангелов и все его ответы слились воедино, став единым шаром, сверкающим как бриллиант. Шар медленно вошел в сознание Ансельма и слился с ним, буквально с каждой клеточкой, не смешиваясь, однако, при этом. Монах напряженно всматривался внутренним зрением и схватывал в нем все прошлое, настоящее и будущее, слившиеся в одной неподвижной, но наполненной колоссальной энергией и движением, точке-шаре. При этом ангельские „голоса“ моментально становились его мыслями, наполняя сознание. Они буквально переполняли его, и от этой переполненности чувствами, истекающими от бесконечного мягкого блистания „бриллиантовой точки“, неизбывное счастье и покой раз за разом охватывали все его существо». Так умер для мира монах Ансельм. Так он же возродился к жизни в ином, теперь уже почти недоступном для нас измерении мира духовного.
Но монахи не замыкались только лишь на своих личных духовных исканиях. Не менее важной задачей была помощь в спасении и просто помощь другим людям, вне зависимости от их социального положения, богатства, могущества. Как писал кельнский епископ XIII века Мейстер Экхарт, «то, что человек получает в созерцании, он должен вернуть в любви». И они возвращали… Неудивительно, что на протяжении веков монашество было нравственной элитой в глазах всех остальных слоев населения. Считалось даже, что человек, поцеловавший полу рясы странствующего монаха, обретал отпущение грехов на пять лет, чего можно было добиться, лишь неукоснительно соблюдая ежегодные сорокадневные посты в течение этого срока.
*** *** ***
Как уже говорилось, монахи молились не только за себя, но и за всех окружающих. В этом была их важнейшая задача. Подавляющее большинство людей того времени не без основания считали себя слишком слабыми и невежественными, чтобы спастись. Они ожидали, что кто-то замолит их грехи. Молясь за всех сразу, а значит, и за меня, грешника, в том числе. Монастырь как бы вымаливал у Бога милость и распределял ее между всеми. Но вымоленная благодать в первую очередь доставалась самим монахам, их родственникам и прочим «приближенным лицам». Вот почему многие знатные семьи отдавали своих первенцев еще в очень юном возрасте в монастыри. Такая практика называлась облацио, а маленькие монахи становились для своей семьи молитвенными заступниками. Родственники же через «своего» монаха, «по блату» получали прощение своих грехов. В дальнейшем мы будем говорить о такой практике применительно, например, к величайшему схоласту Фоме Аквинскому, отданному в пятилетнем возрасте в монастырь Монте-Кассино.
Итак, главный смысл существования монашества в то время — это связь со сверхъестественными силами, посредничество между мраком земной жизни и великолепием небес; защита мира духовным щитом. Известен случай, когда корабль короля Филиппа Августа был застигнут на море бурей, и он повелел всем молиться, заявив: «Если нам удастся продержаться до начала заутрени, мы будем спасены, ибо монахи начнут богослужение». Его расчет полностью оправдался, иначе мы вряд ли бы узнали об этом событии.
Монахи и молитва
Молитва — главный труд монаха. В те древние времена «молиться» значило «петь». Немой молитвы не существовало. Считалось, что Богу больше нравится совместная молитва, ибо она созвучна хоралам в исполнении ангелов и серафимов, которые окутывают Его на небесах. День за днем, по 8 часов, без отдыха, начиная с глубокой ночи, когда монахи выходили из своих спален и среди мрака и тишины возносили свои первые слова Господу, до окончания вечерни, когда они с трепетом наблюдали, как мир вновь погружается в ночную мглу.
Но молитва монахов — это не просто пение неких текстов, — нет, это григорианский хорал, полный воинственности; его как вызов бросают в лицо сатанинскому воинству, чтобы обратить его в бегство. Так что сражения монахов с демонами, о которых уже говорилось — не фигура речи, они реально шли каждый день, и были изнурительны.
В обществе тогда господствовало понятие коллективной ответственности. Совместный грех искупался спасением всех вместе и каждого в отдельности. Так 14 октября 1066 года, Вильгельм Завоеватель одержал победу в битве при Гастингсе и покорил Англию. Но на поле боя остались лежать десять тысяч воинов, а за каждого из них необходимо было поститься и молиться 120 дней. У самого Вильгельма сей процесс занял бы тысячелетия. Но на помощь пришли монахи из окрестных монастырей, совместными усилиями которых удалось уложиться в 18 лет.
Так самоотверженные действия маленьких монашеских коллективов отвращали гнев небес, вымаливая прощение для королей, армий и всего рода человеческого.
Монастыри: причины богатства

Мы говорим об идеале нестяжательства, о монашеской нищете, но в то же время не секрет, что многие монастыри со временем стали богатейшими организациями. Нет ли здесь противоречия?
Противоречие, конечно, существует. Ведь сколь сильны бы ни были духовные искания людей, они не могут отменить материальные потребности. Для богослужения нужны свечи, для свечей нужен воск, нужно строить церковь и другие здания, снабжать их водой, а монахов едой и т. д. Поиск баланса между материальным и духовным шел столетиями. В конечном итоге был найден компромиссный вариант, сочетавший презрение к миру с хозяйственной и духовной организацией жизни.
Были, конечно, крайности, когда на материальный аспект решали вообще не обращать внимания. Но обычно такой подход ничем хорошим не заканчивался. Вот один пример.
В 1077 году св. Этьеном де Мюре был основан гранмонтанский орден. Сначала он объединял монахов, вдохновленных очень суровым обетом. Одиночество, крайняя бедность, отказ от всего, что не является самым насущным. Никаких постоянных доходов, ни земли, ни скота. Гранмонтанцы не требовали денег за совершение мессы, не собирали пожертвований, жили отшельниками, не работали и никогда не подавали в суд, чтобы защитить свои права. Сверх того, они проявляли такую щедрость, что заслужили прозвище «добряки». При таких обстоятельствах, чтобы выжить, по словам одного священника того времени, «всем монахам нужно было быть святыми, чистыми, бесплотными духами, что невозможно в мире сем», а потому они неизбежно «нарушали свой устав».
Чтобы не замараться о мирскую скверну члены ордена передали «хозяйственную часть» сторонним людям, которые постепенно все прибрали к своим рукам. В итоге монахи не могли получить даже рубашки или рясы, в то время как за их спинами обделывались темные делишки. И в итоге получили бесконечную смуту и даже бунты. Дело кончилось тем, что «сторонние» заставили генерального приора уйти со своего поста, после чего заточили его в тюрьму. Потрясаемый кризисами, орден добряков после длительной агонии был распущен.
Но это крайность, исключение. Ту же идею в несколько модифицированном виде продвигал и Франциск Ассизский, о чем у нас речь еще впереди, однако ее далеко не всегда придерживались даже при жизни великого святого, а уж после его смерти вообще все пошло наперекосяк.
Большинство аббатов, не говоря уже об основателях орденов, обладали житейской мудростью, практической сметкой, а поэтому производительному труду в жизни монастырской общины придавали важное значение. Свое решение они подкрепляли ссылкой на авторитеты, ведь еще апостол Павел в своем послании к фессалоникийцам сформулировал принцип: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». С ним полностью соглашался Бенедикт Нурсийский, девизом которого были слова: «Молись и трудись». Этого правила неукоснительно придерживались практически во всех монастырях. У францисканцев, например, оно вообще шло под номером один.
То есть люди постоянно и помногу (4—5 часов ежедневно) занимались производительным трудом. Работали много, а потребляли мало. Вот несколько примеров, характеризующих потребление монахами благ:
1. Еда:
св. Целестин. Постился ежедневно, а три раза в неделю питался только хлебом и водой. Часто довольствовался одними капустными листьями без хлеба; у него в году было шесть Великих постов (каждый из них длился 40 дней);
св. Симеон вкушал пищу один раз в три дня, а во время Великого поста — только раз в неделю;
св. Ромуальд, основатель ордена камальдолийцев, за день съедал горсть нута (турецкого гороха) и половинку маленького хлеба, живя, как сообщает хронист, «в очень строгом воздержании от вина и острых приправ»;
св. Николай Флюэльский не вкушал ничего кроме Святой пищи евхаристии, придерживаясь этого обета вплоть до самой смерти.
Кто-то питался цветами дрока и горькими травами, кто-то медом, зернами мирта и мака, дикими фигами и ягодами. Короче говоря, жизнь была наполнена самыми суровыми ограничениями.
Большая часть монахов, конечно, не доходила до таких крайностей, но и у них питание ограничивалось двумя разами в день и состояло из каши, овощей, трав, хлеба, фруктов, а два раза в неделю — рыбы. Мяса не полагалось никакого, даже в праздники, ибо оно «разжигает страсти и сластолюбие». В постные дни (а их насчитывалось в общей сложности примерно полгода) питались один раз!
Питание, как, впрочем, и любая другая сторона жизни в монастыре, было организовано исключительно рационально. Ничего не пропадало. Вплоть до наших дней сохранилась традиция: после трапезы монахи специальными маленькими щеточками собирают за собой хлебные крошки. В некоторых монастырях каждую субботу из них готовят нечто вроде жидкого пудинга на основе яиц.
2. Отопление.
В старинных источниках сплошь и рядом встречается такое замечание: ни одно помещение в монастыре (кроме кухни) не отапливается. И не только в средние века… 70-е годы ХХ века. Благополучная Швейцария. Монахи в частной переписке жалуются, что зима холоднее обычного, маленькие печки не дают должного тепла, и в церкви приходится служить при отрицательной температуре. Вот что пишется о Гранд-Шартрезе: «Этой зимой выпало рекордное количество снега. Вместо обычных пяти метров у нас было 8,2 м, и даже теперь, когда я пишу это письмо, продолжает идти снег… Первый этаж братского корпуса в течение многих месяцев погружен во тьму; мы вынуждены выходить из окон второго этажа и копать проходы, чтобы спуститься вниз и чтобы дать путь дневному свету на нижний этаж».
— Освещение
Светильники были каменными или металлическими иногда с многочисленными отверстиями. Их заправляли маслом, оливковым или маковым (в Центральной Европе); бараньим жиром или пчелиным воском. Существовали также «железные канделябры» для освещения ночью храма, а зимой — и трапезной. Спальня освещалась лишь горящим кусочком пакли, плавающей в воске. А подчас и вовсе никаких средств для освещения в монастыре не было. Такой факт, например, был зафиксирован проверяющими в 1300 году (т.е. уже в относительно благополучное время).
4. Одежда.
То же самое требование бедности приводило к тому, что монахи без всякого стеснения, а скорее даже с гордостью, носили изношенную, латаную одежду. Св. Бенедикт Аньянский, смирения ради, латал свою рясу заплатами из ткани другого цвета, дабы «навлечь на себя насмешки других монахов, которые оскорбляли его и считали безумным». Другое следствие этого требования: ткань никогда не красили, ибо красить — означало вводить в заблуждение. В дальнейшем, правда, этот запрет, как и многие другие, подвергся трансформации: монашеских орденов стало много, и им было необходимо отличаться друг от друга. В целом предметов одежды было не более двух (две рубашки, две рясы и т.д.), чтобы одну носить, тогда как вторую — отдать в стирку.
Ирония истории: невозможно трудиться, есть, одеваться, жить так, как жили монахи, селиться в столь скромных жилищах, какие они себе строили в первое время, и при этом не разбогатеть. Так монахи, воодушевляемые своей верой, становились богатыми, вовсе не желая того, не стремясь к такой цели. Они стали одним из решающих факторов развития сельского хозяйства, а значит, и экономики в целом в Средние века.
Экономика монастырского уклада
Монастырская экономика в целом парадоксальна. Она строится на стремлении к бедности, и в ней главная цель — это расходы: содержание монахов, подаяние нищим, нерентабельное строительство. Но при этом монастыри делались богатыми. Монахи не намеревались сберегать, но, тем не менее, их экономика стала самым мощным фактором накопления в Средние века. Монастыри побуждали к созерцанию, но в результате стали специализироваться на организации, рационализации и контроле самых различных видов работ. Монашество стремилось к уединению, но сами аббатства превратились в центры, вокруг которых возникали селения и города.
Эта экономика вовсе не желала быть экономикой. Она хотела, прежде всего, быть частью религиозной жизни. Какими бы ни были отклонения, она по своей сути оставалась строго церковной и духовной. Благодаря своему разумному и добровольному труду, исполняемому сознательно и ради будущего, монах производил больше, чем мирянин. Монашеский образ жизни — умеренный и заранее расписанный — приводит к тому, что монах потребляет меньше, чем мирянин. Вот почему там, где мирянин терпит неудачу, монах процветает. Позднее такими же процветающими (и тоже против своей воли) станут пуритане. В этом нет ничего загадочного: монахи должны были разбогатеть неизбежно. Прежде всего, разумеется, благодаря своему труду. Позднее — за счет способностей к управлению и, наконец, благодаря торговле и аренде. В итоге монахи стали такими богатыми, что «ссужали деньгами евреев». И они сделались главными торговцами на ярмарках, «мастерами посредничества и торговли».
Иногда предпринимательская жилка монахов даже вступала в противоречие с интересами безопасности местного населения. Так, аббат Сен-Пьер-де-Без, Клод Лотарингский, устроил многоэтажный вольер для разведения кроликов, обнесенный стенами высотой более трех метров. Проблема была в том, что он вплотную примыкал к городским укреплениям, и, в случае осады, им могла бы воспользоваться неприятельская армия. Разгорелся конфликт, но аббат стоял на своем. В итоге жители взбунтовались и набросились на приора, пытавшегося помешать им снести кроличий «небоскреб». Они кричали ему: «Идите отсюда, главный монах, идите служить в своем доме! Если вы не уйдете, мы вас заставим сделать это» — и угрожали ему «сбрить венчик». Стены строения были разрушены, а кролики в панике разбежались.
Со временем монахов потеснят, а потом и практически вытеснят из экономической жизни новые центры — коммуны, города, банки, биржи и, в конце концов, зарождающийся класс предпринимателей. Но роль монастырей в становлении экономики средневековья навсегда останется в истории.
Государство «Монастырь»
Для ищущих спасение монастырь был Землей Обетованной, отделенной духовной стеной от внешнего мира. А поскольку внешний мир был весьма агрессивен, значит, необходимо было ему противостоять. Поэтому уже св. Пахомий, заложивший в IV веке в Египте один из первых монастырей, построил его по образцу военного сооружения. Современники о нем отзывались как об «огражденном рае» или «рае за оградой», — месте прохлады, зелени, тишины и покоя, тени и света, вознесенном над мирской суетой для созерцания и молитвы. Эта отгороженность от внешнего мира подчас носила крайние формы. Так, например, в возведенном еще в VI веке монастыре св. Екатерины на Синайском полуострове, в средние века не было даже ворот. Одна сплошная стена. В случае необходимости, скудные припасы и редких посетителей поднимали на веревках.
Отгороженность от внешнего мира диссонировала с полным отсутствием личного пространства внутри самого монастыря. По крайней мере, так было до XIII века. Поначалу даже аббаты спали вместе со всеми монахами. Причем сами спальни имели циклопические размеры. Например, 66х12 метров, как в монастыре в испанской Таррагоне. Несмотря на монументальность сооружения, сами «братья» не имели даже личных кроватей, — спали вместе, по 3—4 человека, не раздеваясь, только лишь сняв с пояса нож. И такое существование еще можно назвать весьма комфортным. Если принять во внимание, что монахи ордена фельянов спали на досках; премонстранты — тоже на досках, но слегка прикрытых соломой; братья-минориты строгого устава — на голой земле или на досках, оливетанцы — на дощатом настиле без одеяла. Наиболее избалованные имели тюфяк (набитый соломой или сеном, иногда сухими листьями), а также подушку (с соломой, волосом или перьями), шерстяное одеяло, иногда баранью шкуру (как у картезианцев), но никаких простынь. И только позже, ближе к концу средневековья, в результате долгой борьбы со Святым престолом и другими институциями, появляются ширмочки, перегородки, а потом уже и личные кельи. Плюс какие-то отдельные преференции личного характера. Так, например, монахам Фонтевро каким-то чудом удалось «выбить» право на саржевые простыни.
Но эти неудобства кажутся ужасными лишь для нас, людей изнеженного века. Нужно представить исторический контекст, в котором зарождалось монашеское движение и монастыри… Пала Римская империя, христианство распространилось по всей Европе. «Триумфальное шествие» новой религии проходило на фоне постоянных войн, набегов варваров, сарацин, норманнов, упадка городов, полной деградации экономики, технологий, культуры. Все это придавало жизни остроту существования «на грани», за которой всегда маячила смерть. Смерть от руки варвара, от голода, от мора. Грань, которую так легко перейти, и жизнь, которая больше напоминала выживание.
Представим ее на минутку. Представим огромные, покрытые лесом пространства, между которыми виднеются жалкие клочки плохо возделанной земли. Убогие города и деревеньки, населенные народом, сгибающимся под тяжестью нищеты, рыцарские замки, хозяева которых вместе со своими отрядами всегда готовы отправиться на любую войну. И рядом со всем этим появляются новые крепости, о твердыню которых разбиваются бесовские армии, пытавшиеся взять их приступом, крепости, дававшие кров и надежду. Это были монастыри.
Монастырь как двигатель прогресса
Но кто же противостоял натиску разрушения, этим бесчисленным бесовским армиям? В каждом конкретном случае буквально горстка людей. Обычно в обители насчитывалось 25—30 монахов, а часто и меньше. Был, конечно, и монастырь Клюни со своими 700 монахами. Но это исключение, почти невероятное. (В крупнейшем в Англии Вестминстерском аббатстве в XII веке было только 150 человек). Обычно дело обстояло следующим образом: поначалу в ордене численность братии росла очень быстро, но вскоре монахи начинали покидать обитель. По одиночке или небольшими группками, человек по десять, они переселялись куда-нибудь подальше. Тем самым численность монашеской общины саморегулировалась.
Жажда еще большей аскезы была настолько велика, что, даже оставаясь в общине, некоторые монахи возводили неподалеку от нее, в лесу собственную отдельную келью, где жили в полном уединении и строжайшем воздержании.
Благодаря такому расселению осваивались новые территории, распахивались земли, ранее, как считалось, неблагоприятные для хозяйствования. Потом община увеличивалась, потом опять делилась… В итоге вся Европа покрылась плотной сетью небольших аграрных центров, деятельных и образцовых. В IX—XIII веках монахи в буквальном смысле были теми, кого американцы потом назвали «пионерами» — первопроходцами.
Разумеется, важнейшей задачей монаха была молитва, служение Богу. Все остальное — второстепенно. Но если без этого «остального» обойтись нельзя, значит, усилия надо минимизировать. Отсюда неизбежно вытекает стремление к максимально рациональной организации труда и всемерному использованию прогрессивных нововведений. Поэтому монахи внедряли любые технические усовершенствования, облегчающие труд, и таким образом почти весь прогресс в различных областях экономики в то время обеспечивался их усилиями. Создавая «образцовые фермы» и внедряя «агрономические нововведения», они играли, таким образом, роль новаторов и предпринимателей.
Так что первыми фермерами были вовсе не лихие ковбои на ранчо, затерянном в бескрайней американской прерии, а средневековые монахи-цистерцианцы. На расстоянии дневного перехода от обители они возводили целый комплекс зданий, — часовню, дортуар, трапезную, хозяйственные постройки, — в которых на протяжении всего сельскохозяйственного сезона жили и работали послушники, отлучаясь лишь на выходные, которые они проводили вместе со всеми монахами в монастыре.
Накопив огромный опыт деятельности в самых разных отраслях, монахи нередко становились «просвещенными руководителями» крестьян, невежественных, отсталых и нищих. Этому способствовало то, что, в точности как упомянутые американские пионеры, монахи, уйдя от мира, избегали гнетущего контроля со стороны общества, как во все времена погрязшего в невежестве и предрассудках. Они были сами себе хозяева. Они были образованны. Они были свободными людьми.
Сельское хозяйство
Один из множества примеров. В XII веке аббатство Камброн едва могло прокормить себя. А век спустя оно уже владело фермой со 169 коровами и быками, 426 телятами, 636 свиньями и более 400 овцами и баранами. Для того времени это было очень много.
В среднем цистерцианское аббатство владело примерно двумя тысячами гектаров пахотных земель, а пастбищ и лесов у него было еще больше. Например, владения монастыря Гран-Сен-Бернар в XIII веке протянулись от Лондона до Апулии на расстояние более 2000 километров. Аббатство Фарфа контролировало около 700 церквей, два городка, более 130 замков и фортов, 7 портов, 8 соляных копий, более 800 мельниц, 135 деревень. Оно было столь могущественным, что его армия в начале X века смогла семь лет противостоять сарацинам. В целом можно констатировать, что к XIII веку практически во всех странах Западной Европы на базе монастырей были созданы крупные многоотраслевые агрохолдинги.
Виноделие
Монастыри нуждались в вине по двум причинам. Во-первых, потому что в Средние века воду вообще предпочитали не пить, ибо это было не безопасно, в связи с отсутствием технологий обеззараживания. А во-вторых, оно необходимо для литургии. Удовлетворить потребность можно «просто» купив товар. Но это реалии нашего времени. А в те давние времена попытка купить означала: 1. Очень серьезные проблемы с транспортировкой. 2. Огромные расходы, особенно в период неурожая. 3. Перерывы в снабжении. Причиной тому могли быть войны, либо стихийные бедствия. 4. Вино в то время очень быстро скисало (максимальный срок хранения не превышал года), а потому любая задержка в доставке, по любой причине, снижала его ценность.
Проблемы усугублялись тем, что многие монастыри находились вдалеке от больших городов и торговых путей. И у них, по большому счету, не оставалось выбора, кроме как приняться за освоение непростой науки виноделия. В итоге, как справедливо пишут исследователи, «роль монашества в селекционной работе и в совершенствовании виноделия, — останется главенствующей вплоть до XVIII века».
Имея разрешение пить вино от самого св. Бенедикта, монахи принялись высаживать янтарные ягоды повсюду, где только позволяла почва, и даже, где она, как казалось в то время, не позволяла. Например, в ныне знаменитой Шампани. Располагались виноградники преимущественно возле судоходных рек (в то время водоизмещение судов было невелико, и таких рек существовало много) или же возле дорог, хотя подобное соседство было весьма опасно. Естественно, монастыри как могли улучшали способы посадки лозы (цистерцианцам Германии, например, мы обязаны террасным виноградарством) и расширяли ареал ее распространения. Все дальше и дальше, на север. Вскоре винные гроздья появились в окрестностях Парижа. Иногда для успешного ведения дел приходилось даже вступать в борьбу с самим Сатаной, как это произошло в местности Валь-Вер, пожертвованной монахам Людовиком Святым. То был вынужденный дар, ведь усадьбу, как всем было известно, регулярно посещал Диавол. Последняя надежда оставалась на монахов. И они не подвели. Совместными усилиями благочестивая братия одержала победу над Нечистым, обратив его в позорное бегство, и с тех пор в той местности растет прекрасный виноград. Посадки лозы нередко достигали поистине колоссальных размеров. До нас дошло свидетельство, что в Х веке недалеко от города Лан в одной из них спряталась целая армия.
Янтарная ягода «захватывает» одну территорию за другой: в XII веке появляется в Польше, в XIV веке — на территории современных Белоруссии и Украины, в XV веке — Латвии. Но экспансия на восток на этом не закончилась. В 1613 году первый российский виноградник был заложен в Астрахани, откуда ко двору царя Алексея Михайловича ежегодно доставляли 50—60 бочек вина. В наше время Астраханская область давно вышла из числа винодельческих регионов. Правда, она хотя бы находится на юге. Но в том же XVII веке виноград начинают выращивать в Курске, Тамбове, под Москвой, в Измайлове. Чуть позже царь Петр I в Пскове собственноручно посадил виноградный куст, плодоносивший более ста лет!
Был еще один плюс. Неожиданно выяснилось, что вино — это всегда деньги. Звонкая монета. Кэш. Поэтому его производство очень быстро коммерциализировалось. Так цистерцианское аббатство Рена, вскоре после своего основания в 1129 году, открыло магазин (!) по продаже вин в розницу. Да еще и снабдило его вывеской «Веселый капюшон», — новаторский по тем временам маркетинговый ход.
В абсолютных цифрах ситуация могла выглядеть следующим образом. В 814 году аббатство Сан-Жермен-де-Пре в окрестностях Парижа владело 20 тысячами га земли, из которой 300—400 га были виноградники. Часть монахи обрабатывали сами, другую — сдавали местным крестьянам, платившим за аренду натурой. В итоге ежегодно в среднем монастырь получал 640 тысяч литров вина, — по объему это 10 современных железнодорожных цистерн для нефти.
Да что монастыри. Торговля священным напитком приводила к расцвету целых городов. Например, Парижа и Кельна. Последний стал «хабом», куда вино собиралось из множества прирейнских хозяйств, после чего транспортировалось в Англию. Объемы были колоссальны. Ведь в те времена в среднем человек выпивал 1,5—2,6 литра вина в день. Каждый. И монахи не были исключением (правда, устав св. Бенедикта ограничивает потребление одним кубком в день, но запрет нередко нарушался в связи с праздниками, торжественными мероприятиями и прочими поводами).
Монахи стояли у истоков производства многих ликеров, водки из виноградных выжимок и прочих спиртных напитков. Объяснение здесь простое: они долгое время были единственными, кто имел в своем распоряжении аптекарские снадобья, запасы вина, финансовые средства и технологии производства, а также обладали духом новаторства. Для изготовления разных видов зелья они привозили из Египта перегонные аппараты. В Ирландии монахи придумали спиртной напиток, который станет знаменит на весь мир: виски. Первое упоминание о нем восходит к 1494 году.
Джин, шнапс, виски, вермут, голдвассер, кальвадос, граппа… В Венеции и вовсе иезуитов прозвали «отцами живой воды», то есть водки. А знаменитый ликер Бенедиктин, изобретенный в 1510 году монахом-алхимиком Бернардо Винчелли в ходе изысканий эликсира вечной молодости! Бенедектинский же монах Пьер Периньон из аббатства Отвильер впервые получил шампанское. «Мне кажется, что я пью звезды», — в восторге от своего открытия вскричал он. Другой его «коллега» придумал темную бутылку, третий — корковую пробку. В итоге практически все наши современные спиртные напитки представляют собой целый набор настоящих открытий и научно-исследовательских разработок, вышедших из стен монастырей.
Не только сельское хозяйство
Монахи занимались добычей угля, торфа, свинца, сланца, гипса, квасцов, серебра, золота, железа, мрамора. Уже в XIX веке мрамор, поставленный аббатством Сен-Реми в Бельгии, будет использован для могилы Наполеона. В Бредской долине, в Дофине, в Шампани монахи устраивали подземные штольни с деревянной крепью — это была новейшая для того времени технология — и добывали железо. Во Франции, Англии, а также во многих других местах разрабатывались соляные копи. В XIV веке аббатства объединялись друг с другом для использования соляных копей Магдебурга, Марлоу и Люнебурга. В 1147 году Раин в Австрии экспортирует соль.
В других местах (например, Без в Бургундии) монахи создавали настоящие промышленные центры: дубильное, кожевенное и суконное производства, маслобойни, мельницы, черепичные заводы. Они также занимались торговлей. Аббатства специализировались на производстве стекла, витражей, эмалей, занимались ювелирным делом, топили воск. Цистерцианцы изготовляли кирпичи больших размеров с несколькими отверстиями для облегчения обжига и последующего использования. Они известны как «кирпичи св. Бернара». Их можно обнаружить на стройках во Франции, Италии, Германии. Неизвестно отношение Бернара к кирпичам, но вот к мельницам неистовый святой был настроен крайне негативно и обещал цистерцианцам разрушить их, поскольку они представляют собой центры досужих посиделок, праздной болтовни и, хуже того, проституции. (Справедливости ради отметим, что монахи действительно ходили на мельницы собирать милостыню (или это был предлог?), а проститутки там обретались постоянно).
В силу обстоятельств монахи были вынуждены научиться использовать водные ресурсы. Видимо, в их среде впервые в средневековой Европе появились настоящие инженеры-гидротехники. В Париже они осушили болота и обустроили территорию, где теперь находятся III и IV округа французской столицы. Это — дело рук тамплиеров, имевших свою пристань на Сене. Цистерцианцы аббатства Дюн в западной Фландрии отвоевали около 17 тысяч гектаров земли у моря, бенедиктинцы Сент-Жюстин перегородили плотиной течение реки По, а монахи аббатства Троарн — реку Див в Нормандии. Камальдолийцы устраивали искусственные озера.
Стремясь уравновесить молитвенное служение и ручной труд, монахи, более чем кто-либо были заинтересованы в техническом прогрессе. Все первые железные мельницы в Германии, Дании, Англии, Южной Италии построены цистерцианцами. Они же в начале XII века сооружают доменные печи, — важнейшее изобретение, которое даже описано в Генеральном уставе ордена. Свидетельствует историк Дж. Гимпель: «Каждый монастырь имел своеобразную фабрику, часто большую по площади, чем монастырская церковь, причем некоторые механизмы приводились в движение силой воды».
Нередко железную руду монахи получали в дар как пожертвования от прихожан, для которых ценное сырье было не более чем досадная помеха земледелию. Часть произведенного железа шла на продажу. Так что, к примеру, в Шампани цистерцианцы были главными производителями его с середины XIII по XVII столетие, а богатый фосфатами шлак из печей они использовали как удобрение.
В 1140—1143 годах тамплиеры построили элеватор и сукноваляльную машину для бенедиктинцев из Отвилле, разделив с ними затраты и прибыль (довольно современный экономический подход). В Германии аббатства Рейнфельд и Доберан скупили все мельницы региона. Ветряные мельницы только что появились: первая из них датируется примерно 1180 годом, она была построена в Нормандии для аббатства Сен Совер-ле-Виконт.
Многие монастыри организовали самые настоящие предприятия. В Фуаньи на Эне помимо 14 мельниц имелись одна сукноваляльная машина, одна пивоварня, одна стекольная мастерская, две прядильни, три виноградных пресса. Все это приводилось в движение посредством воды. Она также заставляла двигаться механизмы пивоваренного цеха, кожевенного производства, поочередно поднимая и опуская деревянные колотушки, унося отходы и т. д. Некоторые аббатства обрабатывали шкуры и торговали ими. Другие занимались шпалерным производством, красильным делом, изготовлением бумаги и чугунных плит. Везде, где рос лес и была хоть какая-то рудная жила, монахи открывали кузницы с мехами и молотами. Шел XII век, а вместе с ним и первый в истории промышленный переворот. И монахи были в авангарде этих революционных изменений, — дальних провозвестников грандиозной индустриализации, случившейся через 600 лет и ставшей началом нашей технологической цивилизации.
Повседневная жизнь
Распорядок дня мог меняться в зависимости от времени года, наличия (отсутствия) праздников, постов и т. д. Но вот «режим дня» просто для примера, на один из дней года.
Примерно половина первого ночи. Всенощная (с утреней).
Около 2.30 Сон.
Около 4 ч. Утреня и службы после заутрени.
Около 4.30 Сон.
Около 5.45 до 6 часов Окончательный подъем (с восходом солнца), туалет.
Около 6 ч. Индивидуальная молитва.
Около 6.30 Первый канонический час.
Капитул (собрание монастыря):
* богослужебная часть: молитвы, вторая часть первого часа, чтение главы из устава или Евангелия на сегодняшний день с комментариями аббата, или, в отсутствие последнего, приора;
* административная часть: отчет должностных лиц монастыря, сообщение аббата о текущих делах;
* дисциплинарная часть: обвинение монахов, нарушивших дисциплину один раз за неделю: они каются сами, и их обвиняют братья — это обвинительный капитул.
Около 7.30 Утренняя месса.
С 8.15 до 9 ч. Индивидуальные молитвы.
С 9 ч. до 10.30 Третий час, за которым следует монастырская месса.
С 10.45 до 11.30 Работа.
Около 12.00 Трапеза.
С 12.45 до 13.45 Полуденный отдых.
С 14 ч. до 14.30 Девятый час.
С 14.30 до 16.15 Летом работа в саду, зимой, а также в плохую погоду — в помещениях монастыря, в частности, в скриптории.
С 16.30 до 17.15 Вечерня.
С 17.30 до 17.50 Легкий ужин, за исключением постных дней.
Около 18 ч. Повечерие.
Около 18.45 Отходят ко сну. (А спали монахи одетыми, чтобы в любой момент быть готовым к молитве).
Именно благодаря монахам не только в монастырях, но и за их пределами распространяется новый ритм жизни, в котором чередуются работа и развлечения, молитва и праздность. Вводится неделя. По аналогии с Книгой Бытия и с Сотворением мира: шесть дней работы, потом день отдыха. Соблюдение правила воскресного отдыха становится вскоре обязательным для всех христиан.
Нужно отметить, что в монастыре царила тишина, прерываемая лишь ударами колокола, пением псалмов или церковной службой. Никаких светских бесед, тем более праздной болтовни. Даже в случае необходимости. Полное безмолвие. В некоторых орденах новичок, принятый в общину в течение трех дней в облачении лежал распростертым на полу неподвижно, храня «сугубое молчание».
Монахи, не без основания, считали, что «замкнутые уста есть условие покоя сердца», а молчание — мать всех добродетелей. И чтобы не нарушать тишины, для передачи информации они использовали либо деревянную дощечку, покрытую воском (ее носили на поясе), либо язык жестов. В Клюни насчитывалось 35 жестов для описания пищи, 37 — для людей, 22 — для одежды, 20 — для богослужения и т. д. Поскольку жестов не хватало, в ходе такой «беседы» приходилось проявлять недюжинную догадливость. Например, одним и тем же жестом (проведение пальцем от одной брови к другой) обозначалась женщина и… форель. Этот жест напоминал собой женскую головную повязку. Тот же знак служил для обозначения Пресвятой Девы Марии. Чтобы попросить хлеба, нужно было соединить большой и указательный пальцы (т.к. хлеб круглый), получался знак типа окей, а если уж захочешь молока, тогда соси мизинец (аки младенец материнскую грудь).
Однако в этой тишине не было ничего мрачного, тягостного, тем более, зловещего. Ведь души людей были открыты Богу, а значит, открыты и всем другим живым существам. «Никогда я не знал людей более радостных, открытых, менее одиноких, чем эти отшельники в кельях», — пишет современник.
Устав
Затерянный меж высоких гор, в лесной глуши или среди песков пустыни монастырь представлял собой настоящее государство. Пусть и маленькое. У него была своя Конституция — Устав святого Бенедикта, свой Президент — аббат, свои правила организации жизни. В основном они были прописаны еще Бенедиктом. Говоря об Уставе, комментаторы обычно останавливаются на широких властных полномочиях аббата. Мы же, отметив этот факт (а иначе и быть не могло, учитывая суровые реалии VI века, когда он писался), попробуем взглянуть чуть шире.
Так, монах, безусловно, должен выполнять указания аббата. Но! Если старший приказывает нечто, «невозможное» для выполнения — и морально, и физически, — то монах имеет право возразить ему, (конечно, «без высокомерия или постоянного духа противоречия»), а также «воззвать к совести». И вообще проявлять послушание он должен лишь там, где «не замечает греха». То есть монах не обязан повиноваться аббату, если тот не соблюдает устав (Конституцию).
И далее из Устава: «пусть строгость учителя показывает в аббате нежное расположение отца: необученных и неспокойных он должен обличать строго; послушных, кротких и терпеливых умолять — да преуспевают на лучшее; а нерадивых да запретит запрещением». Еще раньше, до Бенедикта, около 440 года, папа Лев I закрепляет важный, абсолютно демократический принцип: «Каждый, кому предстоит управлять, должен быть избран всеми, кем он призывается руководить». Спустя много веков, другой папа, Иннокентий III, подтверждает: «То, что касается всех, должно быть обсуждено и одобрено всеми».
Так что для решения важных вопросов собирались все, включая самых молодых. Как завещал Бенедикт, «Ибо часто Бог возвещает наилучшее решение устами молодых».
Никто никогда не мог выставить собственную кандидатуру — ни косвенно, ни тем более открыто. Тот, у кого возникала подобная идея, немедленно лишался права, как избирать, так и быть избранным.
Для нарушителей устава предусматриваются различные меры наказания. В основном это пост, раскаяние, простирание ниц и т. п. Но уголовная ответственность не предусмотрена. Уголовный Кодекс отсутствует. Считалось, что великий грешник — тот же больной, и нужно, чтобы он сам пришел к пониманию своего блага. Со временем, правда, количество разных законов возрастало. Что, впрочем, вполне естественно. Однако, регулярно устраивались юридические чистки. Так, в 1292 году в клюнийском ордене просто отменили множество законов, ибо этот избыток, как подчеркивалось, «не является лучшим путем ко спасению». Законодательство было радикально упрощено, «чтобы никто больше не смог взывать к прощению за незнание законов».
И наконец, по Уставу аббата должны были выбирать «братья» свободным и равным голосованием. В эпоху раннего средневековья это была одна из немногих демократических процедур во всем христианском мире. Так что не только сохранением античной литературы и некоторых технологий мы обязаны монастырям, но и трансляцией такого важнейшего института, «изобретенного» еще в древней Греции, как демократия.
Социальная помощь и благотворительность
Цивилизация без больниц, общественного транспорта, школ, гостиниц, без социальной защиты. Цивилизация без кафе и ресторанов, магазинов и аптек. Цивилизация, в которой нынешний человек точно бы не выжил, да и современникам приходилось очень нелегко. И было бы еще хуже, если не монастыри, которые часто совмещали все эти функции. Недаром король Людовик Благочестивый называл монастыри «достоянием бедных».
Так, например, в аббатстве Сен-Мартена треть средств тратилась на бедняков и странников. В Сен-Рикье кормились 300 нищих, 150 вдов и десятки малоимущих граждан других категорий. В Клюни ежедневно пекли 12 пирогов по килограмму каждый, — здесь «на постоянном пансионе» находились 18 бедняков. В Гирсау за счет милостыни жили 30 нищих. «Каждого приходящего в монастырь должно принимать так, как будто это сам Христос», — написано в уставе св. Бенедикта. Особенно если этот странник беден, «ибо, — продолжает Учитель, — страх, внушаемый богатыми, не есть достаточная причина для оказания им почестей».
Обычно у ворот аббатства толпились сотни нищих… Иногда бывало и больше. До полутора тысяч. Полфунта хлеба, полкружки вина и одно денье получали в аббатстве путники и паломники, отправлявшиеся в путь.
Раздача милостыни представляла собой целую церемонию. Вот как это происходило в аббатстве Бек, известном своими строгими нравами. Нищие собирались в монастырских галереях. Монахи один за другим выходили из трапезной. Последним появлялся отец-настоятель. Они вставали напротив нищих. Пение, псалмы, молитвы. Затем каждый монах омывал и вытирал ноги и руки двум-трем нищим, и лобызал их. Далее он выдавал им по три денье на вино, после чего целовал руки. Затем вся братия низко кланялась нищим и удалялась в церковь.
Во время голода, что случалось нередко, роль монастырей трудно было переоценить. Тем более, что они были едва не единственными, кто оказывал действительно масштабную помощь. Бесплатный суп, продукты… Такое современное понятие как «переходящие остатки продовольствия» в средние века было практически не знакомо: новый урожай еще не созрел, а в амбарах уже, как говорится, «мышь повесилась». В такой ситуации монастырям приходилось заниматься распределением собственного зерна и готовой еды. Эта регулярная благотворительная акция получила название «майский хлеб».
Так получилось, что на протяжении столетий ни голодающие, ни больные почти никого не интересовали. Если, конечно, они не были богатыми и знатными. Так что гостиницы и больницы, приюты и госпитали полностью оставались на попечении монахов. В Англии в их ведении находилась примерно тысяча госпиталей. Крестоносцы Италии в период расцвета ордена имели двести госпиталей, а крестоносцы Красной Звезды — шестьдесят. Камальдолийцы первый госпиталь основали в 1048 году. Пребывание в нем было бесплатным.
А вот благотворительность тринитариев и мерседариев была более чем опасна для здоровья и жизни самих благотворителей, поскольку они занимались выкупом пленных христиан у абсолютно диких берберов. Во время своей первой экспедиции в Алжир основатель ордена мерседариев св. Петр Ноланский выкупил там 168 пленных. За 30 лет его руководства орденом из плена таким образом было вызволено примерно 4300 человек. Более того, если монахи видели, что под тяжестью, как тогда говорили, «магрибских унижений» пленник мог потерять христианскую веру, они добровольно занимали его место. Сам Петр Ноланский подал пример братьям, став заложником и оставаясь в плену многие месяцы.
Благотворительность, образование, новые технологии, инновации, сохраненное античное наследие и даже спиртные напитки, — вот далеко не полный перечень того, чем ныне живущие поколения обязаны монастырям. А, самое, пожалуй, главное, — многочисленными примерами величия человеческого духа. Духа, которому дано созерцать Бога.
Глава 11. Рыцарство

Самое известное, чарующее и романтичное во всем средневековье, — это, пожалуй, рыцарство. Мужчины в сверкающих латах, дамы сердца в пышных нарядах, куртуазная любовь, войны и поединки, доблесть, отвага и честь… Попробуем эту квинтэссенцию эпохи рассмотреть чуть ближе.
Для начала попробуем найти ответ на вопрос: как стало возможно появление идеала воина «без страха и упрека» в обществе, где религия целиком и полностью отвергала насилие? И как менялось отношение церкви к войне и воинам.
«Добро» дает религия
В начале новой эры любое насилие отвергалось полностью. Ориген, Тертуллиан и прочие «отцы церкви» в отношении христиан-воинов были непреклонны: важнейший долг — служить Христу, а мирская служба только лишь допускается, да и то, если не противоречит канонам Писания. При этом Тертуллиан часто сравнивает крещение с воинской присягой, противопоставляя одно другому. А Ипполит Римский, утверждал: «Ежели неофит… согласился стать солдатом, да будет он отвержен: он презрел Бога». Так что поначалу все шло в духе Нового Завета: война — абсолютное зло, на которое нужно отвечать добром. По примеру Христа.
При этом существовало два града: важнейший — небесная отчизна, в служении которому и состоит вся человеческая жизнь, и второстепенный, земной, отношения с которым определяются совестью и религиозными запретами. Последние касались даже, на первый взгляд, обыденных вещей: нельзя было ходить в цирк, занимать государственные должности, участвовать в шумных празднествах. Тем более нельзя быть солдатом.
Но со времен императора Константина Римская империя становится христианской. Поэтому концепция изменяется. Теперь признается необходимость служения обеим властям: божественной и земной. Война как таковая продолжает, конечно, считаться злом, но злом, необходимым, во избежание еще большего несчастья. Поэтому войны делятся на дурные и хорошие.
В сочинении «О граде Божьем» святой Августин сожалеет о войне, подчеркивая: кто может размышлять о ней или терпеть ее без душевной боли, воистину утратил человеческие чувства. Но если одни борются молитвой против демонов, то другие сражаются оружием против варваров. Таково требование реальной жизни. Ибо варвары желают уничтожить христианский мир.
Но какие бы ни были обстоятельства, священники не имеют права проливать кровь. Так, Леридский собор в 524 г. осудил на два года покаяния клириков, которые, находясь в осажденном городе, вынуждены были сражаться. В 742 г. декрет Карломана запрещает священникам носить оружие и вступать в армию. Карл Лысый в своем первом капитулярии даже уточняет: дабы они «не проливали ни христианской, ни языческой крови». Тех, кто раньше воевал, запрещено посвящать в сан: пролитая кровь лежала на них до конца жизни.
В целом отношение церкви к участию в войне продолжает оставаться неоднозначным. Уже во времена Карла Великого будущий архиепископ Майнца Рабан Мавр объясняет, что даже убивающие в сражении, по приказу государя, несут долю личной ответственности. Он подчеркивает, что на любой войне многие убийства вызваны жадностью и желанием снискать милость господина в ущерб предписаниям Господа. Поэтому они не полностью простительны.
В X веке солдату, совершившему убийство при исполнении служебных обязанностей, даже на «справедливой» войне, предусматривается наказание в виде 40 дней покаяния. А Фульберт Шартрский за подобное «преступление» требует каяться 7 лет.
Теория и реальность
Итак, поначалу существовала мечта о христианском обществе, организованном в форме двух сословий: первое — обычные люди — трудится и живет под руководством второго сословия, клириков. Они могут руководить, поскольку ближе к Богу, ибо заняты только службой ему. Кроме того, священники различают все оттенки божественной воли. Особенно это относится к монахам, хранителям старинного христианского идеала, не запятнанным скверной.
Но эта мечта рухнула под натиском жестокого мира. И вот уже в 846 году, когда сарацины овладевают Сицилией и грабят Рим, папа Лев IV, отставив молитвы и изыски относительно наказаний за убийство на войне, зовет на помощь франков. Он восхваляет их смелость и отвагу и, помимо прочего, обещает, что «небесные царства не закроют свои врата перед теми, кто примет честную смерть в бою», так как «Всемогущий ведает, что если кто-либо из вас умирает — умирает он за истинность веры, за спасение Отечества и в защиту христиан».
И именно здесь, в этой точке, где встретилось неразрешимое противоречие между христианским идеалом мирного служения небесам и жестокой реальностью, грозившей уничтожить и сам идеал и его носителей, произошло вынужденное слияние христианского миссионера и германского воина.
Помимо идеала, была потребность в справедливости, в защите слабого и обездоленного, особенно женщин, которые преобладали среди «униженных и оскорбленных». Напомним, человек того времени буквально жил посреди разбоя, войн, голода, эпидемий, притеснения сильным слабого. Милосердия церкви, ее утешения и благотворительной помощи явно было недостаточно. Чтобы противостоять земному Аду, нужна была сила. Но сила справедливая. И она возникла. А вместе с ней возник и рыцарский кодекс чести.
Как становились рыцарями
Вплоть до XII века путь в Защитники был открыт для каждого, кто проявит доблесть и другие необходимые качества. Некоторые рыцари даже вышли из крестьян, а кое-кто, наоборот, побыв рыцарем, вновь стал крестьянином. По причине, например, разорения, утраты коня и оружия. В те времена удавалось даже подняться с самого социального дна и стать аристократом. Бывало, за особые заслуги сеньор позволял жениться на своей дочери. Или родственнице. Приданого за них обычно не давали, но воин, происходивший из простых и даже «подлых» людей, породнившись с сеньором, «облагораживался» и допускался, пусть на самой скромной роли, в мир господ, откуда лежал путь в рыцари.
В середине XII века Оттон из Фрейзинга все ещё удивлялся тому, что в Ломбардии без колебания вручают «рыцарское оружие и рыцарское звание» простым горожанам, ремесленникам и даже чернорабочим. Позже такой «социальный лифт» практически исчез, и рыцари рекрутировались в подавляющем большинстве случаев из благородных семей.
Но, как бы путь к заветным золотым шпорам ни начинался, он был исключительно труден. Рассмотрим самый простой вариант: дворянский. То есть человек родился дворянином, и его изначально готовят к военной службе. Первые семь лет, фактически с колыбели, его приучают к верховой езде, для чего служат деревянные лошадки. По достижению всего лишь семилетнего возраста отец определял ребенка к какому-либо известному воину «на воспитание». Туда, в чужой замок, малец отправлялся уже самостоятельно, верхом на лошади. Обычай посылать на учебу к другим рыцарям был основан на справедливом опасении, что родительские чувства воспрепятствуют по-настоящему жесткому, мужскому воспитанию, которое необходимо, чтобы стать рыцарем.
Расставаясь с сыном на долгие годы, родитель благословлял его и давал примерно такое наставление (вкратце): «Любезный сын, — полно быть домоседом, пора поступить тебе в школу подвигов, но, Бога ради, храни честь; не обесчести рода нашего; будь храбр и скромен везде и со всеми, потому что хвала в устах хвастуна есть хула. Я припоминаю слова одного пустынника, который меня поучал; он говорил мне: гордыня, если бы она была во мне, истребила бы все, хотя бы я обладал всеми царствами Александра, хотя бы был мудр, как Соломон, и храбр, как троянский герой Гектор. В собраниях говори последним и первым бейся в бою; хвали заслуги твоих собратьев: рыцарь, умалчивающий о доблестях собрата, — грабитель его. Будь кроток и добр к низшим; они возблагодарят тебя сторицей; сделают тебя повсюду именитым и славным».
По прибытии в замок, юноша получал звание пажа или валета. Он сопровождал патрона и его супругу на охоте, в путешествиях, на прогулках, был на посылках и даже служил за столом. Помогая камергеру, он устилал комнату рыцаря зимой соломой, а летом тростником, содержал в порядке его кольчугу и вооружение.
Среди уроков пажа была религия, которую зачастую преподавала самая набожная и добродетельная дама; этикет, умение слагать стихи, игра на музыкальных инструментах и другие «куртуазные премудрости». Но важнейшим, конечно, было овладение трудной рыцарской наукой. Юноши смиряли непокорных коней, бегали в тяжелых латах, перепрыгивали ограды, метали дротики, учились владеть копьем и биться с деревянным «рыцарем». Они постигали искусство войны, охоты, дрессировали птиц и собак. Подобно тому, как в монашеском воспитании обучались семи свободным искусствам, будущему воину в течение 7 лет необходимо было овладеть «семью рыцарскими доблестями». Они состояли из верховой езды, стрельбы из лука, фехтования, плавания, охоты, игры в шахматы и сочинения стихов. До наших дней сохранились маленькие латы и мечи, которые служили для обучения воинскому искусству мальчиков 7—8 лет, — немые свидетели трудного детства средневековья.
Жизнь в замке не ограничивалась работой и учебой. Дети всегда находили место играм. В основном играли в войну: осады замков, штурмы городских стен, ворот крепостей и т. д. Особенно популярной была военная игра под названием «Саладиново ущелье». Французский писатель Маршанджи пишет, что юноши «строили города и брали их приступом… Они осаждали глиняный Вавилон, брали дерновую Антиохию, Мемфис из хвороста. Все это было зарею их будущей славы».
Из спортивных игр большой популярностью пользовался «же де пом», — предшественник тенниса и «суль», — прототип футбола, возникший в 913 году после победы над датчанами, причем в первый раз вместо мяча использовалась голова убитого противника. Местом для игры становились городские улицы и площади, а целью было загнать ногами мяч куда-нибудь. Например, в лужу или в ворота. Ворота могли быть какого-нибудь скотного двора, замка или даже церкви. Игра была столь азартной, что вызывала недовольство священников и часто запрещалась. Например, декрет английского короля Эдуарда от 1314 года ставил вне закона «беснования с большими мячами» в черте города.
Среди интеллектуальных игр можно выделить шахматы, которые уже с XII века становятся неотъемлемой частью куртуазной культуры. А после 1300 года сначала на Пиренейском полуострове, потом в Италии, а затем и по всей Западной Европе начинают проводиться соревнования, в которых принимают участие лучшие игроки. В XV веке появляются прославленные чемпионы, имена которых сохранились до наших дней. Слава сильнейших шахматистов в те годы неизменно принадлежит итальянцам, испанцам и португальцам.
Большое значение в рукопашных схватках имела борьба. Она напоминала японскую джиу-джитсу и включала целый ряд смертельных приемов. Изучив ее и проведя множество схваток, каждый рыцарь к концу обучения становился настоящим мастером рукопашного боя. Поединки борцов были очень распространены. В 1520 г. на «ринге» даже схватились английский король Генрих VIII и его французский «коллега» Франциск I.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.