
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Я был, я видел, я летел…
Репортаж и очерки разных лет. Вехи времени
ОТКРЫВАЙ НЕЗНАКОМЫЕ ДВЕРИ!
Предисловие автора к книге
Вот и новая моя книга готова к печати, она продолжила цикл ранее вышедших сборников «Я судебный репортер», «Я криминальный репортер», «Моя река», «Большая книга интервью», составленных из публикаций разных лет.
И хотя в новом сборнике «Я был, я видел, я летел…» верстовые столбы времени отмечены и очерками, и набросками разного рода, король этой книги — репортаж!
Многие годы я отдал репортажу. Был простым газетным репортером, пишущим о ярких событиях и буднях, поездках, встреченных людях и труде людей… Зачастую был, по западной терминологии, и «полицейским репортером», писал о криминале, охоте за преступниками и опасных делах, судебных процессах и местах заключения. Ездил при первой возможности в новые места, ибо дорога дарит темы. Лез в острые ситуации и передряги, спускался в штольни и в скафандре под воду, ходил с угрозыском по трущобам, бывал как репортер в психушках, тюрьмах, больницах, вендиспансерах, ночевал у костров, в лесных избушках, стогах сена, летал рядом с пилотами и плавал на судах, гонялся за браконьерами на реке, искал острые сюжеты и неведомые грани в вещах обыкновенных…
Сейчас мои прежние репортажи — разбросанные по подшивкам пожелтевших газет и десятилетиям — стали как хорошее выдержанное вино: в них только крепче аромат эпохи и времен, через которые мы прошли!
Даже сегодня многие публикации тех уже далеких лет живут какой-то особой самостоятельной жизнью, по-прежнему маня в неведомые миры. Ибо нет более захватывающего занятия, чем открыть незнакомую дверь, узнать из первых рук, попробовать «на зуб» и добыть то, к чему нет доступа никому, кроме журналиста.
Проницательный читатель заметил, что название моего сборника «Я был, я видел, я летел…» очень созвучно классической формуле репортажа «Я был. Я видел. Я участвовал». В книге вас ждет много такого, что вы не найдете ни у кого и никогда: я старался «летать» там, где другие не ходят.
И вот открытие: не самый главный из газетных жанров, репортаж оказался живуч — как те юркие обитатели Ледникового периода, которые пережили мамонтов и продолжили жизнь на Земле. Время безжалостно! Почти умер грузный очерк-мамонт. Не живет больше месяца политическая статья, обзор экономики… А столетней давности репортаж с отважного теплоходика на майской реке, где на корме девочка гладит глупую морду продрогшего щенка, может и сегодня читаться с тем же теплым чувством — ибо слова в нем живые, а глаз добрый!
Я много лет был рыцарем репортажа, удивительнейшего жанра газеты. Я очень рад подарить тебе эту книгу, читатель.

МАНИФЕСТ РЕПОРТЕРА
«Я БЫЛ, Я ВИДЕЛ, Я ЛЕТЕЛ…»
Размышления о несостоявшемся репортаже
ВЫЛЕТЕЛИ с опозданием на два часа… Это мотало душу. Но вот беспомощные на вид, тонкие винты слились в свистящий круг, вертолет подскочил. Плеснуло рябью из луж на бетонке — и мы, задирая «хвост», пошли вверх. В этот момент я с обреченностью человека, попавшего не в свой вагон, понял: не надо было лететь! Земля уже уносилась вниз, как футбольный мячик, распахивая во все стороны просторы рек и полей. Был на земле разлив вод, а в кабине через остекление пекло солнце. Я еще раз подумал — но вскользь, — что не стоило лететь, — и, откинувшись на скамейке, вытянул ноги…
За окошком Ка-26-го серебряным зеркалом блестела река. Я механически отметил для себя, что она разбросала осколки по полям.
Это надо запомнить!
Это может сработать, если умно вписать в текст.
Впрочем, текста, пожалуй, не будет — потому что еще до вылета я провалил репортаж…
С САМОГО начала дня всё, как сговорившись, шло наперекос. Сначала почему-то не дали вертолет — была какая-то накладка… Потом вертолет выделили, но срочно стали чинить у нас на виду. Отпущенное на полет время уходило, как вода в воронку! Кого-то искали и не скоро нашли, чего-то утрясали… Кто-то пошутил: будет удивительно, если после такого «веселого» начала мы не грохнемся на исходе дня или, на худой конец, не сломаем шасси…
Но самая беда, конечно, была не в задержке с вылетом.
Самая беда, что подвел начальник авиаслужбы Сизёмин, общительный и приятный человек. Мало сказать: подвел! Без ножа зарезал! Всю идею репортажа перечеркнул на корню (а собирался я лететь и тушить лесные пожары рука об руку со специальным, обученным десантником).
Вот как раз когда наш вертолет чинили, я и спросил:
— А десантник где во время полета сидит — в хвостовом отсеке вертолета?
— А не взяли мы на этот раз десантника, — беспечно отмахнулся Сизёмин и вытер платком вспотевший на солнцепёке лоб. — Да и зачем? Для пояснений я сам с вами полечу, да еще мы берем на борт проверяющего летчика комэска. Так что для десантника места не остается — с ним у нас получится перегруз…
— А как же пожары? — вскричал я, холодея от предчувствия. — Если мы встретим их, кто тушить будет?
— Да я же и потушу! — с готовностью разрешил каверзный вопрос Сизёмин и, очень довольный, помахивая папочкой с бумагами, пошел разузнать насчет времени отлета.
Я с тоской представил его с папочкой на пожаре. Не знаю, как лес, — а мой репортаж горел синим пламенем: вряд ли стоило уже куда-то лететь. Для сравнения: это все равно, как если бы в театре, куда ты прибежал писать про балерину, тебе сказали, что балерину уже отпустили домой, но вы не беспокойтесь — все ее «па» вам покажет сам директор… Я смотрел в широкую спину добродушно идущего Сизёмина и чуть не плакал: ну, удружил! Да не пишем мы про начальников, которые сами тушат пожары, и о прорабах, которым вдруг вздумалось схватиться за мастерок, — нетипично это, да и читателю такой клюквы не надо. В репортаже вообще нет ничего страшнее натяжки: это самый честный жанр, если подходить к нему серьезно и не варить из фактов лапшу.
НАВЕРНОЕ, за это я и люблю репортаж. Кто-то из теоретиков писал, что жанр этот более всего нужен тогда, когда общество испытывает обостренное желание честно разобраться в себе самом, хочет видеть «моментальные снимки» из собственной жизни — причем без романтической ретуши, без хитроумных монтажных сопоставлений и оговорок о степени типичности. Самые неожиданные, неприкрашенные факты вылезают из гущи жизни — если не поленишься отстоять пару смен с рабочим или испытать «на собственной шкуре», каково приходится в рейсе машинисту, летчику, шоферу. Нет для газетчика верней способа познать жизнь, чем горячий, живой репортаж с места. Помню, как-то пришлось неделю плыть по реке с рыбоохраной, мерзнуть и мокнуть на ветру с дождем, гоняться за браконьерами. И по мере того, как нарастал мой «рыбнадзорский стаж», стали отчетливо проступать все беды этой службы, так нужной на реке. Только репортер может честно рассказать, какое лицо бывает у инспектора рыбнадзора, когда он видит уходящего на хорошем моторе хищника-браконьера и не может запустить свой потрепанный казенный мотор. Это лицо не увидишь, не побывав в дозоре на реке. Всё остальное можно узнать в кабинетах. Или прочесть. Это — никогда! Это можно увидеть только собственными глазами. И рассказать, даже если это кому-то не понравится. Вот почему мы плывем и едем, едем и летим — даже когда остается мало надежд на хороший репортаж…
И ВСЁ ЖЕ надежда всегда есть! Поудобней устраиваюсь на скамейке вертолета и стараюсь не упустить ничего интересного: если не удается рассказать о работе пожарного-десантника, то возможен какой-то другой поворот — надо только быть терпеливым и не упустить тот единственный шанс на успех, который — я верю — всегда подбросит репортеру жизнь. За окошком плывут побуревшие за зиму леса, в кабине такой гул от моторов и грохот, что разговаривать можно лишь на «повышенных» тонах. Вслушиваюсь в «беседу» Сизёмина и проверяющего летчиков командира, летящего в инспекторский рейс: ага, речь о том, что вертолет нам дали на этот раз санитарный — вон ремни для носилок приделаны к стенам. Одетый в авиаформу летный командир как раз подробно объясняет, как ставят в кабину гроб — бывают и такие печальные перевозки!
— Открой форточку! — кричит мне сквозь грохот Сизёмин, поймав мой взгляд, и показывает на стекло за моей спиной.
Я ОТОДВИГАЮ вбок плексиглас — в щель от движков влетает немыслимый грохот, но дышать стало легче: повеяло свежим ветром. Я подставляю ладонь под струю, направляя поток в потное лицо. Видно, видок у меня неважный — что-то плохо я стал переносить вертолет.
Нет, к черту! В последний раз лечу — баста!
Пускай кто хочет трясется на этих керосинках, лезет к черту на рога, изматывает себе душу…
Про себя — где-то в глубине души — я знаю, что это вранье: я столько себе говорил, что это в последний раз!
Сдавать рано, хотя когда-то придется…
Репортаж — это жанр выносливых, молодых и поджарых, с этим ничего не попишешь. Я не верю в мальчиков, которые говорят: быстро сбегаю на репортаж и через два часа вернусь. Репортаж и комфорт — разные вещи. Нужно до одурения натрястись на медленном, как гусеница, вертолете, или до синевы мерзнуть на сыром ветру с речниками или сорвать сердце, бегая с милицией в ночи, — только тогда найдутся краски, которые обожгут читателя. Репортаж, если он настоящий, всегда пишется ценой собственного здоровья. Или нервов. Или того и другого — и еще чего-то, чему цену еще никто не подсчитал.
«Я был, я видел, я участвовал!» — так учат нас теоретики жанра. Но что теоретики знают о риске или о том, в какой степени ты это участие должен проявить, скажем, если дружинник «берет» на танцплощадке дерущихся хулиганов? Одному из моих товарищей во время такого рейда съездили, например, по очкам. Репортаж — это не только жанр поджарых, но и умеющих спортивно увернуться от браконьерского весла, ведь есть ситуации, когда не спрашивают редакционных удостоверений. Помню, как сидели мы в лодке глухой полночью с рыбинспектором Назиром Атзитаровым перед затихшей и подозрительной старицей реки: катер наш с подмогой был далеко, а если здесь промышляют стерлядь — это народ тяжелый, им иски порой дают через суд до тысячи рублей. Таких просто не взять! Послушали тишину. Назир расстегнул кобуру ракетницы и подал мне фару. Ее и потушить не успеешь, если в протоке по ней влупят из ружья… На полном газу, ослепляя светом кусты, рванули на моторке в глухие закоулки между островами, понимая, что если в таком месте чего-нибудь случится, нас не скоро найдут…
Наверное, многое определяется тем, есть ли у тебя желание держать эту фару. И, верно, совсем другой накал бывает у репортажа, когда держишь ее сам…
ШЕЛ НЕСЧИТАННЫЙ час полета, когда летчик-наблюдатель Валерий Коннов сообщил через переговорное устройство:
— Вижу лесной пожар!
Поднимаю голову со скамейки, на которую прилег, и чувствую, что похожу на вытащенную на берег рыбу — налетался сегодня на вертолете на целый год. Но надо работать. Голова гудит от тряски и непрекращающегося шума движков, с тяжелым чувством пытаюсь разобраться в тех петлях, что выделывает наш Ка-26 вокруг лесного загорания. Сверху пожар не кажется значительным: горит молодая посадка, показывая красные язычки огня по краю большого выжженного пятна, сизый дым стелется от ветра над ближайшим склоном и проселочной дорогой.
Сизёмин и проверяющий комэск что-то кричат друг другу и машут руками. Наконец, Сизёмин наклоняется к моему уху:
— Сами пожар тушить не будем. Сейчас сядем в Караидели и организуем пожарный отряд из местных…
Я, не очень соображая, киваю головой: в Караидели так в Караидели, сейчас для меня самое время хоть на пяток минут выползти на твердую землю, прийти в себя.
В КАРАИДЕЛИ, на зеленом и солнечном сельском аэродроме оглушает звенящая тишина. Пока из диспетчерской звонят в леспромхоз и ближайшие колхозы насчет людей и лесного пожара, я, чуть пошатываясь, иду на траву и ложусь под огромным голубым куполом неба, с которого мы только что свалились. Постепенно головная боль от моторов уходит, и я начинаю «подбивать бабки»: даже если сгрести в кучу все зарисовки с воздуха и картины загорания, то на репортаж не наскребешь: нет главного — людей в борьбе с огнем, какого-то смыслового поворота. Этих картин, конечно, хватило бы на хлипкую зарисовку с бодряческим концом: вот так, мол, товарищи, денно и нощно несет службу авиационная охрана лесов с воздуха…
Но это уже было. Было, и не раз.
И потом надо слишком себя не уважать, чтобы поставить свою подпись под таким твореньем.
ЛЕЖУ на траве и думаю, что это неудача. Еще одна несработавшая поездка — у меня довольно часто бывают ненаписанные репортажи. Значит, неверна моя теория насчет того всегда выручающего, пусть одного, но шанса.
Значит, сегодня такого шанса не было…
…Тяжелые шаги Сизёмина прерывают мои мысли. Он только что организовал местные власти на борьбу с огнем и теперь спешит проявить внимание к прессе, которую опекает вместо десантника.
— Ну, тракторист-то каков! — говорит Сизёмин подходя и качает головой. — И ведь эти, что на прицепе ехали, тоже ухом не повели…
— Какой тракторист? — ничего не понимаю я.
— Да разве не видели? — удивляется Сизёмин. — Там же на тракторе с прицепом мимо пожара люди ехали и не могли его не видеть, дорога-то от загорания совсем близко. А ведь мимо прокатили, куркули, ни один не спрыгнул. Я уж думал, не сесть ли вертолету возле трактора — да пристыдить их как следует…
— Да что ж вы не сели! — по вертолетной привычке громко кричу я и в отчаяньи машу рукой: такой материал уехал вместе с этим укатившим трактором! Это же надо, ехали мимо — мимо своего же горящего леса! — и ни один не спрыгнул. Ни один! Да мне только полчаса дали бы поговорить с этим лихо укатившим трактористом, только полчаса…
— Времени мне было жалко на посадку, — конфузливо поясняет Сизёмин. — Если б знали, что вам это нужно, я бы дал команду… Мы ведь думали, что вы трактор тоже увидели, да и я его вам, вроде, с воздуха показывал…
ПЛЕТУСЬ в вертолет, ругая себя последними словами. Такой случай дважды не повторяется! Где теперь искать этих равнодушных людей, что сидели на прицепе и не вышли окопать пока еще маленький, совсем нестрашный пожар? Мимо какого нравственного конфликта пронесла меня сегодня репортерская судьба — и всё потому, что я не смог рассмотреть с высоты маленький, как букашка, трактор!
И всё же у меня был шанс. Пусть единственный, пусть промелькнувший мимо — но шанс у газетчика всегда есть.
Надо только уметь не упускать то, что неповторимо.
…Мы летим в обратный путь над светлой лентой Павловского водохранилища, и я чувствую как бы второе дыхание: притерпелся все-таки к вертолету! Напротив меня сидит и скучает проверявший своего летчика комэск. Наклоняюсь к нему и кричу в ухо:
— А ваша эскадрилья чем занимается?
Он пытается ответить, но устав перекрикивать шум винтов, берет блокнот и пишет в нем подробную справку разборчивым аккуратным почерком. Прячу записанное себе в пиджак. Это может пригодиться. Это может навести на следующий репортаж. А значит, летал я не бесполезно.
Бесполезных полетов нет, так же, как нет бесполезных дорог.
И каждая дорога нам, газетчикам, что-то дает, даже если она не выливается в газетные строчки.
В. САВЕЛЬЕВ.
Источник: газета «Вечерняя Уфа», 4 мая 1986 года.

«Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЛЮБОВЬ — ЗАРАЗА…»
Репортаж из серии «Если вы там не были, то не надо!»
Принимали меня здесь как дорогого гостя, исполняли все желания. О, бутерброды! О, чай! Захотелось бы мне коньяку — и за ним бы побежали. Сам Фельдман, Исумер Евсеевич, радушно подкладывал мне лучшие кусочки, а помогавшая ему женщина, застилая салфетку, повторяла, что все стерильно. Когда я захотел познакомиться с девочками, тоже не было проблем. Исумер Евсеевич взялся все устроить…
И вскоре Света, статная Света томилась за дверями и ждала, когда ее позовут. А потом ко мне привели Таню. Но Света была лучше — этакая дива с распущенными светлыми волосами, девятнадцати лет. Как бы сказал классик: знойная девушка, мечта поэта.
— Света, вы сексом занимаетесь с какого возраста?
Это не я! Я бы, признаться, не осмелился задать такой вопрос.
Света вздыхает и закатывает под челку глаза. Томно тянутся минуты. Ах, молодость, молодость! Кто не грешил…
А я сижу напротив Светы, а на коленях у меня папочка, где все о ней. Там черным по белому записано: «Светлана К., 19** г. рождения. Сифилис вторичный, рецидивный…» Света заразила Андрея, а потом второго Андрея. Того, что заразил Таню. Или наоборот… Тьфу, черт побери, кто кого заразил? Если по признаку вторичности и давности заболевания, то это был Миша из Ростова. Который бизнесмен. И с которым Света…
— Свет, когда Миша-то был?
Она твердо смотрит в пол:
— В последний раз он приезжал в Мелеуз в феврале этого года…
— Постойте, Света, вы же говорили, что к тому времени в Мише разочаровались? И познакомились с Андреем…
— Нет, с Андреем я давно была знакома. Просто на вечере в ресторане я встретила его с женой, потанцевали…
— Как с женой? Он же разведен и хочет жениться на Тане…
— А это другой Андрей. Вы разве не поняли?..
…Нет, со Светой каши не сваришь, я прошу позвать Таню. Таня совсем другое дело: Света — лед и томное молчание, а Таня — живчик, этакий кудрявый говорун с карими глазами. Сегодня выписывается, а через неделю свадьба. С этим самым Андреем. Который познакомился и спал со Светой, а потом предпочел Таню.
— Таня, вы на Андрея не в обиде?
— С чего бы, мы любим друг друга!
— Так кто же вас заразил?
— Ну, разумеется, Яссо…
У нас с присутствующим врачом-венерологом вытягиваются лица…
— Какой Яссо? — бормочу я, чтобы прервать паузу. — Это что, имя такое?
— Ага. Он приехал с Кавказа открывать в нашем городе цех…
— А фамилия как?
— Я не помню. Нет, правда, не запомнила: у него очень длинная фамилия. Но он не виноват: не знал про болезнь. Я тоже не знаю, куда он уехал. Говорят, его видели в Стерлитамаке…
Пока я выясняю с Таней перипетии ее нелегких отношений с Яссо, а затем с Андреем, кто там и на кого обиделся, и вообще, кто с кем и когда, время пробежало. Таня спохватывается и просит:
— Ой, на укол опоздаю. Можно, я побегу?
Последние уколы — это святое. Мы отпускаем Таню, так и не уяснив, где искать ее прежнего друга Яссо. В общем-то, ситуация банальна, о ней писал еще пролетарский поэт:
Уехал в брюках клетчатых.
«Где вы те-пе-рь…»
Кто лечит их?
Впрочем, кто лечит Таню и ее подруг в республиканском кожно-венерологическом диспансере, мне уже известно. Сейчас из-за ремонта венерические больные лежат в кожном отделении у Исумера Евсеевича Фельдмана, а в обычное время они пациенты сидящего напротив зав. восьмым отделением Анатолия Севастьяновича Чурюкина (главного специалиста по «сифону», как образно отрекомендовал мне его знакомый медик). Оба эти врача — ветераны невидимого читателю фронта, лет этак по 20 с гаком борются с «венерой»… Впрочем, неугомонный Фельдман считает себя больше кожником, он небольшого роста, очень обходительный. Анатолий Севастьянович — напротив, из высоких и худых, с юморком. Все венерологи циники, жизнь воспринимают как есть. И показывают тоже.
Вот в кабинете уже знакомый нам Андрей. Чурюкин дает возможность полюбоваться характерной красноватой сыпью на его коже — и приказывает Андрею:
— Сними трусы и покажи…
Андрей снимает и демонстрирует то, о чем детишки пишут на заборах. На этом самом у него округлый шрам, оставшийся от «твердого шанкра» (сифилитической язвы на месте заражения) — подарок то ли Светы, то ли Тани… И дальний привет то ли от загадочного кавказского парня Яссо, открывателя цехов, то ли от делового ростовского Миши. Во всех случаях для врачей кожно-венерологического диспансера важно выявить всю «цепочку», чтобы прервать ее. Вот Анатолий Севастьянович только вернулся с востока республики, где одна мадам с сифилисом «облагодетельствовала» Учалы. На момент разговора медики нашли свыше сорока «контактных» и зараженных. Городок с небольшим населением по числу заболевших на расчетные 100 тысяч населения сразу выдвинулся на первое место, обогнав в этом прискорбном соревновании такие гиганты, как Стерлитамак и Уфа…
Приходилось ли вам, уважаемые, видеть генеалогические «древа» царей и наследных принцев, по которым можно проследить, кто от кого произошел и в каких родственных связях состоят члены династии? Так вот, при каждой вспышке сифилиса врачи-венерологи составляют нечто подобное — в диспансере передо мной развернули «учалинскую схему» половых связей и переданных друг другу бледных спирохет. «Древо» закручено не хуже, чем у Рюриковичей или династии Романовых — первая «эпидемцепочка», вторая, третья, перекрестные контакты, когда трудно сказать, кто и кого заразил. Некоторые кружочки в схеме с фамилиями — этих лечат. В других просто поэтичные имена «Артур», «Юра», «Андрей» — с пометкой «розыск».
— Беда в том, — растолковывает мне «учалинскую схему» С. А. Зилеева, зав. поликлиникой при диспансере, — что если не погасить «очаг», венерические заболевания разрастаются в геометрической прогрессии. Раньше «артуров» искала милиция, уклонявшихся от лечения привлекали по закону. Теперь МВД отстранилось, наши действия стали не так эффективны… Смотрите, кто разнес сифилис в Учалах: в основном, люди, беспробудно пьющие, не работающие, бомжи. У одной женщины сразу восемь половых контактов с малознакомыми мужчинами, которых она находила в скверике. Другая особа из той же «цепочки» дает сразу четыре контакта — вернее говоря, она их нам упорно не дает, сколько с ней ни беседовали: ее «кавалеры» сами к врачам побежали после бесед по радио… При таком контингенте нет полной уверенности, что мы распутали весь «клубок», — там уже и следствие ведется, потому что две женщины из зараженных сейчас убиты…
— А до того, кто занес сифилис в Учалы, добрались?
— У врачей складывается впечатление, что первоисточник был из Челябинской области, откуда до Учалов рукой подать. Там на рудник, говорят, одна девушка приезжала — в очень заманчивом виде. И обслуживала желающих…
Вспышку сифилиса в Учалах гасили всем миром: печать встревожилась, врачи, городской глава покоя не знал… Но до этого, в прошлом году, аналогичные вспышки были в Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе — в последнем с распутыванием «клубочка» справились легко: источник был из одного загородного лагеря — порезвились на отдыхе ребятки…
Скоро у меня голова пухла от цифровых характеристик люэса (так еще называют сифилис): 95 процентов заразились в алкогольном опьянении, 61 процент вступал в половые связи со случайными и вовсе незнакомыми людьми, велик процент тех, кто ведет аморальный образ жизни… Хотя от беды никто не застрахован: бывали в пациентах и известный чемпион, и художники, и господа артисты. К 1988 году болезнь, гуляющую по миру «волнами», в республике настолько извели, что даже стационар в Уфе на время закрыли. Сейчас мы на новом подъеме: только за восемь месяцев по республике выявлено 292 случая люэса против 194 прошлогодних, дали рост гонорея и так называемые паравенерические заболевания. И по прогнозам, мы еще даже не на гребне этой новой «волны»…
— Чтобы полностью покончить со вспышкой люэса, по мнению ученых, нужно лет 15—20! — размахивая бумажками, с энтузиазмом заявляет мне Чурюкин, и его бодрый вид не вяжется со словами. — Так и запишите себе: к 2010-му году мы с этим как раз и покончим. Если, конечно, жизнь не смешает карты…
Мы сидим в его кабинете на восьмом этаже, где солнце золотит корешки старых книг по дермато-венерологии, отпустив всех пациентов. И хотя я доподлинно знаю, что уже через сутки после уколов больные становятся не опасны для окружающих, к стульям и другим предметам прикасаюсь с опаской. И чаю как-то не хочется…
— Да вы не беспокойтесь, — словно угадав мое состояние, утешает Анатолий Севастьянович. — Сифилис хоть он и вызывает у общества бурную реакцию, но пугаться незачем: это же не грипп, когда гражданин чихнул в автобусе — и сорок человек оказались на больничных койках… За много лет практики я встречал единичные случаи заражения через общую посуду, полотенце, сигарету: инфекция передается преимущественно половым путем… Вот здесь надо иметь голову на плечах — еще на флоте в молодости нас боцман учил при увольнении на берег: «Ребята, осторожны будьте, не намотайте на винт…». И хотя портовый город был, бойкий, не помню, чтобы из матросов кто-то заболел. Зато хорошо помню, сколько случаев сифилиса дали нам во время вспышки 70-х годов рабочие общежития Черниковска — мы тогда об этом не писали, боялись обидеть гегемона. А все идет от бездумья, низкого интеллекта. Кончит парень смену — делать и нечего. Вот он выпил, покурил — и выходит в парк с двумя бутылочками винца. Там девочки встречают: «Разрешите прикурить, дяденька…»
Чурюкин знает, что говорит: эту вспышку 60-70-х годов он с коллегами на плечах вынес — в лечебном заведении, стыдливо замаскированным тогдашними властями Уфы под больницу №2 на ул. Севастопольской. И когда он рассказывает — и про прежних пациентов, и про нынешних «малолеток», не боящихся ни черта, ни бога, я невольно вспоминаю ушедшую из кабинета Таню. Она тоже без комплексов, «раскованная». Но как притихла она, когда Анатолий Севастьянович стал говорить, что в дальнейшем, чтобы родить здорового ребенка, ей будет необходим профилактический курс лечения пенициллином во время беременности. Она даже как-то съежилась и постарела лицом:
— Я ведь никогда не думала, что это может случиться именно со мной. Мне всегда казалось, что сифилис — это где-то далеко…
И тогда я подумал, что у нее с Андреем очень серьезно, быть может, они нашли друг друга — и эта встреча на всю жизнь… Только смогут ли они забыть, каким диагнозом были повенчаны их чувства? Смогут ли жить, не страшась последствий случившегося?
Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума,
— однажды написал великий лирик совсем по другому поводу, не подозревая, какой ужасный смысл можно вложить в его слова…
…Пришел Исумер Евсеевич Фельдман — и повел меня в палаты. Обычные комнаты с кроватями, где палаты «кожников» порой соседствуют с уже не заразными «венериками». Унылый быт: вот папа из соседней палаты в гости зашел к семье — хлопочет молодая женщина (у всех жен здесь застывшие глаза), в углу на койке приткнулась златокудрая девочка лет полутора, сушатся колготки… Когда спирохету приносит один, порой болеют целыми семьями. Иногда детей привозят прямо из роддома — тех, что заразились в утробе матери и родились маленькими сморщенными старичками, лишенными подкожной жировой клетчатки. («Мы однажды лечили пятидневного «Пушкина», — вспомнил кто-то из врачей, — прозвали его так, поскольку был он Александром Сергеевичем. Еще смеялись: вылечим — новый Пушкин вырастет…») Бывает и наоборот — не замеченная вовремя у ребенка болезнь годами таится, чтобы потом обнаружиться у цветущего двадцатипятилетнего парня…
— Много здесь нарушающих порядок? — спрашиваю я у Фельдмана, когда он пытается отобрать карты у четверых «венерических», сунувших запретную колоду под одеяло.
Он вздыхает и только машет рукой:
— Тут поначалу не больницу строили, а общежитие — нет общего коридора, блочная система, персоналу не уследить за каждой палатой. А народ там, где «венера», поверьте, очень тяжелый. Я каких только чудес не нагляделся…
Из диспансера злостных нарушителей выдворяют «под надзор» в закрытый стационар, где замки, охрана… Но случаев не убывает: то в палате кто-то выпил, то два кожных больных увели «венеричку» в посадку за корпусами, то закатила «концерт» невинная на вид школьница, приведенная в лечебницу мамой за ручку… А на окне у Фельдмана разорванная и мятая история болезни: пьяный муж разгневался, когда на обследование положили жену. Деликатный Исумер Евсееевич надеется, что когда-нибудь войдет этот протрезвевший муж в кабинет, увидит содеянное — и устыдится….
Уходя из больницы, я все не мог отделаться от чувства, что все увиденное — какое-то наваждение… Конечно, цифры заболеваемости люэсом по республике не так уж велики — ноль целых, семьдесят три сотых человека на 10 тысяч населения, как сказал Чурюкин… Но врачи встревожены: диаграммы роста отразили кризис общественной морали, свертывание санпропаганды. Грядут нежданные последствия сексуальных взрывов и освоения отечеством всех эротических извращений и достижений мирового опыта. Лет пять назад разве слыхали мы о гонорее гортани? Или о вензаболеваниях тринадцатилетних? Или о том, что гонококки настолько приспособились к лекарствам, что уже, несмотря на одиннадцатикратные дозы, двоих из десятка любителей пикантных «приключений» не вылечишь обычным способом и нужны особые методы?
…На конечной остановке дул холодный ветер — бредя по улицам, я не сразу заметил, как стемнело и город начал зажигать огоньки. У каких-то освещенных дверей, где вовсю шло торжество, крутились люди, подкатывали такси, слышался говор и смех. От веселящейся подпитой толпы отделилась фигура:
— Братан, не найдешь огоньку?
Я посмотрел на девчонку: начес, томный взгляд, в руке с облупленным маникюром сигарета… Ее подруга, дымя, уже цепляла командированного мужичка. Нет, баста: на сегодня никаких интервью с «группой риска»!
— Ты знаешь, не курю, — устало сказал я.
Боже, что за день! В какие места я хожу!.. Сохрани и помилуй…
Виктор Савельев,
репортер «Советской Башкирии».
Источник: газета «Советская Башкирия», 19 октября 1993 года.
ЧТО СТАНЕТСЯ С НИМИ, С БОЛЬНЫМИ…
Заметки из Республиканской психиатрической больницы
1. Резиновые трусы
— Хотите поговорить с «контактерами»? — спросил меня Юрий Александрович Анохин, главный психиатр Минздрава республики.
— С какими? — удивился я.
— Ну, с теми, кто общается с «внеземными цивилизациями», — пояснил врач.
Мы сидели в кабинете республиканской психиатрической больницы и говорили о том, что в психике пациентов этого специфического лечебного учреждения, как в зеркале, отражаются все аномалии нашего общества. Только отражение это, подобно кривому зеркалу, искажает до неузнаваемости черты…
Привели женщину — назовем ее по соображениям врачебной тайны Ларисой Ивановной Н. Пока врачи готовились к разговору, мне поведали ее историю: очень культурная, очень начитанная женщина — и эта болезнь…
— Расскажите, с чего началось, Лариса Ивановна…
Она потупилась:
— Я уже говорила, что несколько месяцев назад мне вдруг стало словно жечь ногу, потом пошло выше. Я не сразу поняла, что это меня подзаряжают энергией — «черной энергией» из космоса… Поначалу мне казалось, что невидимое существо, которое на меня воздействует, очень маленькое. А потом оказалось, что это не так — оно даже показало мне свой рост…
— И когда же, Лариса Ивановна, вы поняли, что на вас воздействуют пришельцы? — терпеливо уточнил один из врачей.
— Мне стало ясно, когда я прочла статью в центральной газете, — обрадовалась Лариса Ивановна, как радуемся мы, когда несем новое знание людям. — Оказывается, в Москве есть такая комиссия «Феномен». Вот этим людям кто-то позвонил и сообщил, что пришельцы из космоса готовятся захватить Землю. Я как прочла про их методы воздействия, так сразу мне стало ясно…
Статья из «Труда» лежала перед врачами, ее подошьют к истории болезни. Коллега-журналист не поленился напугать обывателя ужасами экспансии из космоса: здесь были и сгустки «черной энергии», проникающие в землян, и смертоносный «пояс безумия», и зонды над планетой, и тайные происки чужих миров… Наверное, ни один институт еще не провел исследование о воздействии таких «сенсаций» на умы людей. И бедная Лариса Ивановна с ее уже болезненным состоянием стала одной из жертв космических кошмаров. Для начала она пыталась «заземлиться» и защититься от «подпитки энергией» резиновыми сапогами, как от тока. Но «воздействие» шло не только от земли — и она сшила себе резиновые трусы и надела на голову резиновый колпак. А вскоре накрыла все тело резиновым балахоном, который уже не помогал: домогающийся ее невидимый «пришелец» уже проник в ее волю и душу и управлял всеми поступками…

Когда ее уводили в палату, Лариса Ивановна попросила проверить ее на СПИД.
— При чем тут СПИД? — успокаивали ее врачи. — Ведь по мнению уфологов, нас хотят захватить более высокие по развитию цивилизации: там СПИДа нет…
— А я еще не разобралась, что за существо мной овладело. Вдруг оно земное? — сокрушалась Лариса Ивановна. — Но мне кажется, что мной управлял биоробот…
Самое любопытное, что до того, как очутиться в психиатрической больнице, Лариса Ивановна обзвонила занимающихся «космическим вторжением» уфологов из московского общества и Уфы, причем уфимский коллега москвичей потребовал у нее фотографию и подробные объяснения для экспертизы: положительные ли у нее контакты с космосом или отрицательные? У него самого, по его собственным словам, контакты были только положительными… Однако не будучи специалистами в этих вопросах, мы отметим для репортажа одно: зачастую на людей, склонных к психическим расстройствам, оказывает мощное влияние то, чем пугает нас телевидение, радио, газеты и предсказатели всех мастей… Уже родился новый термин — пока не совсем научный, но точный: информационный психоз…
2. О Кашпировском, рэкете, КГБ
Врачам-психиатрам, кстати, это хорошо известно. Ю. А. Анохин как-то пошутил:
— Если на телевидение внедрить опытных спецов по психическому воздействию, то при нашей вере экрану через год из общества можно сделать все, что угодно: хоть полуидиотов…
В этой горькой шутке большая доля истины. Только что мы провели беседу с больной С. — три года назад она заболела после сеансов по телевидению А. Кашпировского. Передачи давно закончились, но Кашпировский «продолжает управлять» всей жизнью С., успокоение она находит лишь во время сна.
— Вы не хотите сделать заявление для газеты, — спросили ее врачи. — Быть может, попросите Кашпировского не терзать вас, перестать вами командовать?
— Я хочу его попросить об этом, — заколебалась больная, — да боюсь…
— Чего боитесь?
— Рэкета! — она пугливо понижает голос. — Боюсь, что Кашпировский после этого начнет мстить. Он ведь связан с КГБ, все может…
Эта мешанина из КГБ и рэкета могла бы вызвать улыбку, если бы за ней не стояла трагедия молодой, еще недавно нормальной женщины, ее семьи… Хлынувшая на нас лавина разоблачений из средств массовой информации сыграла недобрую службу для многих пациентов психбольницы — «агенты КГБ» в невиданных для любой спецслужбы количествах «подглядывают и подсматривают» за многими душевнобольными, упорно «преследуют» самих пациентов и членов их семей… В бреду помутившегося сознания иные сенсации приобретают уродливые и страшные формы. Недавно в одном из московских психдиспансеров больной, прочитав в центральной прессе статью о каких-то недоплатах в лечебно-трудовых мастерских, порешил двух врачей, «восстанавливая справедливость»…
Еще больший урон понесла психиатрия от того, что в пылу разоблачительных статей и передач газеты и телевидение вольно или невольно создали в общественном сознании однобокий образ врачей-психиатров — этаких зажимщиков прав человека и пособников репрессий. Беда в том, что непрофессионализм многих публикаций и недооценка труда большинства честных медиков были приняты за чистую монету — люди стали сторониться больниц и психиатров, меньше обращаться к ним. Информационный психоз, которому мы все в какой-то мере подвержены, пугающие жупелы больше всего сказались именно на тех, кто как раз нуждается в помощи.
— Сейчас в больницу очень много поступает тех, кто глушит себя алкоголем, — рассказал Ю. А. Анохин. — Пьют так, как не пили ни в годы застоя, ни в перестройку — алкогольный психоз в тяжелой форме у каждого третьего, поступающего к нам… И что же? Мы бросаемся спасать попавшего в беду, вкачиваем в него на несколько тысяч рублей дорогих импортных лекарств и, сняв тяжелое состояние, предлагаем дальнейшее лечение… Но, придя в себя, такой пациент, как правило, посылает нас подальше, берет бумагу и пишет заявление об отказе от лечения в психбольнице… Видно, карательный ореол, которым нас окружили в последние годы, еще долго будет служить недобрую службу и нам, и в конечном итоге — обществу.
3. «Все шизофреники — готовые экстрасенсы…»
Видно, говоря о проблемах психиатрии, нельзя обойти молчанием, что у нее появился коммерческий двойник. И тех отшатнувшихся от врачей пациентов, о которых мы говорили выше, сначала потихоньку начали прибирать различного рода йоги, экстрасенсы, гипнотизеры, целители и целые центры «знатоков душ», стремящихся захватить — как ни цинично это сказано — рынок психиатрических услуг. Лечить душевные хвори оказалось настолько выгодным, что сюда — наряду с теми, кто серьезно овладел нетрадиционными методами, — хлынуло немало любителей выкачивать большие деньги из легковерных больных. Заглянешь в газеты — как грибы растут курсы и семинары, обучающие желающих таинствам тибетского и любого целительства и выдающие после короткого экспресс-обучения дипломы чуть ли не международного образца…
В психиатрической больнице, которая очень своеобразно отражает зигзаги жизни, этому подтверждений тьма.
— Тамара, сколько с тебя взяли за обучение на курсах? — поинтересовался Ю. А. Анохин у девушки в теплом больничном халате, по-школьному прилежно сложившей руки на коленях. Разговор шел в клиническом женском психиатрическом отделении, куда, как вы понимаете, попадают не самые здоровые люди.
Тамара — так мы назовем эту девушку-студентку — охотно рассказывает про курсы в бывшей цитадели научного атеизма по улице Коммунистической, 53:
— С каждого записавшегося брали по ценам прошлого года по три с половиной тысячи рублей. Таких денег у меня не было — и тогда руководительница взяла с меня как со студентки только половину суммы…
— Но разве ты не сказала, что у тебя тяжелая болезнь, шизофрения? — спросил Юрий Александрович.
— О, я сначала боялась, что меня из-за этого не возьмут на курсы и соврала руководительнице, что лежала в психбольнице с другим диагнозом, и лишь потом рассказала про шизофрению. Но руководительницу это не испугало, она сказала, что все шизофреники — готовые экстрасенсы…
— И чему вас учили?
— Белой магии, снятию порчи, тибетскому гипнозу и многому другому — я теперь все умею. Я там в группе была одной из самых способных и поддающихся гипнозу — меня часто погружали в сомнамбулу и для показа остальным клали на стол. Я под гипнозом видела море, солнце, закат и чаек… Теперь я сама этим пробую лечить!
Врачи переглядываются: применять гипноз к душевнобольным с таким диагнозом, как у Тамары, запрещено. Впрочем, происшедшему с ней медики не удивляются: на столе у Юрия Александровича целый список больных с дипломами экстрасенсов, йогов и кого угодно. Повседневная практика показала, что Минздрав оказался не в состоянии остановить стихию самодеятельного целительства — малые предприятия и центры без труда регистрируют в своих уставах медицинские услуги. И хотя статья 221 Уголовного Кодекса бывшей РСФСР предусматривает ответственность за врачевание лицами без медицинского образования, в кооперативах и центрах исцеляют страждущих бывшие домохозяйки и инженеры, слесари-сантехники и художники, нисколько не боясь опустившего руки закона. Вот почему в психбольнице можно встретить душевнобольных, оказавшихся здесь после сеансов магов-чародеев, и таких, как Тамара, которая с восторгом рассказывала, как воздействовала почерпнутыми на курсах методами на своего отца, знакомых…
Вся эта самодеятельная стихия не только не прячет своего лица, но и нажимает на официальную медицину. В психбольнице мне показали письмо: руководитель одного из центров йоги утверждал, что после курса оздоровительных сеансов по избавлению от шизофрении больной Ч. вывел ее организм «в состояние полного оздоровления» и требовал снять Ч. с психиатрического учета.
Другой целитель в отчете об излечении больной А. написал об успешной победе в короткий срок над 15 болезнями, в числе которых: 1) порча, 2) мозговая грыжа, 3) тромбы в сосудах головного мозга и сердца (т. е. инсульт и инфаркт), 4) изменение стенки пищевода, 5) пертифактум печени, 6) камень в почке, 7) нарушение эндокринной системы, 8) полип в матке и т. д. Наверное, читающие такие отчеты врачи хватаются за голову… Вот уж поистине не поймешь, где теперь сумасшедший дом — в психбольнице или за ее стенами…
4. «Мы все так накалены, что от каждого бьет электричеством…»
Эти слова, пожалуй, характеризуют атмосферу в обществе, где все встало с ног на голову — и цены, и моральные ценности, и жизнь. Но вот парадокс — по статистике уровень психических заболеваний остается почти стабильным: в Уфе, например, в 1990 году состояло на учете 19 тысяч душевнобольных, в 1991 их оставалось 18,5 тысяч. Некоторые теоретики даже считают, что в период экстремальных ситуаций численность психически больных даже уменьшается, подобно тому как в военные годы уменьшалось количество простуд и «мирных» заболеваний.
Потом это дает резкий всплеск болезни в более благополучные годы…
Я спросил у главного психиатра республики, согласен ли он с этим мнением.
— Я думаю, что статистика не совсем верно отражает картину, — ответил Юрий Александрович, — она не учитывает резкий рост так называемых пограничных состояний. Увеличивается не только количество неврозов и людей, балансирующих на грани болезни, — качественно меняется и сама психическая атмосфера в обществе, где накопились такие заряды злости и отчаяния, что порой для взрыва достаточно малейшей искры. Посмотрите, как изменилась в последнее время структура преступлений, совершенных душевнобольными, на которых особенно сказывается агрессивность окружающей среды. Если раньше кто-то из них совершал кражи, имущественные преступления, то теперь идет резкий крен в сторону преступлений против личности: за полугодие душевнобольными совершено 9 убийств или преступлений с тяжкими телесными повреждениями, повлекшими смерть пострадавших…
…Я слушаю Юрия Александровича и вспоминаю, как меня водили в отделение для особенно тяжелых душевнобольных. Здесь даже двери были с двумя ключами, треугольным и обязательно более сложным дублирующим, — потому что за запорами люди, нуждающиеся в особом контроле. Их больничные дела были похожи на дела преступников: один зарубил жену, другой в беспамятстве зверски затоптал насмерть товарища… Но все они здесь были только лишь пациентами, которых месяцами возвращали к нормальному состоянию.
— Хотите поговорить с нашим Нариманом? — спросила женщина-врач из отделения.
Привели Наримана, тихого мужчину с грустным взглядом и тяжелыми руками. Я не хочу говорить, что он когда-то совершил — это трагично. Но судьба Наримана злосчастна: с 1980 года он находится в психиатрических лечебницах, сначала в Казани, последние четыре года в Уфе. Врачи считают, что в нынешнем состоянии его можно было отдать родственникам, но родственники не появляются.
— Ты писал письма, Нариман?
— Писал, никто не приезжает. Много раз писал…
— А земляк из твоей деревни тут лежал, Нариман. Ты просил его передать родне, чтобы приехали за тобой?
— Я его просил, только он говорит, что они не поедут. Отец старый, а брат меня забирать не хочет, говорит: Нариман все время за нож хватается…
— Они ни разу к тебе не приезжали?
— Ни разу.
Женщина-врач берет бумагу и пишет: «Хуснутдинов Нариман Шарафутдинович, Архангельский район, деревня Айтимбетово». Может, кто откликнется, прочитав в газете эти строки?
Таких, как Нариман, в психиатрической больнице немало, разлад жизни и здесь ощущается: многих забросили, месяцами не носят передачи. Других некуда выписывать, больница заменила им дом…
Но не менее сложные вопросы встают нынче и о том, как обеспечить безопасность здоровых — ведь с 1 января 1993 года вступает в действие новый закон о психиатрии, отобравший у врачей право на принудительное помещение в психиатрические лечебницы. Давний спор правозащитников и сторонников системы увенчался победой демократии — теперь никого не объявят душевнобольным и не «закроют» без решения прокурора. Но можно представить, сколько крови может попортить окружающим иной больной, пока с точки зрения закона наберется нужное количество «достаточных оснований» для госпитализации, какому риску могут подвергаться соседи, сослуживцы заболевшего… Нерешенных проблем тысячи: как трудоустраивать людей с нервными и психическими расстройствами, как адаптировать их к нашей усложняющейся жизни… Думается, нам нужно начать с понимания этих трудных проблем и пересмотра отношения к просто необходимой для общества психиатрической службе. Пока же, что греха таить, многие на ее обличении стараются нажить политический капитал, репортеры сюда наведываются не для того, чтобы поговорить о больных проблемах, а за сенсациями… Нам всем не хватает мудрости любимого всей детворой Айболита, который и пропадал, и тонул, но помнил:
— О, если я утону,
Если пойду я ко дну,
Что станется с ними, с больными…
И явно не хватает понимания того, что за проблемами психиатрии стоят вопросы серьезные. Речь идет о спасении тысяч и тысяч людей в нашем наэлектризованном мире, о психическом здоровье общества. Оно в опасности…
P.S. Гонорар за публикацию прошу перечислить в психиатрическую больницу.
Опубликовано под псевдонимом С. ВИКТОРОВ.
Источник: газета «Версия», №29—30 (65—66), октябрь 1992 года.
ВХОД В ПРЕИСПОДНЮЮ НАЧИНАЕТСЯ У РЫНКА…
Прости, читатель, что ведущий газетной страницы в таком странном виде! Я бы предпочел предстать перед тобой в более элегантной позе и рубашке с «бабочкой», да вот обстоятельства…
Впрочем, поясню: утром я купил газету в киоске у Центрального рынка Уфы и перебегал дорогу, спеша в редакцию. Еще не рассвело, и как я не угодил в яму под ногами посреди дороги, одному Богу известно! Чертыхнувшись, что кругом открытые колодцы, я посмотрел в дыру, но в темноте ничего не увидел, и решил вернуться сюда днем с фотокором…
Хотя прошло полдня, дыра напротив павильона никуда не делась, люк не закрыли. Я заглянул в открытую горловину, которая была очень неприметна из-за того, что лежала вровень со снегом, — и чуть не отшатнулся… Глухая черная вонючая дыра, расширяясь вниз, вела в такие недра, что принесенная мной и фотографом трехметровая доска даже не доставала до половины уходящего в какую-то подземную реку жерла. «Парижские тайны» с их подземельями меркли перед этой мрачной дырой, откуда даже крик не отозвался бы на земле эхом!
Для наглядности решили сфотографировать этот настоящий вход в преисподнюю, опасный, со скользкими вонючими стенами. Без веревки дураков повисеть над бездной не нашлось. Положив для страховки поперек дыры нашу доску, я нащупал ногой уходящие вниз скобы колодца. Конечно, снимок вышел бы наглядней, если бы зависнуть, чтобы только голова торчала. Но удержишься ли на скользких скобах, если сорвутся с доски руки? Еще опасней было то, что люди-то на таком бойком месте обычно под ноги не смотрят — тут и женщины проходили, и дети…

Конечно же, первой мыслью было найти кого-нибудь из администрации рынка. Зашел к заместителю директора В. Ф. Токареву, чей кабинет как раз в павильоне напротив. Как мне удалось без «ТТ» вывести из кабинета однофамильца известного оружейника, это особая история. Поначалу Виктор Федорович не хотел даже близко подходить к колодцу, хотя мимо дыры вовсю сновали люди, спешащие в павильон:
— Территория за оградой не наша, колодец не мой!
В конце концов он согласился дать телефонограмму в канализационные сети и даже в сочувствие вошел:
— Сам в машине о колодец без крышки на улице Чернышевского колеса пробил! Безобразие с этими люками…
…В четвертом часу дня я нашел, наконец, телефон канализационных сетей Уфы и сообщил о входе в преисподнюю возле рынка. Диспетчер Н. А. Шерышев был удивлен — за весь день никто не удосужился сообщить про открытый люк. К вечеру крышку поставили. Впрочем, нет гарантий, что ее не снесет в очередной раз машиной или грейдером…
Эта история печалит безразличием к грозившей беде… И когда мы, наконец, перестанем обходить на улицах зияющие, как смерть, люки? На этот раз обошлось, пронесло, слава Богу. На этот раз…
Виктор САВЕЛЬЕВ,
репортер.
Источник: газета «Советская Башкирия», 29 января 1994 года.
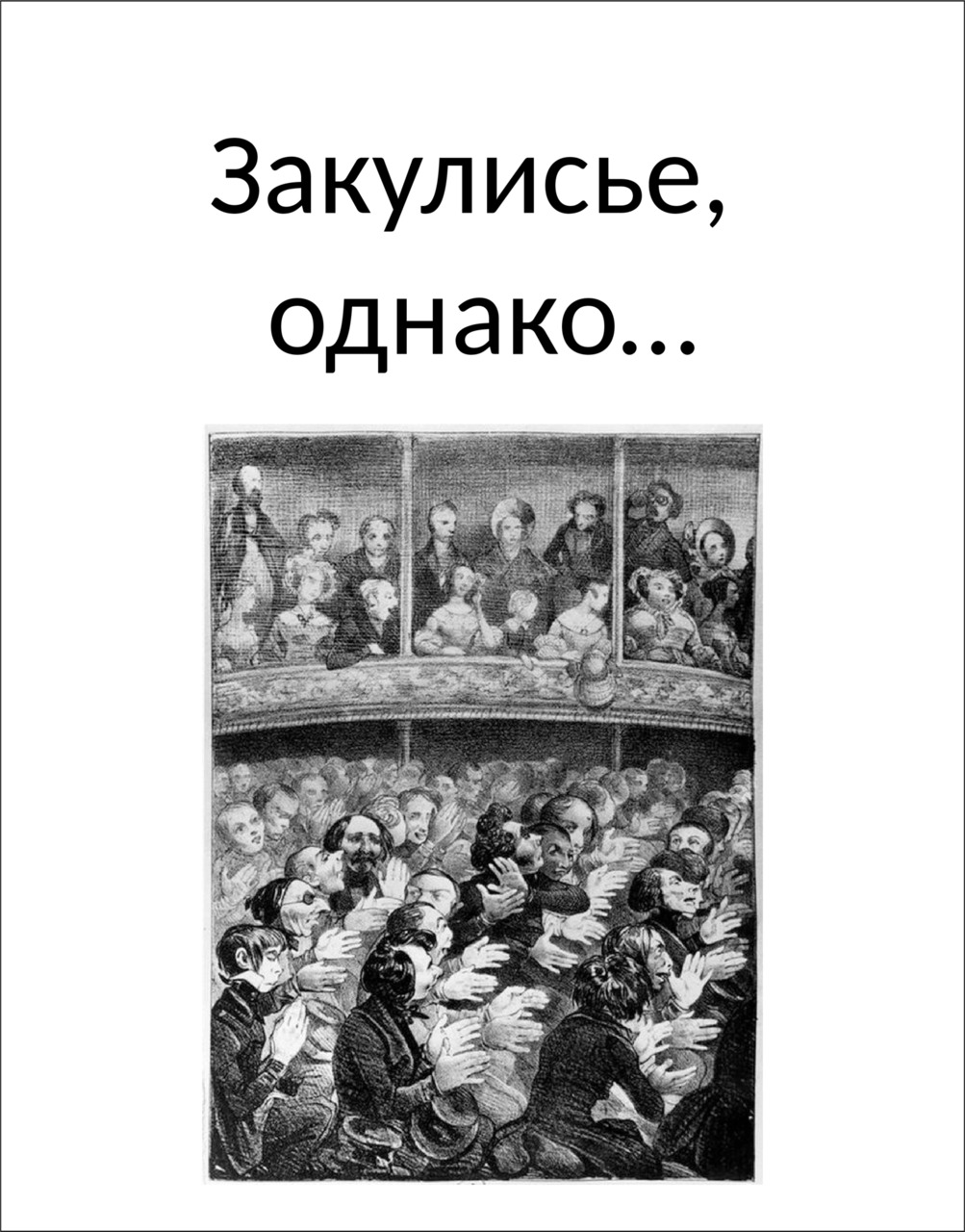
ВОТ ТАКАЯ ДРАМА…
Записки театрального администратора
В воскресенье, к вечеру, я окончательно понял, что ввязываюсь в авантюру. Надо было срочно что-то предпринимать… В раздумье набрал я телефон человека, обещавшего устроить меня в театр. И чудо — молчавший весь день телефон ответил…
— Послушай, — крикнул я в трубку. — Давай это отложим!
— Не дури, — ответил голос с другого конца провода, — я уже обо всем договорился! И никто не будет знать, что ты из газеты. Так что завтра, как условились, выходи на работу…
…Вот так я и стал — на целую неделю — администратором в Русском драматическом театре.
1
Театр уж полон: ложи блещут.
А. С. Пушкин, «Евгений Онегин».
Театральная жизнь оказалась довольно хлопотливой: начинали утро с поездок в типографию за афишами и заказа реклам, а к вечеру приходили дежурить на спектакли. К тому же давил не на шутку мороз. С мороза и начались казусы.
Мы как раз везли в своем микроавтобусе очередную порцию афиш для театра — а ртутный столбик термометра уже прыгал к 30 градусам. Улицы пустели: прохожие с покрасневшими носами разбегались по домам, как быстроногие олени.
— Это еще что! — поежился я, глядя на мелькавшие улицы. — На завтра синоптики обещают до сорока градусов…
— Ох, посдадут сегодня нам билеты! Ох, посдадут, — всплеснула руками на переднем сидении «Ниссы» главный администратор театра Светлана Николаевна Хазиева. — Ну, кто придет в мороз? А как узнают, что спектакль заменили…
— Как заменили? Когда?
— Да сегодня! Вместо «Пяти романсов в старом доме» будем давать «Вишневый сад»… Вы и представить не можете, что бывает со зрителем, не настроенным на классику… Вот увидите, что сегодня вечером будет у нас полный «аптраган»!
Будучи администратором довольно молодым по стажу, я смекнул, что башкирское словечко «аптыраған» в устах Светланы Николаевны должно означать «конец света!» — но постичь всей глубины магического выражения сразу не смог.
Постижение пришло со спектаклем, когда свет от хрустальных люстр залил просторные холлы и фойе театра. В администраторской царил страшный холод, исходивший от стеклянной стены, пропускающей ветер. Продержавшись минут десять в костюме с галстуком — как и полагается ответственному лицу! — я, не выдержав, надел пальто и бегал по комнате и вестибюлю, удивляясь: какой умник выбрал проект полузастекленного театра для нашего сурового зимнего города? Его бы сюда на часок — в костюмчике! Как ни странно, несмотря на завывавший ветер и ломивший мороз, к театру тянулись люди. Раскрасневшимися стайками, по двое, по одному. В администраторской уже восседали наши бойкие и расторопные распространители билетов, трезвонили по телефону и с опаской ждали претензий зрителей… Опасения достигли предела, когда Светлана Николаевна велела вывесить плакатик со словами: «Из-за болезни артистки сегодня спектакль заменен…»
— Сейчас побегут сдавать билеты!
— Ох, прогорим… Да тут еще Леонтьев концертами во Дворце спорта подрезал — всех зрителей отнял…
Сильнее всех горевал Сережа Смолин, распространитель по Орджоникидзевскому району:
— У меня же техникум на сегодня сотню билетов взял! Как узнают ребята про отмену «Пяти романсов…» — вот увидите, все билеты сдадут…
— Хорошо, еще объявление о замене спектакля не с самого утра висит!
— А может, его вообще… не вешать? — высказал потаенную мысль кто-то уж больно хитрый, не помню кто.
— Шутишь? Попробуй не повесь…
Пришла дежурившая со мной в этот вечер администратор Галя — Галина Юрьевна — и пресекла все споры, водрузив плакатик про «заболевшую артистку» на самом видном месте у входа в театр. Кто-то проскакивал его, не читая; кто-то, ругаясь и грея озябшие руки, шел сдавать билеты к кассе…
…После третьего звонка я пошел взглянуть с балкона на партер. Помните у классика: «…партер и кресла — все кипит»?
Увы, в зале не «кипело» — не заполнены были целые ряды, зияющие провалы пустых кресел обступали тех, кто смотрел на великолепного чеховского Фирса — так славно сыгранного народным артистом РСФСР и БАССР В. В. Прибыловым…
— Сколько же человек пришло сегодня на спектакль? — спросил я после первого действия у Галины Юрьевны, уже зная, что зрительный зал Русского театра вмещает почти тысячу мест.
— Двести человек разделось — это мы по номеркам в гардеробе посчитали…
— А сколько билетов раздали распространители по предприятиям?
— Более четырехсот…
— Ого!
Все это значило, что в первое же мое дежурство на «Вишневый сад» не пришла почти половина зрителей, взявших через распространителей билеты…
Почти половина! Я вспомнил расстроенное лицо Светланы Николаевны в «Ниссе»… «Аптраган»!
2
«Ошибки наслаивались столь «деликатным» образом, что поначалу не вызывали тревоги и беспокойства. Но вот количество их переросло в качество, и вдруг, в одно отнюдь не прекрасное утро мы открыли глаза и удивились: зритель исчез.
Дело в том, что искусство театра не отражало в полной мере подлинную жизнь. Актеры играли, страдали, взывали к совести людской, а жизнь шла мимо, параллельным курсом. Тут-то зритель заскучал, разочаровался… Тревожные звонки заглушались громким звоном оптимистических колоколов. Оказывается, можно погрязнуть и в оптимизме…»
Я отложил в сторону очередное интервью в «Советской культуре», слова из которого привожу, и хмуро посмотрел на стопку газет на столе. Театральные люди в них били тревогу. Вовсю ругали ретроградов и лиц, до перестройки «зажимавших» актуальные темы, вовсю каялись, что проглядели эру телевидения и всесилие развлекательных шоу… Рецептов и вопросов было море. Кто ратовал за летучие театры-студии на хозрасчете, легко умирающие после того, как интерес к их спектаклям угас, кто уповал на молодую режиссуру и тот новый эксперимент, который вводится в ряде театров страны с нынешнего января и предполагает гибкость и инициативу. Судя по накалу страстей, проблема полупустого зала касалась не одной только Уфы и достигла к нашим дням остроты необыкновенной…
…Я невольно вспомнил, как после вчерашнего спектакля по мотивам гоголевских произведений «Ах, Невский!» — на котором я впервые дежурил без Галиной подстраховки и насчитал… 165 зрителей, — состоялся импровизированный разговор о репертуаре. Собственно, и разговора-то специально не было, а просто зашла к нам в администраторскую Анна Александровна Житкова — женщина пенсионных лет, в платочке и валенках, очень склонная порассуждать, как и многие люди при театре, а главное — вот уже лет пять занимающаяся с мужем распространением театральных билетов. Села за столик и, шевеля губами, стала читать январский репертуар театра, только привезенный из типографии и водруженный мною на гвозди. Как ни мало я работал в своей новой должности, а уже понимал, что чтение репертуара для Анны Александровны, получавшей определенный процент от реализации билетов, — святое дело, касающееся заработка. Хорош или плох нынче подбор спектаклей — для распространителя это вопрос самый живейший и бьющий по карману, тот же конкурирующий с театральным искусством эстрадный бог Леонтьев (помните: «подрезал» своими концертами?) нанес Анне Александровне ущерб не умозрительный, о каком пишут критики, а вполне ощутимый — в рублях и копейках. Так что для нее отмена спектакля — беда, мороз — беда, а ходкая пьеса с полным залом — спасение.
Очень похоже было, что и январский репертуар нашу Анну Александровну не порадовал.
— Пока не знаю, будет ли на премьеры народ ходить, — сообщила она нам со Светланой Николаевной. — Это я вам скажу после того, как сама на просмотрах побываю. А вот насчет прочего репертуара мне уже сейчас ясно. Ну, зачем опять два раза включили «Ах, Невский!», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» или идущую много лет «Страну Айгуль»? На них одни школьники и ходят! Тут только на «Эффекте Редькина» план можно вытянуть да, может быть, на премьерах. «Моя профессия — синьор из общества» — спектакль неплохой, но уж такой заезженный за три года! И «Эшелон» посмотрели все, он собирает людей только к дате…
Словом, вот так, сидя в платочке за столом, и разложила Житкова весь репертуар по полочкам, деля спектакли на те, которые зрителя дают и которые не дают. Она уже ушла бесшумно в валенках на мороз — ездить с билетами по организациям — а я все смотрел и смотрел на жирные синие строки январского репертуара и думал о странности наших оценок.
Разных людей я повидал в театре и разных точек зрения наслушался.
То, о чем гудела администраторская, — было, пожалуй, взглядом из окопа, ближе всех расположенного к передовой — то есть к зрительской массе, — взглядом острым и живым, но порой не поднимающимся выше окопного бруствера. Не все было видно с моего бойкого места — хотя и многое. А вот в то время, когда я скрипел ботинками по паркету театра, встречая зрителя, на спектакли тихо и без помпы ходили московские критики. Они тоже, что называется, по косточкам разобрали репертуар — но уже с других эстетических позиций. За некоторые неудачи театру изрядно попало от знающих сцену москвичей, но вот не слишком посещаемые «Вишневый сад» и «Ах, Невский!», так оригинально поставленный в Уфе приезжавшим профессором театрального училища им. Щукина А. М. Поламишевым, получили большое одобрение. «Прежде всего мы высоко ценим художественную ориентацию, на которую направлен театр», — сказали критики на заключительной встрече с творческим составом, имея в виду и то, что театр в попытках завоевать зрителя не сбивается на «шлягеры» для невзыскательного вкуса, а, напротив, старается будить мысль и нравственное чувство, не отказываясь от сложной в художественном отношении драматургии, на которой только и можно поднять сценическое мастерство и привлечь вдумчивого театрала…
Но давайте честно положим руку на сердце: разве нет правды и в словах нашей распространительницы билетов Анны Александровны? Ведь, в конечном счете, за ними стоит мнение многих тысяч зрителей — а зритель, как известно, голосует не на худсоветах: когда спектакль ему не по душе — он просто на него не приходит…
В этом свете в разительном контрасте с остальным репертуаром выступает октябрьская премьера театра — «Эффект Редькина», комедия-гротеск. На ней происходит то единение сценического действа со зрительным залом, ради которого и трудится в поте лица театр; когда «кипят» — по классику — и партер, и кресла; снуют, чтобы всех рассадить, озабоченные администраторы, когда и распространитель доволен, и артист — и зритель не внакладе… «Ты не смотрел еще „Редькина“? — спросили меня знакомые еще до того, как я устроился в театр. — Сходи, интересная вещь!»
Думается, в данном случае Русскому театру удалось нащупать нерв зрительского интереса. Разные времена пережила наша страна — но такого обновления и очищения давно не было. Мы похожи на людей, которые долгое время смотрелись в кривое зеркало — и лишь сейчас без прикрас и бодрячества пытаемся вглядеться, наконец, в свое реальное лицо. Те, кто следит за духовным процессом нашим, знают, что бывает, настанет час — когда писатель, вдруг устав от иносказательной образности, садится за прямую публицистическую статью, где называет своими именами черное и белое; когда общество требует сиюминутно «моментальных снимков» из своей жизни — в репортажах, документалистике, искусстве, чтобы разобраться в самом себе.
В этот период коренной ломки нерв театрального интереса — современная заостренная пьеса о нас же самих. Малоповоротливому по роду своей музы театру сегодня трудно поспеть за все бегущим временем. Невиданная конкуренция навалилась на него — мы то, припав к телеэкранам, слушаем диспуты на «Двенадцатом этаже» ТВ или изменившуюся программу «Время», то взахлеб читаем публицистику в наших газетах — все смелей несущую информацию из сфер, где еще недавно хозяйничали всякие радиоголоса… И когда тяжелая театральная ладья вплывает к нам, в наш мир, с пьесой актуальной и нужной — мы начинаем понимать, что у театра есть — и должен быть! — свой неповторимый голос, который не в состоянии заменить ни одно из смежных искусств…
Вот именно такой пьесой — словно угаданной временем — и стала комедия-гротеск «Эффект Редькина», пьеса, быть может, и не приподнятая до высот классического репертуара, но заразительно демократичная и местами настолько злая, что при общем признании по всей стране ее пытались по старинке «зажать», например, в городе Грозном, о чем недавно писали в газетах. Я специально во время действия покидал администраторскую и заходил в зал, чтобы видеть эффект «Эффекта»… И когда по сцене на трибуну поднимались наши болтуны и чинуши, когда карикатурно-бодрые пионеры начинали показушный церемониал — зал разражался гомерическим хохотом. Все это на нашей памяти и еще не умерло, мы знаем этих чинуш в лицо и даже поименно, мы рады выплеснуть на них наш здоровый, очищающий смех…
Четвертый месяц идет «Эффект Редькина» с неизменным успехом! Четвертый месяц — и все неизменно на этом спектакле зритель, полный или почти полный зал…
Но можно ли всю политику театра строить только на «Редькине»? — как сказал мне в споре один критик. Вот в чем, пожалуй, вопрос…
3
— Мейерхольд — гений!! — завывал футурист.
Не спорю, очень возможно. Пускай — гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я — масса. Я — зритель. Театр для меня. Желаю ходить в понятный театр.
Из фельетонов М. Булгакова.
Люстры горят, как на спектакле, а на балконах в рядах кресел, где я сижу, вообще ни души. Зато слышно каждое слово снизу, из партера:
— Товарищи, я рад, что мы взяли такого сложного автора. Освоение такой драматургии потребует от нас больших сил…
Только что состоялся перед премьерой просмотр сдаточного спектакля — «черной» комедии японского драматурга Кобо Абэ «Друзья», а теперь внизу идет обсуждение. Страсти кипят еще и потому, что сдачу спектакля дотянули до последнего дня — и сейчас принимают его буквально перед выходом на сцену. Постановочная группа, конечно, на нервах, обсуждают все — и худсовет, и творческий состав, и приглашенные на просмотр гости.
— Кто еще выскажется? — предлагает председатель.
Внизу, в партере, кто-то встает:
— Мне вот здесь недавно, на моем юбилее, товарищи сказали немало хороших слов… — начинает человек, и я понимаю, что это заслуженный артист РСФСР Николай Михайлович Дроздов, чью выставку к 50-летию творческой деятельности я только недавно разглядывал в фойе.
— …К сожалению, таких же хороших слов я не могу сказать сейчас про увиденный спектакль…
Внизу воцаряется тишина.
— …Более того, он сильно не понравился. Сама пьеса произвела на меня впечатление страшное! А то, что сыграно, ей не соответствует… Мне очень горько, неприятно — но ничему в спектакле я не верю…
— И я согласна во многом с Дроздовым, — вступает в разговор артистка О. Б. Лопухова. — Очень понравилась заявка, но дальше пошел неправдоподобный конфликт…
Кажется, в партере буча. У каждого свой взгляд. Кто-то кричит:
— Нельзя сейчас актерам говорить такое! Неэтично! Им через три часа играть премьеру…
Не выдержав, я спускаюсь в партер — в конце концов как администратор я могу быть участником любого обсуждения. В партере — накал страстей, выступают подряд! Не всех я знаю — но важно в такой момент видеть лица. Вот Хаустов встает, вот Капатов — еще кто-то, еще… Спорят гости, горячатся артисты:
— Почему сдаем недотянутый спектакль? Где режиссура раньше была?
— Актеры сыграли неплохо — ярки Мидзяева, Агашкова, Федеряев, Шарипова! Но в чем концепция спектакля? Где мысль?
— Но это же ассоциативная, сложная драматургия! Кобо Абэ вообще сродни Достоевскому…
— Слишком много сырого, спорного… Поймет ли зритель? Если вся эта семейка — фашизм, то покажи ясней…
Встает кто-то из зала и, как молотом, оглушает собрание:
— А я считаю, что с таким подходом в эксперимент, что начали в стране, нам вступать нельзя. А посему предлагаю — отменить сегодняшнюю премьеру! Если сегодня мы сыграем неготовый спектакль, то и завтра поступим так же…
Это уж слишком! Как истинный администратор я лично таким поворотом потрясен: ОТМЕНИТЬ СПЕКТАКЛЬ! Отменить за три часа до премьеры, когда весь город съедется, как на парад, в театр… Когда разосланы приглашения, раскуплены билеты, когда каждая афиша на каждом углу кричит: ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА!
В партере — мешанина мнений, реакция обсуждавших — противоречива. Я готов схватиться за голову: если премьера лопнет, администраторскую разнесут…
Кажется, за следующие десять минут я раз десять пережил со всеми надежду и крушение, надежду и крушение… Сложилась ситуация, когда не решал никто — ни лица с правами, ни бедный худсовет. На занятых в спектакле актеров лучше не смотреть. Под крики, что этому пора положить конец, уставший председатель ставит вопрос на голосование — открытое, всем залом… Оно и решило судьбу «Друзей» — подавляющим большинством голосов решили спектакль сегодня играть, и срочно довести его до ума.
Наверное, в такие минуты начинаешь понимать, какой это сложный организм — театр и в каких муках рождает он действо, на которое мы порой идем позевывая… С чувством облегчения хожу я среди людей и декораций и слушаю, как все пристают друг к другу с вопросами, кому что понравилось, а что — нет… В комнате, где собрались режиссерские силы, тоже переводят дух и кроят сцены, которые надо менять… У молодого постановщика «Друзей» Бориса Михни лицо человека, перенесшего шквал… Кто-то советует: «Не переживай! Пиши на программках на память артистам: поздравляю с премьерой…». Кто-то уже смеется. Кто-то курит и пьет чай. Все разговоры — только о премьере и пьесе.
Я сижу в уголке на стуле и никому не мешаю. У меня тоже мнение о Кобо Абэ и о том, как его подавать. Если там не сбиты в кулак сцены — несущественно: склеют, на то они и спецы. Главным для меня было — не ощущал я жалости к герою, не ощущал — и всё тут. Конечно, тут были и условность, и подтекст, и второй план — но лишь в одном не могли меня убедить разговоры об интеллектуальном прочтении сложного, как Достоевский, Кобо Абэ — в том, что можно что-то постичь без сопереживания. Как бы ни была сложна пьеса, думал я, сидя на стуле в комнатке на задворках сцены, и какие бы философские вторые планы не рождала ее условность и символика, не может жить на сцене драматургия без самого первого для нее плана — без обычного сочувствия к своему, пусть даже очень условному герою…
Я вообще был уверен, что при всей убедительности поисков театра им не хватает внимания к простым и искренним чувствам — любви, радости или грусти, на которые так легко и охотно откликается человек. Вот и в Русском театре порой дивятся — отчего на какую-нибудь пьеску с «чувствами» валом валят те, кого мы свысока зовем неподготовленным зрителем. Как удобно порой сослаться на его неподготовленность! А не подготовлен он, между прочим, только к искусству, которое хочет воспитать его через голую мысль и сложность, забывая, что вся великая русская литература — да и сцена тоже! — учила уму-разуму на таких «самых простых» средствах, как сочувствие к безвестному Башмачкину, на жалости, сострадании, доброте…
Но это были лишь мои мысли — не более, чем спорные мысли после трудной пьесы, вызвавшей так много разных мнений и толкований. А пока я смотрел, как рождается новый спектакль — он все еще рождался в муке и спешке и обретал что-то новое с каждым выходом на сцену, как «дозревает» каждая новая постановка, но эта дозревала и меняла лицо в лихорадочных озарениях.
Этим же вечером комедия «Друзья» была с интересом принята многими зрителями, хотя кое-кто и ушел с нее. И пресса писала сочувственно, хотя не знала, как все это далось театру. В один из первых премьерных дней я стоял в коридорчике и смотрел, как Михаил Рабинович, главный режиссер, перед очередным выходом на сцену ободрял артистов, уже одетых для спектакля. Они стояли с напряженными лицами — работа была адова, акценты в сценах и ролях надо было менять на ходу. Я впервые их видел так близко — в гриме и тех плащах, в которых они сейчас под зонтиками выйдут на сцену, и понимал, как это сложно — победить в тех условиях, в которые поставила премьера. Были они внимательны и отрешены — готовились к главному, входили в образ, кто-то — по-моему, Федеряев — мерил шагами коридор. Последние минуты до выхода, последние минуты… Еще никто не знал, что вскоре критики признают их работу удачей театра, что скажут лестные слова… Они стояли, еще ничего не зная, и походили на гладиаторов перед выходом на последний бой; о, как я уважал их отрешенность в эти минуты! И вовсе неважно было, кто и в чем был прав или не прав в наших этих спорах о пьесе, главным было, что спектакль СОСТОЯЛСЯ, что в чудовищной спешке и стрессе они — эти несколько человек победили усталость и разлад — а значит, вместе с ними победил театр…
4
Театр — это кафедра, с которой много добра можно сказать людям.
Н. В. Гоголь.
Подходил к концу срок моей работы в администраторской, и эти записки мне бы хотелось закончить какой-то историей — красивой, театральной, непременно с торжественной встречей и цветами. Но цветы достаются только артистам после премьеры, а нам, администраторам, все больше шишки… Потому и история моя будет грустна — так, все больше грубая проза жизни…
Вот мы шагаем со Светланой Николаевной Хазиевой по морозному снежку на большой завод, и я, признаться, слегка волнуюсь. Как удастся там поговорить с заводчанами: почему в театр редко ходят, что им у нас нравится, а что нет? Это же не шутка — повстречаться с дорогим для нас зрителем, с рабочим классом, и узнать его мнение. И Светлана Николаевна у проходной подобралась, на разговор настроилась.
В проходной нас встречают стеклянные кабины и «вертушки» проходной, Светлана Николаевна звонит по внутреннему телефону в профком, чтобы нас впустили. По ее лицу я вижу, что ей долго не удается никого разыскать, потом в трубке отвечают — но не сам председатель, а так — небольшой чин, но по нашему профилю:

— Чего нужно?
— К вам пришла главный администратор Русского драмтеатра… — начинает было Светлана Николаевна (а я думаю: «Надо же, театр у нас теперь с доставкой к рабочему месту…»). — Хотелось бы встретиться с вами, обсудить…
— А обсуждать некогда — не до вас! Если хотите, то говорите по телефону…
Светлана Николаевна еще пытается потолковать с чинушей из кабинки телефона, а я начинаю сгорать со стыда. Какое уж мнение рабочих, какие цехи — нас, из театра, и на порог не пустили…
Мы выходим из проходной и молчим — и я задумываюсь о взаимности театра и города. Не всегда она есть. Ко многому я был готов, когда переступал порог администраторской, и многое предположить мог, но вот никак не мог предвидеть этого пренебрежительного, а иногда и хамского отношения некоторых лиц к ходатайствам и просьбам театра.
Ну, ладно завод — там технари могут чего-то и недопонимать, а возьмите вузы. Не ходят на спектакли будущие медики и будущие педагоги из университета, которые вскоре сами понесут культуру в массы… И, думаю, не без «помощи» тех ответственных за воспитание студенчества людей, которые привыкли отмахиваться от наших уполномоченных, как от назойливых мух. В театре до сих пор с дрожащими губами вспоминают, как пришли вот так же к весьма важному, ответственному лицу в Башкирский госуниверситет, а лицо накричало:
— Да что вы все ходите со своими билетами?
Эпитет, который был лицом употреблен, я просто опущу из уважения к театру… К слову сказать, все эти отмахивающиеся ни постановок новых не смотрели, ни изменений в театре не знают, зато стоят бетонным заслоном между театром и студенчеством, его ребятами из села, которым — я уверен! — и на того же сложного Кобо Абэ было интересно взглянуть, и «Редькина» посмотреть, и многое другое.
К счастью, у театра немало поклонников и добрых друзей, но не о друзьях меня просили в театре писать, а больше о неурядицах.
— Обязательно напишите, что в буфетах у нас ничего нет. Только когда иностранцы в театре или начальство, тогда все и появляется…
Конечно, и о буфетах можно написать, и об афишах типографских, что по медлительности печатников попадают к распространителям, как правило, не в срок, и о транспорте, пожалуй, стоит сказать. Ведь из-за отдаленности того же Орджоникидзевского района его жители составляют лишь 3 процента от посещающих театр. В прошлом году «Башавтотранс» какое-то время подавал автобусы к концу спектакля — сервис был, как в больших «театральных» городах, но долго продержать фирменное обслуживание транспортники почему-то не смогли. Я сам потом, в должности администратора, приходил в трансагентство по ул. Цюрупы, к транспортникам в отдел, так там на меня одна женщина-сотрудница из-за стола накинулась:
— Да это почему мы вам автобусы обязаны давать! Что, Русский театр какой-то особый, да?
В такие минуты мне хочется развести руками и сказать: «Товарищи! Так это же наш театр! Наш с вами — и работающий для нас… Давайте отнесемся к нему с уважением!»…
Нынче Русская драма как никогда нуждается в поддержке — в поддержке горячей, заинтересованной: зрителей, городских организаций и должностных лиц. И пусть настанет время, когда престижно будет спешить по вечерам в театр, который ослепит нас всеми красками праздника, и будут долго вспоминать гости Уфы театральный сервис, и комсомольские работники придут, наконец, на спектакли и приведут за собой ребят, и телевидение хоть раз покажет на голубом экране одну из пьес…
Ну, а пока у театра ни автобусов у входа, ни сюжетов на ТВ, ни комсработников в зале.
Пока я голосую за театр этими заметками из администраторской. Они — не перст указующий, не поучение или критика, а только раздумья и попытка привлечь внимание к интересному коллективу Русской драмы и его проблемам. И если после этих заметок у кого-нибудь возникнет желание прийти к широким дверям театра, я буду считать свою задачу выполненной…
Виктор САВЕЛЬЕВ.
Источник: газета «Вечерняя Уфа», номера за 14 января и 15 января 1987 года.
НЕОЖИДАННЫЕ ЛЮДИ
ВОТ ТАКАЯ КУЛЕБЯКА!
Эротический повар-хулиган бьет Америку приворотным питанием
— Вот они, наши враги! — сказал Михайлов, с ненавистью поглядев на ближайший «Макдоналдс». — Если хотите знать, картошка-фри стоит на втором месте в мире по вредности. Но одно у «Макдоналдсов» положительно — это бесплатные туалеты. В них я всегда в знак презрения оставляя свою мочу, не покупая ни одного их изделия…
«Отметившись» в «Макдоналдсе», Михайлов прямо на улице начал рассказывать про пиры Ивана Грозного.
— Пятьсот блюд за 50 подач в течение обеда — это вам не шутка. Это показатель величия державы — иностранные послы так и докладывали об этом за моря. Между прочим, заметьте, еду Ивану Грозному и гостям подавали только отроки — женщины к столу близко не подпускались…
Похоже, кулинар-новатор из Москвы Владимир Сергеевич Михайлов сел на любимого конька — неизбежность удаления из кухонь женщин и передачи кастрюль исключительно в мужские руки. Эту теорию он уже много лет подкрепляет историческими примерами. Про то, как римлянка, не знавшая прокладок, вошла в критический день в погреба своего мужа-винодельца — и половина поставленного на века вина скисла. С женщинами — или вернее, за женщин Михайлов воюет давно и упорно, выпустив недавно второе издание своей книги «Любовно-эротическая кулинария». Причем выходит, что человечество до Михайлова не знало любовных игр на кухне, и лишь с его осмыслением началась новая эра.
— Я столько приятелей на этом потерял! — делится печалями повар-эротоман, более 10 лет ведущий свои любопытные эксперименты. — Если хотите знать, я с помощью любовной диеты и атмосферы эротической игры за ужином любую женщину могу заставить раздеться. Не верите? Вот и друзья мне не верили! Как? Чтоб моя Маша, мать детей, взяла и разнагишалась? А давай поспорим! И я создавал такую утонченную атмосферу игры, что Маше той больше ничего и не оставалось делать. Все споры такие я выиграл. Только друзей всех потерял. Обиделись и перестали жен водить! И не прощают меня до сих пор…
Если отбросить шутки в сторону, все то, чем занимается Владимир Сергеевич, достойно общественного внимания, ибо он, прослыв эротическим хулиганом, в конечном итоге борется за нравственное здоровье общества. Представьте себе, почти у каждого третьего мужика в России проблемы с потенцией, да и дамы полуфригидны или потеряли уважение к мужьям. Эту беду Владимир Сергеевич полагает исправить изобретенным им кулинарно-эротическим театром, с которым он неустанно выступает в столовых и ресторанах. И денег за это не берет, неся в массы только культпросвет и «100 томов моих партийных книжек» (прости, Маяковский, за умыкнутый образ для кулинарных книг Михайлова, которые он продает в ресторане!). Михайлов предлагает охладевшим мужьям и их сварливым женам включиться в любовную игру возле кухонного стола — вместо вульгарного разврата из мытья посуды и приготовления супов женщиной. Мужчину кухня возвышает, все великие кулинары мира были мужчинами, утверждает Михайлов. В ресторанах Европы шеф-поваров женщин не найдешь ни одной. Кухня — сугубо мужская территория и форпост. Даже ножи женщине нельзя доверять ни в коем случае. Продукты — тоже не очень желательно, чтобы не вышло, как с тем вином. А главное, на кухне мужчина заряжается эротически. И когда приглашает на ужин туда свою подругу, ужин превращается не в унылое действо с уставшей женой, а в настоящий пир любви…
— Как же вы дошли до знаний таких? — любопытствовал я, пока на наши речи озирались проходящие мимо длинноногие и большеглазые дивы.
— А я всю жизнь преподавал кулинарию, — ответствовал Владимир Сергеевич. — И даже три рекорда в книгу Гиннесса поставил по кулебякам — изготовив соответственно 100-метровую, 200-метровую и 300-метровую. И обнаружил в процессе познания, что люди с древности использовали пищу для возбуждения плотских и эротических желаний…

Первый бой пуританству и заскорузлому быту первооткрыватель кухонной эротики выиграл на заре перестройки, дав, что называется, по соплям французам, мнящим себя большими эротоманами. На его вечер, специально устроенный в нанятом московском кафе, прикатила частная французская телестудия с западной мадам-хозяйкой. У мадам отвисла челюсть и краска прилила к лицу, когда на подиум — чуть не пританцовывая — вышел кулинар Михайлов, а два юных создания девичьего пола несли вслед за ним метровый пирог в виде… мужского фаллоса. В лучших традициях перестроечного эпатажа Владимир Сергеевич тогда провел один из первых показательно-эротических ужинов.
— Я понял, что на правильном пути, — рассказал Михайлов, — когда к концу моего кулинарно-эротического вечера все приглашенные семейные пары — от 25-летнего до 75-летнего возраста — вдруг начали целоваться и ласкать друг друга…
— Пирог, то бишь… фаллос хоть вкусный был? — поинтересовался я тихо.
— Изумительный! — вздохнул Владимир Сергеевич. — Я ведь знаю толк в кулинарном искусстве, еще до армии поваром начинал. А в Плехановском институте учил пищевиков-технологов, уже имея богатый опыт работы на кухне и множество изобретений: овощную колбасу, майонез без яиц и т. д.
Фаллолизацию — пусть не смеется читатель! — наш герой считает наиважнейшим делом не только в области самой кулинарии, где он этих фаллосов напек, наверно, не один мешок, но и в сервировке стола.
— Представьте себе, — он говорит, — что вы сели за обеденный стол и взяли в руки столовые приборы. А там ножи в виде опять же мужских фаллосов всех размеров или вилки в форме женской груди, попки. Все это возбуждает, влечет, создает фантазийную атмосферу… Вот только изготовителя на такие изделия надо найти.
К слову, в кулинарно-эротическом театре, который сейчас проповедует новатор-кулинар, важную роль играют не только такие, можно сказать, зрительные эротические образы, но и словесные. По секрету сообщим тем, кто еще не присутствовал на шоу-ужинах Михайлова, что все блюда на них имеют очень привлекательные названия. К примеру, похлебка «Страсти купца» или запеканка «Женская задница была и будет самым вкусным блюдом мужчины». Но вершиной словотворчества, пожалуй, является салат в виде женской груди с экзотическим названием «Возбужденный сперматозоид спешит в ароматный грот Венеры». Взрезать эту смелую округло-зовущую «грудь» из салата предлагается только кавалерам с помощью специального изящно подобранного ножа, сами понимаете, какой конфигурации…
Конечно, в любого Коперника толпа поначалу швыряет камни. И плохо, когда это делает жена или близкие, которые иной раз всей возвышенности эротики не поймут-с… Владимиру Сергеевичу сейчас 64 года, а его супруга с консервативным настроем почти на 25 лет моложе. Но, как утверждает сам Михайлов, жена потихоньку привыкла к тому, что он по своей теории «Кухня — для мужчин!» сам себе готовит пищу и эротизирует публику на представлениях вне дома.
Главное положительное зерно в воззрениях отца любовной кулинарии состоит в том, что во всех своих смелых фаллосных и иных выпечках и закусках он опирается только на качественный отечественный продукт, на наши едацкие традиции.
— У Америки с ее «Макдоналдсами» не было истории, — поясняет он. — Ее как создали триста лет назад бандиты, которые питались на конях, так и сейчас они жуют свои бесполезные продукты на ходу.
И в общем-то, надо признать, что во многих своих воззрениях подвижник кулинарной любви, безусловно, прав. Во всяком случае, если у мужиков от его метровых кулебяк начнутся в брюках и мозгах какие-то подвижки, хуже от этого женскому населению и народу не станет.
Степан МИТРОФАНОВ,
кандидат в гурманы.
Источник: газета «Русский обозреватель», №5 (11) 29 августа 2003 года.
ПРОСТИ, ПРОБИРНАЯ ПАЛАТКА…
Репортаж в пяти эпизодах
1
КАЖЕТСЯ, я опять пришел не вовремя: по лицу Алевтины Андреевны видно, что ей сейчас не до корреспондента. И остальным тоже. Зато я доволен: застал их всех в самый момент… Вот, чуть не налегая на стол, сидит Чуканова Галина Николаевна. Похоже, что она нашла клад: полупустой ящик перед ней, а по столу — в невиданном для простого смертного количестве — рассыпаны золотые серьги. Видно, их считали — вон как разложены по десятку в ряд. Я с любопытством гляжу: где еще увидишь такое зрелище! Серьги здесь самые разные: гнутые и с узором, в виде капелек и хитрых фигур, есть серьги-кольца, листики, звездочки…
А у Алевтины Андреевны, напротив, — пусто, только одна маленькая сережка в руке. Да и ту ей сейчас дала Чуканова. Алевтина Андреевна с недовольством смотрит на этот изящный золотой ромбик, долго вертит и трет его. Затем энергично берет кусачки, а может быть ножницы, с зеленой длинной ручкой.
— Что вы делаете?!
— Режу! — говорит она и «перекусывает» ножницами серьгу. Затем извлекает со стола массивное золотое кольцо и режет его пополам. Я молча гляжу на испорченные вещи. Да… У Алевтины Андреевны твердый характер и уверенная рука — это уже я заметил…
2
НО, КОНЕЧНО, интересней разрезанного кольца эта прозрачная посудина на столе. Предметы в ней самые экзотичные: несколько истертых монет, значок с облупленной эмалью… Но больше всего впечатляют часы — размером больше ладони, старинные, с массивной цепочкой. На их корпусе с богатой инкрустацией сцена охоты: мчится в азарте с охотничьим рогом всадник, гончие собаки вот-вот настигнут кабана… Поневоле залюбуешься искусной работой, тем благородным оттенком, которым отсвечивает старое серебро!
— Это вовсе не драгметалл! — охлаждает мои восторги Алевтина Андреевна, которую во всех собранных у нее на столе вещах интересуют только драгоценные сплавы. — Корпус у часов всего лишь посеребренный, а цепочка и вовсе простая!
За часами и монетами приходит женщина из Башкирского объединенного государственного музея, заодно подкидывает Алевтине Андреевне еще заказ: пузатую старую шкатулку на гнутых ножках. На дне ее четко виден год рождения — 1858-й, клеймо вильнюсского мастера и проба серебра в золотниках — 84-я. Но это еще надо проверить! Алевтина Андреевна забирает шкатулку, чтобы спрятать в сейф.
— А знаете, что у вас был очень знаменитый коллега? — останавливаю я ее. — Сам Козьма Прутков!
— Ну да? — не верит женщина из музея. — Это же выдуманный герой…
И тем не менее доказательства налицо в сочинениях Пруткова:
— Вот час последних сил упадка
От органических причин…
Прости, Пробирная Палатка,
Где я снискал высокий чин,
Но музы не отверг объятий
Среди мне вверенных занятий!
Это прощальное стихотворение, которое веселые мистификаторы — братья Жемчужниковы и А. К. Толстой — приписали мифическому поэту и управителю Пробирной Палаткой Козьме Пруткову, якобы найдено в делах сей последней при ревизии. Ну чем, скажите, Прутков не коллега Алевтине Андреевне Ханило, которая в Уфе возглавляет лабораторию того же профиля и назначения?
3
НАВЕРНОЕ, есть смысл назвать полным именем эту службу, у дверей которой, как в банке, выставлен милицейский пост — ценности здесь немалые. Это лаборатория Поволжской государственной инспекции пробирного надзора, существует она в Уфе десять лет. И десять лет приходит в ее стены Алевтина Андреевна Ханило — с тех пор, как перешла сюда с Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Тогда инспекция в нашем городе только зарождалась, стали подыскивать среди химиков-лаборантов человека, которому можно доверить государственное клеймение драгоценных изделий. Таким ответственным человеком и оказалась старший пробирёр Алевтина Андреевна.
…В этот день мы сидели рядом. Работа здесь точная, Алевтина Андреевна просила не отвлекать. Лишь посидев с пробирёром, понимаешь, почему в старину изведка дорогих металлов звалась пробирным искусством. Тут все имело значение, начиная с… камня.
Вы, наверное, тысячу раз слыхали связанное с ним выражение. «Женитьба дело важное, пробный камень всего человека», — восклицает у Тургенева Гамлет Щигровского уезда, да и мы сами в переносном смысле часто говорим о чем-то: вот пробный камень… Сейчас этих черных кремнистых сланцев — в наше время их чаще зовут пробирными камнями — перед Алевтиной Андреевной целых три: отдельно для золота, серебра, платины… Не дай бог оставить на их полированной поверхности отпечатки пальцев — сланцы натерты маслом, насухо вытерты!
— В Армении камни перед пробой натирают грецкими орехами, — сообщает мне Ханило и, поймав недоверчивый взгляд, качает головой. — Я вовсе не шучу: там в пробирный надзор для работы приносят мешок орехов. А мы пользуемся обычным касторовым маслом…
Она берет кольцо-печатку, вызвавшее подозрение у Галины Николаевны, и трет его в нескольких местах о камень, чтобы остались золотые полосы — следы кольца. Меж ними делают натиры эталонной золотой иглой, где содержание драгоценного металла точно соответствует 578-й пробе. Мазок желтым химреактивом — и Алевтина Андреевна сравнивает реакции на всех золотых натирах. Это кольцо с подвохом: то показывает нормальные пробы, то где-то проскальзывает не тот спектр.
— Может, это припой? — предполагает Галина Николаевна, специалист очень работоспособный и вдумчивый. Она долго искала, где брак у этого кольца. — А может, есть раковина, куда забилась грязь?
Совместно женщины решают вымыть в спирте изделие и снова допроверить его на камне. Если проба золота хоть в одном месте окажется ниже установленной, то кольцо надо будет резать на переплавку, как серьгу, с которой начат рассказ… Иначе нельзя. Пробирный надзор зорко стоит на страже наших с вами интересов — здесь не допустят, чтобы к заказчику попало ювелирное изделие с заниженным драгоценным сплавом.
— Наверное, трудно было осваивать пробирное дело? — спросил я у Алевтины Андреевны, узнав, что не было до нее в Уфе специалистов.
— А я и на заводе сложные анализы делала, — ответила она. — Конечно, в пробирной лаборатории мне интересно. Только большой заводской коллектив до сих пор жаль — я ведь по характеру люблю быть в гуще людей, вести общественную работу. Так что родной завод до сих пор не забуду…
Это признание про общественную жилку у Алевтины Андреевны не случайно. Мы еще вспомним о нем…
4
У ГУЛЛИ ДЬЯЧКОВОЙ операция мелкая: клеймит целую связку золотых цепочек. Маленький станок с педалью, нажим — и на золоте отпечаток величиной с булавочную головку: проба. Это не просто операция — это как бы удостоверение на драгоценный металл, такое же, как печать нотариуса на документе (кстати, подделка государственного пробирного клейма преследуется законом начиная с XVII века, когда на Руси впервые ввели «орление» серебра). И в то же время проба — это еще итог работы лаборатории. Работы кропотливой: каждую из клейменных Гуллей цепочек «натирали» на пробирном камне через каждые 3 — 4 сантиметра. С простого кольца делают здесь минимум три натира, со сложного перстня — до десятка. А если кольцо из платины, то камень перед натирами подогревают до 70 градусов, а затем охлаждают, чтобы капнуть йодистым калием. Ну-ка помножьте эти усилия на количество поступающих в лабораторию изделий…
— Учтите, — сказали мне, — что к нам присылают на контроль свою продукцию не только ювелиры Башкирии, но и мастерские девяти областей страны…

Я заглянул в список: по сути дела, за пробирным клеймом в Уфу проделывает путь каждое ювелирное изделие из Саратова и Ульяновска, Куйбышева, Оренбурга, Энгельса, из мастерских Западного Казахстана. Алевтина Андреевна и ее помощницы порой «по почерку» могут сказать, где сделано кольцо или брошь. И приятно слышать, что пальму первенства в этом негласном сравнении мастеров они единодушно отдают ювелирам «Башбыттехники»: их изделия красивы, сложны, многие выполнены с художественным вкусом. И сплавы уфимцев отвечают стандартам…
А вообще чего только не проходит через руки пробирёров. Вот прислали из Тольятти зубные протезы: проверьте, человек жалуется на жжение во рту. Посылка сразу насторожила: золото какое-то розоватое, на стандартное дисковое не походит. Анализы показали: так и есть, зуботехник применил немедицинский сплав. А бывает наоборот: у человека от употребления марганцовки или лекарств потемнели золотые коронки, приходится, сделав анализ, доказывать ему, что нет вины протезиста.
К просьбам населения в лаборатории вообще внимательны: дважды в месяц пробирёры принимают изделия от горожан. Но правила клеймения соблюдают твердо: никогда не поставят государственное клеймо на изготовленное без «именника» мастерской «левое» кольцо, не возьмут на анализ даже чуть поломанное или имеющее трещину изделие. Исключение делается для вещей старинных, имеющих художественную ценность. Алевтина Андреевна все не может забыть, как принесли однажды пожилые супруги на анализ серебряные подвески еще допетровских времен, с мелкими бриллиантами, очень ветхие, но необыкновенной красоты…
— Вот вы спросили, почему мы с Галиной Николаевной сами не носим украшений, — сказала по этому поводу она. — Да мы у себя в лаборатории порой такую красоту видим, после которой и не посмотришь на массовое изделие! Вы и представить не можете, какие редкие вещи приносят иногда на анализ…
5
НЕОЖИДАННАЯ НОВОСТЬ: Алевтина Андреевна выезжает в командировку. Вот почему ей не до разговоров: спешит до отъезда поставить пробы на всю партию изделий.
— В район едете тоже анализы делать?
— Нет, проверять, как местные предприятия расходуют технический драгметалл. Мы, сотрудники лаборатории, всегда с охотой включаемся в такие проверки. Не везде еще в промышленности берегут ценные материалы, вот бы о чем написать в газету! Вот мы на днях были с проверкой на заводе торгового оборудования — там много недостатков выявилось…
Алевтина Андреевна загорается, когда говорит про общественную пользу таких проверок. Она в приподнятом настроении: едет к людям, в самую гущу дел, событий…
…Ухожу из пробирного надзора с чувством сожаления: не удалось узнать еще про тьму интересных вещей. Про то, как здесь впервые выявили фальшивые монеты — еще «демидовские», на халате из музея (даже бывшая хозяйка не знала, что носила поддельное серебро); и про то, как однажды сотрудники лаборатории помогли криминалистам; и про необычный новый заказ, что привезли вчера Алевтине Андреевне из Куйбышева…
Но время репортажа истекло. Я закрываю блокнот и выхожу за дверь, где вооруженный милиционер на посту провожает меня взглядом. Хочется сказать словами Козьмы Пруткова: прощай, Пробирная Палатка — то бишь лаборатория! И прости, что не смог изведать всех твоих тайн…
В. САВЕЛЬЕВ.
Газета «Вечерняя Уфа», 23 апреля 1985 года.

В 1994—1995 годах автор вел в республиканской газете «Советская Башкирия» субботнюю страницу «Еще не вечер…», в которой публиковал неожиданные истории о людях. Ниже подборка из этой коллекции.
Трамвай на скаку остановит
Корреспондент «Советской Башкирии» не смог на днях уговорить одну из уфимских вагоновожатых сообщить читателям фамилию — эта женщина при выезде с кольца на остановке «Строительная» обнаружила, что разогнавшийся трамвай не слушается тормозов, и, выпрыгнув на ходу, сумела обогнать вагон и сунуть тормозной «башмак» под колеса…
Страшно подумать, что было бы, если бы в республике не было таких женщин! Во всяком случае, в Барнауле их не нашлось — там одни хозяева мирно смотрели телевизор, когда их крепкий деревянный дом вдруг заходил ходуном. Подумав, что началось землетрясение, все в ужасе разбежались, а когда вернулись в комнату, то обнаружили там… трамвай. Правда, не рейсовый, а снегоочиститель. Управлявшие им пьяный водитель на пару с таким же дружком не сбавили скорость на повороте и на полном ходу, не поворачивая, перелетели на трамвае через проезжую часть и врезались в дом…
Источник: газета «Советская Башкирия», 22 января 1994 года.
Начальник рыдал от счастья…
В одной уфимской конторе, названия которой нас просили не выдавать, сотворили шутку. Была изготовлена с помощью умельцев фирменная печать для «любимого начальника» и подсунута ничего не подозревавшей секретарше, которая, не глядя, шлепнула ее на первый же приказ. Подпись начальника скрепляло «гербовое» изображение, символизирующее трех китов, на которых держалось жизненное кредо руководителя: рюмка, бутылка и обглоданная селедка. Правду говорят, что кто долго смеется, к вечеру плакать будет. И точно, скоро шутники схватились за голову после обнародования еще одного приказа — на этот раз об их немедленном увольнении. На последнем приказе печать стояла уже настоящая…
Источник: газета «Советская Башкирия», 29 января 1994 года.
С московским секс-приветом
Намедни, прогуливаясь в Москве на Арбате и намереваясь перекусить, сотрудник «Советской Башкирии» наткнулся близ столика с порночтивом на одного из тех, за кого в Башкортостане голосовали в Думу, занятого долгим разглядыванием очень крупно и откровенно отснятой в журнале обнаженной мисс. Журналист выпил два кофе и съел бессчетное количество сосисок, прежде чем означенный «думец» оторвался от увлекательных картинок. Искренне порадовавшись за земляка, что ему ничего человеческое не чуждо, наш сотрудник с грустью подумал, что лучше было бы, если бы наши новые политики проявляли такой же интерес к бедам своего народа…
Источник: газета «Советская Башкирия», 16 апреля 1994 года.
Пятачок с Персидского залива
На прошедшей неделе один из сотрудников «Советской Башкирии» побывал в командировке на берегу Персидского залива, где по случаю посетил местный яхт-клуб. К его удивлению, несмотря на строгую надпись «The member only» («Только для членов»), русских лиц там было куда больше, чем арабских яхтсменов. И невзирая на все старания корреспондента привезти какой-нибудь колоритный анекдот для субботней страницы, где бы фигурировали верблюды или местный колорит, он услышал массу чисто «совковых анекдотов» с Василием Ивановичем, Петькой и поручиком Ржевским. Но верхом популярности почему-то пользовались анекдоты про Винни-Пуха и Пятачка. Вот один из них:
«Винни-Пух идет по берегу моря, за ним — верный Пятачок. Вдруг Пух повернулся и больно стукнул Пятачка.
— За что? — рыдает бедный Пятачок.
— Как за что? Идешь тут сзади меня, молчишь. И черт-те что обо мне думаешь…»
Ах, как это знакомо…
Источник: газета «Советская Башкирия», 30 апреля 1994 года.
ВАШ «ЛЕТАЮЩИЙ» КОРРЕСПОНДЕНТ…

ПОЛЕТЫ БЕЗ СНА И НАЯВУ…
Субъективные заметки пассажира «Башкирских авиалиний»
1. Вместо вступления
Во Владивостоке на аэродроме ждали американского госсекретаря. Смолк эфир, застыли на земле самолеты, патрули в пятнистой форме перекрыли аэропорт. Группу людей с камерами — журналистов и телевизионщиков — отогнали на самый край бетонки, на которой топтались встречающий гостя министр А. Козырев со свитой… Аэродром, как водится, был полностью блокирован.
— Смотри, во-о бабка дает! — в изумлении воскликнул стоявший рядом со мной пилот из Уфы, с которым мы из остановленного посреди поля самолета наблюдали высокое действо.
По бетонке, как совершенно неуправляемый элемент, в затрапезном халате уборщицы и ботах топала какая-то аэродромная тетя Мотя, которая, на цыпочках обойдя высокопоставленную группу, тянула шею в сторону дипломатов и телевидения. Невесть откуда проникший сквозь оцепление и усевшийся на самом видном месте бродячий пес при виде ее вскочил и замахал хвостом. Тетя Мотя еще раз обошла изумленных встречающих. Уже катил приземлившийся «Боинг», оглушая свистом двигателей смолкший аэродром.
— За такое в прежние годы по шее бы надавали! — горячим шепотом крыл всех святых стоявший за моей спиной уфимский пилот.
«Боинг-707», испустив последние трели из движков, застыл, как вкопанный. Тут же заранее приготовленные два автотрапа покатили к его борту. У всех наблюдавших церемонию отпали челюсти… Перепутав все на свете, почетный — украшенный красной ковровой дорожкой для гостей — автотрап лихо подкатил к хвостовой части «Боинга», откуда, ошалев от оказанной чести, вышла на красную ковровую дорожку американская обслуга. А из почетного переднего «боингового» выхода уже выходили на обыкновенный голый аэрофлотовский трап американский госсекретарь Кристофер, сопровождающие его дамы и господа. Встречавшие изобразили ликование на лицах! Телевизионщики, щетинясь камерами, теснили оцепление. Между ними и высокими гостями, как бродячая комета, шаталась любопытствующая тетя Мотя и лохматый аэродромный Полкан, приплясывая от радости, вилял хвостом…
— Вот смотри, до чего авиация дошла, — схватился за голову вконец расстроенный пилот, которому доводилось раньше возить делегации. — Трап нужный подать — и то не умеют…
Да, с авиацией, в самом деле, все обстояло непросто. Задумав написать репортаж о ее проблемах, я и не предполагал, насколько сложна и тревожна ее жизнь… А пока я впитывал впечатления и, набивая блокноты фактами, мотался на самолетах авиакомпании «БАЛ» во Владивосток, Москву и Объединенные Арабские Эмираты, встречаясь с разными экипажами, живя то в обшарпанных наших гостиницах, то в отелях за рубежом, записывая, общаясь, пытаясь вникнуть в обстановку…
Из этих записей и родился репортаж. Начал я его еще при снеге, а закончил, когда над разомлевшей землей уже вовсю бушевала весна.
Впрочем, начну все по порядку…

2. Как шпион на борту ТУ-154…
— На одиннадцатое число до Владивостока, — сказал я гордо, сунув в окошечко документы.
Девушка там пробежала пальчиками по клавишам запросчика «Сирена-2» и выдала:
— На одиннадцатое ни одного билета! Попозже полетите?
Я чуть не поперхнулся: вся намеченная поездка летела в тартарары! Ведь под нее я подгадывал с редакционными делами, создавая для полета «окно», увязывал все сроки… Как же не рассчитали с билетами порекомендовавшие этот рейс люди в «Башкирских авиалиниях»? Ведь они даже фамилию командира корабля мне называли…
— Так вы по «командирской брони»? — выслушав мои сбивчивые объяснения, догадалась девушка и ткнула в другую клавишу «Сирены». — Так бы и сказали раньше…
Через пару минут я стал обладателем двух билетов — до Владивостока и обратно. Слетать в оба конца в то время стоило 440 тысяч рублей…
Вообще с подготовкой к полету было немало хлопотного. Первым делом я потребовал своего присутствия на всех стадиях полета: в кабине пилотов, на взлетах, посадках, на заправках в промежуточных аэропортах… С присутствием и проживанием с экипажем проблем не было. Вот только промежуточные аэропорты…
— Вы знаете, ни в одном аэропорту вас и на дух в диспетчерские и прочие службы не пропустят, как только узнают, что вы журналист! — пояснили мне. — Так что летите себя и ходите с летчиками потихоньку, нигде не представляясь. Авось вас тоже за пилота примут…
Принять меня за пилота при моем штатском виде и очках на носу можно было лишь при очень большом воображении. Тем не менее я подробно разъяснил командиру Ту-154М Загиру Шамсулловичу Мухаметзянову свой «шпионский» план проникновения на сопредельные аэропорты и, довольный, при взлете уселся за его спиной в кабине самолета, наблюдая, как «бежит» высота по приборам и ночная земля проваливается куда-то вниз.
— Этот рейс считаем тяжелым, — под гул моторов сообщал мне командир. — Вся ночь без сна, пересечем пять часовых поясов и всю Сибирь. Трудно идти против солнышка! А вот те огни по курсу — это Златоуст…
— Так быстро?
— Да. Вот то световое пятно в ночи — это Челябинск. Екатеринбург останется в стороне…
Города в россыпях огней наплывали один за другим, пришла бортпроводница Валентина Кныш и уточнила:
— На борту 55 пассажиров.
— А сколько всего мест в самолете? — спросил я, помешивая ложечкой принесенный кофе. Посадка была довольно поздняя, в час ночи, я не очень-то тогда задумался о количестве пассажиров…
— Полная загрузка самолета — 166 мест, — спокойно пояснил Мухаметзянов, а Валентина кивнула.
— Так мы на две трети пусты?
— Да, рейс загружен мало, — согласилась Кныш, — обычно в салоне бывает до 80 пассажиров. А когда солдатиков возили, призывников, — вот тогда и по сто десять человек летали…
Я отставил в сторону кофе и задумался. Коварная штука репортаж! Вот кажется в кабинетах: все ясно. А стоит отправиться в рейс самому — и уже как объяснишь: почему в кассе не можешь свободно — без «командирской брони» — взять билет на лайнер, в котором больше сотни кресел пустыми улетают за шесть тысяч километров? Где и когда кончается наше расточительство и начинается признанный во всем мире разумный расчет, где лучше со скидкой билет дадут, чем повезут «воздух»?
— Вот и солнце, — сказал кто-то из экипажа. Второй пилот А. З. Мухаметжанов прилаживал шторку, чтоб заслониться от встречных лучей. В пять с минутами утра (и 00.12 по Гринвичу) солнце хлынуло в кабину Ту-154М. А еще через час, разбудив своим ревом сонный Иркутск, мы катили по аэродрому…
Как ни странно, мой «шпионский» поход по службам Иркутского аэропорта прошел без сучка и задоринки: никто не спросил пошедшего с бортовыми документами Загира Шамсулловича, что за штатский тип шляется за тобой по аэродромным инстанциям.
— А, Уфа… — встретили нас в диспетчерских службах. — Вас заправлять не будем: вы у нас первые должники…
И указывали на бумажку со списками неплатежей, где в десятке городов была и Уфа. Мухаметзянов, человек тихий и спокойный, нравящийся мне мягкостью и рассудительностью, пошел по знакомым людям в службах. Тут я, может быть, впервые увидел, что «Башкирские авиалинии» что-то представляют в этом авиамире. Наши словесные гарантии, что следующим же рейсом привезут чековую книжку, были приняты. Появился пожилой человек из местных служб, который помог оформить Мухаметзянову бумаги на заправку.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.