
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Людмила Георгиевна Алексеева: ВСЯ ЖИЗНЬ — СЛУЖЕНИЕ ДОБРУ
80-летию со дня рождения
Алексеевой Людмилы Георгиевны
и 60-летию её служения в органах правосудия
посвящается…
Автор выражает особую благодарность консультантам:
Заместителю Председателя Мособлсуда в отставке,
Заслуженному юристу РФ, судье высшего квалификационного класса
Анатолию Федоровичу Ефимову
Государственному советнику юстиции 3-го класса
Светлане Николаевне Павловой
Игорю Аркадьевичу Алексееву
за предоставленные документы и архивы семьи
Новая книга известного российского писателя и публициста Ирины Михайловны Соловьёвой — исследователя законов нравственного и духовного преломления времени — посвящена удивительному человеку, нашему современнику: судье Мособлсуда, Заслуженному юристу России Людмиле Георгиевне Алексеевой. Читателям уже известны такие книги Соловьёвой, как «Приграничная полоса времени», «Все дороги стекаются в Путь», «Поэзия одной строки» и другие.
Героев этой книги связывают судьбоносные узы эпохи — жизненные, духовные, творческие, профессиональные. Автор раскрывает мельчайшие детали бытия самого обыкновенно-необыкновенного человека с его естественным подвигом служения благому начинанию и делу — служения Добру.
Книга адресована самому широкому кругу читателей.
К читателю…
Историко-документальная книга Ирины Михайловны Соловьёвой «Вся жизнь — служение добру» посвящена судьбе Людмилы Георгиевны Алексеевой — нашего современника, замечательного человека, прожившего долгую интересную жизнь.
И.М.Соловьёва творчески переработала архивные материалы, ей удалось передать дух эпохи. Излагая жизненные ситуации, в которых оказываются герои книги, она не избегает описаний трагических моментов в их судьбе.
Автор показывает, как с раннего детства формируется личность, складывается несгибаемый характер Людмилы Алексеевой. Несмотря на превратности судьбы, она хранит в своём сердце добро.
Сухие архивные сведения в данном произведении преображаются в интересное повествование о жизни главной героини и её семьи.
Историко-филологические исследования происхождения фамилий, колоритное описание быта и подробные воспоминания очевидцев делают эту документальную книгу живой и яркой.
Познакомившись с историей жизни Людмилы Георгиевны Алексеевой, читатель сохранит о ней тёплую память.
Член Союза писателей России
Александр Абалихин
Творить добро…
Людмила Георгиевна Алексеева, памяти которой посвящена настоящая книга, была человеком на редкость светлым, живым, остроумным и обаятельным.
Многие из коллег Людмилы Георгиевны выделяют, прежде всего, её высокий профессионализм. Это действительно так. Говорю об этом как её непосредственный руководитель, возглавлявший надзорную группу по гражданским делам Мособлсуда в течение 20 лет. Но я бы отметил и другие её замечательные черты. Скромная, даже стеснительная, очень доброжелательная и ранимая, она становилась жёсткой и бескомпромиссной к тем, кто, особо себя не утруждая, при разрешении дел допускал явные промахи.
Сама Людмила Георгиевна досконально вникала в суть любого дела, тщательно анализировала доказательства, отделяла существенные элементы от случайных и, разумеется, имела полное представление о нормах закона, подлежащих применению.
Именно сплав этих качеств, которыми в совершенстве владела Людмила Георгиевна, определяет квалификацию судьи, делая его профессионалом. Этого же она требовала и от своих коллег, как начинающих, так и у тех, кто немало уже поработал. Её слушали и соглашались, ибо авторитет Людмилы Георгиевны был непререкаем.
Причём это было время полного обновления земельного, гражданского, жилищного и других отраслей законодательства. Стали появляться категории ранее не известных споров. К сожалению, многие из вновь принятых законов не отличались высоким качеством, что создавало дополнительные трудности в их понимании и применении.
Преодолевая многочисленные пробелы, противоречия и другие недостатки законодательных актов, Президиум Мособлсуда, членом которого была Людмила Георгиевна, формировал судебную практику по этим спорам, придавая нужное содержание и смысл подлежащих применению новых законов.
Полная сил и желания трудиться Людмила Георгиевна в 2005 году была вынуждена уйти в отставку ввиду действовавших тогда возрастных ограничений. Расставание было тяжелым. Все понимали как трудно Людмиле Георгиевне, и какая это потеря для коллектива гражданской коллегии Мособлсуда, даже пытались «обойти» закон, но в итоге так и не придумали, как это сделать.
Известному дореволюционному юристу Боровиковскому А. Л. принадлежит шутливое стихотворение:
Вчера, гулял я по кладбищу,
Читая надписи могил,
Двум-трём сказал: «Зачем ты умер?»
А остальным: «Зачем ты жил?
Вопросы эти, надо сказать, прямо вечные, их можно задавать живым и тем, кого уже нет с нами. У тех, кто знал Людмилу Георгиевну, никогда не возникнет вопроса, для чего она жила. Всем очевидно, что Людмила Георгиевна жила и трудилась, чтобы творить добро, олицетворяя собой идеал борца за право и справедливость. Удивительно светлый был человек! Ей вечная память по заслугам!
Заместитель Председателя Мособлсуда в отставке
Ефимов Анатолий Федорович
Свет твоей души
Вернее истины здесь нет, когда в душе твоей
Горит, сияет тихий свет — сияет для людей!
Терентiй Травнiкъ
В начале работы неожиданно задалась вопросом: а можно ли в книгу вместить жизнь человеческую с её радостями и бедами, взлетами и падениями? Ответ очевиден: нет, конечно. Но высветить главное направление жизни конкретного человека, воспринятое от родителей, можно.
Вызревал предлагаемый читательскому вниманию труд медленно. Поднимая архивы и дневники, встречаясь и беседуя со многими людьми, знавшими Людмилу Георгиевну Алексееву, я всё больше понимала, что служение добру передаётся из рода в род, от дедов и прадедов к родителям, а от родителей, жизнь которых становится наглядным примером такого служения, к детям. Да и само понятие жизни в процессе работы становилось более объёмным. Перед моими глазами прошла не одна судьба, и каждая из них, вопреки потерям, преодолениям, бедам и страданиям, героически стояла на службе добра, передавая свой жизненный пример из поколения в поколение.
Собирая и систематизируя материалы для данной книги, поймала себя на мысли, что труд публициста можно отчасти сравним с делом мозаичного мастера. Писатель также терпеливо выкладывает полотно жизни, скрупулёзно подбирая разноцветные, маленькие и большие эпизоды-мозаики, тщательно соединяя их друг с другом. Палитра каждого мгновения бытия имеет тысячи неповторимых оттенков, позволяя создавать богатые и яркие картины. Вот такое наполненное светом мозаичное полотно жизненного пути Людмилы Георгиевны Алексеевой мы и старались воссоздать здесь. Мои соавторы — это многочисленные дневники Людмилы Георгиевны и Аркадия Павловича Алексеевых, в которых они, как очевидцы, запечатлели фрагменты быта и жизни советского времени, передав читателям частицу своих размышлений, переживаний и радостей; это и рассказы коллег из Мособлсуда, Московской областной прокуратуры; и воспоминания друзей юности и, конечно же, сына Игоря — известного российского поэта Терентия Травника. Жизнь каждого героя, появившегося на страницах нашей книги, какой бы она не была трудной и трагической, «сияла тихим светом» души, излучая добро в мир.
Подготовка к написанию книги о жизни Людмилы Георгиевны Алексеевой началась в 2010 году, и при каждой встрече Людмила Георгиевна с удовольствием делилась воспоминаниями, которые я старалась записать на диктофон, а дома занималась расшифровкой записанного. В беседах Людмила Георгиевна неоднократно поднимала тему возможного издания её дневников. Действительно, не так давно её сын Игорь любезно предоставил эти архивные записи для изучения и включения их в книгу. Материала оказалось много, и весь он был, в прямом смысле, изумительный. Всё литературное наследие составляет восемнадцать общих тетрадей, и в настоящей работе использована только незначительная их часть.
Пусть каждый фрагмент жизни героини, запечатлённый в книге, сохранится для потомков. Пусть читатель откроет для себя главное: как прожить жизнь так, чтобы всякий её миг был осознан и наполнен служением добру.
Член Союза писателей России
Ирина Михайловна Соловьёва
* * *
И в снегопад, и в летний зной,
На риск свой и на страх
Иди на свет, иди, друг мой,
С молитвой на устах.
Иди тропинкою, что шёл туда, где ждал рассвет,
Где ты не чаял, но нашёл души желанный свет.
Теперь пришёл к тебе иной
Указ с вершины лет:
Пришла пора дарить, друг мой,
Души желанный свет.
Иди в объятия зари, в соцветия примет,
Иди и каждому дари — души желанный свет.
Когда ни сил, ни веры нет здесь у того, в ком ты
Полол нещадно сухоцвет, растил в душе цветы.
Кто говорит, что твой совет на правду не похож —
Не отступай, веди на свет его, что сам несёшь.
Пускай же дивною рекой течёт, струится свет,
Увиденный его душой, на сотню сотен лет.
Тот, что не гаснет никогда, что полон доброты,
С которым горе не беда, и здравствуют мечты.
Вернее истины здесь нет, когда в душе твоей
Горит, сияет тихий свет — сияет для людей!
Терентiй Травнiкъ

Филимоновы
Представитель фамилии Филимонов по праву может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории России. Сама фамилия происходит от крестильного имени Филимон — любимый (греч.). О точном месте и времени ее возникновения в настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования был достаточно длительным. Тем не менее, многие носители фамилии Филимонов внесли вклад в историю России и различные сферы жизни страны.
Генеалогические исследования показывают, что род Филимоновых, о представителях которого идет речь в нашей книге, объединял купечество и, собственно в Тульской губернии, — духовенство.

И деды, и прадеды Филимоновы были долгожителями. Прадед Иаков, или Яша, прожил больше 100 лет. Его сын, Григорий, дожил до 104 лет. Здесь, на дореволюционной фотографии он запечатлен с супругой и сыном Григорием. Этот снимок тётя Маруся, сестра отца, Георгия Григорьевича, которая переехала в Ленинград перед войной и пережила блокаду города, сохранила и передала своей племяннице. Сам Георгий Григорьевич скончался во сне на 87-м году жизни. Никто из Филимоновых не болел, и все умерли тихо, как говорится, усопли.
Семья была большая и довольно зажиточная, работали все, а дети ещё и учились. Возможно, Филимоновы вели свой род от купечества: известно, что их предки имели лавочки в Туле. Жена Григория, Прасковея, ладно вела все домашнее хозяйство. В семье Филимоновых было пятеро детей: старшая Тамара, следом — Георгий, Дмитрий, Владимир и Мария. Все дети прожили долгую жизнь и умерли в глубокой старости.
«Дед Гриша был добрый, — вспоминала Людмила Георгиевна, — похожий одновременно и на деда Мазая, и на Деда Мороза: нос картошкой, борода лопатой, волосы седые, длинноватые». А ещё Григорий Иаковлевич очень любил лошадей. Своими руками он смастерил щётку для ухода за ними, которая по сей день хранится в небольшом домашнем музее на даче Алексеевых в Подмосковье. Видимо, старший сын, Георгий, пошёл в отца своей трогательной любовью к лошадям.

Отец — Филимонов Георгий Григорьевич
Гвозди б делать из этих людей
Крепче б не было в мире гвоздей…
Николай Тихонов (1919 г.)
Георгий Григорьевич Филимонов родился 12 ноября 1907 года в деревне Сорочинка Тульской губернии. Со слов односельчан, Георгий был настоящим русским богатырём: красивый, ростом за метр восемьдесят, косая сажень в плечах, сильный, ладный, удалой, — первый парень на деревне! Да еще в военной форме: к 23 годам Георгий демобилизовался из знаменитой Конармии С. М. Будённого и поступил на службу в милицию. От молодого красноармейца Филимонова исходила такая мужественность и удаль, что на него заглядывались все женщины, как вспоминала позже его супруга, Мария Васильевна. И когда в тридцать один год у него родилась дочь, Людмила, он навсегда стал для неё надежным другом, защитником, советчиком, а главное — самым большим источником любви.
Детство и отрочество Георгия были непростыми. С малых лет мальчик трудился, помогая заработком поддерживать семейный быт. Какое-то время он батрачил на частном угольном хранилище и на себе, подобно упряжному ослику, тягал тачки с песком и углём. А было ему меньше десяти лет. Продолжая семейную традицию Филимоновых, родители помогли Георгию получить образование. Накануне Первой Мировой войны начальная школа Российской империи состояла из сословных учебных заведений, к которым относились и начальные училища. Номинально провозглашенные всеобщими, они оставались сословными по охвату учеников, в зависимости от местности, и обучались в них главным образом дети крестьян, мелких торговцев и кустарей. Георгий Филимонов с отличием окончил сельское двухклассное училище, с пятилетним сроком обучения. Первые три года обучения в таком училище охватывали курс начальной школы, а в следующие два года учащиеся изучали русский язык и арифметику и получали элементарные знания по естествознанию, физике, геометрии, истории и черчению.

Георгий Филимонов с отличием окончил сельское двухклассное училище, с пятилетним сроком обучения. Первые три года обучения в таком училище охватывали курс начальной школы, а в следующие два года учащиеся изучали русский язык и арифметику и получали элементарные знания по естествознанию, физике, геометрии, истории и черчению.
Понимая, что не одной работой и наукой жив человек, отец обучал маленького Жорку житейским премудростям ведения хозяйства. А дел в деревне всегда было предостаточно. Воскресными днями они плели туеса, корзины и лапти из лыка, ладили сбруи, сапожничали, чинили бочки. С весны пахали, сеяли, а летними месяцами подолгу пропадали в поле, заготавливая корм для скота. Рыбачили, иногда охотились, но особенно мальчику нравилось ходить в ночное, пасти лошадей. В честь поступления в школу отец подарил ему книгу И.С.Тургенева «Записки охотника». Прочитав её, мальчик особо выделил для себя рассказ «Бежин луг», своим содержанием уж очень напомнивший ту обычную, естественную, незамысловатую жизнь в деревне. Позже «Записки охотника» стали настольной книгой Григория Георгиевича и перечитывались им всю оставшуюся жизнь, наравне с Евангелием. В мягкой обложке, с дореволюционными «ятями» и твердыми знаками, она по сей день хранится в домашней библиотеке семьи Алексеевых.
И когда внуку Игорю исполнилось пять лет, именно с рассказа «Бежин луг» дедушка Георгий начал их совместные читальные вечера. Он любил читать вслух и делал это хорошо, с выражением, одновременно стараясь отвечать на все вопросы внука. Библиотека в семье была большая, и дедушка уделял книгам всё свободное время, а вечерние чтения с маленьким Игорем стали ещё одной семейной традицией. Так они и читали вечерами: сперва русские народные сказки, позже — приключенческие романы, а когда Игорь подрос — русскую классику. Именно своему деду он обязан хорошим знанием русской классической литературы. Каждое чтение приносило новые впечатления, формируя то глубокое понимание культуры, без которого немыслима душа русского человека, а тем более поэта.
«Мы — красные кавалеристы…»
…и про нас
Былинники речистые ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо, мы смело в бой идём, идем!…
В 1925 г. восемнадцатилетний Филимонов вступил в ряды Первой Конной Армии под командованием Семёна Михайловича Будённого, где проявил чудеса владения и шашкой, и стрелковым оружием. Всю жизнь Георгий напевал «Марш Будённого» и, несомненно, помнил своего боевого коня, Мальчика, который был ему верным другом в течение всей службы.
И несмотря на то что Георгий Филимонов состоял в рядах Первой Конной уже по окончании Гражданской войны, он стал свидетелем, когда Буденный напрямую обращался с пламенной речью к конармейцам.

Веди, Буденный, нас смелее в бой!
Пусть гром гремит,
Пускай пожар кругом, пожар кругом:
Мы — беззаветные герои все,
И вся-то наша жизнь есть борьба!
Незамысловатые слова этого боевого и энергичного марша, написанного еще в 1920 году, всю жизнь оказывали на Георгия самое благоприятное действие. Он вновь чувствовал себя молодым и бесшабашным, верхом на коне и с шашкой наголо. Обладая недюжинной силой и ловкостью, Георгий в совершенстве владел этим кавалерийским оружием, хотя это было непросто: вес шашки доходил до полутора килограмм, а длина 90 см и больше. Мастерство владения шашкой состояло в том, чтобы на полном скаку, в пылу сражения, управляя конем только ногами, суметь поразить противника, при этом не поранив своего коня. Одно неверное движение или неточный взмах клинком — и всадник мог задеть конечность своему коню, повредив сухожилия. Раненный конь мог упасть, подвергая всадника смертельной опасности.
Что ни говори, а владение шашкой — это высшее мастерство, которым Георгий Филимонов за четыре года службы в конармии Буденного овладел, можно сказать в совершенстве. Служба в кавалерии научила Георгия бережному отношению к своему коню Мальчику, который не раз спас ему жизнь и был самым дорогим боевым другом.
В архивах семьи Алексеевых сохранились многочисленные рисунки буденовцев на конях, которых Георгий Филимонов любовно рисовал для своего внука. А глаза у коней были человеческими.

Москва. Служба в милиции
В 1929, показав за четыре года армии высокую воинскую и физическую подготовку, а также ввиду хорошего (по тем временам) образования и политической подкованности, по приказу армейского начальства Георгий Филимонов был направлен в Москву для рассмотрения вопроса о его дальнейшей службе в рядах Советской милиции. В столицу он приехал не один, а со своим родным братом Владимиром, и оба в итоге были приняты в милицию.

Вскоре он познакомился со своей будущей женой Марией Васильевной Минкиной, родом из Рязанской губернии, села Кораблино, и через короткое время они поженились. Главе молодой семьи дали служебную комнату на Арбате. Мария Васильевна была тихая, робкая домохозяйка, всю жизнь горячо и преданно любившая своего мужа — бравого красавца Георгия. Жили Филимоновы небогато, но дружно.
В этом же году прошли серьёзные кадровые перестановки в Московском уголовном розыске. 15 декабря 1930 г. ЦИК и СНК СССР за подписями М. Калинина, А. Рыкова и А. Енукидзе приняли два постановления: «О ликвидации народных комиссариатов внутренних дел союзных и автономных республик» и «О руководстве органами ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска». Необходимость упразднения НКВД объяснялась тем, что комиссариаты «стали излишними звеньями советского аппарата».
31 декабря 1930 г. постановление ВЦИК и СНК РСФСР упразднило НКВД РСФСР, а руководство милицией и уголовным розыском было передано ОГПУ СССР. Номинально ОГПУ возглавлял Вячеслав Менжинский, но фактически эту роль выполнял кадровый чекист Генрих Ягода. В ОГПУ СССР была учреждена Главная инспекция по милиции и уголовному розыску с отделениями в республиканских, краевых, областных органах ГПУ. В декабре 1932 г. постановлением ЦИК и СНК СССР было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР (ГУРКМ при ОГПУ СССР).
Взяв на себя руководство милицией, чекисты тут же принялись наводить порядок в её рядах. Особый указ ОГПУ начала марта 1931 г. предписывал проводить активные мероприятия по чистке личного состава милиции и уголовного розыска. А вскоре, в июле 1934 г. был создан Наркомат внутренних дел НКВД СССР, куда вошло ОГПУ, преобразованное в Главное управление государственной безопасности. Наркомом внутренних дел СССР стал все тот же Генрих Ягода.
Для понимания важности описанных преобразований вернемся на десять лет назад, в первые послереволюционные годы. После революции 1917 г. в Москве резко выросла преступность. Об этом ярко писал Иван Бунин в «Окаянных днях» и дневниках. На волне свержения царизма и перехода власти в руки народа из застенков освобождались не только бравые революционеры, но и настоящие воры. К Арбату и Хитровке, исторически криминальным центрам Москвы, в это время добавилась Марьина Роща, которая оставалась в числе самых опасных столичных районов вплоть до конца 1950-х. На московских улицах орудовали карманники и банды грабителей. Грабежи, разбои и убийства были для Москвы тех лет обычным делом. Это было время лихих налётчиков и «благородных» бандитов. Понятия «уголовник» и «герой» переплетались настолько, что бывшие следователи шли грабить и убивать, а настоящие криминальные авторитеты возглавляли отряды Красной армии.
Легендами криминального мира первых лет СССР были Лёнька Пантелеев (1902—1923), Мишка Япончик (1891—1919) и Сонька Золотая Ручка (Софья Ивановна Блювштейн, 1846—1902). Их судьбы сложились по-разному. Так, Сонька попадалась не раз: её судили в Варшаве, Петербурге, Киеве и Харькове, но ей всегда удавалось выскользнуть из рук правосудия. В 1899 г. Сонька крестилась по православному обряду с именем Мария и в 1902 г. скончалась. После её смерти, по слухам, на деньги одесских, неаполитанских и лондонских мошенников был заказан памятник у миланских зодчих, доставлен в Россию и установлен в Москве на Ваганьковском кладбище, участок №1. Именно сюда нынче стекаются с просьбами «позолотить ручку».
Знаменитый налётчик Мишка Япончик в 1917 г. был по амнистии освобожден из тюрьмы и стал настоящей «грозой» Одессы. Своих маящихся в заключении товарищей он не забывал: в 1918 г. организовал массовый побег из Одесской тюрьмы. Его активное сотрудничество с большевистским подпольем достигло кульминации в разрешении сформировать отряд в составе 3-й Украинской советской армии. Можно лишь догадываться, как сложилась бы судьба этого «благородного разбойника», но в августе 1919 г. Япончик был застрелен.
А вот бывший чекист, молодой следователь Леонид Пантёлкин в 1922 г. был уволен из ГПУ… и стал самым известным налётчиком, Лёнькой Пантелеевым. В 1917 г. он ломал ворота Зимнего дворца и первым использовал символ красной звезды на форме, который позже заимствовал РККА. Но в тяжёлые 1920-е гг., будучи сотрудником ВЧК и работая в Пскове, на одном из обыском он занялся грабежом, что и привело к увольнению из органов. И тогда Лёнька вместе с несколькими сослуживцами и профессиональными бандитами организовал банду, которая регулярными разбоями (а иногда — убийствами) в Петрограде и его окрестностях наводила страх и трепет на население. «Карьера» Пантелеева как на стороне добра, так и на стороне зла была короткой, но яркой и завершилась, в прямом смысле слова, на высокой ноте. В феврале 1923 г. в ходе облавы на «малине» 20-летний Лёнька был убит молодым чекистом Иваном Бусько во время исполнения песни под гитару.
В 1920-е волна бандитизма обусловливалась особенностями социально-экономического развития в условиях НЭПа, в частности, возвращения частной собственности. Однако завершение НЭПа в 1929 г., индустриализация и первые пятилетки привели к заметному спаду преступности, а вооруженные банды орудовали реже. Конечно, непосредственную роль в уменьшении числа бандформирований играли доблестные московские милиционеры, которых государство поощряло за преданность долгу. Так, через три года службы в милиции, в 1933 г., за особые заслуги — задержание банды рецидивистов и проявленные при этом мужество и героизм — Георгия Филимонова направили в отпуск в санаторий в г. Кисловодск.

Ссылка. Чита. Станция Карымская
Впрочем, стражи порядка помнили о необходимости быть бдительными и «чистить» свои ряды. И, как показывает история, не всегда беззаветное служение долгу и народу защищало от произвола. В 1934 г. в пылу ссоры с кем-то из коллег Георгий Филимонов с вызовом бросил на стол партбилет и заявил, что не партия за него, а он сам лично принял решение работать в милиции и защищать страну от разбоя и бандитизма. За этот проступок Георгий заплатил высокую цену: последовал анонимный донос, Георгий был выдворен из рядов ВКП (Б) и… сослан с семьей в Сибирь, в лагерное поселение у станции Карымская, известное как часть БАМлага.
Марии Васильевне было 26 лет, она ждала ребенка. Для семьи Филимоновых начиналась новая, непредсказуемая жизнь в далекой и неприютной Сибири. Никакой надежды на прощение и возвращение поначалу не было, только молодость и природная родовая сила поддерживала их в эти годы.
Рожденную в ссылке девочку назвали Розой. «Я безо всяких сомнений дал дочке имя Роза, потому что понимал с какими трудностями всем нам и, прежде всего, ей придется жить здесь, — рассказывал впоследствии Георгий, — я ничего не мог ей дать хорошего, потому что, кроме холода и голода, ничего не было. Но пусть хоть имя, думал я, напоминает моей дочке о том, что где-то есть праздник и радость. На этом было основано моё решение».
Увы, в тяжелейших условиях девочка прожила чуть больше года и умерла от недоедания. Такая же участь ждала многих новорожденных в тех краях, но вопреки всему люди всё-таки надеялись на чудо, стремясь продолжить род. Сила духа и надежда помогали во все времена переживать превратности судьбы в нечеловеческих условия жизни. Именно надежда давала силы вопреки всем бедам и несчастьям превозмочь, казалось бы, непреодолимые обстоятельства, сохраняя при этом человеческое достоинство.

Из дневников Людмилы Георгиевны:
По праздникам родители собирались за столом, беседовали, играли в лото, пели песни. Неизменной спутницей всякого застолья была песня, начинающая словами:
Вот сейчас, друзья, расскажу я вам,
Этот случай был в прошлом году,
Как на кладбище Митрофаньевском
Отец дочку зарезал свою.
Мать, отец и дочь жили весело,
Но изменчива злая судьба,
Надсмеялася над малюткою:
Мать в сырую могилу ушла…
Эту тюремную песню мама привезла из Сибири, и она навсегда осталась в нашей семье. Длинная и заунывная, она, как правило, заканчивалась мамиными слезами от нахлынувших воспоминаний о пережитом в ссылке и о потере своей первой малютки-доченьки Розы в лагерном бараке».
Отец Людмилы тоже привез из лагеря музыкальный «сувенир». Во время семейных встреч он затягивал песню тамбовских повстанцев, которую он много раз слышал и пел вместе с другими ссыльными:
Что-то солнышко не светит,
Над головушкой туман
То ли пуля в сердце метит,
То ли близок трибунал.
Эх, воля-неволя,
Глухая тюрьма!
Калина, осина,
Могила темна.
На заре каркнет ворона,
Коммунист взведет курок…
В час последний похоронят —
Укокошат под шумок…
Бамлаг
Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь (БАМлаг) существовал с 1932 по 1938 гг. и в оперативном управлении подчинялся ГУЛАГ НКВД. Его главной задачей было обеспечение рабочей силой строительства вторых путей Транссибирской магистрали. Второй путь Транссиба протянулся от станции Карымская до Хабаровска и немного позже — до Ворошилово (ныне Уссурийск).
На этой стройке трудились как вольные строители от дороги, так и зэки, среди которых руководство лагеря также ввело популярное в те годы социалистическое соревнование. «Передовики» получали разрешение на более частые и длительные свидания и даже могли улучшить условия жилья и быта. Поэт Анатолий Жигулин (1930—2000), испытавший на себе суровые будни заключенных и ужасы лагерной жизни, посвятил этому периоду стихотворение «Поезд»:
Мела пурга, протяжно воя.
И до рассвета, ровно в пять,
Нас выводили под конвоем
Пути от снега расчищать.
Не грели рваные бушлаты.
Костры пылали на ветру.
И деревянные лопаты
Стучали глухо в мерзлоту.
И, чуть видны в неровных вспышках
Забитых снегом фонарей,
Вдоль полотна чернели вышки
Тревожно спящих лагерей.
А из морозной
Черной чащи,
Дым над тайгою распластав,
Могучий, Огненный,
Гудящий,
В лавине снега шел состав.
Стонали буксы и колеса,
Густое месиво кроша,
А мы стояли вдоль откоса,
В худые варежки дыша.
Страна моя! В снегу по пояс,
Через невзгоды и пургу
Ты шла вперед, как этот поезд —
С тяжелым стоном Сквозь тайгу!
И мы за дальними снегами,
В заносах,
На пути крутом
Тому движенью помогали
Своим нерадостным трудом.
В глухую ночь,
Забыв о боли,
Мы шли на ветер, бьющий в грудь,
По нашей воле
И неволе
С тобой
Делили
Трудный путь.
Сравнительно в короткий срок, в исключительно трудных была полностью изменена оснащённость восточного участка Забайкальской магистрали, появились крупные железнодорожные узлы, качественное водоснабжение, крепкое деповское и вагонное хозяйства. Правительство страны высоко оценило работу путеармейцев БАМлага: вольнонаёмным выплатили денежные премии, а отличившиеся на строительстве ссыльные и их семьи были досрочно освобождены, в том числе и семья Филимоновых, которые в конце 1936 г. вернулись в Москву.
Не всем бамлаговцам было суждено выйти на свободу. Одни умирали от суровых условий жизни и труда на износ, других убивали как «врагов». Историк Валерий Поздняков пишет: «При управлении БАМлагом работал спецлагерсуд, по приговорам которого только за семь дней августа 1937 года было расстреляно 837 человек. Эта страшная цифра взята из материалов оперативного учёта приведения в исполнение смертных приговоров только за полмесяца».
Русская православная церковь потеряла в БАМлаге многих своих священников и прихожан. Через БАМлаг прошли учёный и философ Павел Флоренский, полководец Константин Рокоссовский, писатели Василий Ажаев, Сергей Воронин, Юрий Домбровский. И всё же, хотя БАМлаг стал одной из самых мрачных страниц в истории российских железных дорог, её следует помнить в благодарность тем, чьим трудом развивалась Забайкальская магистраль.
В сентябре 1936 г. Ягода покинул Лубянку. Много позже Людмила Георгиевна напишет в своем дневнике: «Если бы не разоблачение Ягоды, то родители так бы, вероятно, и сгинули в Читинской тайге, а я, может быть, и не появилась бы на свет. Вот где самое время вспомнить о Боге. Всё в Его воле, всё так».
Жизнь после лагеря
Вернувшись из ссылки в Москву, в 1937 г. Георгий Филимонов уже работал на строительстве станции «Маяковская». Работа, как оказалось, была не только тяжелой, но и опасной, и не всегда из-за угрозы обрушения породы. В одну из смен бывший милиционер проявил бдительность, заметив на путях подозрительные действия одного из рабочих. Георгий попытался остановить его, но тот вырвался и побежал, успев выстрелить практически в упор. Несмотря на тяжелое ранение, Филимонов продолжал преследовать диверсанта и, уже теряя сознание, понимая, что тот уходит, бросил ему вслед путевой фонарь. Фонарь попал беглецу в голову, он упал, а к этому времени подоспела охрана и обезвредила преступника.
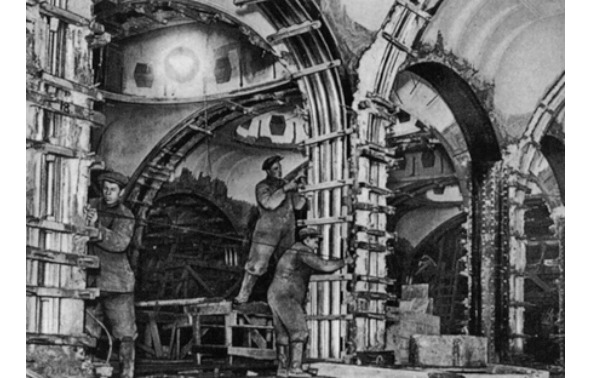
Так Георгий Филимонов предотвратил диверсию на строительстве метро. За мужественный поступок и проявленный героизм Георгия Григорьевича после нескольких недель лечения наградили двухдневной путевкой в Дом отдыха.

Людмила Георгиевна вспоминала, что «мама на тот момент была в положении, беременна мною, — страшно представить, что было бы с нею, если бы он тогда погиб. И всё-таки отец, проявив храбрость, выполнил свой долг офицера, долг пусть и бывшего, но сотрудника милиции. Филимоновы — физически крепкий род, и уже через пару недель отец встал с больничной койки…»
Летом 8 июня он отдыхал в д/о на ст. «Правда» Ярославской железнодорожной ветки. Спустя три месяца, 11 сентября 1938 г. в Москве открылась станция «Маяковская», а 10 ноября того же года у Филимоновых родилась девочка. Георгий вновь хотел дать дочке имя Роза, но жена отговорила, и девочку назвали Людмилой. В книге актов о гражданском состоянии при Народном Комиссариате Внутренних дел СССР 22 декабря 1938 г. была произведена соответствующая запись за №0875392. От наблюдательного читателя не ускользнет тот факт, что в этот же день Русская Православная Церковь чествует икону Божией Матери «Нечаянная радость», образ которой хранился в семье Филимоновых и был особо почитаем.

Между тем колесо «красного террора» набирало обороты. Ягода был расстрелян, но при Ежове репрессии стали поистине массовыми. Лагеря были переполнены заключенными, туго приходилось даже блатным. При этом, в отличие от осуждённых по политическим статьям, уголовникам было чуть полегче. Впрочем, Ежов недолго пробыл на посту и повторил судьбу своего предшественника: через 26 месяцев (как и Ягода), в начале декабря 1938 г. он был отстранён от должности, а новым наркомом стал 39-летний Лаврентий Павлович Берия, ещё летом 1938 г. вызванный из Тбилиси в Москву и назначенный заместителем Ежова. В начале 1939 г. Ежов был арестован и 4 февраля 1940 г. расстрелян, как враг народа.
При Берии волна репрессий несколько пошла на спад, и страна вздохнула с облегчением. Из лагерей стали возвращаться первые освобождённые, начались первые реабилитации. Однако основная масса заключённых не вышла на свободу и при Берии. К этому времени территория СССР значительно увеличилась за счет присоединения Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии. Как следствие, расширился и уголовный контингент: с упомянутых территорий были вывезены заключённые с большими сроками.
В марте 1940 г. НКВД СССР коренным образом перестроил оперативно-служебную деятельность угрозыска. Оперативным работникам вменили ответственность за результаты борьбы с конкретными видами преступлений, главным образом, с особо опасными. Изменились методы руководства угрозыском со стороны Главного управления милиции, выезды на места с целью обследования и контроля были сокращены до минимума. Вместо этого главное внимание сосредоточивалось на оказании практической помощи в борьбе с преступностью.
В июне 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на СССР. С первых дней войны Георгий дважды записывался добровольцем на фронт. Как же ему без фронта, с его-то смелостью и характером, готовому в любую минуту ввязаться в спор, встать на защиту незаслуженно обиженного?! Мария Васильевна всё это время жила в страхе и за мужа, и за себя, и за маленькую дочь. Но он получал отказ за отказом как по причине тяжелого ранения, которое продолжало давать о себе знать, так и из-за двухлетнего ребенка на руках. Вероятно, играла роль и относительно недавняя ссылка с семьей в Карымскую, хоть он и был реабилитирован. Не получил Георгий Филимонов и разрешения на восстановление в рядах партии и милиции.
Трудовой фронт
С весны 1939 года в системе ОТБ НКВД сформировался костяк фирмы «Ту», которому отечественная авиация во многом обязана послевоенными успехами в области тяжёлого и, прежде всего, тяжёлого реактивного самолётостроения. Сам же А. Н. Туполев был необоснованно репрессирован. В 1937—1941 годах вместе со многими своими соратниками, находясь в заключении, работал в ЦКБ-29 НКВД, где был одним из четырёх главных конструкторов.

С конца 1941 года Георгий Филимонов работал токарем-фрезеровщиком на Авиационном заводе, где выпускали самолеты конструктора Туполева — Ту-2, а также Ил-4. Предприятие создано в декабре 1941 г. на площадке завода №22 в Филях и получило номер ликвидированного завода 23. Сегодня это Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева. В 1942 году на заводе был создан фронтовой бомбардировщик «103» (Ту-2). На протяжении всех 1418 дней Великой Отечественной войны экипажи частей Красной армии сражались на самолётах, созданных под руководством А. Н. Туполева. В боях использовались как военные, так и гражданские самолёты, строившиеся большими и малыми сериями. Всего в войне участвовало около пяти тысяч самолётов АНТ и Ту. В 1943 году на заводе Георгий получил тяжелую производственную травму с частичной потерей слуха, и вопрос о фронте был для него окончательно закрыт.
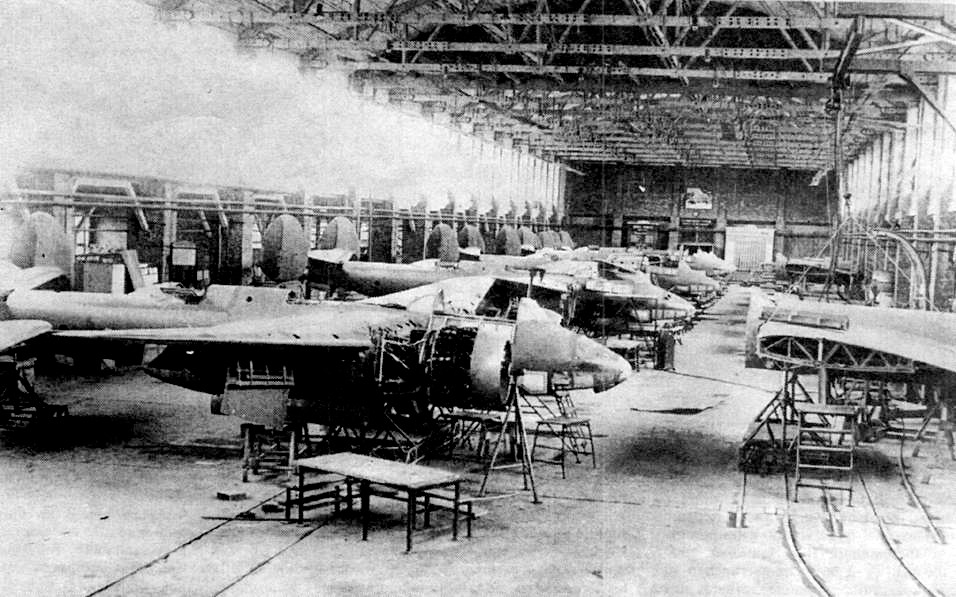
«Работал папа на износ, — вспоминает Людмила Георгиевна, — мы его не видели по несколько дней в неделю, т.к. работа шла в три смены и рабочие спали прямо у станка. Когда он всё-таки приходил домой суровый, осунувшийся, с серым уставшим лицом, то всегда приносил нам немного поесть из того, что им выдавали, а сам недоедал, сберегал, хотя мама получала ещё и паёк за его труд».

Возвращение на службу в милицию
Недюжинная сила и здоровье помогли Георгию выздороветь окончательно к концу 1944 г. И уже накануне Победы в феврале 1945 г. Филимонова восстановили в рядах ВКП (б) и разрешили вернуться на службу в милицию в прежнем звании старшего лейтенанта, в котором он и прослужил до начала шестидесятых в 6-м отделении милиции г. Москвы.

Георгий Филимонов. 1953 год.
В послевоенные годы криминальная обстановка в столице вновь ухудшилась, о чем красноречиво свидетельствуют милицейские сводки. Начиная с 1946 и в последующие годы, количество грабежей оставалось значительным. К примеру, в докладе МВД СССР об итогах борьбы с преступностью в Москве за год сообщалось: «В 1946 году по г. Москве зарегистрировано 20 785 преступлений, в том числе: вооруженных грабежей 231 (раскрыто 177 случаев); невооруженных грабежей 454 (раскрыто 366 случаев); краж всех видов 11 122 (раскрыто 8946 случаев)».
Одна из самых известных группировок послевоенного времени — «Чёрная кошка» — знакома широкой аудитории по фильму «Место встречи изменить нельзя» С. Говорухина. Неудивительно поэтому, что милиция всячески стремилась пополнить свои ряды. МВД докладывало о беспрецедентных мерах, принимаемых для борьбы с преступностью: «В целях обеспечения общественного порядка и предотвращения роста преступности по г. Москве московской милицией проводится ряд мероприятий: ежедневно выставляется до 1300 наружных постов милиции, высылается 1650 парных патрулей, привлекаются к поддержанию порядка 1800 членов бригад содействия милиции и систематически дежурят у домовладений до 4000 дворников».


По натуре принципиальный и честный, Георгий искренне служил делу партии и был готов в любой момент прийти на помощь попавшему в беду. Старший лейтенант Филимонов прекрасно плавал и весной 1946 г., недалеко от Бородинского моста, спас оказавшегося на льдине мальчика, доплыв до него в ледяной воде Москвы-реке.
В 1957 году Георгий Филимонов вновь проявил служебную бдительность и партийную сознательность, задержав группу расхитителей, за что получил путёвку в дом отдыха ЦК Транспорта «Заключье», где отдыхал со своими сослуживцами.

Семейная жизнь и милицейские будни
Ниже публикуем отрывки из интервью и дневников Людмилы Георгиевны об её отце, его службе и семейном быте её родителей. Это уникальные свидетельства столичной жизни, запечатлевшиеся в детской памяти и записанные много лет спустя.

«Обычно папа любил ходить в милицейской форме и только по выходным менял верх на обычную рубашку и то воротник всегда держал застёгнутым. Из брюк предпочитал галифе, видимо потому, что сапоги носил чаще ботинок. Форменный китель, до блеска начищенные яловые сапоги, фуражка, шинель, планшет кожаный и, конечно же, портупея с кобурой, в который вложен настоящий боевой пистолет. Отец любил оружие и мог полдня заниматься им: сядет на кухне, никого не пускает — разберёт пистолет и вычищает все детали до блеска. Потом смажет, соберёт револьвер, сложит все железочки в него, положит в кобуру, застегнёт её и с довольным видом ходит по дому.
А ещё он любил умываться и бриться. Брился он тщательно и только опасной бритвой. Подолгу разводил мыло в ступке, мешал помазком, пока оно не запенится, грел воду на газу. Лезвия правил оселком, а доводил, подтачивая и полируя на военном кожаном ремне. Подойдет к зеркалу, пошлепает себя по щекам слегка и тщательно «броется».

«опасная» бритва.
Я на всю жизнь запомнила этот скрип-шип отцовской бритвы: тонкий и сухой её звук, когда папа проводил лезвием по коже щеки. Потом он шумно умывался, фыркал от удовольствия, и, обтеревшись по пояс мокрым, холодным полотенцем, перекидывал его на правое плечо и шёл по длинному коридору в комнату, негромко напевая: «Мы красные кавалеристы, и про нас…».
Входя в комнату со словами «Веди, Будённый, нас смелее в бой…», он брал одеколон, выливал на ладонь немного темно-зеленой жидкости и с оханьем (видимо, потому что на спирту и жгла) наносил на всё лицо сразу. Папа обязательно пользовался одеколоном и, как правило, это был либо «Тройной», либо «Шипр», а позже в его пижонскую парфюмколлекцию вошли «Лесной», «Розовая вода» и «Маки».
Наденет форму, причешется, ослабит подтяжки и верхнюю пуговицу гимнастёрки, сядет за стол и медленно с удовольствием завтракает. Чай любил крепкий и громко звенел ложечкой, кода размешивал сахар, а мне почему-то это очень не нравилось. На завтрак обычно была картошка, селёдка и лучок. Лук репчатый и зеленый постоянно был в нашем доме, и с ними готовили всё, а вот чеснок не запомнился. Позавтракает отец, встанет, глянется ещё раз в зеркало, наденет китель, одёрнет его пару раз, улыбнётся и говорит: «Ну, мне пора на службу, а вы здесь без меня ведите себя хорошо, а то всех заарестую», — а сам смеётся и подмигивает мне.

Только дверь хлопнет, мы с мамой сразу бежим к окошку и, если тепло, то открываем его и смотрим, как наш герой медленно идет на работу, поглядывая по сторонам, будто от самого подъезда и вступил на дежурство. Иногда по ходу достанет свисток и пугает местных мальчишек, когда те ломали деревья или «кокали» об стенку бутылки. Пацаны его любили, а местные бывшие зеки уважали и слушались. Он всем, если надо, мог сделать замечание, осадить, в том числе и им, а те стушуются и в ответ: «Да ладно, Григорич, ладно тебе, не ерепенься. Мы нормальные, мы — так, по-тихому посидим, то-сё, выпьем… Тут кореш наш откинулся, мы и раскинули побазарить…».

Пили они в одном месте — с красивым видом на Москву-реку, что сразу за домом в кустах, рассевшись на кривой старой лавке и ящиках, накрытых журналами «Огонёк» или газеткой. Таких пьяниц было много, а с 1953 г., после амнистии, стало ещё больше. Отец относился к ним с пониманием, но при этом говорил: «Сидите, но чтоб без драк мне тут. Пейте тихо, а то острожусь и всех в каталажку упеку. И если хоть один окурок найду, то весь подъезд мыть заставлю». Те и вправду всё за собой убирали, сама видела.
Участок его был на Арбате, вот мы и смотрели, как он в горку к 1-му Ростовскому идёт в сторону Смоленки. Так и глазели, пока он не исчезал за домом соседнего переулка. А перед поворотом, зная, что мы смотрим, оборачивался, снимал фуражку и махал нам, а мы ему в ответ носовыми платками.
Я всегда очень ждала отца с работы, ждала и скучала по нему. Когда он приходил, то нередко мне что-то приносил в угощенье: или конфет горсточку, или шоколадку. Но иногда брал меня с собой прогуляться, и тогда мы шли с ним пить сладкую газировку с тройным сиропом, а по дороге ещё и кваску домой наберём. Принесём, поставим бидон на стол, отец нарежет хлеба, вот мы и сидим все вместе, пьём квас и нахваливаем. Пиво отец не пил, вино тоже, только водку: по выходным, регулярно, но не больше ста грамм. Обед всегда начинал со стопочки. Он по-филимоновски был крепким, мог и больше выпить, но знал меру. Тогда мужики почти все пили. В нашем доме жило много фронтовиков, и все попивали, даже женщины, участницы войны. Мама всегда волновалась, когда ждала его с работы, всё хотела угодить, а потому заранее готовила ужин или обед и обязательно графинчик гранёный с водочкой ставила на стол. Иногда он и ей наливал, тогда они, как выпьют, добрели и вспоминали свою жизнь, а я слушала их рассказы, мне интересно было. Обедали обычно картошкой, жаренной на сале, либо кашей на подсолнечном масле и, конечно же, щами. Любимая папина еда — щи из кислой капусты. Папа переодевался, умывался после работы, но ходил всё равно в галифе, только сапоги снимал. У него было специальное устройство для снятия сапог — деревянная доска, куда вставляют каблук и тянут ногу из сапога. Ещё он носил портянки. Умел повязывать их и никаких носков к сапогам не признавал.

Ложились обычно родители спать пораньше, часов в девять вечера, потому что папе было рано на работу. Иногда он оставался на ночное дежурство, заступив на смену, и тогда мама всю ночь не спала, волновалась. Время было неспокойное. По дворам сновали мелкие банды и грабили, убийства тоже были не редкость, разбои. Вот мама и не спала, всё к окну подходила да посматривала: не идет ли он домой, хотя прекрасно знала, что папа в этот момент совершенно не здесь, а на своем далеком участке. Я маме говорила: «Мам, ложись спать. Он всё равно не придёт», а она мне: «А вдруг! Может, отпустили его, а тут вон какая темень, как он пойдёт один-то домой».

Минкины
Мария Васильевна Минкина, мама Людмилы Георгиевны, родилась в селе Кораблино, Рязанской губернии в марте 1909 года. В семье было три сестры, старшая Аграфена, средняя Екатерина и младшая Мария. К началу XX века в селе проживало 800 человек. В 1918 г. здесь был учреждён волостной исполком, в августе создали волостную организацию РКП(б). В это же время начался голод, было введено военное положение и наложен запрет на вывоз хлеба частными лицами.

Заградительные отряды Красной гвардии конфисковали скот и хлеб. Недовольные такими действиями жители в ноябре 1918 года организовали крупное восстание.

На фоне этих событий отец, Василий Минкин, вместе с младшей дочерью перебрался в Москву, где жила рано вышедшая замуж средняя сестра Екатерина. Её муж, Георгий Рожков, родился в Троекурове, а в Москве они проживали в Сокольниках. Старшая из сестёр, Груня, осталась в селе и умерла в годы войны.
В 1935 году у Екатерины родилась дочь Надежда, двоюродная сестра Людмилы Филимоновой, впоследствии ставшая всемирно известным кутюрье. Надежда Георгиевна Воронова — основоположница нового вида объемной вышивки в 70-е годы ХХ века. Рассказ о ней ждёт читателей в одной из следующих глав.

Баба Катя, мама Надежды Вороновой умерла рано, и Надежда часто бывала в доме сестры, общалась с Марией Васильевной или, как она её звала, бабой Маней.
Когда в начале 90-х появился доступ к историческим архивам, Надежда Георгиевна серьезно занялась исследованием рода Минкиных по материнской линии. Возможно, это было связано с упоминанием в истории рода Аракчеевых и рода Минкиных. Надежда Георгиевна рассказывала о вероятном соединении этих двух родов в связи с общеизвестной историей отношений графа Алексея Андреевича Аракчеева с Настасьей Минкиной. Аракчеев, хоть и был женат, но женщин любил, и его избранницами нередко становились даже простые крестьянки. Крепостных красавиц он покупал и привозил в Грузино, но ни одна из них не смогла привязать графа к себе. Исключением стала Настасья Федоровна Минкина, купленная графом по случаю. Девушка по-настоящему очаровала графа — красивая, черноокая, высокая, стройная, темпераментная… Аракчеев считал её своей невенчанной женой.
К сожалению, генеалогические исследования завершились с кончиной Надежды Георгиевны в 2011 году. Как память о времени тех исследований и обсуждениях с сестрой Людмилой Георгиевной в библиотеке Алексеевых сохранилась книга «Аракчеев», посвященная жизни и деятельности известного государственного деятеля эпохи Павла I и Александра I.
Мама — Филимонова (Минкина) Мария Васильевна
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«Моя мама, Мария Васильевна, была женщина простая в быту, но при этом с очень непростым характером. Это сейчас я понимаю, что жизнь научила её быть осторожной, а отсюда и повышенная требовательность ко всему, а то и мнительность. А судьба у неё была тяжела: и потеря ребенка, и каторга в сибирском лагере, и нужда в военное и послевоенное время. Только к моей зрелости маме стало как-то полегче. Но воспитывала она меня постоянно, и в большинстве своём с окриками, нравоучениями да постановкой в угол. Если отца я побаивалась, но при этом уважала, то маму я просто боялась. Ни деспотом, ни тираном она, конечно же, не была, но обладала жёстким и довольно-таки властным нравом, а потому во всём меня ограничивала и требовала беспрекословного послушания. Куда бы я не пошла, с кем бы не гуляла, я должна была её обязательно ставить в известность.
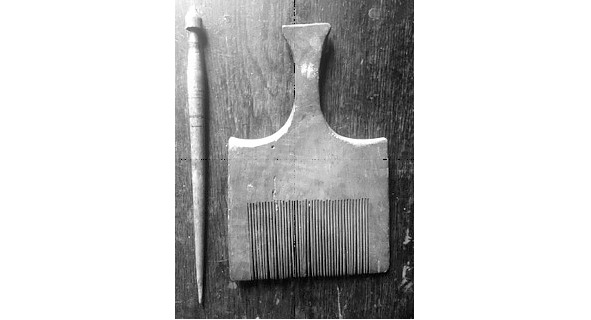
В муже она души не чаяла и не представляла своей жизни без него. Для неё папа был всем на свете, был капитаном в её непростой судьбе. Дома Мария Васильевна занималась рукоделием да «стряпишничала», любила стирать и штопать, но больше мужнины вещи, а ещё старательно ухаживала за его цветами. Папа любил комнатные растения. Подоконники у нас были широченные, и все в цветах. Выращивал он герань, фуксии, глоксинии, столетники и «ваньку мокрого», точнее бальзамин, а ещё из косточек… деревья, в основном это были лимоны. Иногда они вырастали до метровой высоты, но всё равно не плодоносили. Конечно же, мы с мамой ждали лимонов, а их всё нет и нет. Как-то раз папа разыграл нас: купив лимоны в магазине, он как-то умудрился привязать их к деревцу, позвал нас и при нас же их все и срезал. Мы с мамой поверили, а он возьми и развеселись. Этим сам себя и выдал. Смеётся и говорит: «Ой, глупёхи! Ой, глупёхи вы мои милые, что ж это вы живёте-живёте здесь и даже не заметили, как лимоны выросли и пожелтели чай не одним-то днём?» А нам и ни к чему с мамой, что лимонам и вправду ещё время нужно, чтобы вырасти.
Папа был настолько авторитетен для нас, что мы верили каждому его слову. Шутить он любил, но никогда не обманывал и не поддевал шуточками. Был строг в обещаниях, всегда держал слово и ни на минуту не опаздывал. Вся его жизнь была подчинена армейскому уставу, милицейской дисциплине, за которой он тщательно следил.

Мой папа старался поддержать каждого в любых его задумках и начинаниях. Отцовских знаний и физической силы вполне хватало, чтобы многие испытывали при нём и трепет, и уважение. Поддерживал он и меня, не ругал, если у меня что-то не получалось. Но однажды он всё-таки наказал меня и то не по настоящему, а снял ремень, сложил его в петлю и потряс им в воздухе, сделав жутко недовольное лицо. Это случилось, когда я у своей подруги попросила поиграть домой куклу, а отец всегда мне говорил, чтобы в дом ничего чужого не носить, беспокоился за кражи. Время было голодное и бедное, и дети воровали друг у друга игрушки. Вот отец меня тогда и вразумил этим ремнём. Вообще-то, так поступали почти все родители: следили за детьми, и если в доме появлялась даже пуговичка, то сразу допытывались, откуда она, и заставляли вернуть обратно и обязательно попросить прощение.
Несмотря на строгость со стороны мамы, мне часто хотелось поделиться своими печалями или радостями именно с ней, но она этого не позволяла. У мамы был какой-то свой личный воспитательный устав — строгий, краткий и взыскательный. Она сторонилась моих фантазий, считая их глупостями. Помню день, когда, сдав экзамены в университет, я узнала, что зачислена на первый курс. Как на крыльях я летела домой, чтобы рассказать эту новость маме. Вбежала и радостно кричу: «Мама, мама, я поступила!» А она мне недовольно в ответ: «Где тебя носит? Почему так долго?» И давай ругать меня, что я ее не слушаюсь, что где-то болтаюсь, а она вся переволновалась, перенервничала, и тому подобное. Потому душевные разговоры я вела с отцом.
Нет, не подумайте, мама была не злой, просто к ней нужен был какой-то особый в её понимании подход. У меня тоже был характер непростой, боевой, и у отца такой же, а мама была, пожалуй, послабее нас, вот и выстраивала для себя всякого рода защиту, для своего же спокойствия: сначала как следует поругает меня, а потом сядет и плачет, то ли от бессилия, то ли от обиды… Нет, скорее всё же от бессилия, оттого, что не может справиться со своими переживаниями. Я обниму её, поутешаю, поцелую, и она вроде как поначалу смягчится — сразу покормить меня спешит. После слез она всегда добрела. Я поверю и на радостях плюхнусь за стол, а она мне опять: «Почему руки не помыла? Почему платье не переодела?» И давай ворчать…
Я не обижалась и понимала её уже тогда. У папы была непростая и опасная профессия: сколько раз ему приходилось рисковать собственной жизнью, потом война, оккупация, голод и нужда, вот и тряслась она за меня — за кровинушку свою единственную, как она, пусть нечасто, но меня называла. Ругать-то ругала, а сколько раз во время войны она последний кусок хлеба отдавала ради того, чтобы покормить меня, сколько раз сидела долгими ночами около меня больной. Случилось, что и своё приданое раздала, чтобы выходить меня от воспаления лёгких. Помню, заболела я лет в восемь, болела тяжело, можно сказать, умирала, так мама меня и выходила: сидела со мной день и ночь и лечила, а ещё молилась. Нет, это я позже поняла, что молилась. Видела, как она, нет-нет, да зажжет свечечку, стоит и что-то подолгу шепчет в углу. Я стеснялась спросить, а она не объясняла ничего».
Детство, опаленное войной
Дети войны… Именно они, родившиеся на рубеже тридцатых-сороковых, голодные, обездоленные, в большинстве своём и стали носителями высокой нравственности, целеустремлённости и честности в нашей стране в конце шестидесятых. На них, детях войны, выживших под пулями и бомбёжками, стремительно росли и поднимались советская промышленность и наука, здравоохранение и сельское хозяйство. Заданного ими импульса хватает ещё и на нынешнее поколение.

По-детски восторженные воспоминания о родителях, особенно об отце, соседствуют в воспоминаниях Людмилы Георгиевны с картинами тяжелой московской жизни периода Великой Отечественной войны. Раннее детство Люды Филимоновой также прошло под бомбежками, поскольку семья жила у Бородинского моста, стратегически важного объекта, который немцы пытались уничтожить постоянными авианалётами.
В памяти остались голод, и страх от рёва самолётов, и взрывы бомб, особенно когда они вынужденно шли с мамой через мост на другой берег Москвы-реки к Киевскому вокзалу, где можно было обменять одежду на еду. Вспоминая это время, Людмила Георгиевна признавалась, что даже грохот салюта в честь Дня Победы и других торжеств напоминал о былых страхах, и вопреки всему появлялось желание закрыть голову руками и скорее бежать и прятаться в бомбоубежище:

«Когда по радио объявляли воздушную тревогу, мама будила меня, если это было ночью, быстро одевала, и мы спешили к станции метро «Смоленская»» (старая линия). К Киевской не ходили, потому как нужно было идти по Бородинскому мосту, а по нему ходить было страшно из-за бомбежек».
Москва в начале войны. БЕГСТВО ИЗ ОККУПАЦИИ…
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«Хоть я и была совсем маленькая, но военное время какой-то особой, неясной тенью так и осталось в моей памяти. Подробности я узнавала позже из рассказов родителей и родственников. Мне было тогда около трёх лет, и начало войны мы с мамой встретили в папиной деревне в Тульской области, куда мы ездили на летне-осеннее время. Вскоре деревня была оккупирована немцами, а в нашем доме мой дед Гриша и бабушка Прасковея укрывали раненого бойца Красной армии. Сколько мы были в деревне, точно сказать не могу, но однажды все-таки решились возвращаться в Москву. Помню, как везли меня на санях мама с подругой тетей Ксеней уже в зимнее время. Пробирались вечерами и ночами. Они так и хотели ехать до дома, посадив меня в сани и запрягшись в них вместо лошади.
Иногда меня оставляли в санях на пустой дороге с бутылкой самогона в надежде поймать машину, а сами шли в ближайшие дома просить что-нибудь поесть. Люди давали немного хлеба, лука, а то и картошинку. С Божьей помощью вот так своим ходом и добрались. День Победы я встретила в Москве. Но до него еще много и много чего случилось.
Мы, рожденные перед самой войной, были совсем маленькими, и для нас войны, можно сказать, и не было, вот только прожектора вечерами как-то по-особому тревожно освещали небо, где призраками висели угрюмые аэростаты, их было много над Бородинским мостом и Смоленским метромостом. Бывало, что слышалась канонада взрывов, и тогда я пряталась под одеяло, зажмуривалась крепко-крепко, а пальчиками затыкала уши. Окна у нас были заклеены крест-накрест полосками бумаги. Иногда толстые и длинные аэростаты везли на грузовых машинах, а мы бежали посмотреть и кричали радостно: «Ура! Ура! Колбасу везут!»

Все детство я пугалась звуков пролетающих самолетов. Чуть заслышу, так сразу бегу с улицы в дом, прижмусь к стенке в подъезде, закрою глаза и трясусь от страха, а если рев не утихал, то пряталась под лестницей. Иногда там уже сидели такие же дети, тоже прятались. Никто не смеялся надо мной. Мы все были похожими, одним цветом войны вымазаны. Мама рассказывала, что еще в деревне мы как-то раз попали под бомбежку, было очень страшно, но я ничего не запомнила, кроме неимоверного рева неба и земли…
В Москве, около Бородинского моста стояли зенитки, и там постоянно дежурили солдаты. Запомнились трескучие выстрелы зенитных очередей, глубокими бороздами остались они в моей памяти. Но все-таки больше помню я игры с детьми, добрых взрослых, которые, как могли, нас поддерживали, опекали и оберегали. Наверное, детство испортить нельзя даже войной, несмотря на голод, холод и лишения.

Однажды отец пришел домой пораньше с букетом черемухи. Помню, позвал меня, посадил на колени, обнял и так молча сидел. Потом тихо-тихо произнес: «Победа, доченька…», — и заплакал. Помню, как я его утешала, просила не плакать, ведь победа же. Тут с кухни вошла мама, увидела отца, села рядом, обняла и тоже заплакала. Я впервые увидела их обнявшимися, увидела их рядом, увидела, что у меня есть и мама, и папа, и они оба здесь, вместе со мною. На какое-то мгновение что-то во мне открылось, и я впервые почувствовала холод и ужас войны, но душа ребенка не смогла это вместить, и я побежала за водой и старой папиной вазой для цветов. А родители так и сидели, обнявшись, молча, слегка опустив головы. В комнате пахло черемухой и кожей начищенных ваксой отцовских сапог, пахло еще чем-то, похожим на запах хлеба, горелого хлеба. Этот запах Победы, нашей Победы, я запомнила на всю жизнь… Мой сын любит, когда что-то подгорает у меня на кухне, когда готовлю, ему нравятся поджарки, а я сразу спешу открыть окно, чтобы выветрить этот запах, напоминающий мне гарь войны. Не могу ничего поделать с этим. Все сразу всплывает в памяти. 1996 год».
Мирное время
В мае 1945 г. закончилась война. Написанное красным «Пусть всегда будет мир на земле!» расположилось аккурат над огромной белой надписью со стрелкой «Бомбоубежище» на стене в арке Сушкиного дома, куда позже переехала семья Филимоновых.
Послевоенная Россия,
Буханка хлеба — сто рублей.
Но если бы сейчас спросили, —
Дней не припомню веселей.
Наверно, жизнь лишь в раннем детстве
Так первозданна и свежа,
Что никаких утрат и бедствий
Не хочет принимать душа.

Первые послевоенные годы запомнились скудным продовольствием и стремлением иметь как можно больший денежный запас:
«Моя тётя, сестра отца, Мария Григорьевна, жила в Ленинграде и рассказывала, что в самый трудный период жизни блокадного Ленинграда продолжал работать рынок, где можно было купить или обменять на вещи любое продовольствие. В её ленинградских записках, датированных декабрем 1941 года, я нашла цены на этом рынке. Так, 1 кг муки стоил 500 рублей или пару валенок.
Похожая ситуация с продовольствием была не только в Ленинграде. Слышала от отца, что зимой 1941—1942 годов небольшие провинциальные города, где не было военной промышленности, вообще не снабжались продовольствием. Военные годы остались в памяти, покрытые какой-то пеленой. Помимо оккупации и бегства из неё, единственным моим ярким впечатлением от той поры остался новогодний подарок от мамы. Это был кусочек черного хлеба, слегка посыпанный сахарным песком, который она назвала пирожным. Настоящее пирожное я попробовала лишь в 1947 году, когда папа неожиданно принес нам с мамой по малюсенькой корзиночке с кремом. Детское сознание вытесняло ужасы войны, да и лет мне было тогда меньше пяти».
Случай в сорочинке…
Приведенный ниже фрагмент из дневниковых записей Людмилы Георгиевны поражает не только литературностью изложения, но и удивительной кинематографичностью этого эпизода. Однако в нём же явственно проступает трагизм послевоенной жизни, когда пережитые страхи и лишения в буквальном смысле не «отпускали», а продолжали напоминать об ужасах войны и хрупкости мира.
Из дневников Людмилы Георгиевны:
«Помню, как однажды гостили мы у папиной родни в деревне Сорочинка. Случилось, что встали рано и пошли в поле собирать в стожки покошенную траву. Её дня за два до этого покосили отец с дедом Гришей. Погода в те дни стояла жаркая, а потому небо чистое-чистое было, высокое и очень голубое. Такое высокое и голубое, что я шла и всё смотрела и смотрела, никак не могла налюбоваться этой красотой.
К полудню стало припекать ещё больше, а мы всё трудимся и трудимся. Пока трава сухая надо бы её успеть застожить и укрыть до дождей. Небольшие облачка беззлобно висели над самым горизонтом. Жужжала и сильно кусалась мошкара, клеились слепни, впивались оводы, в общем, лето не скупилось на внимание.
И тут, откуда ни возьмись, вдалеке показался всадник. Несмотря на пекло, он несся по пологому холму, вдоль поля, оставляя за собой вьющийся пыльный след. Вскоре наездник поравнялся с одиноко стоящим деревом, от которого вилась тропинка как раз в нашу сторону, резко рванул влево, вниз и, пришпорив коня, помчался прямо к нам. Лошадь неслась галопом. Мужчина, обхватив рысака за шею и плотно прижавшись к смоляной гриве, был явно доволен, улюлюкал и выкрикивал что-то невнятное. Заметила, что седок по пояс голый, а вскоре и стал отчётливо слышен и цокот копыт. Мы с мамой замерли. Нам и в голову не пришло, что это мог быть наш папа Георгий. Конь нёсся прямо на нас и в пару минут стал настолько огромен и горяч, что я, испугавшись, спряталась за маму и теперь уже выглядывала из-за неё, ожидая, что будет дальше. Тут мама охнула, и положив мне руку на голову, сказала: «Люд, не бойся, это наш папка скачет…». А потом как запричитает: «Ой, что творит, дуралей, что выделываеть-та! Ах, разобьется, ах, дурак!»
К тому времени лошадь почти приблизилась к нам, и в какой-то момент всадник резко потянул за узды и осадил коня. Молодой жеребец от неожиданности встал на дыбы, неистово заржал и, подняв столб пыли, окатил нас комьями горячей, парной земли. На мгновение конь повернул голову слегка на бок и взглянул на меня карим, налитым кровью глазом. Мне даже показалось, что он как-то по-особому, я бы сказала, по-конски улыбнулся, показав крупные, как лесные орехи, белые зубы.
Седок ловко, одним прыжком соскочил с лошади, и тут я узнала своего отца. Папа похлопал коня по шее, глянул на нас, и как-то залихватски сорвав пучок травы, и отерев им запотевшее лицо, направился в нашу сторону. Широкоплечий и загорелый, поблескивавший на солнце от испарины и оттого казавшийся ещё более мужественным, отец был похож на того самого атланта, изображение которого я как-то раз видела в журнале. Подойдя к нам, он широко расставил руки и, взяв обеих в охапку, потащил к реке купаться. Мы с мамой завизжали и стали вырываться, потому что плавать никто из нас не умел. Он же это знал, а всё равно потащил. Тащит и приговаривает: «Всё, хватит девоньки филонить, „трыныроваться“ надо, — со своим особенным выговором этого слова журил он нас, — будете у меня плавать учиться!»
Как же я любила своего отца: смелого, сильного, крепкого, большого и отчаянного… У него были золотые руки, он при этом ещё и великолепно владел лошадью, прекрасно выполнял джигитовку, мог на ходу вскочить и соскочить с коня. Вообще-то, лошадей он любил, а потому всю жизнь и рисовал их в альбоме. Рисовать он тоже любил, а лошади получались у него лучше всего. Делал он это цветными карандашами или простым (химическим), периодически слюнявя его и обводя синим рисунок по контуру, особенно выделяя у коня глаза. Кстати, первое, чему дед научил внука Игоря, так это рисовать лошадей.
До реки отец нас так и не донес. Мы расшумелись и вырвались, а он смеётся и говорит: «Ладно, девки, свободны… А вот от кваска не откажусь». Мама сходила за бидоном и принесла ломоть хлеба с луковицей. Помню, как он с хрустом откусил её, как бы то не лук, а яблоко было, сок так и брызнул, больно уж сочным оказался лук. Отец осмотрелся, и присев на траву, сказал: «Эх, хорошо-то как!» Я же заплакав, побежала к реке — промыть глаз. Мне тогда в него сок от лука попал.
Стояла особенная полуденная тишина. Не было ни души, и только высоко в небе летал одинокий ястребок, да конь отцов, коричнево-смоляной красавец мирно пощипывал траву. Летали бабочки, стрекозки, назойливо звенела мошкара, и даже не верилось, что совсем недавно где-то здесь ещё шли бои, ревели самолёты, грохотали пушки, и от бомб и снарядов гудела земля…
Неожиданно пролетел «По-2», неуклюжий самолёт-кукурузник или, как его ещё называли, «этажерка». Пролетел низко-низко, а папа возьми да крикни: «Ложись!» Мы с мамой тут же попадали. Когда поднялись, я краем глаза покосилась в его сторону. Отец был как никогда серьезен и суров.
Он с силой сорвал пучок травы, сунул себе в рот, пожевал и, резко сплюнув, тихо, не глядя на нас, процедил: «Вот такая она гадина, война эта… Теперь долго будем бояться всякого шума…».
Мама заплакала, а он встал, молча подошёл к жеребцу и, взяв за удила, потянул и поцеловал его в морду: «А ты у меня, вороной, смелый. А что… Тебе и по рангу положено стоять на ногах. Это бабы трусихи… И правильно делают, им тоже по рангу положено… Ну, чернявый, пойдем-ка лучше поплаваем с тобой, пойдем, пойдем…». И отец не спеша, как ребенка, очень бережно повёл коня к реке. Снял сапоги и, войдя по колено в воду, набрал в ладони воды и нежно провёл ими коню по морде, потрепал по загривку и, зачерпнув ещё, стал поглаживать его и похлопывать по сильным, лоснящимся, здоровым бокам…
Декабрь,1998 год».

Через много лет, сын Людмилы Георгиевны Игорь, путешествуя по России, побывал в тех местах Тульской области, где когда-то была так счастлива его мама со своими молодыми родителями, Марией Васильевной и Георгием Григорьевичем.
Из воспоминаний Терентия Травника (Игоря Алексеева):
«Дедушку я очень любил. Он мне уделял всё своё свободное время. Обычно дед что-то мастерил и старался научить меня этим премудростям. К примеру, он изобрел кружевное плетение корзин из проволоки, плел короба из прута, корзины из травы, которую он сначала собирал и высушивал. Чинил он и обувь, иногда резал посуду из дерева и мастерил инструмент. В нашем хозяйстве были ножи, молотки, топоры, шильца, отвертки, сделанные именно дедушкой.


Как-то раз он изготовил специально для меня макет утвари для крестьянской избы, по которому рассказывал мне, как жили люди в деревне. В макете были миниатюрные предметы деревенского быта, а также модели сохи, плуга, бороны и саней… Сшил мне дедушка и будёновку, а себе сплел такую же из травы, из нее же он плел шляпы, кувшины и корзины для круп и сухофруктов. Большая часть из них подарена нашим друзьям и знакомым, а что-то хранится в домашнем семейном музее на даче в Жамочкино-Крапивне. А еще дедушка стирал, гладил, штопал и готовил обед. Бабушка, конечно, тоже что-то делала, но всем руководил и основную долю забот и хлопот по хозяйству брал на себя все-таки он».


Жизнь на мыловарке
Какое-то время после войны Филимоновы жили на Арбате в доме, где был магазин «Диета», там Георгию Григорьевичу дали служебную комнату. Когда в арбатскую квартиру вернулись хозяева, семья съехала во 2-й Ростовский переулок, а буквально через полгода — в район у Бородинского моста, более известный в народе, как Мыловарка. Название, видимо, указывает, что раньше здесь находились бани или фабрика по изготовлению мыла, а может и то и другое, однако вместо них к 1930-м гг. в этом районе стояли несколько домишек барачного типа. Они, можно сказать, были «приклеены» к Бородинскому мосту со стороны Мухиной горы и Ростовской набережной, лишь тёмный узкий проход их и разделял. С этой же стороны реки, но по другую сторону моста была гора Варгуниха, а на противоположном берегу — район Дорогомилово.


Дом был двухэтажный, длинный, со многими комнатами, а крыша — почти вровень с мостом. Из-за этого казалось, будто трамвай, ходивший по мосту в сторону Филей, едет прямо по крыше дома. Комната Филимоновых располагалась на втором этаже под самой крышей, а на первом этаже находились трикотажные и сапожные артели. До конца пятидесятых они жили в этом доме и из окна видели только ноги прохожих и колеса проезжающего с грохотом трамвая. В тесной комнате было всегда темно, но свет включали только поздно вечером: экономили по велению отца электроэнергию страны, а не только собственные деньги. Кухня была общая на всех, а туалет во дворе на улице. Стены в комнате обклеивались газетами для утепления, а позже, уже в Сушкином доме, поверх газет наклеивали обои.
Как вспоминает Людмила Георгиевна, в послевоенное время было много безотцовщины, а потому в доме проживало немало шпаны. Семья Филимоновых была полной, что было редкостью по тем временам. Милиционера Георгия Григорьевича местные мальчишки остерегались и даже побаивались. И все же однажды сосед Борька, которому едва исполнилось шестнадцать лет, выскочил на двенадцатилетнюю Люду из-за угла проходной парадной, стукнул со всей силы по голове и предупредил, чтобы ничего не говорила отцу. А она даже не поняла, чего не говорить, она ничего не знала…
И всё же остерегаться нужно было, в первую очередь, взрослых. В доме у Люды была подружка Зоя, с которой они часто вместе гуляли. Чтобы со двора Мыловарки выйти к переулку и далее на Смоленскую площадь, необходимо было идти по длинной деревянной, крутой лестнице, которая резко поднималась вверх и выходила к трамвайной линии. Однажды перед самым новым годом девочки, собравшись погулять, поднялись по лестнице и остановились. В это время к ним подошла аккуратно выглядевшая женщина и пригласила их с собой пройтись, пообещав купить мороженое. На Людмиле было пальто и красивый шарф, на Зое — кроличья шубка. Зная свою строгую маму, Люда решила сперва спросить разрешение у неё и побежала домой, а Зоя осталась с женщиной. Когда Люда вернулась, не было ни Зои, ни их новой знакомой. На следующий день Зою нашли на Филях — без шубки. После этого случая Людмила, когда ездила с мамой на трамвае, всё время искала глазами эту женщину. Но так никогда её и не увидела.

Из детских воспоминаний о мыловарке
Из дневников Людмилы Георгиевны:
«С ужасом думаю, как же нашим родителям удалось вырастить нас в таких чудовищных условиях. Детей было много, и всех, по очереди, купали на кухне в корытце, которое устанавливалось посредине, да еще и крепкие морозы. В 1945 и особенно в 1946 году температура опускалась ниже 35 днем и 40 ночью. А ведь нужно было ещё поставить рядом вёдра с холодной и горячей водой, а чтобы ведро горячей воды нагреть на керосинке (газа тогда ещё не было), нужно час-полтора, а детей много. Кастрюли, столы, вёдра и тут же — помойное ведро, наши детские горшки и прочее, и прочее… А ещё нужно стирать пелёнки, точнее тряпки, и сушить их в этой же кухне или в комнатах, каждая площадью в пять, максимум десять квадратных метров, где ютились по пять, семь человек. Как люди умудрялись жить и выживать в таких условиях, я просто не представляю!
А если честно, то мы, дети, особых трудностей не замечали, а если и видели, то считали их нормой. Ну, раз все так живут, значит так и надо. А вообще-то, нам эти самые трудности очень даже нравились. Они нас делали настоящими героями. В доме холодно — что ж, прекрасно, будем закаляться! Воду надо таскать с колонки — тоже здорово, укрепляет организм! Дети вообще всюду видят забаву и развлечение. Те жизненные трудности, которые вызывали у взрослых отчаяние, нам чрезвычайно нравились. К примеру, когда зимой на улице было скользко, мы веселились и специально старались грохнуться при первой же возможности. Обожали давку в трамвае, потому что это было весело и можно проехать без билета. Если к утру занесло двор снегом, то тут же чистили дорожки, лепили бабу и строили горку. Говоря проще, нам для счастья нужно было немного: купят ботинки — мы счастливы, подарят шоколадку — счастливы, каникулы — одно сплошное счастье. Так что детство у нас было счастливым, жаловаться не на что, а что голодали, бомбили, воровали, так это у них — у взрослых, а для нас приключение».
Сушкин дом на Мухиной горе и его окрестности в 1940—1950
Москва строилась и расширялась. В 1946 г., когда все дома и постройки в районе Мыловарки снесли, Георгию Григорьевичу дали комнату в квартире №20 на втором этаже дома №13 по 3-му Ростовскому переулку, известному среди москвичей, как Сушкин дом. Туда семья Филимоновых и переехала окончательно. Тридцать восемь лет прожила Людмила Георгиевна в Сушкином доме сначала с родителями, а потом уже и со своей семьей. «В нашей квартире было шесть комнат, проживало двадцать человек, и на всех была одна кухня с шестью керосинками, на которых стирали и кипятили бельё в баках по очереди. Газ провели позже. И все равно при такой тесноте жили дружно…», — делится Людмила Георгиевна. В своих дневниках она вспоминает с благодарностью и соседей из квартиры №5: Власовых — тетю Лиду и дядю Колю, семью Сизовых.

3-й Ростовский переулок и сам дом номер №13 ничем особенным не отличались. Дом как дом, да и люди как люди, хотя кое-какие интересные факты Люда ещё ребёнком услышала или узнала от старожилов дома. Так, на первом этаже, как раз прямо под их квартирой, проживал Вадим Савицкий, известный в Москве мастер по гитарам. Детям это ни о чем не говорило, а вот взрослые с каким-то особенным благоволением относились к его семье. Отец Люды был дружен с ним и иногда, по рассказам Марии Васильевны, помогал ему в правке инструмента по дереву. Позже Людмила узнала, что на изготовленной Савицким гитаре играл знаменитый в те годы гитарист Александр Иванов-Крамской. Музыкант не раз бывал у Савицкого в гостях, а Люда позже дружила с его сыном Андреем, который после смерти отца так и жил в этой квартире.
3-й Ростовский переулок был небольшим, начинался он у храма Благовещения на Бережках, а заканчивался у Бородинского моста. Вверх по переулку, примерно в его середине, находилась колонка. Вода была только в доме, где жила семья Филимоновых: видимо, осталась в наследство от знаменитого фабриканта, в честь которого и называли дом. Все остальные жители переулка пользовались этой колонкой. Зимой рядом с ней заливали горку, и все дети с 3-го Ростовского, Плющихи и Арбата устраивали катания на санках. Народу собиралось всегда много. Эти катания были известные на всю Москву. Больше всего дети любили съезжать по ледяной горке на ногах. Настоящим мастерством считалось проехать на ногах до конца горки и не упасть.
Недалеко от Сушкиного, в двухэтажном доме жил врач, профессор Преображенский. У него был отдельный вход в квартиру с небольшим палисадником. Каждое утро черная легковая машина увозила высокого, подтянутого человека в пальто и с коричневым портфелем на работу, а вечером привозила домой. Люда дружила с его дочкой. Детям запрещалось шуметь под окнами врача, и они, проходя мимо дома, затихали.
На углу 2-го Ростовского, где останавливался трамвай, идущий со стороны Бородинского моста, стоял деревянный дом с открытой верандой. Во дворе был чудесный фруктовый сад и цветник. Вездесущие мальчишки лазили туда за яблоками. В доме жила красивая молодая женщина, киноактриса Валентина Ушакова со своим мужем кинооператором Александром Кочетковым и родственниками. С одной из этих родственниц, Марианной, Люда подружилась. Она часто приглашала Люду в гости, Валентина присоединялась к ним, и они вместе пили чай с вареньем. Георгий Григорьевич тоже, бывало, заходил к Валентине и Александру, помогал по хозяйству.
Ближе к осени в Ростовском переулке появлялись старьевщики, собирали старые вещи в обмен на детские игрушки, в основном мячики на резинке, свистульки и сладости — петушков на палочке. Нередко заглядывали стекольщики, а то и точильщики ножей и бритв.

В двухэтажном доме, который располагался ближе к Бородинскому мосту и был отделён от Сушкиного лишь небольшим проходом (здесь часто собирались любители поиграть в домино), проживали художники. Они занимали весь дом и по тем временам считались богатыми, но с ними никто не дружил, поскольку они мнили себя особенными людьми. Напротив «дома художников» стояло двухэтажное здание с красивой застеклённой верандой, и там нередко устраивали чаепития. Там проживали братья Троицкие, Миша и Вадим. Дом не имел удобств, и туалет стоял на улице перед окнами Сушкиного дома. Когда приезжала машина чистить туалет, страшная вонь стояла на весь переулок. Вот такие пережитки прошлых эпох ещё хранила в себе послевоенная Москва.

На первом этаже этого же дома жили совсем простые Нелюбовы, с сыном которых, Шуриком, Люда тоже дружила. В 50-х годах квартиру Троицких ограбили. Дети, играя на улице, видели, как бегали какие-то мужчины с вещами, потом погрузили их в машину и уехали. О том, что квартиру ограбили, узнали от Миши. В будущем Вадим стал известным виолончелистом, а Михаил преподавал математику в МГУ.
В начале 1970-х Филимоновы-Алексеевы, ожидая переезда, были выселены в отдельную квартиру в полуподвальном помещении в соседнем доме, стоявшем ближе к реке. Дом стоял на косогоре, поэтому все комнаты были ниже уровня земли, и только в большой комнате два окна под рельефным, балконообразным навесом всё-таки выходили на набережную.
Если смотреть на дом со стороны Москвы-реки, то слева от этих двух окон находились четыре окна квартиры одного художника, а его мастерская была в полуподвальном помещении под квартирой Алексеевых. В ней, по рассказам Игоря Алексеева, находились многочисленные портреты маршалов и руководителей партии. Аркадий Павлович, муж Людмилы Георгиевны, дружил с художником, и тот позволил провести параллельный с мастерской телефонный аппарат в их квартиру. Так у Алексеевых первых в доме появился телефон. Звонить, правда, было особо некому, но радовались все.
А годы летели. Исчезла Мыловарка, вслед за нею и Мухина гора с маленькими купеческими домиками, не одно десятилетие простоявшими в этом красивейшем месте. Им на смену пришли современные многоэтажки, и лишь знаменитый Сушкин дом, где жили Филимоновы-Алексеевы и где прошло детство поэта Терентия Травника, стоял до последнего, как молчаливый свидетель эпохи и хранитель многих тайн, о которых мы уже рассказывали в книге «Все дороги стекаются в Путь».

Филимоновские чаепития с самоваром
Немного было развлечений у простых людей. Послевоенная жизнь была трудная и тяжелая и проходила все больше на работе, а «почаевничать» собирались только по выходным. В квартире Филимоновых нередко проходили чаепития с самоваром. «Очень я любила такие встречи, — пишет Людмила Георгиевна в одном из своих дневников, — когда к родителям приходили их друзья и родственники: Екатерина и Алексей Сизовы, тетя Катя и дядя Жора Рожковы, тетя Маруся и дядя Леша Симачковы, тетя Наташа, соседи Мария Ивановна Степанова, Клавдия Львовна Меньшенина, Пироговы, Чепелюки, Гусевы и другие. Народу собиралось немало».
От родителей Георгию Григорьевичу достался настоящий тульский жаровый медалированный самовар, от братьев Воронцовых, весом с треть пуда серебра. Вот Мария Васильевна всех и собирала. Растопит самовар на кухне щепой, надымит и всех зовёт пить чай. Пили с сахарком вприкуску. Сахар был кусковой или головками, а потому кололи его специальными щипчиками. К чаю подавали блины, варенье, кто-то приносил пироги. Пекли всем миром, а потом все выкладывали в таз, а то и просто на бумагу. Эту традицию чаепития всё с тем же самоваром Людмила Георгиевна продолжила и в своей семье. Аркадий Павлович сам переделал самовар в электрический, чтобы было удобнее. В домашних альбомах сохранилось немало фотографий с подобными чаепитиями.

Родная сестра Марии Васильевны Екатерина жила недалеко от Филимоновых, вот они и собирались вечерком почаёвничать, в лото поиграть.., да табачку понюхать. Был такой специальный нюхательный табак с ароматом мяты — «Махра нюхательная». Все садились за стол, насыпали табак в ладонь, захватив щёпоть табачка, подносили к носу, глубоко втягивали, а потом дружно начинали чихать, да с таким удовольствием и так громко, что выступали слёзы на глазах, и все вместе заразительно смеялись.
Сама Мария Васильевна работала в это время контролёром в метро на станции «Киевская» и через Бородинский мост ходила пешком на работу. Однажды её сбила машина, она сломала ногу, но кости неудачно срослись, и она до самой смерти ходила на костылях.
Часы
В своих произведениях Терентий Травник неоднократно обращается к теме времени: почему его важно ценить, дружить с ним, не тратить его впустую. Однако, как можно понять, бережное отношение ко времени и, в частности, к часам уходит корнями в детские годы, когда мальчика окружали эти молчаливые, серьёзные предметы. Часы всегда были в семье Филимоновых-Алексеевых, но активный интерес и заботу о них проявляли, в первую очередь, мужчины: вначале отец Людмилы, а затем и супруг.
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«В нашей нынешней квартире немало старинных вещей, оставшихся от деда Гриши и привезенных им в Москву из деревни в то время, когда мы жили в центре. Вся темная комната «ростовской квартиры» была завалена, как говорили тогда, «антиквариятом», но родители, особенно отец, любили что поновее, посовременнее, и старались это и приобрести. Старое, правда, не выбрасывали, а потому в кладовой хранились стулья, сундуки, комод, этажерка, а еще резной сервант, кровать с металлической спинкой, пара медных самоваров и, правда, не знаю зачем, таганы.
Были там и старинные настенные часы. Папа говорил, что им больше ста лет. Корпус и механизм у них был полностью деревянные, все шестеренки вырезаны из дерева. Гири настолько тяжелющие, будто в них спрятаны сокровища. Где-то я прочитала что именно в часовых гирях до революции и прятали золотые рубли, вот моя фантазия и разыгралась.
Позже, когда я вышла замуж, в нашей семье появились и другие часы. Родители моего мужа тоже имели в доме часы, и нам от свекрови осталось несколько настенных с боем. Муж Аркадий увлекался часами, чинил и ухаживал за ними. Это были и «Мozer», и «Le` Roi Paris», и другие. Он всю жизнь любил возиться с ними.
Вспоминая детство, скажу, что особенно мне нравились часы напольные — большие в темно-коричневом корпусе, высотой выше меня и мамы. Мне всегда казалось, что в них кто-то живет. Я боялась, когда они после едва заметного хода неожиданно со скрипом вздрагивали и медленно, как бы набрав вдох, разражались громким хриплым боем, а в это время гиря не спеша опускалась, издавая скрежет и стоны до тех пор, пока они не отбивали положенное время. Особенно страшно было ночью. В полночь, когда все спали, и бледный лунный свет осторожно заглядывал ко мне в комнату, я жмурилась и ждала, когда часы скрипнут, охнут и недовольно проворчат своё положенное время.

Как-то раз папа вынул из их корпуса механизм и куда-то унес. Мне было непонятно, зачем. Часы замолчали, и я скучала без их неспешного тиканья. Теперь они мне напоминали тело, которое покинула душа. Прошло несколько дней, и отец, так ничего и не сказав, забрал корпус. Вскоре, он пришел с другими часами марки «Слава» в светло-коричневом деревянном корпусе с бронзовым отполированным циферблатом. Конечно, с нашим «домашним великаном» они не шли ни в какое сравнение. Это были самые обычные, среднего размера настенные часы ширпотреба, которые в то время можно было купить в любом магазине. Отец был очень доволен часами и сказал, что они теперь наши, и будут в доме постоянно, потому что модные и современные. Оказывается, папа просто обменял те старинные на этот советский новодел. Мама расстроилась, но смолчала. Она никогда не перечила мужу. Мне тоже было не весело, но говорить не стала. Случилось, и ладно».
В ногу со временем
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«Папа был современным человеком, новатором, рационализатором, старался идти в ногу со временем. А ещё он любил читать и быть в курсе всех новостей страны, он выписывал газеты «Правду», «Известия» и «Вечёрку», покупал книги. Обычно на форзаце прочитанной им книги он химическим карандашом ставил свою подпись.
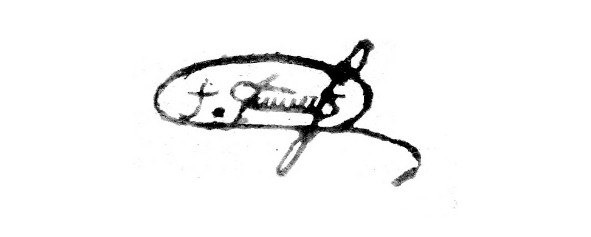
В доказательство его современности могу сказать, что именно в нашей квартире №20 появился первый в подъезде, а может, и во всем доме, радиоприемник М3, с вращающимся, как пояснил отец, волноискателем. Особенно мне нравилась выпуклая красненькая лампочка над подсвечивающейся желтым цветом шкалой поиска станций».

Радиоприёмник «Москвич-3» (М3) с рубином в карболитовом коричневом корпусе был создан в начале 1950-х по мотивам довоенных немецких радиоприёмников «Фолькс Эмпфенгер» образца 1938 г. и «Дойчер Кляйн Эмпфенгер».
С 1952 г. его выпускал Московский государственный радиозавод «Красный Октябрь». По многим качественным показателям приёмник превосходил нормы ГОСТа среди моделей 3 класса. В силу компактности не имел радиолампы (зелёного глазка), зато имел ограненное рубиновое стекло над шкалой, светившееся в вечерних сумерках, как кремлёвская звезда.
У Филимоновых раньше всех в подъезде появился и телевизор «КВН»: «До сих пор не знаю, как расшифровывается это название, но у нас оно звучало, как «Купили — Включили — Не работает». Телевизор был с маленьким экраном и с линзой, в которую надо было наливать воду. Весь дом ходил к нам по расписанию смотреть программу через эту самую линзу, и я даже написала стихотворение на эту тему, но сейчас уже плохо помню его. Оно было посвящено именно этому телевизору. Радиоприёмник я включала вечерами, и медленно вращая ручку, ловила радиоволны по всему миру.

Папа был, как сказали бы сегодня, прогрессивным человеком, ему нравилось всё новое и современное. Будучи совершенно нежадным, открытым и смелым, он всегда старался помочь, а потому к нему часто обращались за советом и помошью жильцы всего дома. В нашей коммуналке, в основном, жили женщины, мужчин после войны осталось немного, и папа, конечно же, всем помогал. То чайник залудит, то петли дверные подтянет, то замок новый поставит, то кровать смажет, чтоб не скрипела, а то и гардеробчик сладит из досок. А ещё он замечательно чинил обувь, умел подшить брюки, сам кроил и шил рубахи, причем вручную. Вообще, он был на все руки мастер — жизнь, как говорится, научила. Иногда папа уходил в воспоминания и рассказывал, как он служил красноармейцем-кавалеристом в войсках Будённого. Он рассказывал сдержанно, но с явным теплом и уважением.
Я знала, что папа был честным и прямолинейным человеком… Видимо, за эту прямолинейность он не раз страдал, вплоть до того, что был сослан в Сибирь во времена руководства Ягоды. Только чудом его реабилитировали, и они с мамой вернулись в Москву, а в 1945 г. его восстановили в рядах Коммунистической партии Советского Союза.
По увольнении из милиции, в середине 60-х он работал в типографии на Смоленской улице, а позже садовником в сквере-парке гостиницы «Украина». Его каморка была недалеко от памятника Тарасу Шевченко. Внук Игорь любил эту работу деда и с удовольствием помогал ему в обихаживании сквера, а было ему тогда семь лет. Май, 1996».
Наследие отца
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«И всё-таки какие качества я унаследовала от своего отца, Георгия Григорьевича Филимонова? Думаю, что многие, уж больно я его любила. Два года, как его нет с нами. Мы постарели, вырос сын, и сегодня, 19 февраля 1996 года, я вспоминаю о своих родителях, но более всего — об отце.
За окном снег и метель. Вот так же, два года назад, было холодно и в то раннее утро 1994 года, когда умер папа. Умер он дома, не проснулся, и всё. Ещё до прихода врача-специалиста я сделала сама омывание тела, а когда пришла врач, то просто помогала ей во всех необходимых процедурах. Сын пригласил священника, отца Алексия (Байкова), и батюшка с алтарником отпевали прямо у нас дома. Трудная, боевая, яркая жизнь моего отца закончилась тихо и достойно, в кругу семьи. Так что же главного и ценного я взяла в жизнь от своего папы? Прежде всего, стремление работать над собой, сохранять выдержку и мужественность в любой жизненной ситуации. Решать её, а не идти на поводу у эмоций. Папа всегда говорил мне: решай всё делами; именно дела, в конечном счете, исправляют твою беду, а не те переживания, которыми она вызвана.
Папа научил меня быть смелой и последовательной, никогда не обещать, если не сможешь выполнить обещанное, держать слово, ценить своё, а главное, чужое время, и не опаздывать, не брать чужого, но иметь своё, им же и делиться. Никогда не врать и не следовать слепо принципам, сохраняя рассудительность и трезвость ума. «Самая короткая дорога та, которую знаешь, — часто говорил мне отец, — а самая надежная — своими ногами. Хочешь правильно принять решение, руководствуйся своими совестью и честью. Они и ноги твоей жизни, и карта твоего пути. Следуй только им, и не собьешься».

Последние годы папа каждый день молился утром, перед едой и на ночь, носил крестик, но мне ничего не навязывал.
Как-то раз он поинтересовался, хожу ли я в церковь. Я ответила, что редко, а он продолжил: «Доченька, а ты ходи, не стесняйся. Ходи, так надо». Я даже день запомнила, это было 26 июня 1988 года, тогда маме, как умерла, исполнилось шесть лет. Мы в этот день ездили с отцом и мужем на Хованское кладбище и посадили цветы. А еще мне отец оставил напутствие: написал его на бумаге и передал в тот день, когда я впервые вступила в стены Московского университета и приступила к занятиям. Привожу весь текст в своем дневнике, сохраняя отцовскую манеру написания, без особой правки, за исключением орфографии и пунктуации:

«Люда, дочь моя, теперь я вижу, что ты стала взрослой и начинаешь свою личную жизнь. Учись хорошо, будь хорошей женой и примерной матерью. Я всегда тебя берег, но пришло время отпускать тебя, чтобы и ты своими учёбой и трудом доказала, что являешься настоящим человеком и достойным гражданином нашей великой Родины.
Жизнь не бывает легкой и простой, а потому наберись терпения и будь сильной и смелой. Помогай слабым и всем, кто попросит тебя о помощи, твоя будущая профессия к этому обязывает. Никогда не лги и не преступай черту закона. Не пользуйся благами своего служебного положения. Ни на минуту не забывай, что ты слуга народа, и всё, что ты имеешь, не твоё, а принадлежит государству и всему нашему народу. Береги от позора наш род, род Филимоновых. Храни честь мундира и всегда слушай только свою совесть. Живи по справедливости, а поступай по совести. А ещё люби Родину и, если потребуется её защищать, то не раздумывая, с оружием в руках вставай на защиту своей страны. В этом и состоит счастье, чтобы так жить! Так будь же счастлива, дочь моя, Людмила Георгиевна Филимонова. Твой отец, Георгий Григорьевич, коммунист, член КПСС с 1945 года».
Завершая рассказ о сложной и героической судьбе Георгия Григорьевича Филимонова, я, как автор, не перестаю восхищаться личностью этого человека. Смелый и честный, истинный патриот, готовый в любой момент отдать жизнь за Родину, он не раз рисковал, выполняя свой служебный и гражданский долг. Он без страха задерживал банды, обезвредил диверсанта на строительстве метро, не раздумывая, бросился в ледяную воду, спасая ребенка. Несмотря на страшные испытания в Бамлаге, не перестал верить в жизнь, сумел выстоять в непростых ситуациях и не отвернуться от своей Родины. Он был верным и преданным семьянином, а его трогательная любовь к дочери не оставляет равнодушным. Его внук, поэт Терентий Травник однажды написал: «Высота у тебя одна — это жизнь, что тебе дана…». Вот Георгий Филимонов и брал свои высоты, с честью пройдя все жизненные испытания, всегда оставаясь Человеком. С юных лет и до конца жизни его поступки запечатлевались в сердцах окружающих доброй памятью. И, как увидим в дальнейшем, его дочь Людмила, действительно, многое переняла от отца и в своем служении выбранной профессии неукоснительно следовала отцовскому завету.


ГЛАВНОЕ СВОЙСТВО ЖИЗНИ — ЖИТЬ!
В 1946 г., несмотря на трудности и беды послевоенного времени, семилетняя Люда Филимонова поступила в школу для девочек (обучение пока ещё было раздельным). Дневниковые записи, сделанные годы спустя, хранят по-детски трепетное отношение к большому миру, который со школьного порога только приоткрывал перед пытливыми ребятами свои двери. Детям всё было интересно, тогда как взрослые отдавали отчёт в том, какой груз ответственности за восстановление страны и её прогресс ложится на плечи юных граждан, и старались их к этому подготовить. И что немаловажно и, пожалуй, даже удивительно для нас сегодняшних, — это осознание подрастающим поколением такой своей роли, желание служить Родине и народу на любом поприще, понимание предстоящих трудностей и при этом — искреннее стремление внести свой вклад в светлое будущее.
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«Мне хорошо запомнилась та строгая и теплая забота, которой нас постоянно одаривали наши учителя, да и обычные люди. Военное время породило у взрослых своё особое отношение к детям — очень нежное, бережное и внимательное. Да, много погибло на войне людей. Не было семьи без потери и горя, и в нас, маленьких гражданах страны, взрослые видели тех, кто должен будет стать по-настоящему счастливым, вырасти крепким и здоровым, продолжить строить светлое будущее нашей страны для грядущих поколений, а отсюда — такое тепло к нам. Мы это понимали и стремились быть такими, какими хотели нас видеть наши родители, учителя.
2005».
Конечно же, представление об окружающем мире складывалось не только благодаря школе и семье, но и в играх со сверстниками, в общении с соседями. И снова дневники уводят нас в те далекие послевоенные годы, когда детство с его искренностью и простотой находило счастье в малом.
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«Помню, как мама водила меня в первом классе в школу. Стояла теплая и сухая осень. Шли переулками, а повсюду играла музыка, где-то радио, а где-то и патефон.
За осенью подоспела зима, и папа впервые в моей жизни принёс домой ёлку. В тот же вечер он смастерил гирлянду, покрасив несколько небольших лампочек йодом, зелёнкой и марганцовкой. На макушку водрузил наконечник, вырезав из консервной банки пятиконечную звезду, а ведро с водой, где стояла крестовина, укутал мешковиной, от которой почему-то изрядно воняло гнилой картошкой. Родители нарядили лесную красавицу, а я накидала на ветки вату, напоминавшую снежные хлопья.
Ждали полночь. В квартире никто не спал, и я слышала, как у «Марьванны» играет музыка и доносятся мужские и женские голоса. О чем они говорили, я не понимала, но только один из мужчин всё время что-то пытался объяснить или доказать, а потому нет-нет да и выкрикивал громко: «Дай сказать, дай я скажу!..»
На новый год жарили картошку на сале и ели солёные деревенские грибочки, купленные по случаю на Киевском вокзале. Родители выпили, а мне налили компота из сухой рябины и дали моченых яблок. Потом папа с мамой решили потанцевать. Пластинок у нас не было, а потому они оба пели песню, кажется, «Окрасился месяц багрянцем…» и танцевали под такой вот необычный аккомпанемент. Мама, стоя посреди комнаты и растянув за плечами пуховый платок, покачивалась на месте, а папа выхаживал вокруг неё кругами, закидывая то одну, то другую руку за затылок и, время от времени, шлёпал руками по каблукам начищенных до невозможного блеска сапог.
Медленно осыпаясь, елка простояла почти до самой весны, а потому, чтобы хоть как-то сберечь остаток иголок на ней, мы старались ходить чуть ли не на цыпочках. Ко мне нередко заглядывали ребята, мы рассаживались у ёлки, подолгу смотрели на гирлянду и молчали.
Однажды Славка Харитонов, сосед по улице, разглядывая светящиеся лампочки, неожиданно произнес: «Я тоже своим детям лампочки на ёлку сделаю». Мы все застеснялись и почему-то начали над ним смеяться.
Тогда он встал и, указав на меня пальцем, серьёзно так сказал: «Вот ты, Людка, и родишь мне!» Все ещё больше развеселились, а я почему-то обиделась и на Славку, и на себя, и на них…
Пришла первая послевоенная весна, незаметно исчезли мартовские проталины, отжурчали ручьи, отзвенела апрельская капель, набухли почки, и май обрушился на Москву цветением сирени и вишни. Во дворах все шумнее и праздничней звучал аккордеон, и народ вечерами не сидел дома, а устраивал танцплощадку прямо у подъезда. Жизнь не терпит пауз и при всякой возможности хочет и стремится жить, — да, жить, таково её свойство. А война противоестественна для жизни, война пагубна для неё, и это знает и понимает всякая женщина, поэтому мы, женщины и не воюем. Мы — источник жизни. Мужчины-то не зачинают, не вынашивают, не рожают, а потому и играют до седых волос в «войнушку», как называли её наши мальчишки.
Как же это правильно, что детство не видит ни разрухи, ни печали. Не замечает ни слез, ни горя взрослой жизни, а если что и заметит, так быстро забывает, берёт и переключает свое внимание на что-то иное и живет так, как ему и положено свыше — с полным ощущением счастливой жизни, и даже не ощущением, а просто счастьем. Я вовсе не была исключением и тоже все видела и запоминала в счастливом цвете, хотя картинки войны остались навсегда в моей памяти, и страх от бомбежек не исчез и по сей день, а мне ведь скоро семьдесят. Видимо, желание жить, учиться, творить и мечтать о хорошем ещё в детстве запрятало и закрыло эту самую боль на семь огромных замков, лишь одну радость выпустив наружу.
Что-что, а нытиком я никогда не была, жаловаться не умела, да и обиду не таила, а всё «ляпала» сразу в лицо. Позже от последнего решительно отказалась. Говорить в глаза всё, что думаешь — не всегда правильный выход. Надо очень внимательно подумать, прежде чем так поступать. Пожалуй, ради сохранения отношений много чего стоит и не договаривать, а то и просто молчать. В жизни всё меняется быстро. А скажешь что-то дурное, так след от этого надолго может остаться в душе человека и саднить. Так что для меня молчание — золото».
О послевоенной школе
Из истории школьного образования военного и послевоенного периодов известно, что в CCCР с 1943 г. существовало раздельное обучение мальчиков и девочек, но не было определено всеобщее обязательное образование. Подавляющее большинство школ были разрушены, и для их восстановления проводились мобилизации местного населения на массовые воскресники для помощи и самим школам, и в фонд всеобуча. Многие школы были построены методом народной стройки. Главным достижением в области народного образования в послевоенные годы стало введение с 1949/50 учебном года обязательного семилетнего обучения, хотя крупные города — Москва, Ленинград, Свердловск — были готовы ввести всеобщее среднее десятилетнее образование.

Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«Как мне теперь кажется, возраст детей в классе был не одинаков, обязательного обучения в военные и первые послевоенные годы не было. В то время не существовало ни специальной формы, ни обуви для школьников, некоторые ходили даже босиком, многие болели и отставали в учебе, пропускали занятия или не ходили в школу вообще.
Только с 1949 г. на базе школы было введено семилетнее обязательное образование. Пионерская организация в нашей школе отсутствовала, вожатые тоже, всё только зарождалось. В основном их работу выполняли всё те же учителя. Но пионерами мы всё же считались. Галстуков тогда не было, отсутствовала даже сама ткань, чтобы их сшить. Как-то раз мой папа принес материал для галстуков, и я отнесла его в школу — несколько галстуков сшили. Вскоре привезли фабричные, и тогда всем раздали одинаковые, хлопчатобумажные. Помню, как в третьем классе меня принимали в пионеры. Мы тогда стояли в коридоре первого этажа и давали клятву пионера: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь…».
Как же интересно нам жилось! Мы вели тимуровскую работу и ходили в настоящие походы с компасом и картой на Ленинские горы и в Филевский лес. Собирали металлом и макулатуру, тряпьё, почти каждую неделю у нас были субботники по благоустройству территории, и мы с учителями высаживали деревья и кусты в школьном дворе. А сколько было прочитано книг, иногда всем классом читали одну книгу, пускали её по рукам, записывались в очередь и ждали! Чтение вслух было любимым занятием многих. В мое время вообще очень много читали, причём читали все дети. Ребенок с книжкой было явлением более частым, чем ребенок с игрушкой. Мой папа следил за моим чтением и всегда покупал новые книги.
Он и сам немало читал, а мама, в основном, просматривала газеты. Думаю, что у нас в семье была одна из самых больших библиотек в нашем доме. Помню, как мы с подружками выбирали в ней книги, каждая — свою, и бежали на косогор читать, да-да, именно читать. Ложились на траву, грызли яблоки, черные сухари с солью и целый день читали. Таких детей с книгами на косогоре было немало. Эдакий читальный зал под открытым небом, прямо рядом с Москвой-рекой».
Людмиле было легко учиться, она постигала школьные науки с большим интересом, все новые знания хватала буквально на лету. Любимым предметом была география. Девочка мгновенно запоминала новые названия городов и стран, была активна на уроках. Действительно, учителя-предметники умели зажечь в ребятах интерес к той науке, которую они преподавали.
Любовь к школе и наукам была, в основном, ответна, хотя были и такие учителя, которые сознательно занижали оценки. В аттестате Людмилы, среди «хорошо» и «отлично», была единственная оценка «удовлетворительно» от «нелюбящей» учительницы по литературе, хотя сам предмет девочка очень любила. Впоследствии при поступлении в МГУ на юридический факультет Людмила экзамен по русскому и литературе сдала на «отлично». Годы спустя её сын, сдавая выпускной экзамен в школе и отвечая на билет по химии, покажет такой высокий уровень знаний, что «нелюбящая» его учительница химии лишь разведёт руками и с возгласом «не может быть!» начнёт засыпать парня вопросами. В итоге в аттестате появилась твёрдая «пятёрка», а в среде одноклассников эта история вспоминалась не один год.
Видимо, это семейное — ответственно относиться к делу и достигать непростой цели. Уже в восьмом классе Людмила твердо решила стать прокурором или следователем. Упорство, настойчивость и усидчивость в учёбе со временем помогли ей осуществить эту большую мечту и стать квалифицированным правоведом, юристом, судьёй.
Для желающих продолжить школьное образование и поступить в вуз обучение в 8—10 классах было платным. В вузе образование также было платным. Общеобязательная плата в СССР за обучение была введена с октября 1940 года для всех учащихся вузов, 8, 9 и 10 классов средних школ, а также техникумов, педагогических училищ, сельскохозяйственных и других специальных средних заведений. Оплата была такая: для учащихся 8—10 классов средних школ Москвы и Ленинграда — 200 рублей в год, в остальных городах — 150 рублей; в вузах Москвы и Ленинграда, в столицах союзных республик — 400 рублей в год; в других городах — 300 рублей в год. Постановление действовало вплоть до его отмены в 1956 году по решению Совета Министров СССР, но Людмила к тому времени уже закончила десятилетку.
В 1952 г. Людмила поступила в среднюю школу-десятилетку №64, находившуюся на Композиторской улице (Старый Арбат; сегодня на этом месте располагается ресторан «Арбат»). А 1 июля 1954 г. вышло постановление «О введении совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов», и в классе появились мальчики. Их было совсем немного: после семилетки мальчишки обычно уходили из школы и устраивались поскорее на работу, приобретали профессию, чтобы помочь семье. Во многих семьях после войны не было кормильцев, и вся тяжесть материального обеспечения ложилась на неокрепшие плечи четырнадцатилетних сыновей. В те годы мальчики вообще рано взрослели. Во время войны они мужественно вставали к станкам, заменяя ушедших на фронт взрослых мужчин, и наравне с женщинами и стариками рыли окопы.

Те же из ребят, кто оставался в школе, учились хорошо, разучивали и читали перед классом стихотворения, песни, танцевали, ставили пьесы, военная тематика главенствовала. Пели на уроке героические песни: «Каховка», «О Щорсе», «Марш Будённого» и другие.
С песней по жизни
В наших беседах Людмила Георгиевна признавалась, что одни из самых ярких воспоминаний детства были связаны не с войной, а первыми неделями и месяцами Победы. По радио передавали светлую, жизнерадостную. В основном это были марши и весёлые песни военных лет, но особенно Людмиле нравилась «Брянская улица». Многим хорошо знаком такой, например, куплет:
С боем взяли мы Орёл, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Брянская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога
Брянская улица на запад нас ведёт.
Полюбившаяся маленькой Люде песня позже получила другое название — «Дорога на Берлин». Работая над книгой, мы узнали интересную и заслуживающую внимания историю этой песни, которой и хотели бы поделиться с читателями.
Поэт Евгений Долматовский первоначально написал стихотворение с названием «Улочки-дороги», оно было напечатано во фронтовой газете «Красная армия» в ноябре 1943 года. Случилось это в только что освобожденном от фашистов Гомеле. До этого советские войска уже освободили Орел и Брянск. И тут он заметил интересную закономерность: последняя улица, по которой проходили наступающие войска Красной армии, как бы указывала направление к следующему городу, который предстояло взять. В Орле это была Брянская улица, в Брянске — Гомельская, в Гомеле — Минская… «Когда после Курской битвы наши войска стали стремительно продвигаться на запад, названия улиц, по которым они проходили, покидая освобождённые города, вдруг становились символическими», — вспоминал Долматовский.
Песню «Улицы-дороги» солдаты «взяли на вооружение» и запели в дивизиях и полках, причем на разные мотивы, которые армейские запевалы подбирали сами.
Долматовский отправил стихи в Москву композитору Марку Фрадкину. Ответа от него сразу не последовало. И только через год, уже в конце войны, он неожиданно услышал по радио голос Утёсова, исполнявшего вроде бы его, Долматовского, песню, но… немного другую. У песни каким-то удивительным образом появилось продолжение. Она звала уже не на Минск, а на Берлин!
Оказывается, Марк Фрадкин все-таки написал музыку на стихи Долматовского, а вот дописал текст сам Леонид Утесов. Как вспоминал певец, была одна беда: «Песня скоро начала стареть. Ведь кончалась она призывом: „Вперед, на Минск!“ А в июле 1944 года столица советской Белоруссии была уже освобождена. Советские воины шли дальше на запад, и я стал прибавлять названия новых городов, взятых нашими войсками: Брест, Львов, Люблин, Варшаву и так далее, заканчивая словами „На Берлин!“ Песня снова стала злободневной».
С этими поправками, которые внесла сама жизнь, песня действительно привела к Победе и с тех пор называется «Дорога на Берлин».
Много лет спустя, когда Люда Филимонова вышла замуж и стала Людмилой Георгиевной Алексеевой, у неё родился маленький сынишка, играя с которым, она часто напевала полюбившиеся с детства слова: «Брянская улица по городу идет…». При этом она брала его за ручки и разводила их в разные стороны, то вверх, то вниз, то приподнимала сына над полом, пока Игоряша не уставал от такой «игры» и не начинал плакать. Тогда она подхватывала его, прижимала к себе и ласково касалась губами его щеки, отчего слёзки быстро высыхали, и он радостно улыбался маме…
«…Я всегда гордилась своим отцом…»
Осознание, как трудна и важна профессия отца, постепенно сформировало у Людмилы понимание того, чему она сама готова посвятить жизнь. Георгий Григорьевич пользовался непререкаемым авторитетом и в семье, и у окружающих. Однако не менее важным для девочки было видеть, что и в повседневной жизни, вне работы, отец по-прежнему оставался таким же принципиальным, последовательным и смелым.
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«Папа много и часто возился с местной «шелупнёй», как те сами себя называли. В то послевоенное время сплошная безотцовщина была, вот они и тянулись к нему — сильному, высокому, доброму, да ещё и в милицейской форме, сапогах, фуражке и с настоящей кобурой. Кстати, среди них были и такие, которые выросли и пошли служить именно в милицию. Помню, что уже тогда они мне, нет-нет, да и намекали: «Вот стану большим и как твой папаня, дядя Жора, мильцанером буду». Скажут, а сами смотрят на меня с прищуром и спрашивают: «А ты?» И я, сама не зная, почему и зачем, уверенно отвечала им: «И я тоже!». А ведь так оно всё и случилось.
В начальных классах мне очень хотелось быть врачом и делать уколы, почему-то именно уколы, но уже с третьего класса я стала подумывать о милицейской службе, а к пятому — почти твёрдо решила стать милиционером и работать в милиции, как папа. Иногда, когда он спал, я незаметно одевала его сапоги, китель и фуражку, и отдавая честь, стояла и смотрела на себя в зеркало. Однажды за этим занятием меня застала мама, поняла, к чему я клоню, и сильно отругала. С тех пор я только лишь поглядывала на форму, которая всегда аккуратно висела на «плечиках», укрытая сверху газетами, видимо, от пыли. Что касается детских желаний, то в будущем так оно и сложилось. Я была очень целеустремлённая девочка.
У меня, сколько себя помню, всегда было много стремлений. Но главное то, что я мечтала выучиться и стать олицетворением настоящего гражданина своей страны. Мама, тихая и боязливая, меня в этом не поддерживала, поэтому я делилась с отцом, а тот был смельчаком и во всем меня подбадривал, если оно соответствовало идеалам советского человека. Мы с ним и родились почти в один день: я — 10 ноября, в День милиции, а он — 12 ноября…
Помню, как отец давал пацанам из нашего двора уроки метания ножа Он так умел метать нож, что тот аж со свистом летел метров десять-пятнадцать и по самую рукоятку вонзался в заборную доску. Во силища была! Мальчишки всё бегали вокруг него и кричали: «Дядя Жор, а дядя Жор, ножичек кинь-а! Ну, дядя Жор, ну, кинь!» Вот папа и демонстрировал им своё мастерство, а те сядут, смотрят и все в один голос, как воткнётся нож в доску, кричат: «Ух, ты, зэкински получилось! Во клёво! Видал? Ух, ты!» Я стояла недалеко, посматривала то на папу, то на замусоленных, ловко сплёвывающих сквозь зубы, «широкоштанных гаврошей» в кепках и, конечно же, страшно гордилась своим отцом.
Расскажу случай, послуживший ещё одним поводом гордости за отца. Произошло это воскресным днём в мае. В открытое окно доносился смех играющих во дворе детей. Все были дома: родители занимались своими делами — мама варила щи, а папа что-то мастерил для соседки Марьванны. Неожиданно послышался крик бабы Вали, которая, не выбирая особо выражений, орала на кого-то жутко визгливым голосом. Следом забрехал её пёс Бабай, а ещё через пару минут раздался незнакомый хриплый бас: «Всех зарежу! Всех повырезаю, а-а-а!»
Дверь в коридор была открыта, и я увидела, что отец встал и, как был в домашней рубашке с коротким рукавом, так и вышел на улицу. Мы с мамой побежали к окну.
Посреди двора стоял великовозрастный, изрядно подвыпивший, еле держащийся на ногах, детина в клетчатой, разорванной на груди рубахе и в кепке, сжимая в руке здоровенный столовый нож. Повисла тишина. Мы увидели, как папа, выйдя из подъезда, медленно пошёл в сторону мужика. Тот посильнее нахлобучил кепку, смачно харкнул, и, напрягшись, вытянул вперед руку с ножом, промычав что-то вроде: «Все-е-х заре-е-жу, не подходи», и выругался.
Отец не остановился и медленно продолжил движение в его сторону. Подойдя к хулигану вплотную, взял его за руку, направил нож себе в живот и глядя ему в глаза, жёстко скомандовал: «Ну, давай, режь!» — и тихо добавил: «… если сможешь…».
Возникшее напряжение неожиданно прервал женский крик: «Людя, помогитя! Жорку убивають!» В тот же момент отец с силой оттолкнул бандюгу от себя и выхватил у него нож. Мужик упал. Отец сунул нож в карман и, пригрозив еще раз кулаком, помог ему подняться. При этом что-то негромко сказал тому на ухо, на что дылда, утерев нос рукавом и пригрозив ещё раз всем кулачищем, резко отвернулся и, шатаясь побрел к арке, бормоча под нос всякую ахинею. Сделав несколько шагов, он заголосил что есть мочи: «Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душенька…».
Вернувшись домой, отец бросил нож в инструменты и пошел доделывать Марьванне табурет. К тому времени соседка успела поменять платье, и, надев медали, вышла из комнаты с бутылкой «красного». Налив полстакана, со словами «за победу над пьянством!» — она чокнулась со стеной и, резко запрокинув голову, залпом выпила. Проходившая мимо по коридору баба Клава лишь буркнула: «Срамота-то какая… Господи Иисуся вспоможи грешнай».
Пропикал сигнал точного времени. «В Москве полдень!» — донеслось из кухонного репродуктора. Начался обычный советский выходной день».
«Тимур и его команда»
Впрочем, не только отец вдохновлял Людмилу. Первая влюбленность приходит к нам самым неожиданным образом. Романтичная и возвышенная, она зачастую находит свой идеал в книгах или… кинофильмах. Нас привлекают умные, благородные и сильные герои, и порой судьба дарит встречу с ними в реальной жизни…
Из дневников Людмилы Георгиевны:
«Пришло время открыть тайну: во многих моих поступках юности меня вдохновлял Ливий Щипачев, сыгравший Тимура в фильме „Тимур и его команда“ (1940), сын знаменитого тогда поэта Степана Щипачёва. Тимур-Ливий — моя первая любовь. Я тогда очень сильно влюбилась в героя этой кинокартины, старалась во всём ему подражать: то ведро с мусором соседям незаметно вынесу, то полы помою, опять же незаметно, то ещё что-нибудь сделаю по хозяйству. Позже и мои подружки стали „тимуровками“. Тимур-Ливий настолько покорил меня своим благородством, что я даже сына хотела назвать Тимуром. А что? Был бы Тимуром Аркадьевичем! Но судьба предложила мне иное имя — Игорь, в честь футболиста московского „Динамо“ Игоря Численко».
Выбор имени для сына, действительно, был не случайным: супруги Людмила Георгиевна, и Аркадий Павлович в молодости были заядлыми болельщиками московского «Динамо», а Людмила Георгиевна сама себя называла «страшной футбольной фанаткой». Матчи ходили смотреть на стадион «Динамо», знали всех игроков, вели в тетрадях записи о футбольных встречах и старались не пропускать ни одного матча с любимой командой. В семье Алексеевых хранится фотография знаменитого форварда с его личным автографом дос: «Удар — гол!!! Так и жить! Люсе от Игоря Численко…».
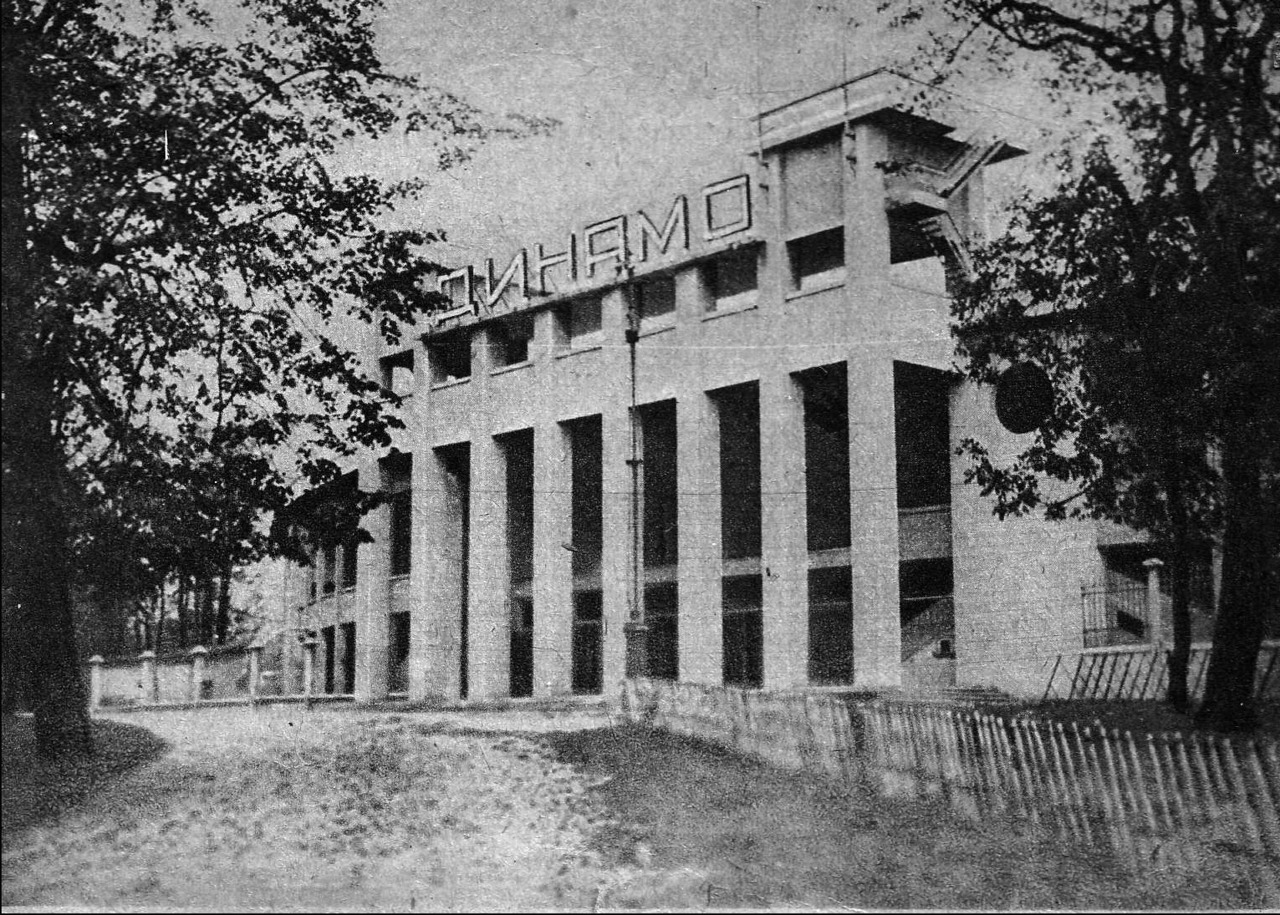
С Тимуром, а точнее самим Ливием, Людмила все-таки встретилась, причем случайно, ей тогда было лет шестнадцать, а он был уже солидным артистом, лет около тридцати: «Встретились мы в Смоленском гастрономе, куда мы с мамой пришли за продуктами. Неожиданно все куда-то побежали. Бегут, а сами шепчутся: «Тимур, Тимур…». Ну, я и «рванула» к собравшейся толпе, а мама меня не пускала, всё тянула за рукав, пытаясь удержать. Но я все же прорвалась, да так, что оказалась прямо перед ним. Помню, встала, смотрю на него и улыбаюсь. Он пожал мне руку, улыбнулся, протянул мне жестяную коробку с конфетами «Красный Октябрь» и говорит: «Держи! Угости всех своих подруг, а коробку на память сохрани — это тебе от Тимура». Я так и берегла её. Всем девчонкам показала в школе, а потом у меня её папа выпросил для своих сапожных игл и мелких причиндалов. Теперь она у сына в письменном столе хранится. 1998 год».

Папино украшение
Мы уже упоминали, что Георгий Григорьевич охотно мастерил разные предметы быта, но, кажется, особенно хорошо ему удавались миниатюрные модели, которые он создавал для дочери, а позже и для внука. Как-то раз, делится Людмила Георгиевна, он сделал чудесное украшение:
«Помню, как-то раз в нашей школе проходил праздничный концерт. Накануне папа с получки мне купил новую кофточку, и я, решив пойти в ней, очень хотела чем-то ее украсить. Тогда папа и сказал мне, что на ней появится такое, чего ни у кого не будет. Засев на кухне, он с полдня что-то мастерил и… сплёл мне малюсенькие, меньше спичечного коробка, лапото́чки. Я приколола их к кофте и пошла с этой брошью на концерт. Папино украшение произвело невыразимое впечатление на моих подружек, и позже девчонки просили меня, чтоб отец и им сделал такое же. Всю жизнь я храню эти лапоточки в своей шкатулке с бижутерией. Кстати, и мой сын очень любил играть с ними в детстве: дедушка научил его надевать их на средний и указательный пальцы руки и расхаживать таким образом по столу, имитируя рукою маленького человечка.
1999 г.».
Деревянная колодочка справа и маленькие лапото́чки, которые сплел Георгий для дочки Люды, до сих пор хранятся в домашнем музее семьи Алексеевых.

«Улица» — главная игра всей нашей детской жизни…»
В наших беседах Людмила Георгиевна много внимания уделяла повседневной жизни своих сверстников-школьников. Дети во все времена были детьми, а в скудное послевоенное время все радости были поистине простыми. Зато, слушая и читая эти воспоминания, неизменно ловишь себя на мысли, как интересна и богата была эта, на первый взгляд, непритязательная жизнь…
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«Гуляли мы в детстве очень много, домой, что называется, не загонишь. «Улица!» — именно так, пожалуй, и называлась самая любимая, самая главная игра всей нашей детской жизни.
Первое, с чего хочу начать, так это с воды. Весь день бегать (а носились мы как угорелые) и не захотеть пить невозможно, не так ли? Недалеко от нашего дома стояла колонка, и мы взахлёб пили холоднющую воду, запрокинув голову на бок, широко открыв рот. И брызгались, конечно же, прикрывали кран открытой ладонью и направляли на своих друзей бьющую струю воды,. Те от неожиданности звонко визжали и смеялись, пытаясь отогнать от колонки обливающего, чтобы занять его место.
Как правило, по выходным мы уходили из дома утром, играли весь день, правда, всё больше во дворе, и возвращались, когда на улице было уже темно. В подъезде горела одна «пятнадцативатка» и то при входе, а дальше — темнотища!
Пили квас, разбавленный сырой водой, чаще из одной военной фляжки, которая обязательно была у кого-нибудь из мальчишек, и при этом никто не брезговал.
Какое оно было, детство тех лет? Каждый мог бы добавить что-то своё, но всё равно было много общего, мы были одной командой — командой советских детей. Играли, шутили, ссорились и обижались, но оставались все вместе, храня какую-то неподдельную верность нашему негласному детскому братству. Очень ценилась в те годы дружба. Помню, что знакомились, начиная с обычных слов: «Тебя как зовут? А давай дружить!»
Сбившись в дружную компашку, мы лазили по чердакам, подвалам и помойкам, гоняли голубей и кошек, играли в прятки по кривым переулкам, носились и падали, сбивая в кровь коленки, расшибая носы и обдирая локти. Получали синяки и ссадины, но не ныли, а даже гордились что мы такие смелые, выносливые и терпеливые. Слова «до свадьбы заживёт» творили чудеса и, как по мановению волшебной палочки, сами срастались наши косточки, зарубцовывались шрамы и заживали царапины.
По весне мы с мальчишками по ручьям пускали и гнали щепки-лодочки. Шлёпали по лужам, измеряя их глубину, часто проваливались и, зачерпнув в сапоги холодную весеннюю воду, так и бегали с мокрыми ногами весь день. Учились у ребят свистеть с двух пальцев и плевать сквозь зубы. По вечерам сидели на лавочке у дома вместе с бабками и лузгали семечки, старательно засовывая языком шелуху под верхнюю губу или растили из нее «бороду».
Иногда мы залезали на крышу какого-нибудь старого сарая или на горбыльный забор в школьном дворе, сидели, шутили и, конечно же, мечтали. А мечтали мы о многом, но главное, нам хотелось поскорей вырасти и жить, строя новую радостную советскую жизнь: осваивать земли, лечить людей, учить детей, сеять хлеб и работать на заводах. А дальше мы шли всей гурьбой болтаться по переулкам в поисках приключений. Когда нам был кто-то нужен, то мы дружной ватагой заходили к нему домой, и его родители нам это разрешали. Двери в основном не закрывались, и мы, бывало, просто заходили, толкнув дверь плечом. Просто так, без спросу! Сами!
Мы придумывали игры с верёвками, палками, гвоздями, а ещё тырили дикие яблоки в заброшенных садах, таких было в то время немало в Москве. А вообще-то, мы играли во всё, что попадало под руку, делали «секретики», зарывая что-нибудь в землю, накрывая при этом «что-нибудь» бутылочным стёклышком. До обиды «резались» в карты, лото, домино и фантики от конфет.
А ещё мы играли в ножички! Не буду скромничать: я была многократным чемпионом двора по этим самым ножичкам. Кидала и втыкала лучше всех. Умела и «росписью», и с колена, и через плечо, и с носа, — папа всему научил.
Часто, как все тогдашние дети мы играли в «войнушку». Быть «фрицем» считалось позорным, а потому никто не хотел. Споры о том, кто будет «немцем», иногда заканчивались потасовкой. Рассорившись вдрызг, мы прибегали к считалке: кому выйдет, тому и быть из нас врагом. Ну, здесь уж не поспоришь, коль выпало, да и играть всем хотелось. А дальше раздавалось оружие — ветки или палки, похожие на винтовки (их делали ребята постарше), и вот тогда всё и начиналось. Сломя голову мы носились по дворам, по нашему любимому Ростовскому косогору, ползали под лопухами и вовсю палили из этих самых палок, крича: «Бух, бух, бабах! Ты убит!»
Случалось, что у кого-то из наших кончались патроны и его брали в плен. До сих пор не могу понять, как ребята постарше определяли того, у кого нет патронов. Ну, да ладно…
Бывало, что к нам подходили взрослые, делали замечания, ругали, когда кто-то ползал на пузе по лужам, но разве бойца Красной армии этим запугаешь? Остановить нас могли только наши родители, но и тут мы внимательно следили, чтобы их не было на поле боя. И если чья-то мама шла мимо из магазина, то мы моментально «смывались» куда-нибудь за сарай или ныряли в лопухи.
Взрослые были разными, попадались среди них и такие, кто, подойдя, отнимал палки, ломал их и говорил, чтобы мы никогда больше не играли в такие игры, не играли в войну, что это очень и очень плохо. Мы слушали, конечно же, соглашались… и всё равно делали по-своему.
Ребята бились аж до ссор, а у нас, девочек, цели были несколько иные, и дойти до Берлина мы особо и не стремились. В основном, мы хотели понравиться и влюбить в себя мальчишек, стараясь совершать какие-то особые подвиги, будь то прыжок с дерева или с крыши какого-нибудь сарая. Ребята это ценили и симпатизировали нам, а мы стыдились и шептались, поглядывая в их сторону. Часто мы были санитарками, и когда какой-нибудь герой падал от взрыва «гранаты» (что-то вроде бумажного куля с песком, брошенного в него врагом), то «наступал праздник и на нашей улице». Бинтовали мы его всем подразделением, всеми тряпками сразу и мазали их красной тушью. Он стонал, а мы… влюблялись в него и хотели всячески помочь бойцу пережить мучения от ран. Были такие мальчишки, которые до вечера бинты не снимали. Им казалось, что они герои, а мы с девчонками в этом их не разубеждали, да и сами в это верили. Всё по-серьёзному — вот такие дела..
Играть в «войнушку» было самым любимым делом для всех нас — и для мальчишек, и для девчонок. Вдвоём или втроём играть в неё было неинтересно, и поэтому такая игра собирала детей со всех переулков и дворов, со всего Приарбатья, Плющихи, Девички, а то и с дорогомиловской шпаной знакомились. Они с того берега Москвы-реки приходили наших потрепать, а мы их в игру втягивали, вот все сразу и мирились. Не брали в свои ряды мы только малышню, а те, толком не понимая, чем мы занимаемся, просто копировали наши действия, и визжа носились за нами, подражали каждому нашему крику, мешая играть, пока кто-то из старших ребят не прогонял их, чтобы те играли, но только в свою «войну» и поближе к дому. Когда народу не хватало, то «войну» отменяли, и ребята лазили по помойкам, жгли мусорные костры, а девочки играли в классики, в «магазин», в школу или врачей.
Сейчас понимаю, что жилось в те годы совсем нелегко, но мы, дети, чувствовали это, пожалуй, меньше всех. В этом и заключается волшебное свойство детства. Горе никогда не проникает глубоко в душу ребенка, а отрёвывается где-то на поверхности, в горле, перемешавшись с соплями и слезами, и уходит это самое горе, исчезает гадкое, а там, глядишь и опять солнышко, и опять смех и радость».
Зимние забавы
Была зима на целый лист
Был белым он, как снег январский.
И строчки черные неслись,
И ручка двигалась указкой…
Люся Филимонова. 1958 г.
Досуг зимой был простой, но веселый, задорный и чаще спортивный. В те годы все повально увлекались катанием на коньках или лыжах. Многие ходили в Парк им. Горького и катались вдоль набережной, которая специально для этого заливалась водой.

«Коньки выпускались, — вспоминает Людмила Георгиевна, — нескольких видов: «фигурки», «снегурки» и «бегаши». Но самые первые, на которых я училась кататься, были совсем простые. Носы их были загнуты на манер саней. Они продавались без всего, и папа мне их привязывал веревочками прямо к валенкам или ботинкам. Чтобы веревка не ослабевала и не сваливалась, под нее он просовывал коротенькую палочку, а то и гвоздь закручивал, как вертушку. Таким образом, удавалось добиться относительно прочного крепления конька к обуви. Конечно же, веревочки часто развязывались, и тогда приходилось бежать домой и просить кого-нибудь из взрослых прикрутить их снова, потому что сделать это самой на морозе было совсем непросто.
Потом у меня появились «снегурки». Они прикручивались уже к ботинкам. Помимо этого, у них были заостренные носы с насечкой, которыми было удобно отталкиваться. При этом можно было делать всякие фигуры на льду. Еще были коньки, о которых многие только лишь мечтали, так называемые «ножи», для скоростного бега, но их в основном хотели иметь ребята. Я только несколько раз погоняла на таких по ледовой дорожке стадиона «Труд», что на Девичке, а вот Аркаша, мой муж, зимой там занимался регулярно: сдавал нормативы, был мастером в этом деле, имел золотые и серебряные значки ГТО. Такие коньки были большая редкость.
Когда мы с девчонками бывали на катке, то молодой человек, который, заложив руки за спину, не спеша рассекал лед и воздух, вызывало у нас восторг и уважение. Кстати, каталась я лет до двадцати пяти, а то и больше.
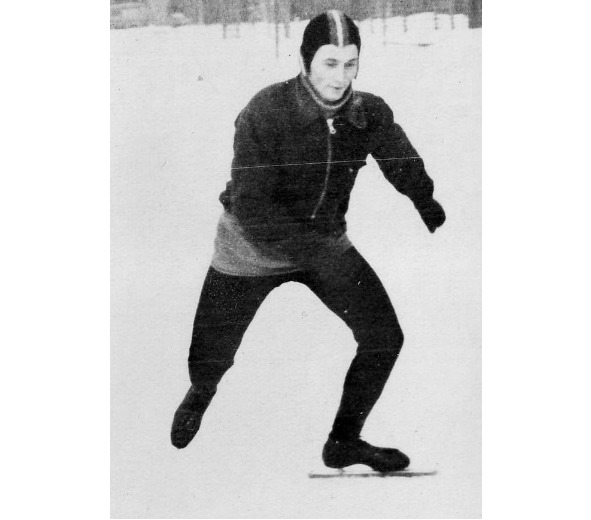
Теперь про лыжи. Лыжи у нас в школе были широкие с ремешком-лямочкой, в которые просовывались мыски тех же валенок. Лучшим вариантом было прикрепить к ремешкам резинки, которые охватывали валенки сзади и не давали лыжам сваливаться. Но резинки были только у тех, кому их могли приладить заботливые родители. Но отцы в пятидесятых были далеко не в каждой семье, и катались дети, постоянно теряя лыжи, что было смешно и здорово, особенно, когда ты мчишься с горки, подпрыгиваешь на снежном трамплинчике, а лыжи разлетаются в разные стороны, и всем от этого весело.
Не говорю о пятидесятых, но снега ещё до конца и шестидесятых выпадало много, и держался он всю зиму. Оттепели случались не чаще двух-трёх раз, были они непродолжительными, и до полного схода снега никогда не доходило. Во дворах строилось много самодельных горок из снега, которые, чтобы придать им прочность, местные жители заливали водой, обычно поздним вечером, когда крепчал мороз. К утру лёд был как камень. Снежные горки не требовали никакого особого снаряжения, и кататься с них могли и маленькие, и большие.
Но особенно неприятно было потерять в снегу калошу: её тогда сразу искали все. Я калоши снимала, но делать этого было нельзя, потому что промокали ноги, и тогда папа сшил мне бурки, где весь низ был из кожи. Они были похожи на сапожки, и я в них зимой форсила. С горки катались, как кому нравилось: на санках, на куске фанеры, сидя в тазу. Часто просто на мягком месте, или стоя на ногах (как, например, я, так сказать, для особого шика), или просто лежа пластом на пузе. Особенно весело было ехать «паровозиком», когда за санки с пассажиром цеплялись ещё два-три человека и которые ехали, присев на корточки. Было очень здорово изваляться в снегу так, что и шаровары, и варежки, и рукава пальтишек были мокрыми насквозь, да ещё облеплены затвердевшим снегом, который уже невозможно было ни сбить руками, ни счистить варежкой. Спина тоже была облеплена снегом. Ну, как же можно кататься с горки и не падать при этом на спину? И вот после катанья мы еле-еле тащились домой, уставшие, мокрые и голодные. Дома все одежды сбрасывались у порога, а мы стремглав неслись к столу. Ели мы с удовольствием, обед или ужин заполняли всё нутро, но дожёвывались нередко уже в полусне».
Послевоенное питание
Кушай тюрю Яша,
Молочка-то нет…
Выше мы уже рассказывали и о любимых блюдах и продуктах отца Людмилы, и о традиции семейных чаепитий в семье Филимоновых, однако повседневное питание до сих пор оставалось за пределами нашего повествования. Так что же ели дети, придя с долгой прогулки? Как питалась средняя советская семья в первое послевоенное десятилетие? Можно догадаться, что и здесь простота и незамысловатость определяли меню, но из дневников Людмилы Георгиевны следует, что настоящие хозяйки в любое время могли сварить «кашу из топора»:
«Очень хорошо запомнила кашу из саги (крупа из крахмала, имитация риса), помню пироги с сагой, вареники с кислой капустой, а ещё мурцовку (смесь холодной воды, черного хлеба, подсолнечного масла и соли). Ели тюрю, это когда в кипятке, разбавленном немного молоком, мнут слегка вареную картошку и куски черствого хлеба. Еще были супы, которые мама называла один «брындахлыстом», а другой «ритатуй» («хочешь ешь, а хочешь плюй»), но это, по-моему, народные названия. Готовила мама и щи, иногда даже с кусочком баранины (покупала в магазине). Соседка баба Клава варила манную кашу и угощала меня. Бывало, возвращаясь с работы, папа на ходу покупал батон колбасы, лука и черного хлеба. Нарезав толстыми кусками, звал всех соседей на праздник, и мы дружно и быстро всё съедали. Это случалось нечасто, потому что уминалось мгновенно, а стоило дорого.
Еще с черным хлебом ели арбуз (более рациональный вариант). На арбуз папа давал нам с мамой 10 рублей, стоил он, кажется, рубль за килограмм. На Плющихе вовсю торговали живыми раками, солеными огурцами в дубовых бочках и кислой капустой, причем прямо на улице. Аромат разносился по всем переулкам. Точно, как в песенке Аркадия Райкина:
Это было летом, летом.
Это было знойным летом.
На асфальте разогретом,
перед входом в старый сад <…>
Надо мной от зноя сильного
стало небо цвета пыльного.
Стала зелень клёнов чахлою
и корявою кора <…>
И несло капустой квашеной
из соседнего двора…
В праздники соседка Марьванна (Мария Ивановна Степановна) пекла целый таз пирогов с сагой, выставляла его на кухне для всех желающих. Она знала, что ко мне приходят подружки. Вот мы и бегали на кухню и таскали пироги целый день. А вообще-то в животах было пустовато, и мы постоянно были голодными.
Ещё мы сами делали пирожные: черный хлеб с подсолнечным маслом, посыпанный сверху сахаром. Сахар был кусковым, и мальчишки кирпичом долбили его на улице и продавали нам за рубль одну чайную ложечку, чтоб мы сыпали его на хлеб. В Смоленском магазине полки были заставлены консервами с крабами и двухлитровыми банками с красной икрой. Такое покупалось редко и не нами, людьми из коммуналок. Из наших мало кому это было по карману. Встречались квартиры с земляным полом, без окон, люди жили в подвалах, и я бывала в таких. Там жили мои подруги.
Еда едой, но это, конечно же, было не главным. Я была полна совсем другим — светлыми надеждами, романтикой, верой в Ленина и Сталина. Жизнь мне и моим друзьям казалась прекрасной. Впереди нас ждало только счастье — и больше ничего другого быть не могло. Война-то кончилась, а потому впереди — только счастье! Именно так многим и казалось. От политики мы были далеки, хотя китайско-советская дружба мимо нас всё-таки не прошла. В младших классах мы дружно запевали:
Москва — Пекин,
Идут, идут вперед народы,
За прочный мир,
За светлый труд
Под знаменем свободы…
Сталин и Мао слушают нас…
Похороны Сталина. Опала Берии
Не прошёл бесследно и 1953 год. Редко удаётся найти детские воспоминания о закате целой эпохи в жизни страны и отношении ребёнка к этим событиям. Бесценной находкой стали дневниковые записи Людмилы Георгиевны, сохранившие исторические события нашей страны, реальным участником и живым свидетелем которых ей довелось стать. Сохранился в архивах и тот самый спецвыпуск журнала «Огонек», посвященный Сталину и его смерти.
Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:
«И все же в детстве столкнуться с политикой мне пришлось, причём с одной из самых тяжелых её сторон.
В марте 1953 года умер Сталин. Я тогда училась в восьмом классе и хорошо запомнила, как в тот день, по обыкновению придя в школу, увидела, что младшие классы выстроились на первом этаже школы и громко плакали, учителя плакали тоже. Для меня это стало огромным потрясением.
Приближались сами похороны, и я знала, что мой папа сейчас дежурит где-то там, на Красной площади. Вот тогда мы с подружкой и решили идти на похороны Сталина.

Нас вело далеко не любопытство, но чувство потери и горя за всю нашу страну. Прошли по Смоленской, перешли Садовое, но по Арбату не пошли, а решили идти переулками и дворами. Народу было везде не просто много, а очень и очень много. Причем, как мне тогда показалось, что народ был во всех дворах, переулках и улицах. Дойдя до Собачьей площадки, это в районе ресторана «Прага», мы с подружкой прошли-протиснулись сперва по Моховой и с огромным трудом добрались до начала Манежной площади.

Дальше совсем не пускали — путь преграждала конная милиция и море людей. Все стояли и молчали. Молчали и мы. Вдруг толпа начала колыхаться и поначалу неспешно двигаться, а дальше, всё стремительнее и стремительнее, и нас силой вытеснили в какую-то небольшую нишу или арку. Помню, как мы забились в нее и сидели на корточках, а люди мимо нас то ли быстро шли, то ли бежали, трудно было понять. Многие ругались, было страшно. Стоял какой-то странный гул. Я от страха зажмурилась.
Еле-еле мы тогда выбрались и кое-как добрались до дома. Маме я так ничего и не сказала. Она бы «убила» меня. Рассказала только папе. Он долго молчал, но смотрел на меня так, как никогда раньше, потом отвернулся и, глядя куда-то в сторону, глухо, на выдохе произнёс: «Он у меня одну дочь отнял, а теперь и эту хотел…» и, ударив кулаком по колену, встал и вышел. Тогда я впервые увидела отца с папироской. Это был один-единственный раз в жизни.
Папа никогда не курил. В те годы я ничего не знала ни о Чите, ни о Карымской, ни о Бамлаге. О многом, но не обо всём я узнала позже, от матери. Отец никогда не вспоминал об этом периоде их жизни. Мама, рассказывая мне о пережитом, тряслась, как осиновый лист. После её смерти дед рассказал многое внуку Игорю, и детали я уже узнавала от него.
В том же месяце папа купил спецвыпуск журнала «Огонёк», посвященный смерти Иосифа Сталина. В нем было много фотографий, в том числе и те, на которых был Берия.

Позже, когда сообщили, что Берия предатель, то везде, где он был на фотографиях в журнале, я замалевала его портрет простым карандашом, хотя до сих пор в моей голове живёт радостное стихотворение прошлых лет, которое я когда-то выучила, учась в младших классах:
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия
Сегодня к нам приедет
Лаврентий Палыч Берия!
Удивительна сила пропагандистского слова. Журнал сохранился в семейной библиотеке до сих пор. Не так давно сын, отвечающий в нашем доме за подобные архивы, достал и показал его мне. Я села в своей комнате и внимательно полистала журнал. Что-то неясное, с одновременным ощущением радости и беды, величия и горечи медленно сходило с его страниц.

Лаврентия Берии. 1953 г.
Ну и что, что отец был сослан, я-то жила и радовалась жизни. Мое детство было светлым. Мозг категорически отказывался воспринимать все несогласования открывшейся позже реальности. Я ещё раз взглянула на замалёванный мною портрет Наркома внутренних дел и закрыла журнал… Возможно, навсегда.
Май, 2002 года».
Мы шли за ним среди грозовых вёсен.
Он был без сна и отдыха в Кремле
С тех пор, как клятву Ленину принёс он
И Лениным остался на земле.
Он нам открыл, он к нам приблизил дали.
И нет пути прекрасней и прямей.
И будет вечно жить товарищ Сталин
В делах его могучих сыновей.
Лев Ошанин
9 марта 1953 года
«Известия», СССР

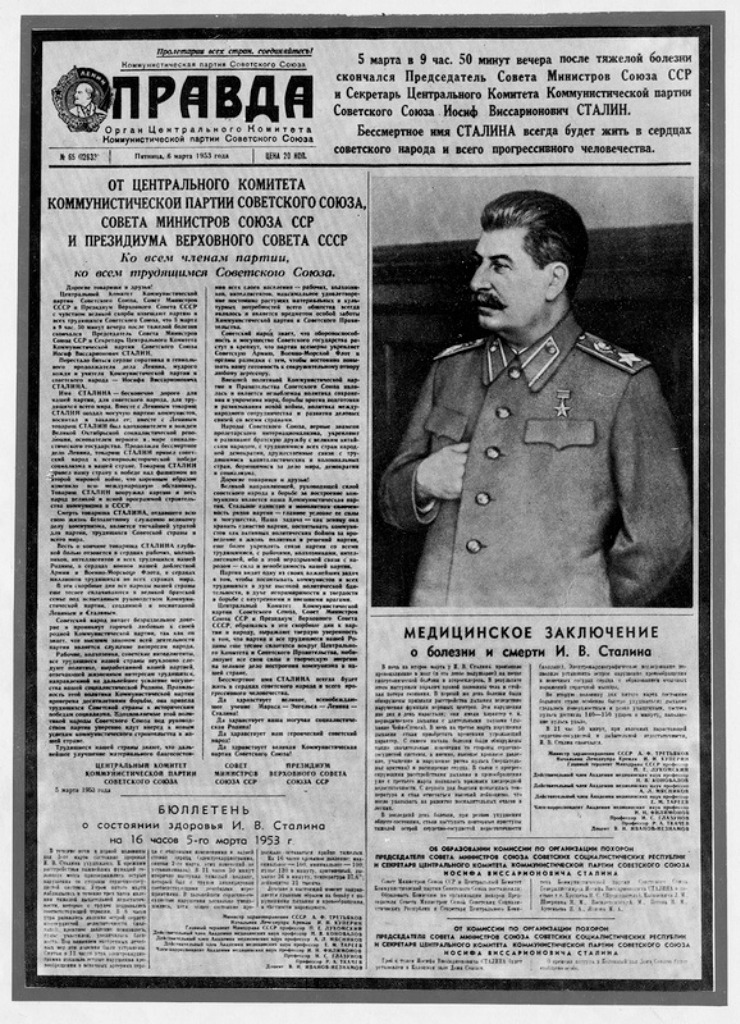
Заканчивался 1953 год… Ушли навсегда с политической арены страны Сталин, Берия, закончились массовые волнения заключенных в лагерях 1953—54 гг.., а в жизни Люды Филимоновой открывалась новая глава, полная светлых надежд и устремлений, — юность.
Людмиле было многое непонятно, но очень интересно и важно. Страна жила непростой жизнью, открывалось новое, говорили об успехах, о грядущем светлом будущем советских людей. Приближалось совсем другое, неведомое никому время, как его тогда и теперь называют, — время хрущевской «оттепели».
Страну ждали освоение целины (1954 г.), первая арктическая экспедиция (1955 г.), запуск первого в мире спутника (1957 г.) и первый полёт в космос (1961 г.), спуск на воду первого в мире атомного ледокола «Ленин» (1957 г.), всемирный Фестиваль молодежи и студентов (1957 г.) и денежная реформа (1961 г.), изменившая масштаб цен (1 новый рубль был приравнен к 10 старым).
Пионерское детство
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.