
Бесплатный фрагмент - Вспомни, Облако! Книга третья
Рассказы о пионерах неба, о его величестве Случае и госпоже Удаче

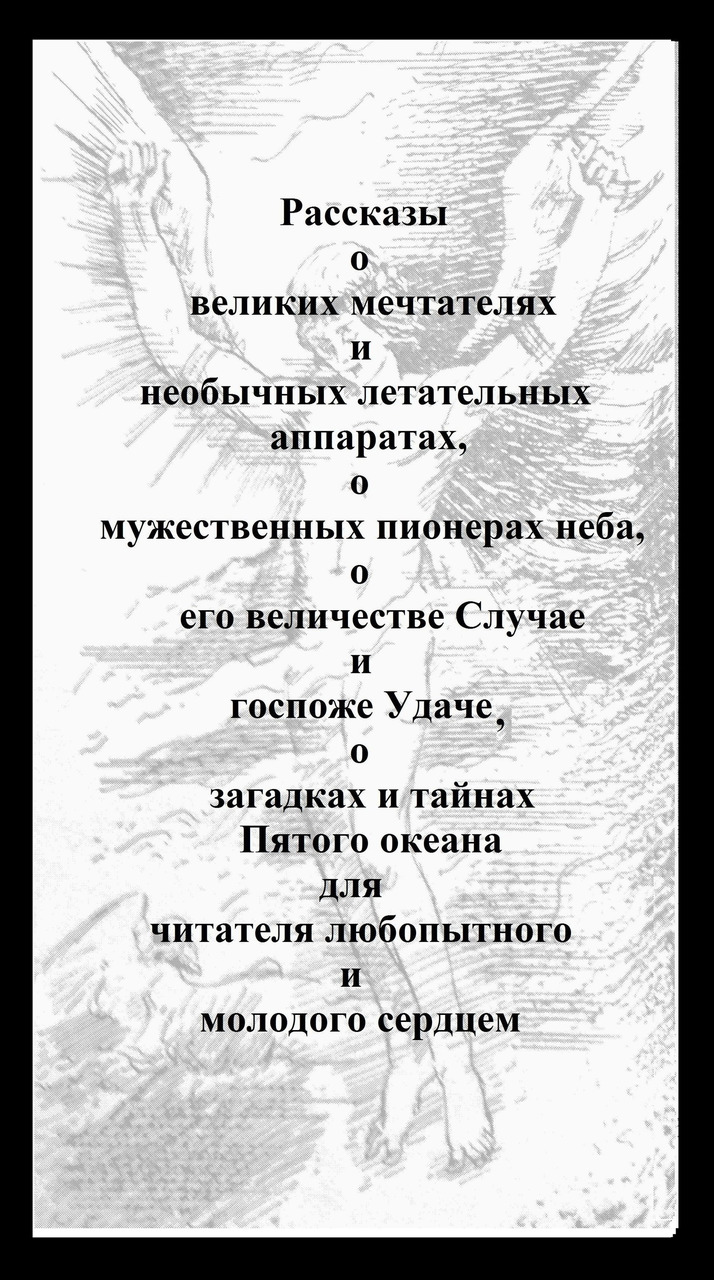
…Ну, а самое
существенное?
Главное, быть может, —
не могучие
радости ремесла,
не невзгоды
и не опасности,
.но взгляд на мир,
до которого они возвышают.
Когда, снизив обороты,
приглушив мотор,
пилот скользит к гавани
и обозревает город
с его человеческими
напастями —
денежными заботами,
низменностью, завистью,
враждой, —
он чувствует себя
чистым и неуязвимым.
И если ночь в пути
была ненастной,
он попросту радуется
жизни…»
Антуан Сент-Экзюпери
Часть первая

«Андская симфония»
«Гипотезы» о планерах
и воздушных шарах,
на которых якобы
могли летать индейцы, —
это выдумка любителей
сенсации…
Примечание редакции издательства
«Прогресс» к книге М. Стингла
«Поклоняющиеся звездам», 1983 г.
Опубликованный в первой книге «Вспомни, облако!» очерк о загадочных рисунках на плоскогорье Пампа-де-Наска в Перу вызвал многочисленные письма читателей. Большинство из них просят рассказать подробнее, кто и когда обнаружил эти рисунки и как проходили опытные полеты Джима Вудмэна, пытавшегося доказать, что далекие предки нынешних жителей Перу были способны подниматься в небо.
Открытию «картинной галереи» Наска помогла авиация. Первую аэрофотосъемку в Южной Америке произвели в 1931 году американцы: пилот Роберт Шигши и фотограф Джордж Джонсон. Они увидели сверху многое, в том числе Великую перуанскую стену — восьмидесяти километровый извилистый редут, о котором наши современники не знали. Это была сенсация и… первый опыт воздушной археологии.
Через десять лет заведующий кафедрой истории Лонг-Айлендского университета Пол Косок, летая над местами, где когда-то существовала великая культура Мочика, и, побывав в небе пустыни Наска, с удивлением увидел, что пустынное плоскогорье, общая площадь которого составляет несколько сот квадратных километров, разрисовано гигантскими фигурами животных, геометрическими фигурами, полосами, иногда многокилометровой длины. Попадались и изображения человека. Все это было скрыто от взоров людей, находящихся на земле, и хорошо просматривалось только с воздуха, вся панорама — только с большой высоты.
Доктор Косок сделал десятки превосходных аэрофотографий и опубликовал сообщение о своем открытии. Ученый мир ему не поверил и фантастической находкой историка не заинтересовался. Сам Пол Kocoк исследовать «картинную галерею» Наска не смог, так как началась вторая мировая война. Свое восхищение загадочной работой древних перуанцев он, будучи неплохим музыкантом и композитором, выразил в музыкальном произведении, назвав его «Андской симфонией».
После смерти Пола тайну пустыни Наска никто из специалистов не пытался разгадать, кроме «женщины-робинзона», доктора математических наук Марии Райхе, которую заинтересовал «проблемой Наска» еще при жизни сам Косок. Она поселилась в глинобитной хижине на краю загадочной пустыни и стала изучать гигантские фигуры и линии на плоскогорье, время от времени на свои средства, нанимая самолет или вертолет.
Но что могла сделать одна, пусть даже энергичная и умнейшая, женщина без помощи специального снаряжения, если различных «знаков» в пустыне несколько сотен?
Но она упорно трудилась, пока равнодушие ученых к загадке не взорвал швейцарец Эрих фон Даникен, опубликовавший в 1968 году книгу «Воспоминания о будущем». В ней он высказывал малообоснованное, но дерзкое предположение, что плоскогорье Наска — это древнейший космодром.
Такая «смелость» писателя из Швейцарии вызвала негодование в научных кругах и — о благо! — повышенный интерес к загадке. Появились и энтузиасты-экспериментаторы.
Многочисленные гипотезы быстро дополнились еще одной: в доколумбову эпоху индейцы знали тайны воздухоплавания. И проверить это, отрицаемое всеми знатоками истории и культуры древней Америки, предположение взялся Джим Вудмэн с коллегами, разработав проект «Наска».
Какие же мотивы побудили экспериментаторов к действию, к необычным работам, прямо скажем дорогостоящим?
Во-первых, мифы и сказания перуанцев. Приведем два из них.
Легенда, записанная иезуитом Кабельо де Бальбоа, сообщает, что основатель доинкской империи Перу Наймлап («найм» означает «птица» или «полет») умер, но народу о его смерти не сообщили, похорон не было, было заявлено: «Отрастил себе крылья и, подобно птице, улетел в небо».
А в преданиях об инках звучит такой мотив: «Каждый Инка (верховный правитель государства), будучи потомком своих легендарных праотцов, считался „сыном Солнца“… Инки после смерти снова возвращались к Солнцу».
На чем возвращались? Джим Вудмэн высказал идею: «Верховных правителей инков хоронили с помощью воздушных шаров!» Черных воздушных шаров. Почему черных? Коллеги Вудмэна ссылались на так называемый «солнечный эффект»: если бы шар поднялся над пустыней Наска километра на полтора, солнечное тепло уравновесило бы процесс охлаждения воздуха в оболочке, и шар поднимался бы все выше и выше. Особенно черный — его солнце нагревало бы сильнее. Тело умершего Инки, уложенное в гондолу, летело бы к солнцу до тех пор, пока не исчезало с глаз людей, а затем шар, попавший в холодные слои атмосферы, упал бы вместе с останками Инки в Тихий океан.
Немало доводов, что древние перуанцы знали небо, навеяли и рисунки в пустыне Наска. Среди них много крылатых существ. «Нарисовано» 18 птиц, летающие рыбы, человеко-птицы. Например: человек в летном шлеме, с головой совы. Животные, земные и морские, в большинстве показаны динамично, как бы в броске или полете.
Навевают мысли о полетах и полосы, похожие на взлетные. Серьезную подсказку Вудмэну сделал его коллега Михаэль де Бакей. Он обратил внимание, что по краям многих геометрических фигур имеются отверстия в земле. Почерневшие камни в этих ямах и около них, бесспорно, подвергались воздействию сильного жара. Так возникло предположение, что древние перуанцы заполняли из этих ям оболочки шаров теплым воздухом или обрабатывали ткань будущей оболочку, чтобы придать ей большую плотность.
И наконец, на форму древнего воздушного шара навел памятник бразильцу Бартоломео де Гусману, построившему воздушный шар в 1709 году. Монумент стоит в городе Сантус, на родине изобретателя.
Письменные источники свидетельствуют, что Бартоломео де Гусман 8 августа 1709 года прибыл к португальскому королю и показал монарху модель лётательного аппарата из материи, сшитой в виде перевернутой пирамиды, наполненной теплым воздухом, с подвешенной под ней гондолой из прутьев.
Модель поднялась вверх, и восхищенный король дал Гусману право и средства для постройки аппарата.
В октябре того же года «летающая пирамида» Гусмана была готова, названа «Воробышком» и сам изобретатель-конструктор поднялся на ней в небо Лиссабона.

Джим Вудмэн и его товарищи, приняв версию, что Бартоломео де Гусман учился у иезуитов, ранее работавших миссионерами в различных уголках индейского континента, и они могли подсказать Гусману идею создания воздушного шара, решили свой экспериментальный шар сшить тоже в форме перевернутой пирамиды. Те же очертания аппарата якобы подсказывали и несколько изображений на древних керамических сосудах.
Экспериментаторы, члены Международного общества исследователей, которое и финансировало проект, заручившись поддержкой компании «Рейвен», начали работу.
Постарались, чтобы эксперимент был подготовлен как можно более «чисто». Для этого, прежде всего в могилах древних перуанцев они нашли образцы плотной ткани из хлопка. В лаборатории фирмы «Рейвен» испытали найденные ткани и установили, что перуанские индейцы около двух тысяч лет тому назад умели вырабатывать хлопчатобумажный материал более плотный и легкий, чем делают его самые современные ткацкие станки. Воздухопроницаемость древнеперуанских тканей меньше тех, из которых сейчас шьют парашюты.
Фирма изготовила ткань, подобную перуанской, и приступила к созданию аэростатной оболочки по форме «Воробышка» Гусмана.
Индейцы деревни Уатайата сплели из тростника «тоторы» челн, вмещающий двух человек.
Когда оболочка и гондола-челн были готовы, их соединили веревками, тоже сплетенными по древнеперуанскому способу.
Построенный воздушный аппарат назвали «Кондор-1», в честь пернатого царя неба, почитаемого перуанцами. «Кондор» напоминал огромный вздутый треугольник 25-метровой высоты, объемом 2250 кубических метров, с традиционным индейским челном на подвеске.
Проверив, выпустили воздух. Взлет с людьми решили произвести, опять же для чистоты эксперимента, в пустыне Наска близ Кауачи.
В темно-красной земле пустыни выкопали яму и. обложили ее камнями. Разожгли костер. Провели испытательные полеты малых шаров, подобных «Кондору», с балластом. Затем на яму поставили «Кондор-1», и горячий воздух пошел в его оболочку. Вот она еле удерживается у земли блок-веревками.
В гондолу-челн, закрепив на спинах спасательные парашюты, сели Джим Вудмэн и профессионал-воздухоплаватель англичанин Джулиан Нотт.
— Отдать концы!
После этой традиционной команды «Кондор-1» медленно пошел в небо и поднял воздухоплавателей на высоту 130 метров. Выше не пошел. Смельчаки сильно рисковали: в случае аварии с такой высоты они не могли бы благополучно выброситься с парашютами. Но «Кондор» выказал добрый нрав: после получасового полета он спокойно опустил людей на землю. Зато когда они покинули гондолу, «Кондор» прыгнул, ударился о грунт и снова ушел в небо, на сей раз, набрав несколько сот метров над пустыней Наска. Летел он очень странно, как бы танцуя, то есть взмывая и опускаясь, иногда резко падая, в неравномерных горячих воздушных потоках. По наблюдениям, он быстро набирал высоту там, где на плоскогорье были «нарисованы» спирали, а курс держал в этот час, сходный с направлением одной из самых длинных «линий» на плато. Приземлился в отдаленной части пустыни.
С удачным экспериментом Джима Вудмэна и его коллег первой поздравила «женщина-робинзон» Мария Райхе…

Как сказано в отчете группы Джима Вудмэна, не только «Кондор-1» поднимался в небо с целью доказать, что древние инки летали на аэростатах. Однако ученый мир не принял его убеждений. Для этого логических умозаключений оказалось мало, ведь они не подтверждались предметами-фактами из земных раскопок или достойными веры древними папирусами.
Энтузиасты, солидарные с Джимом Вудмэном, пытались обратить внимание историков на «чульпы» — башни доколумбовой постройки, сложенные из базальтовых блоков или кирпича, стоящие в разных районах Перу«Чульпы» считаются погребальными башнями. Различаются в основном два типа: квадратные и круглые.
Обратим внимание на круглые. Они без потолков, сложены из огнеупорного камня, диаметр их увеличивается снизу кверху, верхнее кольцо — «ложный свод» — широкое, на нем могут передвигаться люди. В нижней части сводов небольшой вход, больше похожий на лаз, а точнее — на поддувало в печи. Если современные аэронавты захотели бы превратить круглую «чульпу» в печь для подачи теплого воздуха в гондолу аэростата, лучшей постройки не придумаешь. Кстати, если круглые «чульпы» являлись погребальными башнями для захоронения знатных лиц, то почему башни без крыш? Неужели для того, чтобы мертвецы любовались солнцем или луной и принимали на свои гробницы вздохи божьи в виде пыли и слезы божьи в виде дождя?

Да и не находили захоронений в круглых «чульпах», а вот следы огня попадались не один раз. И еще: круглая «чульпа» могла быть не только печью, источающей теплый воздух вверх, но в холодном виде и добротной причальной башней для воздушного шара, защищающей от ветра гондолу. Именно такую башню, похожую на самую большую и почитаемую в Перу «Башню ящерицы», и по сей день стоящую на холме полуострова Сильюсстани, спроектировал советский летчик-изобретатель П. И. Гроховский в 30-х годах нашего века для своего стратостата. Он и понятия не имел о «чульпах» древних перуанцев, а лишь разум и расчет привели его к этой идее.
В общем, Джиму Вудмэну и его коллегам не удалось доказать ученому миру, что древние перуанцы знали толк в воздухоплавании, но трудно ему возражать, когда он говорит: «Мы считаем, что древние имели все возможности и материалы для постройки воздухоносных летательных аппаратов и могли подниматься на них в небо!»
В 1986 году итальянские альпинисты под руководством Джанфранко Беллини поднялись на вершину Коропуна — вулкана в перуанском департаменте Арекипа. Совершенно неожиданно они обнаружили на склоне вулкана «остатки каменных жилищ, расположенных на высоте около 5 тысяч метров над уровнем моря». Постройки, отличающиеся законченностью архитектурных форм, хорошо сохранились и принадлежат, как утверждают специалисты, одному из племен древних инков. Как же общались жители этого довольно большого поселения с остальным миром, если даже для хорошо подготовленных групп современных альпинистов путь туда и обратно оказался чрезвычайно тяжелым?
Вниз можно на крыльях. Это попробовал сделать француз Рене Джилини. Бросившись в полет на дельтаплане с южного пика Уаскарана, он благополучно пролетел 20 километров и приземлился на берегу реки Санта, в полутора километрах от городка Манкос.
А вверх — на тепловом аэростате, как Джим Вудмэн?
Можно. Но было ли так?
«Гипотезы» о планерах и воздушных шарах, на которых якобы могли летать индейцы, — это выдумка любителей сенсаций…» — говорится в эпиграфе к этому очерку. Тоже крайнее суждение. Нет подтверждений тому, что индейцы летали, но и обратного доказательства нет — «отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия».
А сколько «выдумок» превратилось со временем в реальность? Когда мы выдвинули предположение, что древние перуанцы летали на планерах, а воздушные потоки для них «нащупывали» орлы-поводыри, то были высказаны сомнения и даже категорические утверждения, что такое взаимодействие птицы и человека невозможно.
Совсем по-другому думал известный дельтапланерист француз Руди Кишхази из города Шамони. Он берет на воспитание птенца орла, назвав его Бризи. Став большой, сильной птицей, Бризи летает вместе с хозяином, кружа вокруг его дельтаплана. По свистку орел в воздухе садится на руку Руди, принимает лакомый кусочек пищи и стартует с руки, но уже для того, чтобы искать для хозяина восходящие потоки воздуха. Об этой неразлучной паре сейчас знает весь мир. Как утверждает Руди Кишхази, научить орла быть поводырем в небе легче, чем охоте на животных…

Перу — страна полная загадок. Да разве только эта страна?!
В октябре 1986 года советские ученые из Алма-Аты, пролетая над пустыней между Сайутесом и Бейнеу, увидели на земле очень много огромных рисунков: спирали разных форм, эллипсы, круги, рисунки, напоминающие стрекозу или крылья птиц. Спросили у летчиков: «Видели их раньше?» — «Видели. Ну, спирали какие-то. Может, так надо…».
Некоторые почвоведы и археологи считают, что рисунки очень древние, «возможно, даже восходящие к эпохе неолита…».
Когда, кем и для чего созданы рисунки, остается загадкой.
Ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР А. Гурштейн комментирует находку «мангышлакских спиралей» так:
— Люди, жившие века и тысячелетия назад, оставляли на память потомкам разные свидетельства своего бытия. Одни из них читаются достаточно легко. Другие требуют многих лет, чтобы проникнуть в смысл загадок, «подброшенных» нам предками. И часто лишь случай позволяет обнаружить саму загадку. Так было, например, с рисунками в пустыне Наска… В этом случае открытие на Мангышлаке сродни перуанскому: с земли «казахстанские спирали» тоже не угадываются как нечто дельное… Какой бы смысл ни раскрылся в «спиралях» потом, сейчас должно быть ясно, что мы стали свидетелями крупного исторического открытия. Насколько можно судить по имеющимся снимкам, «казахстанские спирали» — важная страница в биографии народов, населяющих нашу страну, в общей биографии человечества…
Хочется подчеркнуть, что и среди поборников точных наук имеются романтики, об этом, можно судить по названиям, которые дали ученые некоторым из «казахстанских спиралей» — «стрекоза», «глаза бога»…
Знаний тайные истоки
…Могу не хуже
всякого другого
выполнить
какой угодно заказ.
Леонардо да Винчи
Великий итальянец Леонардо да Винчи считается первым конструктором геликоптера, парашюта, орнитоптера и многих других машин, инструментов, приборов. Легенды о гениальном Леонардо — смесь правды, домысла и вымысла — закономерно повторяются почти в каждой книге о нем. Есть сведения неоспоримые — скульптура, живопись, рисунки. Леонардо да Винчи как конструктор и инженер — загадка потруднее. Современники видели в нем прежде всего гениального художника, об инженерном наследии Леонардо люди узнали в основном по его записям, много лет спустя после его смерти.

Любопытно, что о большинстве своих изобретений Леонардо пишет лаконично, пользуясь символами. Почти нигде нет слов: «я сделал», «я решил», «я нашел», зато бесчисленное количество раз повторяется: «исследуй», «проверь», «узнай», «сделай».
Скромность?
Да нет, биографы этой черты характера у Леонардо да Винчи не отмечают. Ведь запись: «Никому этого не открывай, и ты превзойдешь всех», — принадлежит ему. И там, где ему хотелось подчеркнуть авторство, он не стеснялся писать «мой», «мое», иногда даже злоупотребляя местоимениями. Например, при описании землеройной машины: «…у меня земля идет сама собой в ящик, мое колесо постоянно вращается в одном направлении, мой механизм приводится в движение одним человеком и выбрасывает выкопанную землю в два такта».
Возникает вопрос: все ли научные и инженерные идеи, приписываемые Леонардо, являются его личным открытием? История науки знает, например, такой факт: многие изобретения, считавшиеся детищем Эдисона, в действительности представляли собой результат работы большого количества сотрудников его лаборатории или являлись вариантами уже существующих изобретений.
У Леонардо подобные сотрудники не отмечены, не описана лаборатория и не найден «колодец», откуда он мог черпать идеи.
Давайте посмотрим, где он работал как инженер, кто всю его творческую жизнь был рядом с ним и, возможно, остался не оцененным потомками, не замеченным в тени гениального итальянца.
…Юный Леонардо, ученик художника Андреа Верроккьо вместе с приятелями любил ходить в «пещеру» — так называлась литейная мастерская «мага из Перетолы» Томмазо Мазини. Они спускались под землю по множеству ступеней и попадали в мир, где реальное сливалось со сказочным, где далекое прошлое соседствовало с удивительным настоящим, где хозяин творил чудеса с огнем и железом.
В идеально круглом подземелье они рассаживались за круглым деревянным столом. Не было окон в стенах, не было отверстий, выходящих на поверхность, но воздух оставался свежим, напоенным ароматом луговых трав. В стальных кованых канделябрах горели свечи. Горели разноцветным огнем.
Стол накрыт, расставлены напитки и… легким пассом Мазини тушит свечи. Несколько мгновений стоит абсолютная тьма, но вот уже огнистой змейкой скользит меж кубков на столе ручная ящерица. Потом разгораются пятна холодного света на стенах: белые, красные, желтые, голубые. Люди начинают видеть друг друга, посуду на столе, различать цвет вина…
Десятки раз Мазини принимал юношей в своей «пещере», и всегда их удивлял этот медленно разгорающийся холодный свет на стенах, который источали краски. Особенно любознательным был Леонардо.
— Объясни, — просил он.
Но Мазини лишь улыбался.
Вдоль стен расставлены необычного вида машины. На узких полках — модели гидросооружений и поделки из кованого металла. На стенах выцарапаны рисунки каких-то неизвестных чудовищ, крылатых ящеров, птиц.
— Очень целесообразные формы! — рассуждал Леонардо. — Откуда ты их срисовал?
Мазини улыбался.
Но однажды, когда после интересной беседы юные художники уходили из «пещеры», Томмазо Мазини положил руку на плечо Леонардо:
— Останься.
Заперев дверь за гостями, Мазини вернулся в подземелье по лестнице, подошел к стене и приподнял выступающий из нее рычаг. Открылась незаметная ранее дверь. Черный провал. Мазини зажег свечу и позвал Леонардо.
— Следуй за мной.
Пригибая головы, пошли по короткому туннелю. Томмазо осветил нишу. В ней стоял металлический сундук. Томмазо Мазини легко открыл крышку. Сундук был заполнен пергаментными свитками, пластинками из камня и меди.
— Возьми любое, Леонардо, и посмотри.
Юноша взял первый попавшийся под руки свиток. Развернул его. Томмазо придвинул свечу. Леонарда смотрел на рисунок, и глаза его все шире раскрывались от изумления. Под распластанными крыльями летел… человек!..
Эпизод реконструирован мной в полном соответствии с дошедшими до наших времен сведениями. О Томмазо Мазини ходило легенд предостаточно. Будто он совершил многолетнее путешествие на Ближний Восток, был обласкан мудрецами и правителями, но вернулся от них без злата и драгоценных каменьев, с одним сундучком, где гремели черепки, дощечки да шелестели старые свитки пергаментов. Так или нет, но кое-что современники записали о нем точно — вернулся с Востока он великим мастером литейных дел, отличным механиком, скульптором, чеканщиком, химиком, знатоком гидравлических работ и стал заниматься алхимией и черной магией. За это прозвал его римский народ именем легендарного мыслителя — Заратустрой. Из-под его рук выходили необычные механические изделия, светящиеся краски, он мог удивлять «холодным огнем». Только молчалив стал Томмазо Мазини и секретны работы его.
Молодых художников у себя в «пещере» Мазини принимал гостеприимно, угощал, поощрял к диспутам. Будто присматривался, прислушивался к ним, оценивал интеллект юношей. И случилось так, что более других он отличал Леонардо. Доверительно беседовал с ним, восхищался математическими способностями и наблюдательностью юноши. Стал привлекать к своим занятиям, на что Леонардо охотно шел. Несмотря на сословные различия, они стали приятелями.
Автор книги «Леонардо да Винчи» А. Дживелегов называет Томмазо Мазини учеником Леонардо, автор другой одноименной книги В. Дитяткин считает Мазини слугой великого живописца. А. Гостев, опубликовавший свою книгу о Леонардо в серии «ЖЗЛ», пишет, что «не приходится удивляться дурному обществу, какое Леонардо другой раз предпочитал», имея в виду Томмазо Мазини, и рисует его так:
«…Томмазо Мазини из Перетолы, более известный как Зороастро, считаясь по справедливости величайшим озорником и насмешником над людьми, не сделавшими ему ничего плохого, лечил и поддерживал многих несчастных четвероногих, тогда как двуногие, подобные ему самому, его опасались… Из-за того что ремесло ювелира, какому Томмазо обучался без большого старания, не приносило ему дохода, и, если не удавалось кого-нибудь обмануть и раздобыть деньги, он веселился в остериях за счет римской казны, как говорят в Тоскане, то есть в долг, и находились простаки, ему доверявшие… Томмазо не надевал кожаной обуви, сделанного из овечьей шерсти сукна и запрещал себе пользоваться волосяными петлями. Однако же в сумке, с которой он редко когда расставался, хранились вещи, мало отвечающие облику такого ханжи: завернутый в сырую тряпку глаз рыси — чтобы излечивать чирьи; фаланги пальцев младенца, умершего накануне духова дня; добытый у палача кусок веревки; волчьи и лошадиные зубы; бычий пузырь и другое, пригодное, чтобы обманывать доверчивых людей в этом городе, где каждый считает себя хитрей остальных»
Прямо скажем, что, если это не маска шутника, портрет Мазини в этой книге непривлекателен.
Большинство же итальянских биографов Леонардо уверены, что он и Мазини были друзьями, притом неразлучными. И Томмазо Мазини имел немалое влияние на своего друга, во многих делах был его помощником, а в некоторых, видимо, играл и первые роли.
И не случайно был изумлен начинающий художник и друг Леонардо некий Лоренцо ди Креди, когда, впервые увидев в его руках записную книжку, узрел, что Леонардо пишет левой рукой справа налево, употребляя таинственные знаки. Леонардо в то время было всего 19 лет, но его уже связывала дружба с Томмазо Мазини. Именно в эти годы начинается бурная изобретательская деятельность Леонардо да Винчи, хотя у него еще и не могло быть тех обширных знаний, которые впоследствии отметили биографы. Он их приобретал. Посещал ученых, среди которых были астрономы, математики, географы, врачи, архитекторы, историки, присутствовал на их диспутах и «слушал молча». На этих же форумах очень часто бывал и Томмазо Мазини, но… в качестве слуги Леонардо, так как простолюдины к таким беседам не допускались. В это же время Леонардо и Томмазо проектируют и воссоздают в моделях легчайшие мосты, водоотливные насосы, скорострельную бомбарду (прообраз пулемета), подвижную крепость (прообраз танка) и многое другое.
Создается впечатление, что Леонардо торопится изложить на бумаге технические идеи и схемы различных механизмов. Нет нигде упоминания, чтобы он настаивал на внедрении своих изобретений. Были только модели, которые делал Томмазо Мазини. Как бы оправдывая этот несвойственный изобретателям принцип, биографы отмечают, что «у Леонардо воля была вялая, а эффекты подавлены мыслью. Поэтому в искусстве своем он был великий медлитель». В этом ли причина?
Возвратившись с Ближнего Востока, где он «узнал не только о культе поклонения солнцу, но и тайну превращения свинца в золото», Томмазо Мазини составлял для Леонардо краски, необычные для того времени, восковые например. «Леонардо и Томмазо, — пишет итальянский биограф Бруно Нардини, — эти два бесстрашных исследователя, бросали вызов инквизиции, которая только и ждала момента, когда удастся их поймать на месте преступления и посадить, как еретиков, на скамью подсудимых».
Нет, был у Леонардо соавтор, и была лаборатория — «пещера» Томмазо Мазини. «Чем с большим числом людей ты будешь делиться своими трудами, тем меньше ты будешь принадлежать себе», — записал Леонардо. Он и Томмазо Мазини облекли свои дела высшей секретностью, не имели семей и близких друзей, сторонились женщин, «как существ болтливых».
Из мастерской художника Верроккьо Леонардо ушел в 24 года, когда его обвинили в ереси, но оправдали за неимением прямых улик? С тех пор как живописец он работает самостоятельно. Но, отмечают биографы, «большая часть работ тех лет пропала». А были ли они завершены? Возможно совсем другие занятия отнимали у него время…
В 1482 году по приглашению герцога Лодовико Моро он едет в Милан. Ему 30 лет. К этому времени относится его знаменитое письмо герцогу:
«…Так как я уже достаточно видел и изучал произведения всех тех, которые считают себя мастерами и изобретателями военных орудий и (убедился в том), что замысел и действие этих орудий ничем не отличаются от обычно применяемых всеми, я хотел бы, чтобы без ущерба для кого бы то ни было ваша светлость выслушала меня, причем я открою ей свои секреты и предлагаю на ее усмотрение в удобное время оправдать на опыте все то, что частично и вкратце ниже изложено…».
Какую же часть изобретений думает претворить в жизнь Леонардо при финансовой помощи богатого покровителя?
Легкие перекидные мосты
Их умел строить Томмазо Мазини еще до знакомства с Леонардо.
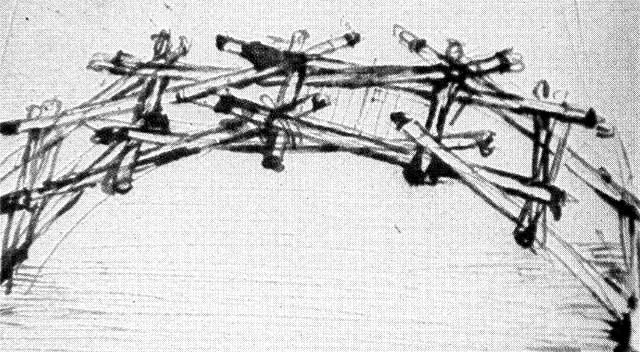
Гидротехнические способы спуска воды из крепостных рвов. И этим занимался Томмазо Мазини самостоятельно. Способы подземных взрывов. Томмазо Мазини умел составлять взрывчатые вещества. Системы новейших бомбард
У Леонардо да Винчи есть чертежи пушки, стреляющей ядрами с помощью пара. Но ведь это изобретение Архимеда: его оригинальное паровое орудие имело деревянный ствол и метало «каменные снаряды» весом в 10 килограммов на расстояние до одного километра. Так что именно Архимед первым начал использовать пар в военной технике.
Способы прокладки тайных подземных ходов
«Пещера» Томмазо Мазини имела тайные подземные ходы.
Закрытые и совершенно неуязвимые колесницы с артиллерией
В 1456 году появились высокие деревянные боевые колесницы, приводимые в движение парой лошадей. В 1472 году итальянец Вальтурио предложил проект боевой машины, передвигающейся с помощью ветра. Она была больше похожа на современный танк, чем колесница Леонардо на конной тяге. Так что Леонардо и в этой работе не был пионером.
Мортиры и. огнеметные приборы прекрасной и целесообразной формы. Здесь налицо усовершенствование ранее известных машин
Катапульты, стрел ометы и другие орудия удивительного действия и непохожие на обычные.
Громадная баллиста Леонардо есть не что иное, как усовершенствованная баллиста времен Архимеда. Огромные арбалеты и катапульты были известны задолго до Леонардо, так что здесь подразумевается тоже усовершенствование. Метательных машин удивительного действия и непохожих на обычные в архиве Леонардо не обнаружено. Может, они были в «сундуке» Томмазо Мазини?
Морские суда, которые «не будут повреждены ни вы стрелами бомбард любой величины, ни действием пороха и дыма».
Такие суда не удается построить и по сей день.
В работах Леонардо сохранились наброски судна, снабженного боковыми гребными колесами, но ведь есть свидетельства, что и во времена Цезаря пытались строить суда по системе «пар — колеса».
10.В мирное время Леонардо готов состязаться со всяким в архитектуре, в постройке зданий, в гидроработах, в скульптуре и живописи.
Поразителен объем знаний и опыта, необходимых для осуществления обещанного герцогу. Были ли такие знания у Леонардо — судить трудно; во всяком случае, баллистикой он серьезно не занимался. А вот опыта не было совсем — собственного личного опыта.
Да и Леонардо ли писал это письмо? Доказано, почерк не его. Историки, считают письмо копией, снятой с оригинала кем-то из учеников Леонардо. Однако составить такое письмо вполне мог и Томмазо Мазини; правда, не мог подписаться под таким обращением к герцогу — он ведь был простолюдин… Подписал послание Леонардо. Значит, там, где говорится от имени Леонардо «я», могло бы стоять и «мы». Пафос, стиль письма соответствуют характеру того и другого.
«Было ли это хвастовство безумца и фантазера?» — спрашивает Бруно Нардини, из итальянских биографов, пожалуй, самый влюбленный в Леонардо да Винчи. И отвечает: «Нет, это, скорее, откровение гения». Мы же добавим: больше похоже на загадку, чем на откровение. Леонардо, несмотря на присущее ему чувство исключительности, вряд ли решился бы пообещать герцогу сделать то, чего не мог или не надеялся сделать. Совсем другое дело — если все перечисленное в письме уже было воплощено в идеях и записях, чертежах и моделях, исполненных мыслителем Леонардо и механиком Томмазо. Или кем-то ранее их!
Здесь я позволю себе вернуться к «загадочному сундуку», так как все время вертится на языке вопрос: «Что же привез в нем Томмазо Мазини?»
Вспомним, что, например, от цивилизации майя сохранились лишь три небольшие летописи и записки испанского монаха Диего да Ланда. В записках есть такие строки: «В книгах майя, кроме суеверий и вымыслов, ничего нет. Мы их все сожгли». По тому времени и конструкция простейшего летательного аппарата могла показаться «вымыслом». Но ведь удивляют нас сейчас «тайные знания невежественных догонов» в Африке о Сириусе — знания, достигнутые нашими учеными лишь в XX веке. Или в индийском эпосе почти детальное описание реактивного летательного аппарата? Знанию древних мы не перестаем удивляться, находя все новые доказательства их великой мудрости.
Томмазо Мазини долгие годы общался на Ближнем Востоке со жрецами, преемниками не только духовной, но и материальной культуры прошлого. Они, вероятно, имели некие «готовые рецепты», которые ревниво скрывали от простого народа. Но может быть, какую то часть этих знаний удалось заполучить Мазини? А, обладая таким сокровищем, как воспользоваться им без блестящего ума и сословного положения Леонардо да Винчи?
В письме герцогу ничего не сказано о летательном аппарате, хотя Леонардо, судя по всему, уже разрабатывал теоретические основы полета, а Томмазо строил первую модель орнитоптера. Но нет, не раскрылись они герцогу, хотя богатого правителя летание по воздуху наверняка прельстило бы больше, чем живопись и обещанные механизмы. Вполне возможно, что летательный аппарат, образно говоря, был последним козырем из «сундука» Мазини…
Надо отметить, что в течение долгого времени людей мало интересовали древние документы и только в период раннего Возрождения некоторые ученые-гуманисты, и первым среди них Петрарка, начали всерьез заниматься поисками древних документов, на этот период и приходится путешествие Томмазо Мазини на Восток.
Во Флоренцию Леонардо да Винчи мечтал возвратиться «во всеоружии, увенчанный славой». Таким он и вернулся через 20 лет, со славой непревзойденного художника, но неудовлетворенный. Из технических задумок почти ничего не претворилось в жизнь.
И вот они с Томмазо Мазини строят в натуральную величину летательный аппарат: вернее, строит Мазини по разработкам Леонардо, и он же, Томмазо Мазини, собирается на нем полететь. Те аппараты, которые обнаружены в зарисовках Леонардо, подняться в воздух не могли. Возможно, был другой, попроще, типа современного дельтаплана? Намеки на это в записях Леонардо есть.
Кстати, один из рисунков «крыльев» Леонардо почти точно копирует схему крыльев гигантских летающих ящеров юрского и мелового периодов, например «живых планеров» птеранодона и птерозавра. Размах крыльев последнего достигал 15 метров, останки его найдены только в нашем веке. И опять вспоминается «загадочный сундук» Мазини: кто знает, что привез он с Ближнего Востока?

И бытует, в Италии, во Фьезоле, легенда о «Чечеро» — искусственном лебеде, крылья которого держали безумца Томмазо Мазини из Перетолы, по прозванию Заратустра. Взлетел лебедь в воздух и рухнул на лед.
Так было или нет, но с тех пор исчезло в записях Леонардо имя его друга и помощника. Он не может забыть Томмазо. Много позже он рассказывает о нем французскому королю Франциску I. Видимо, очень переживал смерть Томмазо теперь одинокий Леонардо. Работа валилась у него из рук. Приглашенный Франциском I во Францию, он переезжает туда, поселяется в замке Клу. Вроде все условия для работы есть, но он трудится вяло: немного занимается рисунком, думает о постройке нового дворца в Амбуазе, чертит проект канала между Роной и Сеной, приводит в порядок свои рукописи. Великий Леонардо быстро теряет здоровье…
В записках Леонардо да Винчи далеко не всегда утверждает свой приоритет. Вот, например, как нейтрально он пишет о парашюте: «…если у человека имеется парусиновая палатка, каждая сторона которой имеет 12 саж. в ширину и столько же в высоту, он может броситься с любой высоты, не подвергая себя при этом никакой опасности».
Или поясняет эскиз геликоптера: «Наружный край винта должен быть из проволоки толщиной с веревку, и от окружности до середины должно быть восемь локтей…» И так далее в том же духе. Сегодня, правда, именно таким языком пишутся заявки на изобретения, но эскиз датирован 1486 годом, а в те времена была принята гораздо менее безличная форма изложения собственных идей.
А уже в наше время, несколько лет назад, в Копенгагене обнаружена фламандская рукопись 1325 года, в которой есть эскиз подобной же конструкции геликоптера. Кто автор этого раннего эскиза, неизвестно. Однако отмечено всеми биографами, что Леонардо очень многое просто переписывал и перерисовывал из различных книг и рукописей, и если внимательно порыться в библиотеках, которыми он пользовался (например, в библиотеках Сан-Марко и Санто-Спирито), то в них могут найтись первоисточники некоторых рисунков и текстов Леонардо.
Многие тайны и загадки биографии Леонардо да Винчи ждут своего разрешения. И мы ни в коем случае не умалим величие гениального флорентийца, если даже, проникнув в его творческую лабораторию, обнаружим, что не все идеи и изобретения принадлежат лично ему, если в должной мере оценим и его соратника и соавтора — простолюдина Томмазо Мазини.
Отметим: некоторые ученые, наоборот, выискивают, что бы еще приписать легендарному гению Возрождения.
И находят, иногда при довольно странных обстоятельствах. Не так давно итальянская пресса сообщила, что «при подготовке современного издания обширнейшего «Атлантического кодекса», составленного 400 лет назад Помпеем Леони, обнаружен рисунок велосипеда. По мнению профессора Аугусто Маритони, крупнейшего эксперта Италии по «переводу» и трактовке произведений Леонардо, сей рисунок принадлежит великому мастеру.
Как же нашли этот рисунок? Оказывается, он был спрятан за загнутой страницей! Странно, что за 400 лет эту страничку никто не догадался разогнуть…
Все, что оставил потомкам Леонардо да Винчи, — картины, фрески, скульптуры, изобретения, разработанные идеи и так далее — это работа, требовавшая времени. Принимая во внимание гениальность Леонардо и не делая скидок на «леность», которую отмечают биографы, мы по специально разработанной программе спросили у компьютера: «Сколько примерно лет потребовалось Леонардо да Винчи на всю эту работу?» Ответ
ЭВМ в переводе на человеческий язык гласил: «Минимум 74 года созидательной жизни». Значит, если не ошиблись программисты, Леонардо начал творить за семь лет до своего рождения.
Помощь Томмазо Мазнни в расчет не бралась.
Но и велосипед, который, по мнению профессора Маритони, тоже изобрел Леонардо да Винчи, в список, предложенный компьютеру, не вошел…
Интересно мнение об этой гипотезе доктора технических наук, профессора Н. М. Советова:
«Гений-одиночка, самородок, вспышка интеллекта во тьме — возможно ли такое вообще? Может ли гений родиться и вырасти «на пустом месте», без должного воспитания, окружения, школы?..
В наше время твердо установлено и другое: если человек рядовых способностей проходит хорошую школу, если он попал в окружение творческих людей, обрел настоящего учителя, то в своем развитии он далеко опережает потенциально более способных людей, которым повезло меньше…
Так можно ли сомневаться, что талантливый человек, найдя соответствующего себе учителя, друга, партнера по работе, может достичь высот гения, блеснуть фейерверком идей, замыслов и свершений? Вероятно, правильнее будет сказать, что иначе и быть не может. Здесь на ум приходит такая аналогия. Космические спутники на околоземную орбиту выносятся ракетами-носителями. Спутники служат человечеству, их блеск порой можно видеть, они восхищают людей. А кому интересна судьба ракеты-носителя?.. Так вот, не был ли Томмазо Мазини «носителем» для Леонардо? Впрочем, если уж точно следовать нашей аналогии, то и сам он тоже являлся далеко не «первой ступенью»: отталкивался-то Мазини не от пустоты! Ведь до того были его путешествия и его знаменитый «сундук»!..»
Первый патент
Джон Стрингфелло считал
что воздушный полет
может быть осуществлен,
и доказательству этого
он отдал много времени
и средств…
Сын Д. Стрингфелло. 1883 г.
Если забыть имена англичан Вильяма Генсона и Джона Стрингфелло, то обеднеет история авиации.
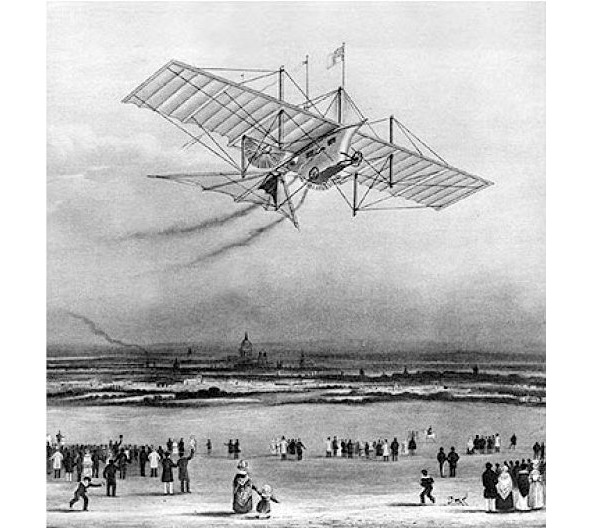
Именно Генсон в 1843 году первым запатентовал летательный аппарат тяжелее воздуха. «Главная часть моего изобретения, — писал он в объяснительном листе к чертежам, — представляет собой прибор, построенный таким образом, чтобы создать весьма растянутую поверхность или плоскость легкой, но прочной конструкции. Она должна иметь ко всей машине такое же отношение, какое имеют распростертые крылья птиц к ее телу, когда птица парит. Но вместо того чтобы поступательное движение получалось за счет движения этих плоскостей наподобие крыльев птицы, я применяю надлежащие колеса с лопастями или иные соответствующие механические двигатели (пропеллер), работающие при помощи, паровой или другой достаточно легкой машины. Благодаря этому получается сила, необходимая для движения вперед распростертых поверхностей. Чтобы управлять движением машины (вверх и вниз), я пристраиваю к плоскостям хвост, который способен наклоняться и подниматься. При поднятии хвоста сопротивление, оказываемое воздухом, заставит машину подниматься в воздух. Напротив, когда хвосту придан наклон вниз, машина немедленно будет опускаться… Для того же чтобы управлять машиной в боковом направлении, я применяю вертикальный руль, или второй хвост; соответственно тому, в какую сторону он будет повернут, и машина будет направлена в ту же сторону».
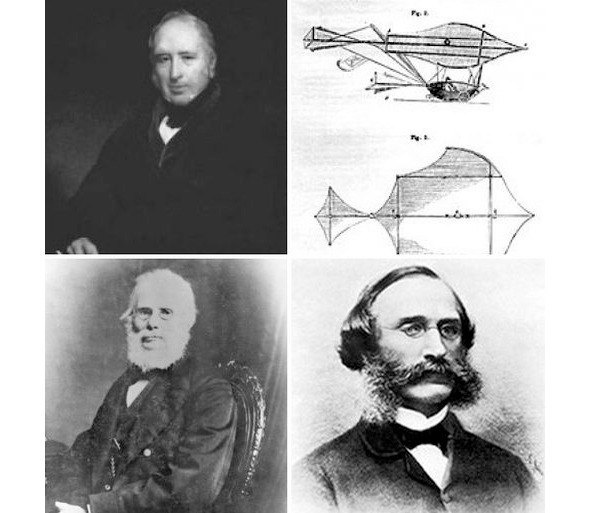
Из объяснительного листа можно узнать все подробности конструкции и понять, что «Ариель», так назвал аппарат Генсон, или «Воздушный пароход» — такое имя он получил впоследствии, имеет сходство с современным аэропланом и в нем предусмотрены почти все основные конструктивные элементы самолета наших дней, кроме механизмов для сохранения поперечной устойчивости.
Работал Генсон над задуманным летательным аппаратом вместе со Стрингфелло. Их поиски формы базировались на опытах земляка, ученого Джоржа Кейли, который систематически изучал полеты птиц, экспериментировал с воздушными змеями, своими моделями крылатых аппаратов и правильно сформулировал принцип механического полета, дав научно обоснованное соотношение между, весом машины и размером несуших плоскостей, указав на принцип управления при помощи вертикальных и горизонтальных рулей, за что и до сей поры англичане называют Джорджа Кейли «отцом британской авиации».
Но начали Генсон и Стрингфелло не с постройки аппарата, а с рекламы — у них не было достаточной для постройки денежной суммы. И они в газетах и журналах напечатали объявления, в которых призывали каждого жителя Англии подписаться на 100 фунтов и тем самым образовать капитал, нужный для постройки и эксплуатации изобретения в рамках «воздушно-транспортного общества». Даже в парламент было внесено предложение об учреждении этого общества.
Но, как случалось не раз в истории создания техники, изобретатели были подняты на смех. И в парламенте, и среди народа. Многие считали это предложение шуткой потому, что наиболее благожелательный и подробный отзыв о летательной машине был помещен в журнале, вышедшем 1 апреля. Первоапрельская шутка!
В общем, капиталистов из Генсона и Стрингфелло не получилось. Но это не обескуражило их. До этого они экспериментировали только на мелких моделях, а тут решили построить большую и в случае успеха с ней перейти к постройке настоящей «воздушной кареты».
Модель они делали втайне. Закончив сборку планерной части по чертежам Генсона, поставили на модель маленькую паровую машину, сконструированную Стрингфелло, и запускать ее решили с наклонной плоскости. Набрав скорость на разбеге под уклон, отрываться и держаться в воздухе она должна была при помощи двух воздушных винтов.
Для секретности опыты производили ночью, выезжая для этого на окраину города Чард.
Испытания шли из рук вон плохо. «Воздушный пароход» не хотел летать. А время шло. И первым сдался Вильям Генсон, не отличавшийся настойчивостью и выдержкой. Махнув рукой на, по его мнению, неперспективное дело, он уехал в Америку и занялся там коммерческими спекуляциями.
Но Джон Стрингфелло не сдался. Он построил новую улучшенную модель. Отказался от испытания ее на открытом воздухе, так как считал, что неблагоприятные условия — роса, делавшая крылья влажными и тяжелыми, и воздушные течения — отрицательно влияли на полет. Стал испытывать модель в пустующем помещении ленточной фабрики.
Крылатый, аппарат, подвешенный на проволоке, закрепленной с некоторым наклоном, скатывался вниз, набирая скорость. Потом автоматически освобождался от подвески и переходил в свободный полет. Сын Стрингфелло позже описал один из опытов так:
«…Машина двинулась вниз по проволоке. Достигнув места автоматической отцепки, она постепенно поднималась, пока не достигла дальнего конца комнаты, прорвав при этом дыру в парусине, натянутой для того, чтобы ее задержать. При опытах машина летала хорошо, хотя и поднималась один раз из семи».
Наверное, более чем скромный успех опытов заставил и Стрингфелло бросить занятия авиацией и уехать в Америку. Но в 1867 году он снова вернулся на родину и снова приступил к опытам с моделями, построив для них миниатюрные паровую машину и котел оригинальной конструкции весом в 6 килограммов. За этот двигатель воздухоплавательное общество Великобритании выдало Стрингфелло премию в 100 фунтов.
На второй в истории воздухоплавания и авиации выставке, организованной в Англии (1868 г.), публика обратила особое внимание на модель триплана Стрингфелло. Аппарат имел три несущих плоскости, два пропеллера — они приводились в движение миниатюрной паровой машиной.
И этот аппарат демонстрировался на проволоке. При достаточной скорости он стремился держаться в воздухе самостоятельно.
«После закрытия выставки, — писалось в одном из журналов, — попытались заставить модель совершить свободный полет в освободившемся помещении, но всякий раз, отделившись от проволоки, она плавно опускалась на пол. Предположили, что, запуская с большой высоты, можно добиться горизонтального полета, и опыты были перенесены на открытый воздух. Здесь результаты оказались еще хуже.
При самом начале движения аппарата встречная струя холодного воздуха неизменно гасила спиртовую горелку под котлом машины, и последняя останавливалась.
После многочисленных неудачных испытаний опыты были оставлены…»
Джон Стрингфелло умер 13 декабря 1885 года, прекратив опыты с моделями лишь за несколько месяцев до своей кончины. Ни ему, ни его компаньону Вильяму Генсону не удалось разрешить проблемы полета на аппаратах тяжелее воздуха, но их заслуга в том, что они первыми применили неподвижные несущие плоскости для летательного аппарата и первыми запатентовали такой аппарат.
Гость профессора Менделеева
Крыльям воображения
как бы заманчив
ни казался полет,
всегда следует предпочесть
сандалии наблюдаемых фактов,
медленные сандалии
на свинцовой подошве.
Ж. Фабр
В феврале 1895 года домой к профессору Дмитрию Ивановичу Менделееву пожаловал нежданный гость и, представившись помощником столоначальника в департаменте министерства финансов Виктором Викторовичем Котовым, попросил выслушать его.
— Отказать не было поводов, — вспоминал Менделеев, — и Виктор Викторович стал вынимать друг за другом десятки легких плоских бумажных фигур, закрепленных с передней стороны на тонких, какие употребляются для плетеных сидений стульев, и упругих полосках камыша. Очертания фигур разнообразны. Величина наименьших была около 4 вершков, наибольших вершков до 14. Разложив их в порядке на столе, Виктор Викторович взял первую попавшуюся, встал посреди комнаты, расположив, держа за края, плоскость фигуры горизонтально, и, отпустив пальцы, предоставил фигуру падению: каждая полетела вперед жестким ребром, но ровно и спокойно, слабо понижаясь, и села на диван, как сделала бы это стрекоза или летучая мышь. Так он перебрал все принесенные «самолеты», и все, отпущенные, летели, одни скорее, другие тише, одни почти прямо горизонтально, другие то немного поднимаясь, то опускаясь, третьи, видимо, по нисходящей кривой, четвертые по заметно восходящей траектории, переходящей затем в нисходящую. Все они были делом его собственных рук и слушались их. Немного погнет он или крылья, то есть боковые края фигур, или особые, в хвосте приделанные рули и этим заставляет лететь вправо или влево, а то волнообразно порхать или стремиться прямо вниз. Взял и я одну, у которой приделан сзади небольшой мягкий бумажный хвост, взял за этот хвост, чтобы висела жестким камышовым ребром вниз, плоскостью вертикально, и отпустил над столом, от которого фигура отстояла вершков на пять. И она, отпущенная, повернула горизонтально и, не задев стола, полетела, вдоль него так же плавно, как и прежде. Пускал ее и спиной вниз, и в разных кривых положениях — всякий раз сам собой самолёт выпрямится и, если надо, повернется, чтобы встать в нормальное положение, выровняется почти параллельно с горизонтом и полетит, как и при том случае, когда отпущен в горизонтальном положении вогнутой спиной вверх.
Виктор Викторович Котов, лет сорока, седой, небольшого роста человек, скромно расположившись в кресле и не притрагиваясь к стакану с чаем, устало поглядывал, как известный ученый манипулирует его моделями. Иногда в выцветших голубых глазах Котова мелькала искорка удовлетворения, и он возбуждался на очень короткое время, привставая с кресла и рукой как бы направляя полет модели.
Проделав несколько опытов молча, Менделеев сел за столик и, взяв две наиболее плавно и устойчиво летающие модели, вымерил их линейкой и быстро произвел расчеты. Подняв взгляд на Котова, сказал:
— У одного экземпляра при общей поверхности восемьдесят квадратных сантиметров вес равен шести дециграммам, а скорость полета около одного и двух десятых метра в секунду. У другого данные еще лучше: скорость полета около двух метров в секунду! Вы знали об этом?
— Нет, господин Менделеев, я работаю методом подбора.
— Простота ваших приборов, их замечательная устойчивость на ходу — кстати, этого не хватало самолетам Максима и Ленгли, — великое подобие полета с парением птиц, летучих мышей и некоторых насекомых и то обстоятельство, что все виденное мною раньше гораздо сложней и запутанней, чем то, что показано вами, господин Котов, заставляют меня отнестись к вашему труду с должным вниманием и одобрением. Позвольте задать вам несколько вопросов.
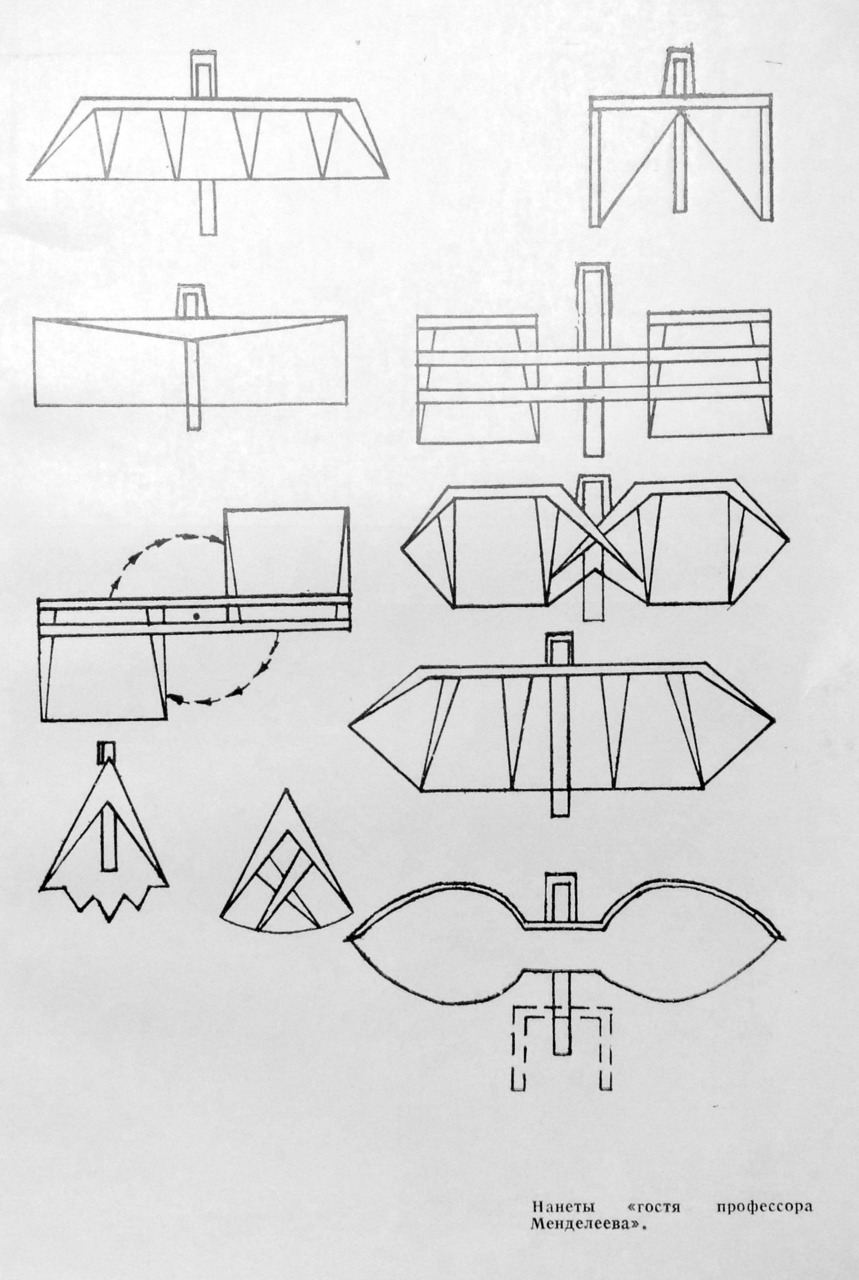
— Готов ответить, если смогу.
— Как вы добились, что у вас летают аппараты со столь различной формой поверхности?
Котов поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Слабая вымученная улыбка на его сероватом лице говорила, что он доволен вниманием знаменитого ученого и оно неожиданно, но приятно. Окрепшим голосом начал объяснять:
— Делая множество опытов, я понял, что вообще, какое бы очертание ни имела пластинка, она летает всегда в сторону, противоположную своему тонкому краю. Тонкий тыльный край должен быть упругим. Для достижения сего я прикрепляю к обтяжке необходимое число продольных, упругих в тыльном конце спиц, располагая их симметрично. Спицы и боковые палочки для улучшения полета должны утоньшаться к тылу на нет. Постепенность утоньшения бралась мною приблизительная, применительно к утоньшению перьев у птиц. Позвольте, господин профессор, для удобства и краткости упомянутые продольные упругие спицы, а равно боковые палочки буду называть ребрами самолета-аэроплана, а тонкий тыльный край — нанетом?
— Ради бога, как вам будет угодно! Немного сложно вы объясняете, но продолжайте, я пойму.
Фигуры летающих пластинок, или самолетов, по очертанию своему могут представлять бесконечное разнообразие как правильных геометрических и вообще симметричных, так и разных несимметричных форм. Они могут, как вы убедились, иметь вид трапеций, прямоугольников, разных четырехугольников, треугольников, многоугольников, кругов, полукругов, секторов, сегментов, летящих птиц, кожанов и так далее.
Менделеев, попивая маленькими глоточками чай из своего любимого фарфорового бокала с венком незабудок по краю, слушал очень внимательно. Еще более ободренный его заинтересованностью и тактом в обращении, Котов стал дополнять рассказ жестикуляцией.
— Смотря по месту тонкого края, пластинки могут летать вперед углом или стороною прямолинейною или криволинейною. Симметричные пластинки летают лучше, но и несимметричным при помощи различных рулей можно придавать прямолинейный полет.
— Минуточку, господин Котов, остановите свое внимание на рулях. На некоторых из ваших аппаратов их нет. Значит, вы, как показывали…
— Да, пластинки управляются эластичной задней кромкой, которую я сейчас изгибаю пальцами, но в самолете она может изгибаться механически.
— Понял, понял, извините, что перебил.
— Пластинки, имеющие фигуры треугольника, трапеции или удлиненного прямоугольника, летают значительно лучше квадратных. Если же две квадратные пластинки соединим поперечной или двумя поперечинами на расстоянии от пластинки, равном, например, половине стороны их квадрата, обратив «нанетами» в одну сторону, и сделаем таким образом подобие распростертых крыльев птицы, то такая пара будет иметь полет очень плавный
и красивый… Для образования пар можно брать не только квадратные пластинки, но и других очертаний как то: разных треугольников, трапеций, полукругов, кругов и прочее. Пары соединенных пластинок могут иметь вид всевозможных крыльев.
— Мне нравится вид самолета-параболы, очень впечатляет. А почему ваши пластинки-самолеты не все обтянуты полностью, но те и другие летают превосходно?
Полотно летающих пластинок может быть сплошное или не сплошное, но каждое из них имеет отдельную упругую опушку, как крылья у птиц. Такое устройство выгодно в том отношении, что движение всякого ветра — бокового, диагонального и тыльного, шевеля опушку рычагов, представляемых упомянутыми ребрами, легко преобразовывается в поступательный полет самолета.
— Ну, а если на ваших пластинках не образовывать тонкого края на тыльной их стороне?
— Пробовал и с такими, — ответил Котов, — но они тем не выгодны, что уравновешивание их затруднительно и требует увеличения веса и усиленного действия рулей, к колебаниям воздуха они малочувствительны, представляют большие сопротивления встречному движению воздуха, и притом для них, кажется, пригодны только некоторые очень немногие фигуры очертаний…
— Долго ли вы занимаетесь опытами, господин Котов?
— Пять лет исполнится в этом году в праздник Ивана-Купалы.
— Благодарю вас и слушаю очень внимательно.
— Из прямолинейных аэропланов я обратил особое внимание на имеющие очертания прямоугольников, симметричных трапеций и летающих вперед углом треугольников, так как они по легкости уравновешивания, по правильности, устойчивости и силе полета с преимущественною выгодою могут быть употреблены для опытов при разработке постройки самолетов. Прекрасно летают и легко уравновешиваются также аэропланы многих других очертаний, например удлиненный шестиугольник. В хорошо летающих треугольных пластинках передний угол может быть острый, прямой или тупой, у меня имеются и образцы отлично летающих трапеций, подобия летающих птиц, насекомых, кожанов, летучих рыб, облаков и так далее. Собственно, аэропланам-самолетам, кои я вам показал, свойствен только высший вид полета — парение, но с помощью их очень легко устраивать и воздушные лодки — гребные речные или машинные. Можно устраивать самодвижущиеся по рельсам вагоны и поезда, велосипеды-полулеты, зонты, облегчающие ходьбу, бег и перепрыгивание препятствий, и другое. Возможны применения и на воде: крылья облегчат ход судна, для чего мною уже сделаны некоторые опыты.
— Господин Котов, извините, что я опять прервал вас: не хотите ли чаю? А что изменится, если ваши модели увеличить до размеров, годных для полета с человеком?
Я думал и об этом. С увеличением размеров аэропланов-самолетов увеличатся их летательные свойства — подъемная и толкающая вперед силы. Предел, до которого происходит такое увеличение, обусловливается, может быть, только пригодностью строительных материалов. Поэтому спроектированные мною воздухоплавательные приборы нельзя в означенном отношении сравнивать с летательными приборами, в коих предполагают помещать тяжеловесные металлические двигатели… Сравнивать машинные приборы с моими потому нельзя, что первым придается громадный относительный вес для достижения горизонтального полета, который в моих снарядах дается даром.
— А строить из чего?
— Я употреблял кроме дерева, камыша, бамбука еще сталь и алюминий, а для обтяжки — разные легкие и прочные шелковые и другие материи, бумагу, обработанную каким-либо составом для предохранения от размокания и воспламенения, и отчасти алюминий.
Опыты Котова показались Менделееву достойными серьезного внимания. Будучи далек от мысли, что найденное Котовым решает совокупность трудных задач в построении летательных аппаратов. Менделеев увидел в том, что сделано самоучкой-аэродинамиком, «ручательство в возможности твердых дальнейших опытов и попыток, направленных к желаемой цели, особенно ввиду устойчивости его приборов в воздухе». И задал один из последних вопросов:
— Желаете ли вы, господин Котов, вложить свое имя, свои труды и успехи в общий запас сведений, касающихся воздухоплавания, или же вы хотите по возможности эксплуатировать найденное? Не торопитесь с ответом, выслушайте меня внимательно. В первом случае — все дело следует изложить и публиковать, а самому встать в число многих уже ищущих решения задач воздухоплавания при помощи аэропланов. Для такого способа действий нет никаких внешних преград, а самое издание брошюры не представит задержки: я помогу, и время не будет при этом потеряно. Во втором случае, то есть при стремлении прямо эксплуатировать уже найденное, следует взять привилегии и позаботиться сделать на основании их что-либо такое, продажа чего окупила бы расходы, и тогда надо немало времени, денег, затраты сил и особой находчивости практического свойства. Выбирать вам.
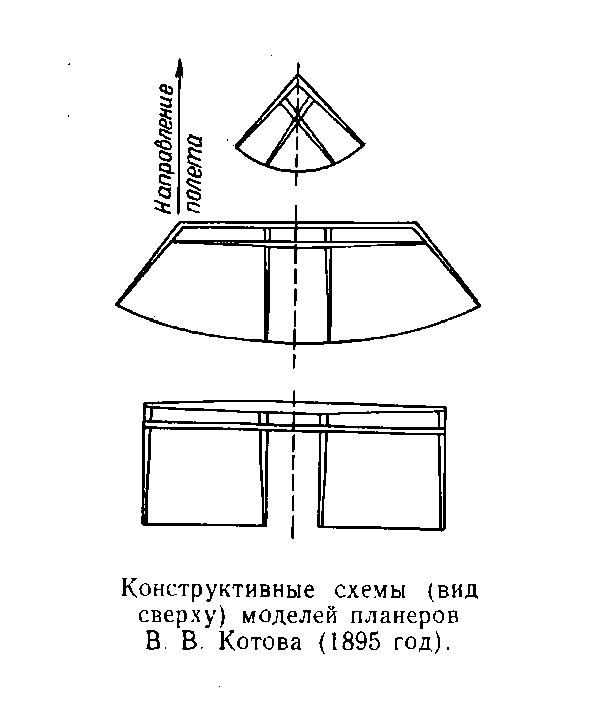
Котов тяжело вздохнул, но сразу и прямо сказал, что путь коммерции ему несимпатичен, а вот если можно издать брошюру, то это его обрадует.
Через два месяца после описанной встречи при содействии Менделеева книжка была издана в Санкт-Петербурге 27 апреля 1895 года.
В. В. Котов
САМОЛЕТЫ-АЭРОПЛАНЫ, парящие в воздухе со многими чертежами и предисловием профессора Д. И. Менделеева (С.-Петербург, тип. В. Демакова, Новый пер., д. №7 1895 г.)
Немало идей, воплощенных в моделях Виктора Викторовича Котова, являются и по сей день предметом научных изысканий — это бесштопорные летательные аппараты, способные сами выйти в горизонт из различных положений в полете; аэродинамика многоугольных, секторных, дискообразных и авторотирующих крыльев; автоматические рули в виде «упругой опушки», преобразующие энергию ветра в поступательное движение аппарата; самодвижущиеся рельсовые поезда, «велосипеды-полулеты», крылатые катера и другое.
Устойчивость полета в моделях Котова достигалась эластичной задней кромкой крыла. К такой идее конструкторы планеров подошли лишь в 20-х годах XX века. Построено немало экспериментальных моделей планеров-бесхвосток с котовскими эластичными «нанетами» и они совершали устойчивые полеты с необычной для моделей скоростью, эта идея не претворена в летающие корабли.
Дойди брошюра Котова вовремя до историка авиации, было бы ясно, что неверно приписывать первые исследования по аэродинамике искусственного крыла только Отто Лилиенталю, так как брошюра помечена датой 1895 года, а эксперименты проводились Котовым, судя по глубокой проработке ряда аэродинамических вопросов, задолго до выхода издания из типографской машины.
Но… опыты петербургского помощника столоначальника департамента министерства финансов, человека по чину маленького, никого в то время не заинтересовали. Мизерный тираж книги «Самолеты-аэропланы» затерялся. Только в 1933 году совершенно случайно брошюра с описанием экспериментальных работ Котова в области ПАРЯЩЕГО ПОЛЕТА была обнаружена… в музее Менделеева. И не в полном объеме, а лишь несколько страниц с титульным листом и предисловием Менделеева. Журнал «Самолет» №10 за 1933 год опубликовал эти страницы.
Удалось узнать, что после разговора с Менделеевым, когда был набран текст брошюры, готовы цинкографии рисунков, Котов изменил свое первоначальное решение остановиться только на публикации своих опытов и в августе 1895 года получил от департамента торговли и мануфактур свидетельство на выдачу «привилегии». К прошению на имя военного министра П. С. Ванновского прилагалась докладная записка о возможности применения предлагаемых Котовым конструкций для военных целей: для атак на живую силу неприятеля, для доставки взрывчатых и зажигательных веществ, для освещения местности в ночное время. Испрашивались средства на постройку таких аппаратов.
Предложение Котова не приняли. «Опыты и заключения г. Котова имеют совершенно гадательный характер, — писал в отзыве один из ведущих специалистов по воздухоплаванию. — Основные его положения нельзя считать полученными опытным путем, так как, собственно, никаких опытов не приводится им, если не считать несколько уже известных и малозначащих фактов, да и некоторые положения его противоречат основным понятиям механики. Ввиду этого, не входя далее в рассмотрение деталей проекта г. Котова, я полагал бы отклонить этот проект, как не имеющий практического значения».
Специалист, найдя в проекте несколько действительно имеющихся ошибок, не обратил внимания на главное достоинство — устойчивость моделей Котова, а это, по сути дела, было последним «недостающим звеном» на пути к созданию настоящего аэроплана, ведь причина неудач с первыми самолетами заключалась в их плохой управляемости и недостаточной устойчивости аппаратов.
В мае 1896 года опыты Котова обсуждались на заседании воздухоплавательного отдела Русского технического общества, созданного по инициативе Д. И. Менделеева.
— Все до сих пор построенные аппараты не обладают достаточной плавностью падения, — объявил председательствовавший на заседании. — Господин Котов, кажется, решил эту задачу. Сегодня он ознакомит всех присутствующих с аэропланами, им изобретенными и дающими весьма удовлетворительные результаты, как в этом можно будет убедиться из демонстраций, произвести которые любезно изъявил согласие докладчик.
«После доклада г. Котов демонстрировал свои аэропланы чрезвычайно разнообразной формы, и все они падали замечательно плавно и вполне устойчиво» — засвидетельствовано в журнале заседаний. Общее мнение: «Опыты г. Котова весьма обнадеживающи и указывают на возможность спуститься совершенно безопасно с любой высоты». Было конкретно предложено: «Наш отдел должен оказать содействие г. Котову, чтобы он мог провести опыты со значительно большими поверхностями, так как опыты с маленькими поверхностями всегда легче удаются, чем опыты с большими в возмущенной среде».
К сожалению, это предложение не было утверждено ввиду отсутствия кворума…
Скромный помощник столоначальника в министерстве финансов Виктор Викторович Котов умер в 1898 году, когда ему перевалило за 60 лет.
Историки воздухоплавания и авиации в России почему-то обходят имя безусловно талантливого экспериментатора. Как жил и творил он? Какова судьба его многочисленных и оригинальных моделей? Остался ли после него архив? Чертежи? Рисунки? Где остальные листы верстки интересной брошюры «Самолеты-аэропланы, парящие в воздухе»?
Ответы на эти вопросы до сих пор покрыты тайной.
Но возникает еще один интересный вопрос: почему Котов обратился за помощью и консультацией именно к Менделееву? И ответ на него прост и многозначен Дмитрий Иванович Менделеев был одним из самых популярных в народе ученых своего времени, особенно среди людей, приобщающихся к воздухоплаванию и авиации, к исследованию Пятого океана.
Еще в 1870-х годах, когда не парили планеры, и не строил своего самолета Александр Можайский, и не помышляли о полете братья Райт, Менделеев занимался вопросами «сопротивления жидкостей в воздухоплавании», развивал идею стратостата, строил приборы для изучения среды, в которой будут производиться будущие полеты. Писал и издавал по этим вопросам брошюры, книги. И на этих изданиях непременно значилось: «Сумма, которая может быть выручена от продажи этого сочинения, назначается автором на устройство большого аэростата и вообще на изучение метеорологических явлений в верхних слоях атмосферы…».
Менделеев помогал многим энтузиастам воздухоплавания и авиации, в том числе А. Можайскому и К. Циолковскому. Человек и ученый с мировым именем считал противоестественным равнодушие к нуждам народа, страны и велениям времени.
Дмитрий Иванович Менделеев мудро и просто, по мере своих сил, как многие крупные ученые, прокладывал путь для других — ищущих и пытливых.
Одним из этих «других» и был Виктор Викторович Котов. Имя его, отдавшего свои последние годы идее покорения воздушного океана, не должно быть забыто.
Гибель и воскрешение аппарата
«Ленгли — Менли»
Для того чтобы один человек
открыл плодотворную истину,
надо, чтобы сто человек
испепелили свою жизнь в
неудачных поисках и
печальных ошибках.
Д. И. Писарев
Из записной книжки знаменитого изобретателя телефона Александра Белла:
…6 мая 1896 г. Река Потомак. На катапульте «Аэродром №4». Все готово к полету. Я готов на фотопластине зафиксировать удачу Сэмуэля Лангли…
Поясним сразу: аэродром при точном переводе с древнегреческого языка означает «воздухоход», в современном понятии — самолет.
«Аэродром №4» одна из двух крупных моделей летательного аппарата с двигателем конструкции Сэмуэля Пирпонта Лэнгли — американского профессора, «лучшего изобретателя среди своих ученых коллег и лучшего ученого среди изобретателей своего времени» по утверждению историков.
Александр Белл через объектив громоздкого фотоаппарата на треноге увидел, как с площадки плавучего дебаркадера необычного вида крылатая машина была сорвана с места катапультным устройством, скользнула по направляющему полотну в воздух, но зацепилась за что-то и, вместо того чтобы взлететь, нырнула в рыжие воды реки.
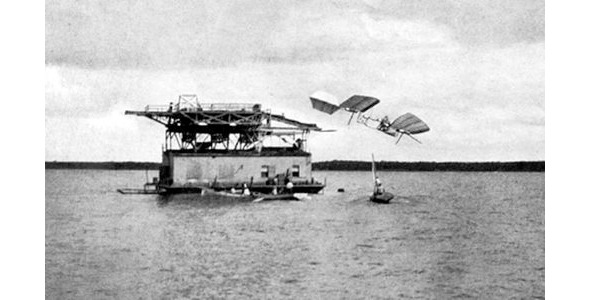
Опечаленно глядел на конец опыта и сам конструктор Лэнгли. Но в запасе у него был «Аэродром №5» — одиннадцатикилограммовая модель с паровым двигателем в полторы лошадиные силы.
— Ставьте ее на катапульту, — сказал Лэнгли и сам полез на дебаркадер, чтобы определить причину аварии. Она была досадно проста: модель, чуть накренившись, задела проволочной расчалкой за выступ дебаркадера.
6 мая 1896 года в 15 часов 50 минут «Аэродром №5», выброшенный в небо мощными пружинами катапульты, оперся крыльями о воздух и, мягко шурша двумя пропеллерами, пошел в высоту. Легкий порыв ветра поддул его, он накренился вправо и сделал широкий вираж. Высота росла и на второй петле виража, но моторчик выработал горючее, пропеллеры остановились, и «Аэродром №5» с высоты 30 метров плавно спланировал в воду.
Это был триумф ученого-изобретателя, десять лет работавшего над доказательством возможности моторного полета аппарата тяжелее воздуха.
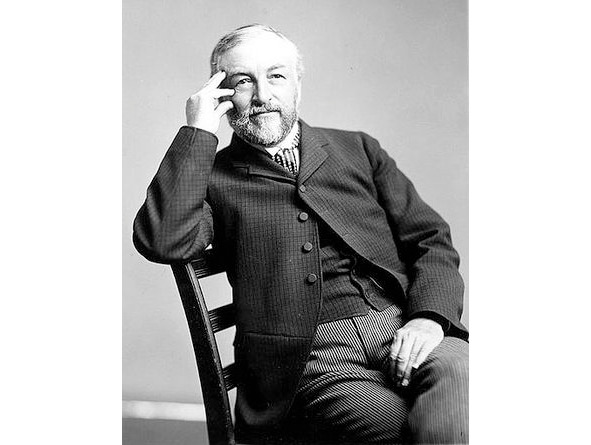
В тот же день восхищенный опытом Александр Белл отбил президенту Французской академии наук телеграмму: «Все без исключения свидетели полетов машины Лэнгли прониклись убеждением, что возможность полетов в воздухе с помощью чисто механических средств, без подъемных газов доказана теперь бесповоротно».
Газеты многих стран помещали фотоснимки Александра Белла и других фотографов, запечатлевшие катапультную установку на водах Потомака, удачный полет «Аэродрома №5» и самого профессора Сэмуэля Лэнгли, то мрачного, то радостно улыбающегося. И почти в каждой из статей, описывающих удачу изобретателя, задавался вопрос: когда же будет построен подобный аппарат, способный поднять в небо человека?
Лэнгли отвечал:
— Я свою миссию выполнил… Я довел до конца ту часть работы, которая как будто специально для меня предназначалась — показал осуществимость механического полета. Чтобы сделать следующий шаг — практически и коммерчески разработать эту идею, — человечеству следует искать других людей…
Ответ ученого был искренен.
Мысль заняться аэродинамикой пришла к нему в 1886 году на одном из заседаний «Американской ассоциации поощрения наук» в Буффало, где он услышал доклад о полете птиц. До этого он занимался астрономией, еще ранее — архитектурой и строительством. Разработал автоматическую проверку времени для железных дорог. Разработал знаменитый прибор болометр, который, «к великому изумлению коллег», обнаруживал даже «тепловое излучение коровы, гуляющей в четырехстах метрах от обсерватории». Он мечтал при помощи изобретенных им приборов сотворить точную систему предсказания погоды, видя главную причину всех атмосферных явлений в тепловом излучении солнца. Эти и другие разработки и исследования дали ему имя большого, почитаемого ученого. Как от астронома от Лэнгли ждали многого — скорых, нужных, интересных открытий.
И вдруг, по приезде с заседания из Буффало, он бросает астрономическую деятельность, а перед обсерваторией Питтсбургского университета в Эллегии появляется необычное сооружение — карусель. На концах длинных выдвижных брусьев, крутящихся от мощной паровой машины по кругу, со скоростью более 100 километров в час, «летали» пластины различной конфигурации — плоские, изогнутые, с выпуклой поверхностью, разные по величине. Автоматический самописец при расшифровке бумажных лент показывал сопротивление, подъемную силу, другие аэродинамические характеристики пластин — будущих крыльев летательного аппарата.
И Сэмуэль Лэнгли пришел к выводу: «Можно построить двигатели, которые сообщат наклонным поверхностям такую скорость, что они смогут оторваться от земли, двигаться в воздухе с большой скоростью и нести не только собственный вес, но и дополнительный груз».
Мы помним, что примерно в это же время крылатая модель русского изобретателя Александра Можайского летала с грузом — морским кортиком, привязанным к ней, — но Можайский дошел до этого опытным путем, а Лэнгли доказал путем еще и научным.
Лэнгли работал целеустремленно и изнуряюще: строил десятки моделей, ставил кропотливые эксперименты, подбирая форму аппарата, мучаясь с резиновыми, газовыми, пороховыми и паровыми двигателями. И вот, наконец — серия «аэродромов», похожих на кузнечиков. «№5» — полетел!
Свою научную миссию Сэмуэль Пирпонт Лэнгли посчитал законченной…
Однако когда военное министерство щедро выделило ему 50 тысяч долларов, а коллеги из Смитсонианского института, восхваляя талант ученого и его практическую сметку, присовокупили к просьбе еще 20 тысяч долларов, Лэнгли сдался и согласился на постройку самолета для воздушной разведки. Его помощником и будущим летчиком-испытателем аппарата стал профессор Корнельского университета Чарльз Менли.
Расчеты самолета закончены. Вот он уже перед профессорами и будущими строителями в чертежах. Но, не привыкшие торопиться, они сначала строят его не в натуральную величину, а в четыре раза меньше. Прекрасная модель-копия была покрашена в белый цвет. Вот как был описан ее полет:
«Перед нами стремительно, плавно, без трепета крыльев и без всякого усилия пронесся новый странный обитатель воздушной стихии. Похожий на огромного белого мотылька, он выглядел как порождение иного мира, будучи исполнен странной непривычной красоты. По мере того как он приближался к нам, он все больше и больше походил на живое существо. Был момент, когда мы думали, что он врежется в борт буксира. Но он как будто заметил опасность и быстро, но не резко, словно у него был мозг и способность к самоуправлению, убавил скорость и плавно отвернул в сторону…»
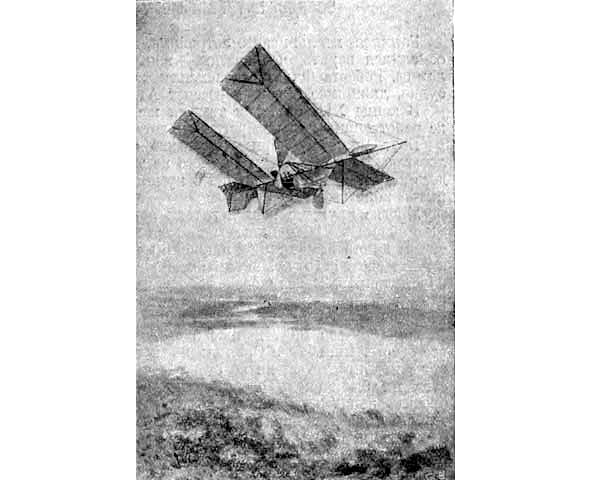
При посадке даже на воду все модели терпели поломки. Начали думать над проблемой автоматически благополучной посадки. В 1901 году в этом деле принимал участие и друг Лэнгли Александр Белл, как мы знаем, тоже талантливейший изобретатель.
Александр Белл жил в Беддеке. Туда к нему и приехал корреспондент одной из газет, чтобы взять интервью. К своему изумлению, Белла он увидел на портале дома. Дородный, седой профессор примостился метрах в трех-четырех от земли над входной дверью и держал за лапы вниз головой рыжую кошку. Внизу стоял Лэнгли.
— Отпускаю!
И кошка полетела вниз, в воздухе перевернулась и встала на все четыре лапы.
Сэмуэль Лэнгли поймал убегавшую кошку и со словами: «Попробуем еще раз!» — полез по лесенке, чтобы снова передать кошку Беллу.
Кошка с любой высоты приземлялась на лапы, моментально ориентируясь в пространстве, но, чтобы так же благополучно мог падать летательный аппарат, профессора придумать ничего не могли. Самолетом должен был управлять человек. И он — это был Чарльз Менли — согласился быть пилотом первого «Аэродрома» в натуральную величину с мотором в 52 лошадиные силы. Спроектировал и изготовил мотор он сам, вплоть до карбюратора, свечей и системы зажигания.
Так что самолет, об испытании которого пойдет речь ниже, было бы более правильно называть не аппаратом Сэмуэля Лэнгли, а машиной «Лэнгли — Менли».
7 октября 1903 года Чарльз Менли занял место в кабине самолета, запустил мотор, прогрел его и дал команду обслуге катапульты:
— Отдать задержники!
Со скоростью 10 метров в секунду катапульта вытолкнула самолет в воздух. Но еще в конце пробега по двадцатиметровой платформе Менли почувствовал сильный удар по машине. Пожалуй, это то и привело к тому, что самолет потянуло на нос и он врезался в холодную гладь реки Потомак. Оглушенный ударом и наглотавшийся воды, Менли все же нашел в себе силы вырваться из тесной кабины и всплыть на поверхность.
Еще мокрого, не совсем пришедшего в себя после аварии, на берегу его облепили со всех сторон журналисты. Их вопросы сводились к сакраментальному: «Быть или не быть?»
И Менли, первый из летчиков-испытателей самолетов, побывавший несколько секунд в воздухе, ответил, еле открывая разбитые губы:
— Моя уверенность в успехе будущих испытаний непоколебима!
«Что делать дальше?» — этот вопрос не был для конструкторов-компаньонов праздным. Деньги, полученные от военного ведомства, кончились, оставались гроши и от дара Смитсонианского института. Чтобы получить новые доллары, нужен был решительный и скорый успех. С неудачниками в Америке никогда не церемонились.
И хотя воды Потомака покрывались льдом, компаньоны решили отремонтированный самолет «Лэнгли — Менли» снова попытаться поднять в небо.
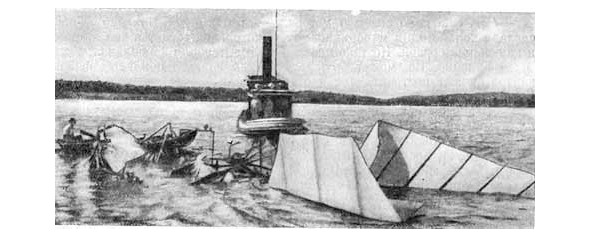
После этого полета злые перья жадных до сенсаций писак, торопясь, рвали бумагу, позоря первопроходцев:
«В полдень 8 декабря 1903 года стало ясно, что решающий момент близок. Мистер Менли в легких брюках, парусиновых туфлях и пробковом поясе, с автомбильными очками на лбу втиснулся в место для пилота. Два буксира с бригадами Смитсонианского института остановились в некотором отдалении от дебаркадера. Менли запустил двигатель. Потом он кивнул помощнику, и тот выстрелил ракету, чтобы фотографы на вирджинском берегу были готовы.
В нескольких ярдах от дебаркадера расположились лодки с репортерами, которые около трех месяцев дожидались этого часа в Вайдвотере. Газетчики замахали руками. Менли глянул вниз и улыбнулся. Затем лицо его посуровело, он приготовился к полету, который таил для него славу или смерть. Пропеллеры в футе перед ним вращались со скоростью 1000 об/мин. Помощник запустил еще две ракеты. В ответ донеслись гудки с буксиров. Механик наклонился и перерезал трос, удерживающий катапульту. Раздался резкий, звенящий рев, и самолет Лэнгли мелькнул над краем платформы и исчез в реке. Он просто плюхнулся в воду, как пестик от ступки»
И началась травля. Газета «Вашингтон пост», вместо того чтобы поддерживать пионеров-соотечественников, смаковала финал:
«Эксперимент завершился полной и безусловной неудачей. Хитроумная конструкция крыльев смялась, как только они восприняли вес аппарата. Оказалось, что летающая машина, над которой субсидируемые государством ученые трудились десять лет, так же не может летать, как пол танцевального зала. Некогда изящный, выглядевший подобно произведению искусства аппарат теперь не более как груда обломков, красная цена которого один доллар. Перед лицом столь очевидного краха создатели машины не в состоянии дать сколь-нибудь связного объяснения. Они могут лишь всплескивать руками».
Хоронили идею летающих «снарядов тяжелее воздуха» и газетчики других стран. Вот выдержка из «Петербургских ведомостей» того же года:
«…14 сентября 1903 года (дата искажена. — В. К.) в заливе Уайд-Уотера, на реке Потомак, на границе штатов Мэриленда и Виргинии, был произведен интересный опыт с изобретением Ланглея (фамилия искажена. — В. К.) «Гигантский кузнечик, форму которого имел прибор американского ученого, был выпущен с палубы высокого судна (читай — низкого дебаркадера. — В. К.), стоявшего в реке близ берега и специально устроенного для этой цели… Прибор… тяжело рухнул на землю (читай — на воду. — В. К.) и вдребезги разбился… Таким образом, и этот опыт, для которого не жалели никаких средств (прибор Ланглея со всеми приспособлениями обошелся более 350 000 долларов, или 700 000 рублей (опять искажение. — В. К.), не увенчался успехом… Погибли труды многих лет, погибла идея…»
Сэмуэль Лэнгли и Чарльз Менли пытались защищаться. Лэнгли не считал публичную прессу компетентным судьей в сложном научном вопросе. Он напоминал, как она в свое время осмеяла пароход, паровоз и другие достижения науки и техники вроде газового и электрического освещения домов и улиц, и говорил, что убежден в правильной конструкции своего детища, а причина аварии в несовершенстве катапульты, которую можно улучшить.
Менли брал удар на себя, предполагая, что это он не справился с управлением машины, и поэтому аппарат задрал нос вверх, стал вертикально и завалился ни спину. Это был самоотверженный поступок Чарльза Менли, который чуть не погиб при опыте, ударившись головой о льдину, еле выбрался из холодной воды и знал, знал ведь, что действовал управлением правильно, но ради идеи, в которую безгранично верил, давал газетчикам свой авторитет на растерзание, шел на бесславие.
На высказывания изобретателей газета «Вашингтон стар» ответила издевательски:
«…Одно дело взлететь с крыши строения, поддерживать полет аппарата в воздухе и добиться его плавного снижения, и совершенно иное — суметь без удара посадить его на землю. Один каменщик-ирландец утверждал, что его ребра сломались не тогда, когда он сорвался с лесов, а тогда, когда он упал на эемлю».
«Я не знаю, насколько аппарат профессора Лэнгли больше, чем его летающая модель. Думаю, он достаточно велик, чтобы летать в атмосфере, более плотной, нежели мозг одного ученого, но менее плотной, чем мозги двух», — шутил писатель Амброз Бирс, и его слова подхватили газеты, печатая этот черный юмор крупным шрифтом.
Травле передовых ученых своеобразный итог подвел сенатор Робертсон, произнесший с трибуны конгресса:
— Здесь сто тысяч долларов народных денег выбрасывают на химерические идеи воздушного летания только потому, что некоторые люди, к примеру, профессор, одержимый своими бреднями, ухитряются поразить воображение военных и убедить в том, что их идеи могут найти практическое применение.
Вот так в похвалявшейся своей прогрессивностью Америке мощным залпом злобы и черного юмора расстреляли передовую идею, а двух талантливейших профессоров превратили в посмешища нации.
Боль, порожденную незаслуженной обидой, Сэмуэль Пирпонт Лэнгли носил в себе три года, но незаживающая рана все-таки дала о себе знать, и его разбил паралич. Перед смертью, в январе 1906 года, он принял дома представителей аэроклуба Америки, которые сказали, что считают его «пионером науки о механическом полете». В глазах умирающего на короткий миг блеснули огоньки, и он тихо попросил:
— Опубликуйте это!
Признание заслуг было очень важно для Лэнгли даже в последние секунды его жизни, потому что он уже знал о достижениях братьев Райт, сумевших поднять в воздух механическую птицу, и не сомневался, что и его «аэродромы» могли летать. Могли! И это доказали энтузиасты много лет спустя. Они построили точную копию разбившегося самолета Лэнгли и не раз успешно поднимались на нем в небо.
Время оправдало ученого и конструктора Сэмуэля Лэнгли, история воздает ему заслуженные почести, но почему-то часто забывает его соавтора, немало вложившего ума и сил в «аэродромы», рисковавшего жизнью за победу идеи, мужественного Чарльза Менли. Летчики-испытатели стремительных машин сегодняшнего дня и будущего должны склонять голову, услыша это имя.
Бес с небес!
Не нужно бояться дерзости
или безумства в области
труда и созидания.
М. Горький
Аэростат плыл над донскими степями. Не думал аэронавт Михаил Тихонович Лаврентьев, вылетая с пассажирами из Ростова-на-Дону, попасть в эти полуобжитые края. Но воля ветра все равно, что воля бога! И он с километровой высоты присматривался к зеленоватой пропыленной равнине, ожидая на пути к ускользающему горизонту встретить в этом глухом углу деревеньку, или казачью станичку, или временный курень табунщиков.
Солнце уже коснулось края земли, в пыльной дымке поблекнув, как венец лика на старой иконе, и под желтым пятном зачернело что-то похожее на мелкое поселение.
Михаил со спутниками обрадовались: припасы
съедены и выпиты, в головах кружение, и они предвкушали земной покой.
— Да благослови боже на мягкую посадку! — перекрестился Михаил и потянул веревку клапана, чтобы выпустить из оболочки шара часть газа.
Спуск прошел благополучно — плавненько, с малым углом к земле, — аэронавты вывалились из лениво перевернувшейся корзины и не сразу встали с чахлой травки, раскинув вольно руки и подняв очи к небу, наслаждались покоем. Неподалеку от них испускала дух мягкая оболочка самодельного аэростата.
Звук приближающихся голосов поднял Михаила. Он встал, одернул теплый суконный кафтан, поправил синюю фуражку, сшитую на купецкий манер, и пятерней стал расчесывать бороду. В лучшем виде надо было встретить народ, тогда хлеб и соль обеспечены. Но скрюченная ладонь так и застряла в бороде, а на темном, посеченном ветром лице застыло тревожное ожидание. Толпа крестьян в домотканых рубахах и сарафанах шла на аэронавтов плотной кучей и шумно. Больше всего насторожило Михаила, что ребятишки, которые обычно стайкой неслись впереди всех, теперь таились сбоку толпы и за ней, а в голове молчаливой оравы шествовали лавой, неспешно битюки с плечами в сажень.
За спиной Михаил почувствовал прерывистое дыхание пассажиров.
Было от чего струхнуть — мужичьи лица свирепы, в ручищах колья. И бабий голос кликушествует над толпой:
— Свят, свят, изыди, нечистая сила!
В трех саженях, не более, застыли мужики, захлестнув кругом аэронавтов. Жгучие глазищи из-под лохматых бровей, желваки играют на скулах, а один рот открыл от удивления, но дрючок в лапищах с рыжим пушком держит крепко. А за спинами их бабы надрываются:
— Бес… бес!
— Черти, черти…
— Нечистая сила!
И вот крик, будто из горла вырвал кто-то:
— Изничтожить сатану!
Дело принимало дурной оборот, и холодок пополз по спине у Михаила — а ведь считал себя не из робкого десятка. Знал — суеверие не раз доводило до смертоубийства. Длинная минутка потребовалась ему, чтоб найти средь злых парней старичка, сухонького, с глазами цвета выцветшего неба. Облачко в глазах жило, облачко нерешительности и мудрого раздумья. Поставив голос покрепче, к нему Михаил и обратился:
— Дедушка, да неужто вы нас приняли за нечистую силу? С Ростова мы, с Ростова на Дону Великом!
Дед пожевал губами, но слова не сказал. Примолкла толпа.
— Да погодьте же, — поднял руки Михаил, — люди мы, человеки, вот те хрест! — и дважды истово перекрестил себя от лба до пупка и поперек.
«Ды-ык, крестится-а-а!» — прошелестело в толпе. Два мальчишки в стираных посконных рубашонках проскользнули между ног и встали рядом с дедом. Любопытные глазенки. «Эт-то лучше! Мальцы ближе — беда дальше», — возрадовался про себя Михаил. И растянул губы в широчайшей улыбке.
— Смахни картуз! — слабеньким голоском, но сурово приказал дед.
Как в этот миг рад был Михаил своей лысине, на которой не просматривалось рогов, а то волосья бы повыдергали, щупая их.
Пассажирам тоже приказ:
— И вы окститесь!
Те замельтешили руками — крест, крест, крест. Один даже ладанку с шеи сорвал, протягивал на ладошке.
Тогда Михаилу пришло в голову вынуть свой паспорт, в котором было полностью обозначено все его крестьянское звание, и он повел такую речь:
— Как же вы можете думать, что я, к примеру, бес или сам сатана, когда я такой же мужик, как и вы? Да разве может крестьянская душа быть бесовской?
Старик поднял выцветшие очи, и по знаку детина справа от него протянул руку, шагнул и вырвал документ из рук Михаила. Опять шумок в толпе. Искали грамотного. Сказалась — дивчина. Худющая и белобрысая, обличьем поаккуратней других. Даже сережки с красными камешками в ушах. Приняв паспорт, громко, высоким голоском прочитала, что «предъявитель сего паспорта Михайло Тихонович Лаврентьев действительно есть крестьянин Тамбовской губернии из бывших дворовых…».
Тогда раздались возгласы, слившиеся в один вопрос, который последним и задал опять же дед:
— А ежели ты такой же мужик, как мы, так как же ты можешь летать вроде птицы на такой хитрой штуке, что скукожилась там? — И сухой палец ткнул в сторону шара.
— Неужели не видели никогда?
— И не слыхивали! — почти хором ответили Михаилу.
— Так это ж просто. Он летает, как мыльный пузырь, на дыму…
Долго пришлось объяснять темному люду про аэростат, но поняли, поняли, и добром засветились лица, и радость на них, и гордость, что нашелся такой удивительный крестьянин, который не только сам летает, но и других возит.
Лошаденку с телегой пригнали, собрали шар в большой комок, погрузили и с почетом уже провожали брата-крестьянина и его спутников до хаты старосты. Впереди гордо шествовала белобрысая дивчина с серьгами — грамотная дочка старосты. На постой провожали, но взяли слово-обещание у Михаила — попозднее у костров рассказать про судьбу свою.
…Пала тьма. Запылал кострище из сухого бурьяна и соломы. Кизяк подбросили. И в теплом, оранжевом свете костра Михаил поведал сельскому люду про жизнь. Слушали жадно…
Родился Мишка в 1834 году, подрос немного, сил еще не хватало гнуть спину на барщине, а вот кухонным мальчиком в имение помещика его взяли. Самодуром был помещик, но не дураком: определил, что мальчонка не прост и смышлен — грамоты тайком нахватался, читал много, шлепая губами над выброшенными газетами и книжками, которые выпрашивал у молодого барина.
Бежало время, как в речке вода. Мишка быстро усваивал все новое, отличался трудолюбием, и помещик заставлял его заниматься то садоводством, то гнал в кузню железное дело постичь. А узрев тягу к химии у парнишки, заставил его хозяин ракеты делать и в праздники небо разноцветными гирляндами освещать. Потом прорезался у паренька «талант» к живописи, и стал он декорации малевать и маленько портреты пописывать. Был он и поваром, потому что и в кулинарном искусстве верхов достиг немалых. Гости помещика пальчики облизывали, вкушая изготовленные им яства.
После отмены крепостного права Михаил Лаврентьев сразу же ушел в Харьков, где устроил нечто вроде харчевни для самых бедных студентов. Дешевые харчи готовил сам Михаил, подавал на длинный дощатый стол еду тоже он да еще аккуратная пожилая баба. Студенты хлебали да похваливали, а насытившись, разные разговоры вели. Очень интересными эти разговоры были для молодого кухмистера. Иногда должники расплачивались с ним книжками. И он их читал от корки до корки. Опыты какие-то делал в своей комнатке.
Так ни богато ни бедно дожил он до 39 лет, и в 1873 году жизнь его резко перевернулась. Приехал в Харьков французский воздухоплаватель Бюннель и 2 ноября на своем аэростате поднялся в небо всем на удивление.
Немало народу крутилось около команды Бюннеля во время предстартовой подготовки и когда шар надувался газом. Но самым внимательным зрителем был, пожалуй, Михаил Тихонович Лаврентьев.
Уехал из Харькова француз, запалив душу мужика своими полетами. Не прошло и года, как во дворе у Лаврентьева выше забора и ворот вспух шар. Изготовлен он был из хлопчатобумажной материи — ланкорда, пропитанного смесью льняного и терпентинного масел с добавкой каучука, растворенного в бензине. Оболочку шара облегала сетка из английского шпагата. Все, включая тканый пузырь, сшитый на машине, плетеную гондолу, двустворчатый металлический клапан и даже якорь кованый, было изготовлено Лаврентьевым собственноручно или под его приглядом студентами. Они же помогли ему и в расчетах, и раскрое оболочки. Светильный газ, купленный на местном заводике, должен был дать подъемную силу.
Пошел к градоначальнику Михаил Тихонович:
— Нижайше прошу разрешить опыт воздухоплавательный.
Расхохотался градоначальник, направил в полицию, пусть-де там еще посмеются. Все же после долгих уговоров, упрашиваний и, чего греха таить, некоторой мзды разрешили ему пробный старт, но с одним условием — шороху в городе не наводить, публику не собирать и улетать с глухого двора газового завода.
1 мая 1874 года в 2 часа дня шар, заполненный с избытком светильным газом, прыгнул в небо, неся в гондоле Михаила Тихоновича и 32 килограмма песка в мешках для балласта.
— Были у меня тогда инструменты, — рассказывал Лаврентьев крестьянам, и пламя костра освещало его разгоряченное лицо, — барометр и высотомер были, но я их не взял с собой, не умел ими пользоваться. На глазок определял высоту и, сколько ее достал, врать не буду, не знаю. Только высоко! А красотища какая, братцы! Веса в тебе будто нет. Кругом прозрачно, дыши вволю — не надышишься. Внизу любо-зелено, человечки как куклы. Кошку, собаку и разглядеть уж нельзя. Засмотрелся я вниз, забылся и веревку от клапана, что газ выпускает, натянул. Не чую, не ведаю, что газ-то выходит из пузыря. Благо солнце! Вижу тень круглая по земле катится и круг все больше и больше. Смекнул, шар мой к земле стремглав несется. Веревку отпустил, да поздно. Туточки земля! Захолонуло в груди, но поборол себя и догадался оба мешка с песком вышвырнуть. Совсем маленько помогло это дело. Спасло меня, ребятушки, дерево. Скукоженная оболочка повисла на его ветках, и я только шишками отделался… Горшая беда стерегла впереди: повез я на подводе свернутый шар в обрат, а в оболочке светильный газ, видно, остался. Как, отчего, до сих пор не пойму, но вдруг полыхнуло. Горит, не подойти… Так и сгорела! — тяжко вздохнул Лаврентьев, и дружно вздохнули его молчаливые слушатели.
О первом удачном полете Михаила Тихоновича Лаврентьева и утере им шара на другой же день написали все харьковские газеты. Он стал гордостью города. В его пользу поставили спектакли и открыли подписку — собранные средства пошли на постройку другого более мощного аэростата.
Увлеченный небом крестьянин не знал покоя. Меньше двух месяцев потребовалось ему, и 28 июня того же года он отправился на аэростате в полет, теперь уже ободряемый тысячами зрителей, среди которых был сам губернатор со всей семьей и большой свитой.

Поставленные в гондоле приборы зафиксировали высоту 2800 метров.
Гордый случившимся на подвластной ему земле, губернатор сообщил о полете в Москву и пообещал вскоре показать «сие удивительное деяние» их величествам «в натуре». Таким образом, мужик Лаврентьев со своим самодельным аэростатом попал в столицу и 23 августа стартовал с Сенатской площади. Не совсем удачным получился этот полет. В гондоле кроме аэронавта был пассажир. Такая загрузка оказалась тяжеловатой. Балласту пришлось взять всего два мешка, да и те быстро высыпать, когда аэростат понесло на здание Арсенала. Так и тащились аэронавты над землей минут пятнадцать до села Большие Мытищи, где при усилившемся ветре Лаврентьев все же сумел благополучно приземлить шар.
Видно, их величествам не особенно понравился разрекламированный харьковским губернатором мужик, и его быстренько отправили восвояси. Вернувшись в Харьков, Михаил Тихонович продолжал там свои полеты.
И там, в Харькове, чуть не случилась со мною пять беда, — вспоминал он у затухающего костра. — Готовился я поднять шесть пассажиров. Никто еще такого не мог… И я не смог. Ветрило поднялся, жуть! Но ведь все готово, а газ сколько стоит, знаете? А билеты за показ проданы, что, возвращать гроши?.. Решил лететь один, где наше не пропадало!.. С полянки отрывался. Ветер полого понес бы, и, чтобы не задеть за дерева, я, как только отпустил концы, обрезал много мешочков с балластным песком. Не успел и глазом моргнуть, как смотрю — на высотомере две тыщи пятьсот метров. И вроде повис шар. Лечу. Спускаться не думаю. Ан сильно мерзнуть начинаю, и дышать трудно. Никогда
так не было и когда поднимался, а тут нате, дрожу весь, коченею в легкой поддевке и, как рыба, ртом воздух хватаю. Посмотрел на барометр, и осенило: ведь стрелка уперлась в край, больше показывать не может, не согнуться же ей! Я за клапан. Да переборщил, наверно. Столько газу выпустил, что вдруг тряхнуло меня ветром, оболочка сплющилась и в мгновение ока разорвалась сразу больше чем наполовину… Тут уж мне жарко стало. Упал я на дно корзинки и молюсь: «Пронеси, боже!..»
Лаврентьев хитро прищурился, оглядел напряженные лица крестьян в отсветах раскаленной соломы и тихо сказал:
Когда я строил шар, то верхнюю часть сделал двойной, попрочнее. Студенты подсказали, нахлебники мои. Так вот, открыл я глаза и вижу, что все вдрызг, кружатся обрывки материи, а верхняя часть… цела! Не треснула там, где два слоя материи я положил. И надута эта половина купола встречным воздухом. Даже обрывки низа в нее подсосало. Значит, тормоз есть. Тут я встал — и, откуда силы взялись, весь балласт из корзины прочь. Бутылки с питьем — прочь! Все, что было в корзине, выбросил, даже приборы железные поотрывал — и за бортину. Смотрю, верхушка расправилась пошире и держит полегче корзину на шпагате сетки. Тут уж земля близехонько. Сейчас корзина шмякнется, и я с ней. Прыгнул я на сетку, вцепился что было сил и зажмурился. Здорово хрястнуло! В глазах темь. А когда просветлело чуть-чуть, слышу голоса. Думаю, не в рай ли попал и голоса это не ангельские ли? Ищу дырку, как бы вылезти на свет божий да взглянуть на их лики… Гляжу, вокруг обыкновенные люди, селяне. Один спрашивает: «Ты живой аль нет?» А я ему: «А ты кто?» — «А мы, — бает, — из Баронтуловки, на вывозе сена стараемся». Обнял я его, а он пятится: «Ты чево с ободранной рожей ко мне лезешь»!..» Вот так, братцы. И запомнил я этот день навек — двадцатого сентября прошлого тысяча восемьсот семьдесят четвертого года это и случилось…
Наутро староста дал аэронавтам двуконную подводу и отправил их на станцию к «железке». Далеко в степь провожали всем миром…
Со своим самодельным летательным аппаратом Лаврентьев переезжал из города в город, смело и удачно летал. Через газеты и воздухоплавательные журналы об отважном самоучке узнала не только Россия, он стал известен как выдающийся аэронавт и за границей. У него появились ученики. Как-то он получил письмо от офицера, поручика Н. Бессонова, который сетовал, что, вот уже несколько лет «пребывая» под крылом государственной воздухоплавательной комиссии генерала Тотлебена, не может научиться летать, хотя вверенные ей аэростаты, на которые истрачено около 100 тысяч народных денег, гниют на складах. Бессонов просил крестьянина научить его летать на аэростате, предлагая в качестве компенсации за труд взять на себя всю организацию демонстрационных полетов. Лаврентьев согласился.
Он первый в России, да еще на самодельном аэростате, обучил русского военнослужащего полетам на свободном воздушном шаре.
Михаил Тихонович Лаврентьев, даровитый выходец из народа, «человек от земли», скончался в возрасте 73 лет в 1907 году.
Неугомонный бразилец
Один опыт я ставлю выше
чем тысячу мнений,
рожденных только воображением.
М. В. Ломоносов
В погожий день, в час, когда парижская знать выходит прогуляться или погарцевать на застоявшихся породистых скакунах по ухоженным дорожкам Елисейских полей, в небе появился небольшой воздушный шар. Влекомый тихим течением ветра, он плыл невысоко и медленно, солнце золотило его белую шелковистую оболочку, и на округлых боках ее резко выделялись темно-синие буквы.
В очень легкой корзине, подвешенной к шару-пигмею на тонких, почти невидимых стропах, стоял человек в модном спортивном костюме. Поза его была преисполнена величавого достоинства. Изредка он прикладывал к глазам театральный бинокль и рассматривал публику внизу. Если видел, что в открытом ландо сидят дамы или стайка юных парижанок застывает, изумленная его необычным появлением, молодой аэронавт поднимал в приветствии руку и бросал вниз розы, сопровождая цветы воздушным поцелуем.
Зрелище было эффектным. Прогулка на шаре-пигмее, который по виду своему мог поднять разве только большую куклу! Но летел человек! Кто же этот фантазер и кудесник! Кто этот богач, набивший розами корзину шара?
Шелковый аэростатик нес смуглого красавца аэронавта над Елисейскими полями не более двух-трех минут, но с этого дня о нем заговорил весь Париж, а потом не только французы — мир! Это Сантос-Дюмон, сын богатого кофейного плантатора из Бразилии.
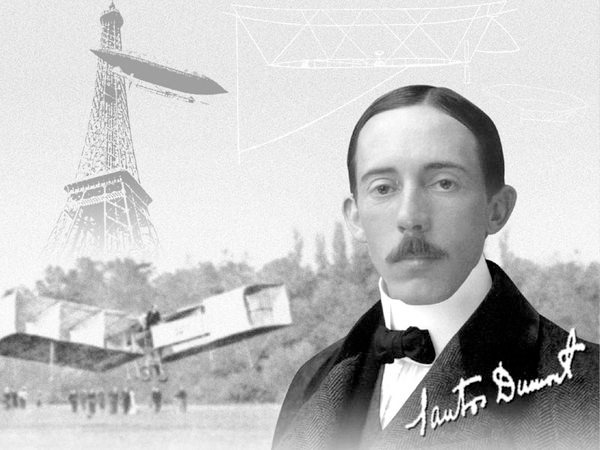
* * *
— А вы знаете, мсье, как он начинал? Прилетел в Париж восемнадцатилетним мальчишкой и попросил одного воздухоплавателя-профессионала взять его в полет на аэростате.
— И с кем же он летал?
— Да не летал он тогда, мсье. Воздухоплаватель запросил с него за один подъем две тысячи франков, и такая сумма оказалась сыну плантатора не по карману!
* * *
— Говорят, он хочет построить управляемый аэростат?
— Управляемый? Да что вы! Поверьте мне, специалисту, — это абсурд! У нас нет достаточно сильного двигателя. Если он попробует применить паровую машину, его ждет фиаско, как когда-то гениального Жиффара. Какой нужен баллон, чтобы поднять громоздкую паровую машину с запасами угля и воды?
* * *
— А не считаете ли вы, что управляемый аэростат можно оснастить электромоторами? — этот вопрос задал уже сам Альберто Сантос-Дюмон великому Эдисону.
Тот улыбнулся, добро посмотрел на предприимчивого бразильца и ответил мягко, но в голосе проскользнули назидательные ноткн:
— Я ищу. Кое-что нашел. Но современные электрические установки все еще ужасно тяжелы. Нет, вы с этим ничего не сделаете, молодой человек! Подождите, пока нам, электротехникам, удастся выдумать что-нибудь более рациональное. Вспомните формулу Жиффара. Воздухоплавание практически осуществится тогда, когда будет сконструирована машина размерами, как большие карманные часы, развивающая силу одной пары лошадей. Не раньше, молодой человек! А наши электромоторы пока тяжелее в сто раз.
* * *
— Подумаешь — Жиффар! Его формула не убеждает. Да и Эдисон не бог! Не хочет с ними соглашаться неугомонный, настойчивый Сантос-Дюмон. Он не желает подчиняться в небе ветру, он должен, должен, должен летать туда, куда захочет. И он добьется свободы полета!
— Упрямый мальчишка! И нахальный! — качали головами корифеи, однако следили за действиями смелого экспериментатора.
И когда Сантос-Дюмон решил приладить к баллону автомобильный двигатель, всплеснули руками:
— Брать в гондолу аэростата бензиновый мотор? Но это же костер под бочкой пороха! Аэростат взорвется при первом подъеме!
Сантос-Дюмон твердил, что ворчанье несогласных его не остановит. Он не боится взрыва. Но, говоря это, потихоньку, внимал, предостережениям и, укрывшись от лишних глаз, проверял задуманную им установку.
В лесу сделал испытательный стенд: к сучьям деревьев на веревках подвесил автомотор с седлом. В седло забирался сам и пускал двигатель. Сбросит его «скакун» или нет?
Все больше и больше прибавляет обороты мотор, уже ревет на пределе, но «всадник» в седле не чувствует больших рывков и опасных сотрясений.
Все! Решено: он ставит бензомотор с пропеллером для ускорения аэростата в полете и борьбы с ветром!
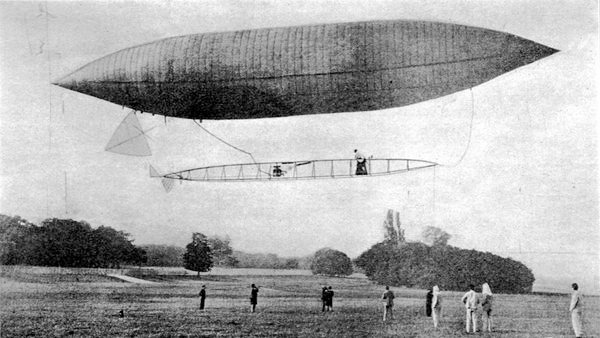
Приняв такое решение, Альберто Сантос-Дюмон не предполагал, что обрек себя на опасные приключения.
При постройке аэростата он отошел от традиционной формы шара и сделал оболочку в виде веретена. Надо признать, поступая так, никаких серьезных расчетов он не делал, главное, к чему стремился неопытный конструктор в этом случае, — хорошая обтекаемость воздушного судна, когда низко подвешенный в корзине автомотор будет толкать его против ветра.
Так родился управляемый аэростат «Сантос-Дюмон №1».
«Первый блин — комом» — эта русская пословица оправдала себя и в бразильско-французском варианте, когда Сантос-Дюмон 18 сентября 1898 года с небольшой лесной поляны поднялся в небо на своем первенце.
Как только «№1» отделился от земли, порыв ветра бросил его на верхушки деревьев и, поиграв с ним в сучковатой роще, разорвал оболочку в клочья. Мотор уцелел. Храбрый воздухоплаватель отделался синяками и шишками.
Парижские газеты дружно обхохотали неудачника, помещая на своих страницах дружеские и не очень дружеские шаржи. Француженки начали снимать модные шляпы «аэростат» и прятать их в картонки до лучших времен. И хотя Альберто на следующий день после падения в лес снова прогуливался на шаре-пигмее над Елисейскими полями, неистового восторга дам его полет уже не вызывал. Хотя брошенные розы, охотно ловили.
А он, не считая первую неудачную попытку поражением, работал. Вернее, работали его деньги, которые он щедро платил мастерам за круглосуточный труд.
«Я не находил нужным бесплодно терять время, оплакивать случившееся; я быстро занялся ремонтом аэростата, и через два дня мой воздушный корабль был опять готов в путь, — рассказывал в мемуарах конструктор. — Но на этот раз я сам выбрал место подъема, пренебрегая указаниями „опытных аэронавтов“: они летали на простых баллонах, а я находился на аэростате управляемом. И я имел удовольствие убедиться, что был совершенно прав: мой аэростат благополучно миновал предательские деревья, поднявшись раньше приближения к ним на достаточную высоту. Мотор работал безукоризненно, винт мелькал лопастями с неуловимой для глаз быстротой, и, поворачивая руль в ту или другую сторону, я видел, как послушно следует ему аэростат. Стоило мне оттянуть назад передвижной груз, мой воздушный корабль поднимался. Передвигал я груз вперед, нос опускался, и аэростат начинал скользить вниз… Но тут я сделал грубую и непростительную ошибку, которая сейчас же повлекла за собой заслуженное наказание: я увлекся и допустил аэростат на высоту в четыреста метров. Покуда аэростат поднимался, он отлично сохранял свою форму, равномерно наполняя оболочку при расширении газа внутри. Но вот приходится спускаться. Оболочка подвергается большему давлению атмосферного воздуха, и газ внутри сжимается; поэтому оболочка начинает морщиться, образовывает складки. Я пускаю в ход вентилятор, чтобы наполнить воздухом внутренний мешок-баллонет и тем самым сохранить форму всего баллона. Но вентилятор работает слабо, сама „сигара“ словно надламывается, загибаясь обоими концами кверху; сетка, выдерживающая тяжесть гондолы и ее нагрузки, давит на оболочку неравномерно. Возникает опасность, что где-нибудь канат сетки прорвет оболочку. Мой спуск обращается в падение…»
Это уж потом храбрый Сантос-Дюмон разобрался, что к чему, а тогда просто падал во второй раз, притом стремительно, на сморщенном воздушном корабле. Могло кончиться и катастрофой, если бы не хладнокровие и смекалка молодого аэронавта.
Довольно сильный ветер-соперник под крутым углом гнал аэростат к жесткой земле. Удар гондолы был неминуем. Сантос-Дюмон призывал для спасения бога, но рассудка и бдительности не терял. Увидел на лугу ребятишек, пускавших воздушные змеи, и закричал:
— Э-ге-гей, хватайтесь за канат и держите меня! Каждому, кто уцепится, по пять франков на сладости! Ловите канат!
Ребята, среди которых были рослые подростки, оказались смышлеными. После некоторой растерянности они догнали волочившийся на земле канат-гайдтроп и уцепились за него. Сначала не могли удержать, и аэростат волок за собой многолюдную артель мальчишек, однако они поднатужились и остановили строптивца. Аэростат превратился в нечто подобное воздушному змею, сравнительно мягко опустился на луг.
— И я был спасен… Приятное разнообразие: подняться на аэростате, а спуститься на воздушном змее, — с удовольствием говорил потом аэронавт.
Ну что же, «может, в третий раз повезет строптивому бразильцу?» — задавали вопросы газетчики, рисуя Альберто забинтованным и на костылях, но гордо поднявшим голову в гондоле нового управляемого аэростата «Сантос-Дюмон №2».
Нет, не удался полет и этого аппарата. 11 мая 1899 года он поднялся в небо, но недостатки аэростата «№1» были присущи и ему. «Веретено» на высоте потеряло стремительную форму, скукожилось и, сложившись почти вдвое, упало на лес.
Предположения газетчиков насчет бинтов и костылей, к сожалению, оправдались. Но и уважение к упорному смельчаку поднялось — его уже не звали «бразильцем», французы гордились им как земляком, о его экспериментах узнали люди в других странах мира. Пока Альберто Сантос-Дюмон залечивал свои душевные и телесные раны, он не терял время попусту: разрабатывал новый вариант воздушного судна. Аэростат «№3» уже не был похож на веретено, он стал овальной формы. К лучшему изменился и такелаж, и двигатель стал мощнее. Альберто был убежден, что у него и опыта в пилотировании прибавилось. Он чувствовал близкую победу, верил в нее. И она пришла в 1899 году.
Вот как о ней рассказал сам аэронавт-конструктор:
— Тринадцатого ноября я поднялся на борту «Сантоса №3». Это был самый удачный полет из всех сделанных раньше… Сперва я направился на Марсово поле, которое привлекло меня своей ровной поверхностью. Там я мог упражняться свободно. И мой аэростат делал послушно круги, поднимался и опускался по диагонали, шел по ветру и даже против ветра. Это была победа, давно жданная, страстно желанная победа!
Однако приключения, опасные для жизни Сантос-Дюмона, не закончились. Он все время улучшал летные качества своих аэростатов и в «№5», казалось, достиг желаемого: объем оболочки увеличил до 630 кубических метров, двигал ее в воздухе мотор в 12 лошадиных сил, от гондолы аэронавт отказался и вместо нее смонтировал седло на длинной штанге с колесиками внизу.
8 августа 1901 года, оседлав нового воздушного «коня», Сантос-Дюмон решил на нем облететь Эйфелеву башню и положить в карман 100 тысяч франков — назначенный приз миллионера Дейча де ла Мерта.
«Сантос №5» легко оторвался от земли в пригороде Сен-Клу, но лететь курсом на Эйфелеву башню не захотел. Через несколько минут полета он перестал подчиняться воле аэронавта и рухнул на крышу одноэтажного дома. Оболочка с треском разорвалась в клочья на глазах испуганных парижан. Сантос-Дюмона вышибло из седла, и только случай оставил его в живых.
Битый-перебитый аэронавт не отступает: приз Дейча и слава первопроходца должны быть у него!
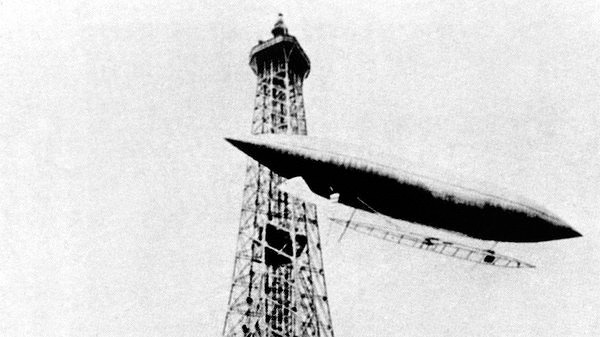
На штурм маршрута он идет в седле нового воздушного судна «Сантос №6». По рассказу самого неутомимого бразильца, полет происходил так.
Утром 19 октября 1901 года метеорологическая станция оповестила его, что на высоте Эйфелевой башни дует неблагоприятный ветер с порывами до шести метров в секунду. Невзирая на это, он начал готовиться в путь…
Ветер дул сбоку и оттаскивал аэростат от нужной линии полета. Сантос-Дюмон решил подняться над вершиной башни. Этот маневр отнимал у него лишнее время, но аэронавт приобрел бы уверенность, что его не прижмет ветром к самой башне.
Отправившись из Сен-Клу в 2 часа 42 минуты пополудни, Сантос-Дюмон подлетел к Эйфелевой башне и стал огибать ее громоотвод. Маневр прошел успешно, и аэронавт направил нос «Сантоса №6» на Сен-Клу. Но преодолеть обратный путь оказалось сложнее. Сначала закапризничал мотор. Бросив руль, аэронавт стал осматривать его, пытаясь устранить неполадки. Тем временем аэростат оказался над лесом и попал в нисходящий поток. Пока Сантос-Дюмон возился с мотором, аэростат почти прилип к верхушкам деревьев и не накололся лишь благодаря тому, что аэронавт, вовремя спохватившись, поторопился передвинуть специальный центровочный груз. Нос аэростата поднялся. Он перестал снижаться и поплыл вперед по восходящей спирали, подталкиваемый ожившим мотором.
Потерянное время тревожило Сантос-Дюмона: по условиям Дейча 100 тысяч франков мог получить тот, кто, стартовав из Сен-Клу, облетит башню и возвратится назад за полчаса. 30 минут, и не секундой более!
Сантос-Дюмон, манипулируя канатами и грузом, вывел аэростат в горизонтальный полет, использовал всю мощь мотора, чтобы не опоздать к сроку. И кажется, успел — пронесся над головой собравшейся в Сен-Клу толпы в 3 часа 11 минут, крикнув:
— Я выиграл?
— Да! Да! Да-а-а! — услышал в ответ.
Но это кричали из толпы восторженные зрители, а судьи засомневались. Среди них нашлись казуисты, утверждавшие, что моментом возвращения нужно считать не пролет аэростата над площадкой, а его спуск на землю. Если так, то воздухоплаватель опоздал на целых… 40 секунд!
Возмущенные таким поворотом дела экспансивные парижане подняли страшный шум и, говорят, слегка помяли бока некоторым судьям.
100 тысяч франков Сантос-Дюмону были выплачены. Получил он и славу великого воздухоплавателя. Вместе с тем увеличились и ряды его завистников-конкурентов. Именно они привели в негодность его новый аэростат, когда бразилец представлял его в Америке.
Альберто Сантос-Дюмон продолжал усовершенствовать воздушные корабли. На них он прогуливался, над Булонским лесом и Елисейскими полями. Показывал свои улучшенные конструкции в других странах. На «Сантосе №11» совершал полеты в Монако и не раз купался в Средиземном море из-за вынужденных спусков. Его спортивные опыты и конструкторские разработки послужили основой для проектирования военных дирижаблей.
Но энергичный бразилец сразу же прекратил занятия с воздухоплавающими кораблями, как только услышал, что в Америке братья Райт успешно летают на аэроплане.

По образу воздушного змея Альберто Сантос-Дюмон построил свой аэроплан, оснастив его мотором в 45 лошадиных сил — очень мощным по тому времени. Несколько коротких взлетов ему удались, и тем самым он утвердил свое имя в истории авиации, как человек, поднявшийся на аэроплане первым в Европе.
На дирижабле к полюсу
Как много дел считались
невозможными,
пока они не были
осуществлены.
Плиний Старший
Николай Евграфович Попов по образованию — агроном. Однако растить русскую пшеницу ему почти не пришлось: не дожидаясь ареста за антиправительственную деятельность, он ушел от царских ищеек, эмигрировал в Европу.
Но там вялая размеренная жизнь пришлась ему, человеку действия, не по нутру. Попов отправился в Южную Америку, где шла борьба за независимость. В боях и походах он получил богатый военный опыт, снискал славу выносливого смекалистого бойца.
Война закончилась, и опять — «пресная» жизнь. Услышал Николай Евграфович, что начались нешуточные баталии русских с японцами, и попросил разрешения вернуться на родину, встать в строй российских солдат. Разрешили, но оружие как неблагонадежному не доверили, а только — перо журналиста.
Мужественного человека не заставишь сидеть с блокнотом за бруствером, он может найти оружие и на поле боя. Не отсиживался в тылу и Попов. В результате — тяжелейшее ранение, долгое излечение в госпиталях. Тогда впервые и пришли к нему мрачные мысли о несостоятельности многих русских полководцев и предательстве царских генералов. Об этом он хотел написать ярко, гневно. Только не просто в условиях жесточайшей цензуры писать то, о чем болит сердце. В конце концов, Попов понимает, что его место там, где предельно широко могут раскрыться его волевые качества, где он принесет максимальную пользу Отчизне.

В 1908 году, тогда еще не мечтавший об авиации, Попов приехал на британские острова, чтобы изучить навигацию, стать капитаном и на особом моторном судне организовать экспедицию к Северному полюсу.
Всего три недели ему понадобилось, чтобы подготовиться и сдать экзамены на судоводителя. Но чтобы свыкнуться с морем, получить опыт управления кораблем, он немало плавал с рыбаками в океане, в бурные зимние месяцы ходил в Исландию. В свободные от вахты часы продумывал конструкцию судна, способного преодолеть ледяные преграды.
Но постепенно к нему пришло убеждение, что по воде вряд ли можно достичь желанной цели. И тогда его внимание привлекла авиация — люди уже полетели на крыльях. Познакомился с полетами братьев Райт, увидел: крылья еще очень хрупкие и до Северного полюса не донесут.
В Лондоне Николай Попов посетил выставку воздухоплавательных аппаратов. Большое впечатление на него произвел аэростат «Америка», предназначенный для экспедиции к Вершине Мира. Это было то самое, что искал «отчаянный русский», как потом называли Попова.
Начал он с малого: поехал в Париж и разыскал в пригороде конструктора дирижабля инженера Ванимана, руководившего постройкой «Америки-2».
— Возьмите меня на работу.
— В качестве кого? — поинтересовался Ваниман.
— В любом качестве, хоть грузчиком, хоть кормчим на ваш воздушный корабль.
— Значит, вы желаете лететь?
— Это единственное и непременное мое условие!
Побеседовав с Поповым, Ваниман ответил уклончиво:
— Хорошо, приступайте к делу. Посмотрю, что вы вообще за человек и как работаете, а затем с приездом начальника экспедиции Уэлмена сообща решим главный вопрос.
Основой воздушного корабля «Америка-2» и его килем был длинный металлический цилиндр, заполненный бензином. Бока его опоясывала решетка — трюм. В верхней части решетки крепились два двигателя с пропеллерами. Каюта, мостик для капитана и кормчего находились в задней части решетки, около воздушного руля.
Но не только моторами и рулем управлялся дирижабль, из толстой кожи, в виде гибкой кишки, Ваниман сконструировал длинный гайдроп. Внутренняя полость этой «кишки» предназначалась для запасов пищи — вмещала около 700 килограммов. Внешняя часть гайдропа обшивалась металлическими бляхами. Чешуйчатый панцирь должен был предохранять многометровый змеевидный «хвост» дирижабля от повреждений при скольжении по снегу и ударов о лед.
Для начала Николаю Попову как раз и поручили прикреплять на кожу гайдропа металлические чешуйки. Нелегкая работа! Но если прежний работник успевал закреплять 700 чешуек в день, то Попов умудрился довести их число до 2400. Трудился он весело, и Ваниман похваливал его за усердие и качество.
Приехал на базу журналист и командор Уэлмен — серьезный, красивый мужчина. Волосы отливали сединой, глаза по-юношески блестели. Попову он понравился, кажется, Попов Уэлмену тоже. Во всяком случае, он пригласил Попова упражняться в воздушной навигации и вскоре отметил блестящие успехи русского.
— Мы берем вас на Шпицберген, — объявил Уэлмен ему однажды.
— А на полюс?
Уэлмен промолчал. Улыбнулся доброжелательно.
На Шпицберген — это не полет, а путешествие сушей на перекладных. Но Попов обещаний домогаться не стал, вместе со всеми взялся за упаковку аэростата, погрузку оборудования.
Пока ехали в Норвегию, оттуда на Шпицберген (в Уэлман-Камп), капитан перелета Уэлмен не раз говорил о составе экипажа: Уэлмен, Ваниман и его племянник Ляуд. Грустно было Попову, но он крепился, не подавал виду, что сильно огорчен.
Добрались до Уэлман-Кампа — фиорд, горы, отвесные скалы. Построили сарай-ангар, обтянув его брезентом. Начали добывать газ. Николаю Попову поручили самую тяжелую вахту — следить за газовой установкой ночью.
И когда «Америка-2» приобрела форму, была полностью подготовлена к полету, Уэлмен, показывая на внушительный остов воздушного корабля, спросил Попова:
— Нравится?
— Очень!
— Корабль готов, и вы, Николай Попов, его кормчий! — торжественно объявил Уэлмен.
…«Америка-2» отдала якоря, и ветер понес ее между отвесными стенами фиорда, прижимая к скальным выступам слева. Кормчий Попов крутил штурвал, однако громоздкий корабль повиновался нехотя. Вот-вот чиркнет мягким боком об острые глыбы, тогда начало полета сразу же станет и концом. Спас от удара вихрь: он толкнул дирижабль, бросил его к правой стене фиорда. Думая, что виноват в раскачке неловкий кормчий, Ваниман закричал на Попова:
— Держите курс, черт вас побери!
Но кормчий и так изо всех сил боролся с вихревыми потоками, используя тягу пропеллеров и вяло действующий руль.
Из опасного фиорда «Америка-2» выскочила благополучно. Приборы показывали, что плывет воздушный корабль над серо-зеленым Ледовитым океаном точно по направлению к полюсу, со скоростью 50 километров вчас. Экипаж доволен. Радостно улыбается Уэлмен, сияет и Ваниман, поднявшийся на капитанский мостик. Из люка кабины показывается добродушное, толстощекое лицо флегматичного Ляуда:
— Как и куда бежим?
— Быстрее лани, туда, где нас не ждут! — кричит ему Ваниман.
Скорость полета все время увеличивается. «Ветер ли крепнет? Или двигатели размахались, как добрые кони? — думает кормчий Попов. — Если так пойдет дальше, то через пятнадцать часов мы ногами ступим на лысину старого Недотроги».
Внизу белая пустыня.
Касаясь льда, скользит тяжелый гайдроп, своей тяжестью не давая уйти кораблю высоко.
Пора бы и закусить. Кормчий Попов чувствует приятные запахи пищи — тянет из люка кабины…
Вдруг кто-то невидимый и тяжелый давит кормчему на плечи так сильно, что сгибаются колени. Это «Америка-2» неожиданно прыгнула в высоту, понеслась в зенит. Склонив голову, Попов увидел: извиваясь, ложится на лед оторвавшийся гайдроп.
Выскочившие на капитанский мостик Уэлмен и Ваниман в отчаянии. Вместе с гайдропом потерян главный запас продуктов питания. Теперь, если постигнет неудача и придется спуститься на лед, нечем кормить собак, находящихся в трюме вместе с санями и упряжью. На долгое путешествие по льдам океана не хватит пищи и аэронавтам.
«Америка-2» взмыла на огромную высоту. Торосы льда уже не различимы. Очень холодно.
Тут же на мостике Уэлмен с Ваниманом советуются. Что делать? Лететь дальше? Вопросы очень серьезны, и они спускаются в кабину.
Проходит полчаса — капитан и инженер спорят, не приходя к соглашению. А ветер на высоте гонит дирижабль к полюсу с невероятной быстротой.
Наконец Уэлмен поднимается на мостик к Попову и садится на свое капитанское место. Он мрачнее тучи. Попов понимает, что решено возвращаться, но продолжает держать курс на север.
Но вот Уэлмен как бы просыпается, глядит на компас и удивленно спрашивает:
— Куда вы правите?
— Я держу нос корабля не прямо на север, а на десять градусов к западу, так как ветер сносит нас немного на восток. С таким ветром будем скоро у полюса.
Уэлмен внимательно и как бы недоуменно смотрит Попову в глаза, произносит затем решительно:
— Поверните обратно.
Кормчий нехотя исполнил приказ, поставил корабль носом к югу, но дирижабль все-таки продолжал лететь на север, ибо тяга моторов была слабее ветра.
— Надо спускаться вниз, — сказал Попов.
— Травите газ.
Выпустили часть газа из оболочки. Льды приблизились. Медленно, очень медленно двигался дирижабль обратно, словно не желал возвращаться.
Вот уже под ним и океан.
— Смотрите, судно! — воскликнул Уэлмен.
— Норвежец, — разобрался во флагах Попов. — Научный изыскатель.
— Приблизьтесь к нему.
Попов, отрегулировав обороты двигателей, завис против ветра, невысоко, в стороне от судна.
Уэлмен сговорился с моряками через рупор, и аэростат взяли на буксир.
— Судно не вытянет нас против такого ветра.
— Травите еще газ, господин Попов.
— Тогда мы приводнимся!
— Знать, судьба, — с горечью произнес Уэлмен.
Свистят клапаны. Испускает дух воздушный корабль.
Вот уже трюм в воде, и аэронавты перебираются в поданную с судна лодку.
Прежде гордый, свободный дирижабль «Америка-2» теперь в самом жалком виде тащился на веревке позади судна: остов и сморщенная оболочка.
Вернулись в Уэлман-Камп.
Когда вытаскивали дирижабль из воды на берег, подняли носовую часть — корма опустилась в воду, весь оставшийся газ в оболочке перебежал в носовую часть и рванул ее вверх. Такелажные тросы, крепившие оболочку к остову дирижабля, лопнули один за другим. Оболочка прыгнула в небо, заревела, завыла («Закричала каким-то неистовым, точно предсмертным криком», — вспоминал Николай Попов), разодралась на лоскуты, упала в море и затонула.
Уэлмен ссутулившись, стоял на берегу, глаза его были влажны. Попов, Ваниман, Ляуд сняли головные уборы, словно прощались с живым существом…
Аэронавты-неудачники попали в гости к норвежцам, встретились с Иогансеном, который проделал славное путешествие через льды вместе с Фритьофом Нансеном. Их группа приблизилась к Северному полюсу, как никто до них.
— Вы тоже были рядом, — посочувствовал аэронавтам Иогансен. — Если бы не беда с гайдропом…
Николай Попов с таким выводом не был согласен. Он считал, что к цели нужно идти до конца. Но чтобы не обидеть своих товарищей по полету, молчал. Молчал, догадываясь, что так же думает и Уэлмен…
Николай Евграфович едет в Париж, оттуда в Канн и устраивается коммивояжером в акционерное общество «Ариель», где ему потихоньку, неофициально удается летать на биплане братьев Райт. Учился пилотировать несовершенный аппарат сам, без инструктора. Восемнадцать раз падал, сам же ремонтировал машину и снова поднимался в воздух. Не обращая внимания на шишки, ссадины, переломы, он упорно шел к цели. А когда понял, что небо приняло его на равных, бросил вызов знаменитым асам на авиационных состязаниях в Канне. И победил.
Самоучка, русский пилот одерживает блестящую победу — это вызвало настоящий фурор во всем авиационном мире. Европейские знаменитости сразу умерили свой гонор.
И уже «с крыльями» возвращается Николай Евграфович Попов в Россию, где принимает участие в Первой петербургской международной авиационной неделе, становится подлинным героем Отечества.
Признали летный талант Попова и высокопоставленные мужи российские, предложив ему должность инструктора офицерского воздухоплавательного парка в Гатчине. Он был удовлетворен и полон желания принести пользу русской военной авиации. В нетерпении, чтобы побыстрее начать полеты с офицерами, лично собирал аппарат-биплан «Райт».
Попов научил искусству пилотирования первого военного летчика России Е. Руднева.
Самолет Райта на первых же полетах подвел Попова, вышел из повиновения, упал. Авария была тяжелой. Не годы, а всю оставшуюся жизнь пришлось Попову восстанавливать свое здоровье. Долгое время он провел в курортном местечке под Ниццей, в тиши Французской Ривьеры. Там написал книгу об использовании авиации на войне, и было в ней немало мыслей, опередивших время. Издал ее Попов на русском языке.
Там, под Ниццей, он услышал о начале первой мировой войны и, превозмогая боли, пошел на сборный пункт русских добровольцев. Ему отказали: не взяли летчиком. Но все же Николай Евграфович частично добился своего. С ноября 1916 года и до конца войны нес патрульную и разведывательную вахты над морем французский боевой дирижабль, за штурвалом которого стоял русский пилот Попов.
Прекрасны города Париж и Канн, нет роднее Франции… для французов. А если родина далеко, а у безнадежно больного, рано состарившегося, всеми покинутого человека нет средств возвратиться домой: что делать? Этот вопрос, наверное, задавал себе Николай Евграфович Попов. К сожалению, ответ он нашел не из лучших: 30 декабря 1929 года покончил с собой в Канне на пляже…
Поклонники Пегу против Нестерова
Истина необходима
человеку так же,
как слепому
трезвый поводырь.
М. Горький
Те, кто хоть немножечко, по книгам или фильмам, знаком с историей авиации, прекрасно знают имя выдающегося летчика Петра Николаевича Нестерова — родоначальника русской школы высшего пилотажа.
Но далеко не все ведают, что признание новатора пришло к Петру Нестерову далеко не сразу, а приоритет в выполнении «мертвой петли», ныне носящей его имя, раньше отдавался французскому летчику-испытателю Адольфу Пегу. Причина этого — низкопоклонство царской России перед всем иностранным и небольшой промежуток времени между петлей Нестерова и повторением ее Пегу.
Выполнение «мертвой петли» Нестеровым было запротоколировано и официально подтверждено телеграммой в Петербург, причем среди подписавших ее был комиссар Всероссийского аэроклуба в городе Киеве военный летчик Орлов, имеющий право официально оформлять рекорды.

«Киев, 27 августа 1913 года. Сегодня в шесть часов вечера военный летчик 3-й авиационной роты поручик Нестеров, в присутствии офицеров, летчиков, врача и посторонней публики, сделал на «Ньюпоре» на высоте 600 метров мертвую петлю, т. е. описал полный круг в вертикальной плоскости, после чего спланировал к ангарам.
Военные летчики: Есипов, Абашидзе, Макаров, Орлов, Яблонский, Какаев, Мальчевский, врач Морозов, офицеры Родин, Радкевич».
Что же произошло примерно в это же время во Франции?
Гордость французской авиации летчик-испытатель Адольф Пегу испытывал парашют системы «Боннэ». Он взлетел один на двухместном аэроплане, заранее жертвуя машиной, так как после его выброски из кабины аэроплан не мог продолжить полет без пилота.
— Я не возьму на борт второго пилота, чтобы не было двух смертей вместо одной, если парашют, раскрывшись, запутает куполом хвостовое оперение и лишит самолет управляемости, — заявил Пегу.
Но никакой катастрофы не произошло. Пегу нормально покинул самолет и благополучно спустился на парашюте. Однако к радости успешного приземления добавилось удивление полетом брошенного им в воздухе аэроплана. Он не упал без летчика, продолжал сначала нормальный спуск с выключенным мотором, потом плавно перевернулся вверх колесами, снова выровнялся, опять лег на спину и, перед самой землей приняв нормальное положение, как ворона, плюхнулся на землю целеньким, потерпев лишь поломку шасси и слегка ободрав крыло.
Удачнейший случай!
Но именно он натолкнул Пегу на мысль, что если аэроплан без летчика выделывает подобные, пока необъяснимые пируэты, то с летчиком он тем более сможет повторить их.
— Я попробую полетать вниз головой, — сказал мужественный летчик владельцу авиационной фирмы знаменитому пилоту Луи Блерио.
Тот аж покраснел от возмущения и закричал:
— Да вы с ума сошли!
Не сразу, но Легу убедил шефа в важности эксперимента, который поднимет престиж фирмы на мировую высоту, и тот приказал поставить на аэроплане крылья под меньшим углом и усилить растяжки.
Пегу забрался в кабину, притянул себя ремнями к сиденью и взлетел. Набрав достаточную высоту, он отжал ручку от себя. Некоторое время почти отвесно пикировал. До упора в приборную доску отдал ручку управления и перевернул самолет. Как только он это сделал, рули глубины, оставшиеся в прежнем положении, вывели планирующий аппарат из пикирования, и Пегу оказался в полете вниз головой. Пролетев немного в таком положении, летчик поставил аэроплан в нормальный полет и, сделав спираль, приземлился. Те, кто следил за эволюциями Пегу, увидели, что его аппарат, падая сверху вниз, выписал в воздухе фигуру в виде латинской буквы «S».
…Вернемся к Петру Нестерову. Его «мертвая петля» произвела сенсацию. Корреспонденты иностранных газет, аккредитованные в Петербурге, телеграфировали о событии в свои страны. Это же сделал и парижский репортер газеты «Matin». Газета опубликовала сообщение и немедленно попросила Нестерова написать для нее подробную статью.
Русского летчика поздравляли друзья, инструкторы и ученики Гатчинской авиационной школы, слали теплые телеграммы совсем незнакомые люди. Но чины военного ведомства, некоторые авторитетные специалисты по авиационным вопросам заняли другую позицию.
— Опыты военных летчиков, подобные тому, который проделал Нестеров, бесполезны… Наше центральное управление отрицательно относится к подобным выступлениям военных летчиков, — заявил начальник воздухоплавательной части Российского генерального штаба Шишкевич.
Летчица Любовь Галанчикова возмущенно воскликнула:
— Посмотрите на Германию — там петель никто не делает!
А знаток воздухоплавания профессор и полковник Найденов превзошел всех.
— В этом поступке больше акробатизма, чем здравого смысла, — заявил он авторитетно. — Нестеров был на волосок от смерти и с этой стороны заслуживает порицания и даже наказания. Мне лично кажется справедливым, если Нестерова, поблагодарив за храбрость, посадят на тридцать суток под арест.
Петр Николаевич Нестеров болезненно относился к таким оценкам.
А тут еще французские, другие зарубежные газеты и журналы начали писать, что Адольф Пегу запросто делает сколько хочет «мертвых петель», и, подтасовывая даты, давая их то по новому, то по старому, то по русскому, то по западноевропейскому стилям, отдали приоритет в выполнении этой фигуры французскому летчику.
Тут уж вступилась русская прогрессивная общественность. Киевское общество воздухоплавания, досконально изучив полеты Пегу и Нестерова, отправило в редакции всех крупных газет письмо. Вот выдержки из него:
«…20-го августа (2 сентября) 1913 года Пегу на аэродроме Блерио в Бюке на моноплане «Блерио-Гном» 50 HP описал в воздухе гигантскую кривую, напоминающую французскую букву «S», в течение 45 секунд. При этом опыте летчик некоторое время летел вниз головой.
8-го сентября (21-го) 1913 года Пегу во время публичных полетов в Бюке впервые совершил полет по замкнутой кривой в вертикальной плоскости. А затем 13, 20, 22 и 25 сентября 1913 года Пегу проделывает ряд мертвых петель, последовательно увеличивая их количество. Эти даты легко проверить в специальных органах по воздухоплаванию.
Официально запротоколированная мертвая петля П. Н. Нестерова совершена в Киеве 27 августа (9 сентября) 1913 года. Отсюда ясно, что первенство в совершении этого опыта неоспоримо принадлежит военному летчику штабс-капитану П. Н. Нестерову…
Намеренное умалчивание об этих исторических датах особенно характерно для французской печати и служит лучшим доказательством того, что в руках последней не имеется официального документа для подтверждения первенства Пегу».
Многие газеты напечатали письмо, подчеркивая, что это неоспоримый документ.
Петра Нестерова поддержал отец русской авиации профессор Николай Егорович Жуковский. В научно-техническом комитете Киевского общества воздухоплавания Петру Николаевичу вручили золотую медаль с изображением самолета «на петле» и надписью: «За первое в мире удачное решение, с риском для жизни, вопроса об управлении аэропланами при вертикальных кренах».
Но некоторые, даже русские, газетки продолжали прямо писать или намекать, что Нестеров лишь «повторил головоломный трюк французского авиатора», или утверждали, что им сделана не петля, а всего лишь фигура, похожая на «полупетлю».
Русские авиаторы ждали, а больше всех, наверное, сам Петр Николаевич Нестеров, что по «спорному вопросу» в печати выступит сам Адольф Пегу, его авторитет как летчика в мире был велик. Но Пегу молчал. Он продолжал летать, удивляя публику виртуозностью своей техники пилотирования. Его акробатику в небе наблюдал даже Алексей Максимович Горький. В письме к сыну он писал:
«(Мустамяки, май 1914 г.)
…Был я на полетах Пуарэ и Пегу. Хорошо летает Пуарэ, хорошо — Раевский, но Пегу — это нечто совершенное, и дальше этого, мне кажется, некуда идти! Летает он совсем как ласточка или стриж, а ведь полет этих птиц самый быстрый, сложный и легкий в смысле легкости и умения пользоваться воздушными течениями и преодолевать их. Его «мертвые петли» совсем не вызывают страха за него — так они естественны и ловки! Он делает их по десятку сразу, он летает вниз головою, кверху колесами аппарата, — этого даже и птицы не могут сделать! Все, что делает он, возбуждает чувство безграничного уважения к смелости человека, чувство крепкой уверенности в силе разума и науки — единственной силе, которая способна одолеть все препятствия на пути людей к счастью, к устройству на земле иной, новой, легкой жизни! Он летает в двух метрах над головами публики; направит аппарат прямо на трибуны и — вот-вот обрушится на людей, наскочит на крышу, но в сажени расстояния вдруг ставит аппарат на хвост и — взмывает вверх! Это изумительно и потрясает, радует до слез, серьезно!
Он страшно веселый, живой, сидит в машине и все время болтает, поет, размахивает руками — удивительная птица. Вот когда я поверил, что человек действительно выучился летать, действительно победил стихию — воздух, как победил огонь!
Удивительно хорошо на душе, когда смотришь на таких смелых людей! Веришь, что человек — все может, что, если он хорошо захочет, — он своего достигнет!
Когда Пегу будет летать в Москве — ты обязательно иди смотреть и тащи мать с собою…»
И Адольф Пегу, совершавший гастрольную поездку по всей Европе, в том же мае 1914 года приехал в Москву.
На всех улицах висели красочные афиши, извещавшие о том, что «король воздуха» прочитает несколько докладов о своих фигурных полетах и ознакомит столичную публику с высшим мастерством воздушной акробатики.
Первый доклад состоялся 14 мая в Политехническом музее. Адольф Пегу, рассказывая о фигурных полетах, ни разу не упомянул Нестерова. Многих это расстроило, и в президиум собрания, профессору Жуковскому, передали записку:
«В зале находится Петр Николаевич Нестеров».
Жуковский показал ее Пегу и, встав, пригласил штабс-капитана Нестерова занять место в президиуме. Зал на мгновение притих, но потом взорвался аплодисментами, потому что, как только Нестеров приподнялся с места, Пегу стремительно сбежал с трибуны и, взяв штабс-капитана за руку, буквально потащил на сцену, посадил на свое место в президиуме, воскликнув:
— Я считаю недостойным выступать с докладом о «мертвой петле» в то время как здесь присутствует ее автор. Ему должно принадлежать почетное слово!
И Нестеров рассказал о второй «петле» и других экспериментальных полетах.
По окончании выступления Пегу, перекрывая бурные звуки овации, дважды прокричал:
— Браво, браво, Нестерофф!
Летал в Москве Адольф Пегу прекрасно, но еще больше он восхитил русских людей тем, что в одной из статей, помещенной на первых страницах газет, признался, что решился сделать «мертвую петлю» на «Блерио-Гноме» лишь после того, как прочитал в газете о «петле Нестерова», и решился не сразу, а лишь спустя несколько дней после публикации.

Алексей Максимович Горький не ошибся в оценке французского летчика, в письме к сыну отдавая Пегу должное и называя его человеком, достойным «безграничного уважения».
Русский лётчик
Жить—
значит действовать.
А. Франс
Всего невыносимей
для человека покой,
не нарушаемый ни страстями,
ни делами,
ни развлечениями,
ни занятиями.
Тогда он чувствует свою
ничтожность, заброшенность,
несовершенство, зависимость,
бессилие, пустоту.
Б. Паскаль
По пустынной дороге из Парижа в южный городок Этамп катился дилижанс, покачиваясь с боку, на бок на мягких рессорах. В глубине объемной кареты, среди немногочисленных пассажиров-французов, у окна сидел молодой человек из России — Александр Александрович Кузьминский. Мимо окна бежали раскидистые зеленые кроны каштанов, и это неторопливое мелькание цветных пятен, плавный ход дилижанса настроили Александра на воспоминания. Всплыли в памяти слова отца: «Оставить прекрасную службу — абсурд! Ты еще пожалеешь, Саша».
Да, должность чиновника особых поручений при министре финансов была интересной и в перспективе давала выход на дипломатическую работу, но Александр Кузьминский отказался от нее, решив стать летчиком. Увидев однажды на Коломяжском ипподроме аэроплан «Блерио» и полеты на нем француза Гюйо, иной судьбы он не желал. Все журналы и газеты мира, даже предназначенные только для женщин, были заполнены новостями о постройке новых воздухоплавательных и крылатых аппаратов, о первопроходцах Неба, о «рыцарях без страха и упрека». И каждая такая новость будоражила мысль, толкала к размышлениям о своем собственном «я». Эта мысль в полуфантастическом мире надежд, открытий и героизма, звала к действию, если ты не равнодушный, если чувствуешь в себе силы к дерзанию.
Самое бурное развитие авиации началось на французской земле. В ста восьмидесяти километрах к северу от Парижа в городке Мурмелон ле Гран обосновались летная школа братьев Вуазенов, школа «Антуанетт» и заводы Левассера, школа и аэропланные мастерские братьев Фарман. Но не сюда ехал Александр Кузьминский. Он был поклонником знаменитого летчика и конструктора Луи Блерио, его красивых, изящных и легких монопланов. Ехал он не на север от Парижа, а на юг, в городок Этамп, где располагалась одна из школ его кумира. Там он научится летать и получит из рук самого Блерио, национального героя Франции, голубой «Бреве» — удостоверение пилота-авиатора… Мечты, мечты. Чтобы вот так подумать, помечтать, и выбрал Александр тихоходный, отживающий свой век дилижанс, предпочтя его железной дороге.
1. Школа Блерио
Кони сами остановились у скромной «Гостиницы трех королей». Номер для Кузьминского был заказан, и вскоре он очутился на втором этаже в просто обставленной, но чистенькой комнатке под номером 16. Стол, несколько мягких стульев, диванчик и широкая деревянная кровать — вот и вся мебель. В углу у двери — умывальник. Над ним зеркало. Александр увидел в нем лицо русоволосого мужчины, чуть бледное после долгой дороги. Резко очерченные крылья бровей, прямой нос, мягкие темные усики над чуть выпуклой губой ему понравились, и он поздравил сам себя:
— С приездом в «гнездо летающих»!
Сменив дорожный костюм на легкий фланелевый, он поспешил на аэродром. Довольно долго шел пешком в указанном ему направлении, и вот взору открылось огромное ровное поле, у кромки которого стояли три дощато-полотняных ангара, укрывавшие учебные аппараты Блерио. В одном из ангаров он нашел господина Коллэна — заведующего летной школой (он же был инструктором) — и увидел несколько человек в кожаных фартуках, ремонтирующих поломанный аэроплан. Кузьминский представился Коллэну, тот познакомил его с «рабочими», ими оказались два француза, немец, итальянец, американец — такие же ученики, как и сам Кузьминский.
— Оу, — указал пальцем на заходящее солнце Коллэн. — Заканчиваем. Побеседуем за ужином в «Трех королях».
Выкидывая вперед длинные сухие ноги, обтянутые твидом, заведующий школой направился к грузовику, за ним, молча, пошли все.
Разговор за ужином был примечательным. Немногословный Коллэн спросил Кузьминского:
— Вы, мсье, надеюсь, заказали аппарат?
— Да. В вашей парижской мастерской.
— И конечно, внесли две тысячи франков за учебу и три тысячи гарантийных, на случай поломок аппарата по вашей вине?
— Непременно.
— Не соизволите ли показать контракт и квитанцию?
— Пожалуйста.
Внимательно прочитав, что было написано на голубоватых листах с фирменными знаками, Коллэн довольно хмыкнул.
— Завтра же начинаю вас учить. Через месяц будете птицей.
Француз, сидевший рядом с Кузьминским, довольно громко сказал по-русски:
— Будет учить, хотя сам летать не умеет.
Кузьминский с удивлением посмотрел на него, но
француз успокоил, пояснив, что уважаемый патрон совсем не понимает русского языка и по характеру не обидчив.
После ужина, вернувшись в номер, Александр Кузьминский достал из саквояжа толстую тетрадь и пометил на первой странице: «Записки». Через несколько дней в тетради появились такие строки:
«…Каждое утро в 4 часа мы во главе с Коллэном отправлялись на аэродром в грузовом автомобильчике. По приезде на поле нас сажали по очереди на аппарат и заставляли кататься на передних колесах по земле. В первое время аппарат никак не хотел бежать по прямой линии, а начинал крутиться вокруг своей оси. Эта «карусель» приводила нас в отчаяние. Она всегда сопровождалась какой-либо поломкой. Коллэн давал нам в смысле пилотажа самые туманные указания. Лишь на пятый урок мне удалось совершенно случайно уловить правильное движение ножным рулем. Через полчаса после первого удачного полета я, гордо подняв хвост аппарата, уже мчался по всему полю.
На следующий день я опять-таки ощупью, инстинктивно потянул на себя руль глубины и незаметно для себя отделился от земли. Очутившись в воздухе метров на 15 высоты, я испугался открывшегося широкого горизонта. Земля как будто убегала из-под меня. Я грубо наклонил руль глубины и тотчас врезался в землю, поломав весь перед аппарата. Учение пришлось временно прекратить».
Александру Кузьминскому пришлось платить за ремонт аппарата и почти десять дней оставаться не у дел. За это время он съездил в Париж, посетил отель «Брабант» на Больших Бульварах — своего рода штаб-квартиру русских авиаторов, «русский аэроклуб». Познакомился с Ефимовым, капитаном Мацкевичем и присяжным поверенным Васильевым, пожелавшим учиться вместе с ним в Этампе. Вдоволь наговорился Кузьминский с новыми знакомыми. Некоторые из них тоже учились у Блерио, только в другой школе. Они досадовали: за каждую поломку аэроплана должны платить сверх огромной суммы за обучение, в то время как аппараты изношены донельзя. И учат пилотажу из рук вон плохо.
Александр узнал много новостей. Порадовало, что в России создано новое ведомство «Отдел воздушного флота», что великий князь Александр Михайлович оставшиеся от пожертвований на восстановление погибшего под Цусимой и в Порт-Артуре русского флота 900 тысяч рублей предложил использовать на создание воздушного флота. Однако при открытии «Отдела воздушного флота» князь в своей речи поставил задачи перед русскими авиаторами с потрясающей близорукостью.
«…Пуще всего комитету не следует увлекаться мыслью создания воздушного флота в России по планам наших изобретателей и непременно из русских материалов, — сказал он. — В науке нет и не может быть места дешевому патриотизму… Комитет нисколько не обязан тратить бешеные деньги на всякие фантазии только потому, что эти фантазии родились в России». Князь предложил не строить русские аэропланы, а пользоваться изделиями Райта, Сантос-Дюмона, Блерио, Фармана, Вуазена…
— Вы, Александр Александрович, племянник писателя графа Толстого? — в разговоре поинтересовался Ефимов.
— Нет, — ответил Кузьминский, — я племянник его жены Софьи Андреевны.
— А почему вы решили стать авиатором?
— Увидел полет аэроплана и…
— Понятно, — улыбнулся Ефимов. — Ну и как реагировали на ваше решение родители?
— Родители терпимо, а вот родственники вздыхают и сейчас: «Бедные старики Кузьминские, у них три сына, а четвертый — авиатор!»
— И писатель Толстой тоже так думает?
— Нет, Лев Николаевич отнесся к моему увлечению заинтересованно. Как только выучусь, обязательно полетаю перед ним, обещал.
— Сказано — сделано! Покажите ему аэроплан. Только почему вы решили летать на «Блерио»? Аппараты очень неустойчивы.
— Похожие на летающие ящики «Фарман» и «Вуазен» не прельщают меня. «Райты» слишком громоздки и сложны в управлении.
— Может быть, вы и правы, — согласился Ефимов. — Последняя модель гоночного «Блерио-11-бис» хороша. Но я пока предпочитаю более надежный «Фарман». На нем выступлю и в Реймсе на авиационных состязаниях…
Александру очень пригодились советы Ефимова, данные в отеле «Брабант», ведь Михаил Ефимов уже работал в школе Фармана инструктором, обучал в Этампе военных летчиков Франции.
Научившись уверенно рулить по земле и разбегаться по прямой, Александр добавлял еще газу и отрывался от земли. Потом сажал аппарат, с каждым полетом все более и более «чувствуя» землю. Возрастала уверенность. Подлеты становились выше и выше. Но пока он летал только по прямой, избегая поворотов в воздухе.
Вечером, возвращаясь в «Гостиницу трех королей», поужинав и немного отдохнув, он не раз перечитывал подаренный ему земляками в «Брабанте» журнал 1909 года, точнее, опубликованный в нем рассказ Герберта Уэллса «Большой жаворонок». Казалось, что рассказ будто о нем, Александре Кузьминском, во всяком случае, отдельные абзацы точно передавали его думы и чувства. Такие места в рассказе Александр подчеркнул.
«Я хорошо бегал и плавал, — писал Уэллс от имени своего героя, — …носил одежду только из шерстяной ткани и неизменно придерживался самых крайних взглядов во всем и по любому поводу. Пожалуй, ни одно новое веяние или движение не обходилось без моего участия… Естественно, что, как только начался авиационный бум и всем захотелось летать, я был готов ринуться в самое пекло… Что это было за время! Скептики, наконец, согласились поверить: человек может летать… О, радость свершения!.. И дрожь на пороге безрассудно смелого поступка…»
Далее Уэллс описывал своего героя, первые полеты его. Читая эти места, Александр смеялся: выдуманный писателем авиатор так был похож на него, молодого Кузьминского.
«Я очень старался держаться, скромно, но не мог не ощущать всеобщего внимания. Отправляясь на прогулку, я случайно забыл переодеться. На мне были бриджи и краги, купленные специально для полетов, а на голове — кожаный шлем с небрежно болтавшимися |ушами», так что я мог слышать все, что говорилось вокруг.
…Взлетев, я ощутил легчайшее вздрагивание аэроплана. Пилотировать оказалось намного труднее, чем представлялось: мотор оглушительно ревел, а штурвал вел себя как живое существо — он упрямо сопротивлялся намерениям человека… Я был так поглощен нырками и рывками чудовища, которое пилотировал, что почти не обращал внимания на происходившее на земле… Мой аппарат двигался вперед и вверх как-то волнообразно: так колышется при ходьбе дородная, но очень темпераментная дама.
Пронесся, цепляясь за макушки деревьев, вздохнул с облегчением и… понял, что мотор останавливается. Времени на выбор места для приземления уже не было, возможности свернуть тоже… Луг давал единственный шанс приземлиться, а не грохнуться. Я воспользовался им, круто пошел на снижение и проделал все от меня зависящее. Вопрос стоял так: либо я сажаю аппарат на пасущихся свиней и сокращаю длину пробега по земле, либо, перелетев их, с разгона врезаюсь в свинарники из гофрированного железа. От меня осталось бы мокрое место, а у всех свинок конец известен и неизбежен.
Мы остановились… Воздух звенел от визга двух свиней, которых подмял аппарат, и негодующих криков зевак…»
Тренировки продолжались. Александр Кузьминский спешил: таяли деньги, полученные от родителей на проживание в Париже и покупку аэроплана. Практически не освоив еще как следует моноплан «Блерио», он вызвал из Парижа комиссаров аэроклуба, заявив, что хочет получить «Бреве» — документ, подтверждающий его летную квалификацию и дающий право участвовать в любом состязании авиаторов.
Надо сказать, что комиссары были не очень придирчивы. Поглядев на три пятиминутных полета Кузьминского по кругу, они вручили вновь испеченному авиатору-спортсмену желанный документ и «разорили» его на торжественный банкет по этому случаю. Правда, расходы он делил с Александром Васильевым — тот тоже получил «Бреве».
На банкет приехал сам Луи Блерио, поздравил русских с благополучным окончанием школы.
Радостный Кузьминский на другой же день вместе с Блерио, на его автомобиле, отправился в Париж за получением собственного аппарата, который был заказан месяц тому назад.
И тут разочарование, больше того — удар.
Возвращая поданный Кузьминским чек, представитель фирмы сообщил:
— Очень сожалею, мсье, но за прошедший месяц наши аппараты вздорожали. Простите, жесткая конкуренция. Вам следует доплатить еще четыре тысячи франков.
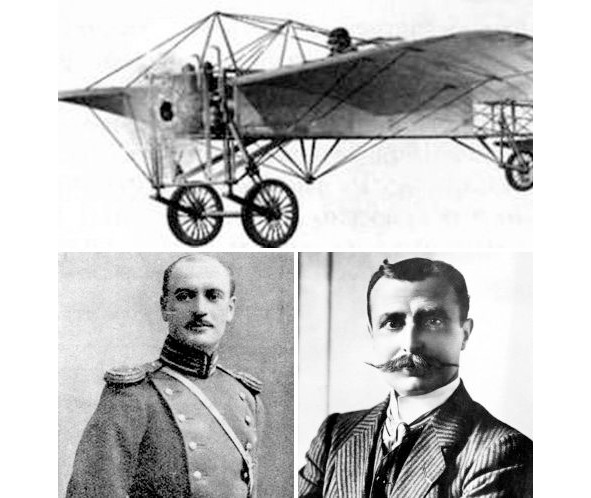
В этот день Кузьминский записывает в дневник:
«…Что делать? Ждать помощи неоткуда. И я решил испытать судьбу.
Отправившись вечером в казино, я сел играть в карты. Всем существом своим, всеми нервами своей души я желал выигрыша. От этого ведь зависело возвращение в Россию со своим аппаратом. Судьба вынесла меня. Мне сразу повезло. Я все время выигрывал, кучка кредитных билетов передо мною непрестанно росла, и, когда я через час игры сосчитал деньги, у меня оказалось 4300 франков чистого выигрыша. Я встал, спрятал деньги в карман и, как ни странно, подавленный впечатлениями вечера, тихо вышел из зала…»
Следующая неделя прошла в хлопотах. Нужно было найти механика, хорошо знавшего конструкцию аэропланов «Блерио», их эксплуатацию и согласного поехать н Россию. Такого умельца-француза Александр Кузьминский нашел при помощи посредников из фирмы Блерио. Они же, заинтересованные в популяризации своей продукции, предлагали авиатору заключить контракты на полеты в разных государствах Европы. Кузьминский отклонил предложения.
— Первые свои полеты я покажу на родине, — сказал он. — Я приглашен Всероссийским аэроклубом на первый Всероссийский праздник авиации, который состоится в сентябре на аэродроме «Крылья» в Петербурге. Туда и поеду.
Разобранный на части и запакованный в ящики аэроплан отправили малой скоростью из Парижа в Россию.
С немалым грузом всевозможных книг по авиации и воздухоплаванию, журналов, рукописных лекций отбыл на родину и Александр Кузьминский.
2. На родине
Александр Кузьминский приехал в Петербург в середине июля и сразу отправился в Тулу, в Ясную Поляну, где у Льва Николаевича Толстого гостили его родители.
Запомнился ему разговор с графом.
— Любопытно мне, Саша, как тебя учили французы?
— Больше приходилось полагаться на себя, Лев Николаевич. — И Кузьминский красочно поведал о школе Блерио. — Однако французы — очень гостеприимная нация.
— Хорошо, что ты можешь видеть в них все доброе, нынче это редкость… Ну, а как видится наша землица сверху? И когда поднимаешься вверх, не страшно ли?
— За сердце берет, Лев Николаевич, но приятно. Ощущаешь себя с крыльями. Признаться, я еще не очень на «ты» с аэропланом, но решил участвовать на аэродроме «Крылья» в авиационном празднике и посоревноваться с самим Ефимовым.
— Слыхал, слыхал про такого летуна. Дерзок… Должен сказать, что предмет этот меня мало интересует. Думаю о тебе. Для тебя важно научиться летать хорошо, а ты сразу в соперничество. Подумай, может, взгляд на вещи переменится? Многих беда, что делать нечего, вот и дерзят.
— Тогда с богом! Если у тебя там в Петербурге будет чесаться ухо, знай, это мы думаем о тебе.
— Праздник должен быть очень интересным, может быть, соизволите поехать, посмотреть?
— Уволь, Саша, очень уж чист, и самоуверен, и подл, и гадок ваш Петербург.
— Тогда после праздника я приеду сюда, в Ясную Поляну, с аппаратом и покажу, как он летает.
— Смотри, выполни обещание. Мне, старику, за восемьдесят, но, к стыду своему, ничего подобного не видел…
Всероссийский праздник воздухоплавания проходил на Комендантском поле под Петербургом с 8 по 30 сентября 1910 года.
Моросит дождь. Холодно. На новооборудованный аэродром приезжают авиаторы, воздухоплаватели.
«В еще недостроенной столовой собираются гости, — сообщает газета „Новое время“. — Их сравнительно немного. Обращают на себя внимание авиаторы Ефимов, Лебедев, Уточкин, Сегно, Руднев, Кузьминский, капитан Мациевич, подполковник Ульянин — весь цвет русской авиатики. Рядом с ними скромно жмутся завтрашние ученики: полковник Одинцов, поручик Виктор Верченко… Ефимов — этот пока лучший русский летун — держится скромно. Глядя на него, вряд ли кто скажет, что этот человек затмевал славой Полана. Уточкин наиболее „авиационен“. Знаки внимания принимает спокойно. Самый юный — Кузьминский. Полтора месяца назад получил диплом, а теперь надеется посостязаться даже с Ефимовым…»
В празднике участвовало одиннадцать летчиков и немало воздухоплавателей. Зрелище для петербуржцев было потрясающее. Небо расцветилось змейковыми аэростатами и воздушными шарами. Один из взявших старт аэростатов провел в воздухе 40 часов и приземлился у Азовского моря. Второй — с воздухоплавателем Срединским и инженером Рыниным в корзине — долетел до города Саратова на Волге. С третьего аэростата совершил парашютный прыжок пионер этого «опасного вида спорта» Древницкий.
Но самые значительные достижения были все-таки у авиаторов. Михаил Ефимов получает призы за полеты в сильный ветер и подъем наибольшего груза. Он же завоевывает первый приз морского ведомства за точность посадки на условную палубу корабля. Пробует Ефимов и впервые пикировать на гоночном «Блерио». Впервые в мире Ефимов летал в сильном тумане, а вместе с Мациевичем они пилотировали аэропланы при полной темноте. «Причем, — как отмечает журнал „Воздухоплаватель“ №10 за 1910 год, — Ефимов летал (ночью. — В. К.) с двумя пассажирами».
Были установлены первые русские рекорды высоты и в полетах по маршрутам. Друг Александра Кузьминского, морской лейтенант Пиотровский совершил с пассажиром первое в России воздушное путешествие над морем с Петербургского аэродрома в Кронштадт. А по окончании праздника поручик Руднев на «Фармане», тоже с пассажиром на борту, пролетел 60 верст до Гатчины — «это был первый в России перелет военного летчика на такое расстояние».
К сожалению, Александр Кузьминский видел только начало праздника. Ему не повезло на второй же день. Взлетел Ефимов, за ним — другие. Пошел к своему «Блерио» Кузьминский. На каждом шагу его задерживали и отвлекали знакомые и незнакомые люди, в огромном числе допущенные администрацией на аэродром. Одна из дам вручила ему красную розу. Досаждали газетчики и фоторепортеры. Наконец Кузьминский добрался до аппарата, залез в кабину, но сосредоточиться никак не мог. Время подпирало, и нужно было идти на взлет.
Кузьминский, прогрев мотор, махнул рукой людям, державшим за крылья аэроплан: «Отпускай!» — и взмыл в воздух. Он летал, делая широкие круги над аэродромом. Пора было заходить на посадку. Метров за 300 пролетев над трибунами, откуда его приветствовали зрители, он вдруг почувствовал, что мотор аэроплана «слабеет». И тут только вспомнилось, что в суете перед взлетом он забыл сделать обязательное: накачать помпой масло в масленку. Схватился за рукоятку помпы, но было уже поздно — мотор заклинил. Кузьминский из-за малого опыта не отдал вперед рычаг управления, и «Блерио», потеряв скорость, начал падать листом. Пилота в кабине бросало из стороны в сторону, он чуть не выпал. Инстинктивно Кузьминский толкнул руль управления от себя, и аппарат перешел в планирование. Но скорости для нормального полета все же не хватило, и «Блерио», клюнув носом, с высоты 30—40 метров отвесно врезался в землю. Кузьминского выбросило из аэроплана.
«Очнулся в клинике, — пишет он. — Выбиты все верхние зубы, повреждена челюсть, совершенно свернут нос, разбита коленная чаша, сложный перелом правой руки. Восемь месяцев я пролежал в клинике. Все искусство современной хирургии было употреблено для того, чтобы поставить меня на ноги. Несмотря на исключительные заботы профессора Павлова и Тиллингера, я выбыл из строя. Единственным утешением в моем горе служили соболезнования, полученные мною из всех концов России и из-за границы. Палата моя от присланных цветов превратилась в оранжерею. Всероссийский праздник авиации продолжался без меня».
Наведывались в палату Кузьминского авиаторы и воздухоплаватели. Михаил Ефимов, узнав, что молодой Кузьминский обещал показать полеты Льву Николаевичу Толстому, предложил писателю свои услуги. Но, удрученный катастрофой, происшедшей с племянником жены, а также гибелью капитана Мациевича на этом же празднике, Лев Николаевич не хотел и слышать о полетах. Он сказал:
— Люди не галки, им и нечего летать!
Александр Кузьминский выписался из клиники в конце апреля 1911 года. Всегда доброго к нему Льва Николаевича Толстого уже не было в живых. Александр думал о своей дальнейшей судьбе. И когда полностью оправился от ран, полученных при катастрофе, поехал смотреть остатки своего аэроплана. Вид обломков аппарата, кучей наваленных в сарае, привел его в уныние. Даже о капитальном ремонте не могло идти речи. Был разбит и мотор. Правда, его заржавленные части можно было привести в порядок, вышедшие из строя агрегаты прикупить, но стоило ли это делать, если тип мотора к этому времени устарел и морально.
— Папа, мне нужны деньги на новый самолет, — обратился Кузьминский к отцу.
Неизвестно, какой разговор произошел между ними, но, видимо, отец, опытный финансист, все же что-то посоветовал неугомонному сыну. Это видно из его записок:
«…Проведя месяца два в этих хлопотах, добыв правдами и неправдами нужные деньги, я двинулся в Париж. Снова Блерио, снова разговоры, споры, торги, и, в конце концов, я оказался обладателем великолепного нового аппарата последнего типа с новеньким, только что вышедшим с фабрики мотором «Гном».
Вернувшись в Петербург, Кузьминский предпринял целый ряд полетов по провинции с целью популяризации авиации среди населения.
Обычно, приезжая в тот или иной провинциальный городок, Александр Кузьминский давал объявление в местной газете, а если таковой в местечке не было, вывешивал на площадях афиши, извещавшие о лекции и последующих за ней полетах. В указанный день полета почти все население собиралось на выбранном поле или ипподроме. С наскоро построенной трибуны авиатор читал лекцию, затем шел к аэроплану, сопровождаемый восторженными криками толпы. Особый восторг вызывал тот момент, когда крылатый аппарат отрывался от земли. Потом наступала тишина: тысячи глаз следили за каждой эволюцией аэроплана в небе.
«Самой опасной минутой во время полетов, — вспоминает летчик, — была минута спуска на землю. Обезумевшая публика, прорвав оцепление, бросалась к аппарату, чтобы выразить свой восторг. Только отчаянный мой крик и безумное махание руками спасали аппарат от разгрома».
Многие просили покатать их, особенно женщины, но авиатор вынужден был отказывать, так как его аппарат «Блерио» был одноместным.
Уже после полетов, окруженный плотно стоящими людьми, отвечая на их вопросы, Кузьминский как бы продолжал лекцию об авиации. Рассказывал о Попове, Ефимове, Уточкине, военных летчиках, которым не разрешалось летать перед публикой. О русских авиаконструкторах Гаккеле, Кудашеве, Делоне, Сикорском, Ульянине, о кавказцах Шиукове и Тереверко, которым, к сожалению, не оказывают материальной поддержки. О гибели капитана Мациевича, который стал «первой жертвой русской авиации». О своих планах полетов над городами Сибири и Дальнего Востока, «там, где еще никто не летал». Рассказывал и о своей аварии, которая дала ему понять, что к полетам надо готовиться очень серьезно, много знать, хорошо разбираться в технике. Горожане внимательно слушали мужественного летчика со шрамами на лице, иногда спрашивали:
— А трудно ли было после катастрофы заставить себя вновь подняться в небо?
Обычно Александр Кузьминский отвечал словами известного в авиационном мире Леона Делагранжа, первого летчика-гастролера:
— Аэроплан — это новый мир. Когда вы несетесь на нем в небесах, чувствуете себя отрешенными от всего земного, ничтожного и живете в этот момент чистой и ясной жизнью. Кто это испытал на себе, тот уже не в силах отказаться от полетов!
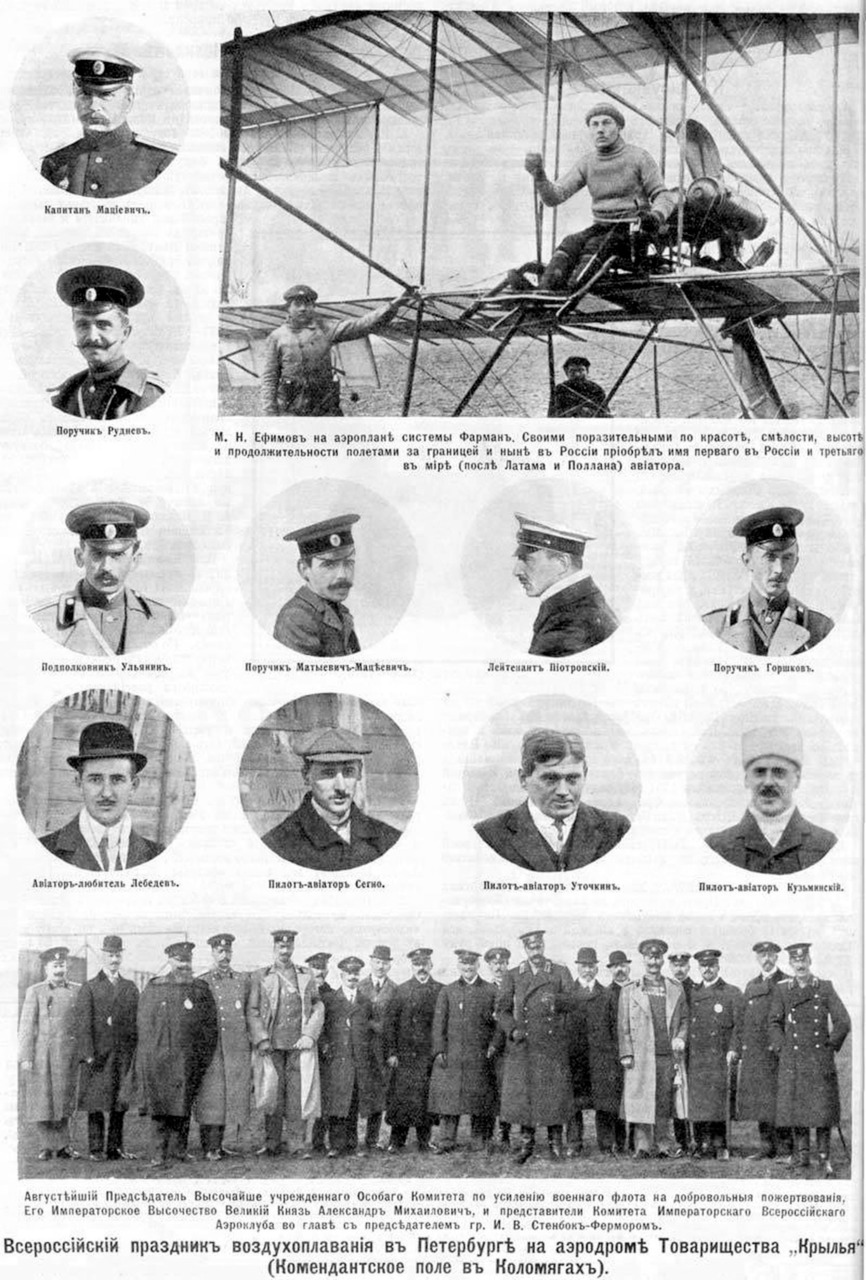
3.Там, где никто не летал
Ранней весной 1912 года, простившись с Петербургом, Александр Кузьминский с двумя механиками, Лефевром и Хмарой, и бывшим оперным артистом Григорием Шишкиным, погрузив разобранный «Блерио» в железнодорожный вагон, отправились в путь по намеченному маршруту на Дальний Восток.
Первыми полеты Кузьминского увидели горожане Пензы. Потом он летал над Волгой в Самаре. Выбросил в реку на парашютике «золотую рыбку», сделанную из медной фольги предприимчивым механиком Хмарой. Целая флотилия лодок помчалась к месту, где нырнула «рыбка», но найти ценный сувенир не смогли, он утонул вместе с батистовым куполом.
«Проезжая через Златоуст и Миасс, — с гордостью записывает Кузьминский, — я получил приглашение от местных заводов показать рабочим полеты. Я, конечно, согласился. Полет так понравился рабочим, что они просили меня остаться еще на один день и прочесть им популярную лекцию о возникновении авиации, ее современном прогрессе и о достижениях в этой области за границей. Я остался и был вознагражден исключительным вниманием слушателей к моей лекции. Они тепло и радушно проводили меня, пожелав мне на прощание успеха в будущем. Я продолжал свой путь».
На все полеты молодого авиатора продавались билеты, и довольно дорогие. Этим занимался Григорий Шишкин, отвечающий за рекламу, организацию полетов, выполняющий все хозяйственные обязанности. А вот перед рабочими Златоустовских заводов Кузьминский выступал бесплатно.
«Приамурские ведомости» сообщили, что в небе Хабаровска «Блерио» Александра Кузьминского появился 23 августа 1912 года. Несмотря на будничный день, невиданное зрелище собрало массу народа. Ровно в 5 часов вечера самолет плавно поднялся в воздух и описал два больших круга над головами восторженно аплодирующей публики.
После приземления Александр Кузьминский рассказывал присутствующим о воздухоплавании, авиационных новинках, раздавал автографы.
Механики, француз из Мурмелона Леон Лефевр и украинец Хмара, «объясняли» всем желающим конструкцию самолета на русском и французском языках. Антрепренер Шишкин лично подводил к самолету высокопоставленных особ из городской знати, по пути знакомя их с биографией летчика и рассказывая о его родственных связях с семьей писателя Льва Николаевича Толстого. Он показывал искусно сделанные фотографии полетов, которые всегда носил при себе, а также не забывал состоятельным людям вручить подписной лист для пожертвований в пользу русской авиации и воздухоплавания.
Полеты Кузьминского на Дальнем Востоке широко афишировались. Первый самолет в родном небе смогли увидеть жители не только Хабаровска, но и Благовещенска, Уссурийска, Владивостока.
Во Владивостоке Кузьминский чуть не лишился своего самолета. Талантливый самоучка, механик Иван Хмара, который в записках авиатора характеризуется как «типичный искатель приключений», решил, что он, спортсмен-мотоциклист и знаток мотора и аэроплана, тоже может полететь. Залез в кабину, дал газ и пошел на взлет. Но аппарат «Блерио» был очень капризен при выдерживании прямой на разбеге. И аэроплан не подчинился Хмаре, пошел влево, потом закрутился на месте. Хорошо, что отделались только поломкой колеса, которое сам же Хмара, прощенный Кузьминским, отремонтировал за полдня.
Когда антрепренер Шишкин «подсчитал кассу», то радостно возвестил всей авиагруппе, что они «финансово преуспели» и могут продолжать задуманное дерзкое путешествие по Юго-Восточной Азии.
Александр Кузьминский обратился за содействием к губернатору Владивостока, попросив его побыстрее согласовать с правительством их вояж в Китай.
Разрешение было получено, когда русский летчик показывал свое летное искусство в небе Харбина…
4. Дерзкое путешествие
Подобно тому как эллины полагали, что «пуп Земли» находится в Дельфах, так и древние китайцы называли район своего расселения «Чжунго», то есть Срединным царством.
Город Мукден встретил группу Кузьминского несусветной жарой и тучами мошкары, которые принес знойный ветер с южных болот. Григорий Шишкин проявил чудеса предприимчивости, и вскоре ящики с частями самолета были выгружены, надежно укрыты, сами же авиаторы получили просторные комнаты в одном из старых дворцов на восточной окраине города.
Освежившись водой из бассейна, Александр Кузьминский облачился в свой лучший костюм и в сопровождении важного, толстого офицера отправился к наместнику Маньчжурии Джаерь-Сюну просить разрешения на полет.
Джаерь-Сюн, очень тепло приняв летчика, дал согласие на полеты и отвел для них военный плац в самом центре города, при этом оказав:
— Ничего не бойтесь, здесь люди не такие горячие, у нас ведь не светит кантонское солнце.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
