
Бесплатный фрагмент - Вместо романа
Другой дневник
Личным дневником сегодня вряд ли кого удивишь. С тех пор, как для большинства Интернет из диковинки превратился в повседневную реальность, летопись собственной жизни не ведут только совсем уж ленивые или патологически закрытые люди. Фрагмент за фрагментом они тут же выкладывают ее в сеть и, что самое забавное, находят там немало читателей и почитателей. Впрочем, блоги и живые журналы развивают лишь один из форматов личных записей, сформировавшихся в европейской культуре за последние столетия — дневник как фиксацию внешних событий жизни.
Книга, которую вы держите в руках, выросла из дневника другого рода. Автор начал вести его в 27 лет, пытаясь разобраться в самом себе и отчасти следуя примеру Льва Толстого и старшего брата. В свой блокнот он старался записывать только те факты, мысли и эмоции, которые ощутимо влияли на его мировосприятие. Почти сразу дневник стал внутренней лабораторией молодого человека, в которой шла напряженная работа по осмыслению своего отношения к близким и окружающему миру. Допуск к нему, кроме автора, имел только один человек — старший брат Илья (Илик).
Лазарь Соколовский вел свои записи, с перерывами, более полувека. А когда перечитал, понял: в его личном дневнике отобразился целый пласт жизни интеллигенции Советского Союза. Выбрав наиболее характерные, с этой точки зрения, фрагменты, он решил их обнародовать.
Итак, перед нами — реальная история человека, который родился за несколько месяцев до Великой Отечественной войны. Впрочем, многие значимые события его жизни в дневнике остались как бы «за кадром», а потому имеет смысл вкратце их перечислить.
Лазарь Соколовский вырос в Москве в семье инженера, изобретателя, обладателя нескольких десятков патентов, руководителя конструкторского бюро. Еще в средней школе он на себе почувствовал противоречие между официально насаждаемой доктриной коммунистического интернационализма и равенства возможностей — и негласным антисемитизмом, который в СССР был частью политики ограничения в правах всех тех, кто не мог похвастаться пролетарским происхождением, зато имел солидный культурный багаж, отсутствовавший у тогдашних вождей. Окончив школу с серебряной медалью и еще не зная, чему посвятить себя во взрослой жизни, он решает сначала оглядеться, одновременно с этим материально поддержать семью и узнать реальную действоительность, для чего идет на завод, где проходил учебную практику. На 6 лет он становится рабочим, что было важным этапом его становления, поначалу наивно пытаясь «разбудить пролетариат», а затем постепенно впитывая знание о том, как и чем живет настоящий, а не придуманный пропагандой и официозной литературой народ.
После окончания в середине 60-х годов заочного филфака пединститута Лазарь Соколовский стал искать свое место в мире, который был очень далек от идеалов романтика, стремящегося не просто жить для себя, а трудиться на благо всего общества. Молодой человек питался подлинным искусством, писал стихи и был готов стать глашатаем истины, в которую верил, однако никак не мог понять, каким образом осуществить эту мечту. Несколько лет он работал редактором в медицинском издательстве и референтом в НИИ, пытаясь освободить как можно больше времени для творчества. Именно в это время он и начинает вести свой дневник.
Однако жизнь вскоре убеждает его, что профессиональным литератором в СССР можно стать, лишь поддерживая казенную идеологию. И тогда, наперекор материальным интересам уже появившейся семьи, Лазарь Соколовский становится учителем русского языка и литературы в обычной московской школе. Так он начинает многолетнюю деятельность по просвещению юного поколения страны, передавая ему свои взгляды на культуру и общество. А через пару лет обретает надежную пристань в школе рабочей молодежи, где получали среднее образование представители того самого пролетариата, в рядах которого он начал свой трудовой путь.
В 1982 году школьный учитель становится преподавателем русской, а позже и зарубежной литературы Библиотечного техникума Мосгорисполкома. В те годы это было уникальное учебное заведение, которое давало будущим библиотекарям глубокие знания художественной литературы, сопоставимые с курсом филологических факультетов вузов. Здесь он нашел не только интересную работу и благодарных учеников, но и кружок педагогов-единомышленников, объединенных идеей воспитывать молодежь на лучших примерах мировой гуманистической мысли. Здесь же на литературных вечерах Лазарь Соколовский впервые решился познакомить аудиторию с собственными стихами — и обрел важную для любого творческого человека поддержку и понимание.
Работа в библиотечном техникуме сделала его опытным преподавателем, умеющим подобрать ключ к любой аудитории. Она помогла пережить распад первой семьи и разлуку с сыном, который вместе с матерью уехал в США. Там же его нашло нежданное счастье…
В середине 90-х Лазарь Соколовский становится преподавателем филфака одного из столичных университетов. Чуть раньше выходит первый сборник его стихов с говорящим названием «Из семи книг». В него вошли лучшие стихи, написанные за четверть века работы «в стол». Позже вышло еще несколько сборников, уже с новыми произведениями, которые друзья и многочисленные ученики встречали с неизменным интересом.
В 2009-м году Лазарь Соколовский принимает предложение старшего сына Александра и вместе со второй семьей уезжает в США. Здесь он полностью отдается творчеству, издает еще несколько поэтических книг. В их числе — «рамочный» сборник «Раннее — позднее», в котором «встретились» произведения, написанные в 70-80-е годы прошлого века — и в конце 10-х годов нынешнего. Эта встреча показала, что главными темами его стихов на протяжение всего творческого пути остаются драматичные судьбы России и мировой культуры.
Книга «Вместо романа (21 блокнот героя не нашего времени) ” впервые знакомит читателей с прозой Лазаря Соколовского. Ее название и подзаголовок — отсылка к одному из краеугольных произведений русской литературы, роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В «Первом послесловии» к ней автор отмечает: «Не претендуя на сравнение с великим художником, скажу, что вообще между нами странная связь: он погиб почти ровно за 100 лет до моего рождения, когда ему было 27, т.е. в том возрасте, когда я начал вести свой дневник. Не странно ли это?»
Отсылки к великим творениям прошлого — один из излюбленных приемов поэта Соколовского. В стихах он часто размышляет над строками и сюжетами классиков, ища в них ответы на самые острые вопросы современности. Однако напрасно читатель будет искать в записях дневника захватывающей интриги и ярких характеров. Их автор — вовсе не Печорин с его романтической тягой к саморазрушению. Молодой интеллектуал середины 60-х годов ХХ века выглядит скорее его антиподом. Впрочем, общие черты у них все же есть. Бунт Печорина — это ответ на репрессии, последовавшие за разгромом восстания декабристов. Автор дневника остро реагирует на политические «заморозки», наступившие после короткой хрущевской «оттепели», которые оставляли мыслящим людям все меньше пространства для самореализации. Однако его недовольство порождает стремление изменить несовершенный мир, а не уйти от него. Недаром любимыми героями Лазаря Соколовского с юности были Гамлет и Дон Кихот.
В 60-е годы большинство тех, кто был критически настроен к существующему строю, либо отказывалось от юношеских идеалов и подстраивалось под требования властей, заботясь о благополучии близких, либо уходило в «кухонные диссиденты», заливая спиртным горечь от собственного бессилия. Единицы решались на открытое противостояние государству, платя за это, как минимум, негласным запретом властей на нормально оплачиваемую работу. Лазарь Соколовский выбрал путь внутреннего сопротивления при внешней лояльности к власти, а дневник стал для него заповедной территорией свободной мысли.
Он черпает силы в творчестве великих писателей, музыкантов и художников разных стран и эпох и мечтает об обретении внутренней свободы. «Пусть будет эта свобода в семье, где нет счастья, на уроке, когда внешняя атмосфера идеологического давления стремиться зажать тебе рот, свобода в самой стране, которую обретаешь, лишь скрывшись от постоянного сопровождающего каждый твой шаг зомбирования официальной пропагандой. Эту свободу обретаешь в лесу, в поле, в автобусе, в электричке, за своим письменным столом, где думаешь и пишешь, что хочешь, не отдавая при этом никому отчета. Свобода в мире земном, где каждый, мыслящий согласно — твой брат, кто бы он ни был и где бы ни жил. Свобода в космическом пространстве, куда направлены надежды смертного тела не к какому-то абстрактному перводвигателю, именуемому богом, началом всех начал, а к созданному нами же идеалу человека — Христу, призывавшему людей к всемирному братству».
Такие характеры не привлекают внимания писателей, ведь в их жизни нет драматичных коллизий, необходимых для захватывающего сюжета. Возможно, в этом — причина неудачи нескольких попыток Лазаря Соколовского осмыслить свой жизненный путь в рамках традиционной романной формы. А между тем, именно такие люди берегли для следующих поколений ростки мысли, отличной от официальной доктрины, исподволь внушая младшим свое понимание мира.
Читая «Вместо романа», мы получаем возможность проникнуть в сознание одного из этих людей, следить за развитием не вымышленного, а реального характера, понять тех, кто исподволь готовил страну к переменам. Сверхзадача большинства записей Лазаря Соколовского — зафиксировать и сохранить обретенные мгновения внутренней свободы. Они — словно множество словесных фотографий, запечатлевших то «крупный план» впечатлений от прочитанного или увиденного, то лиричные зарисовки природы, то набросанные широкими мазками панорамы сел и городов, поразивших автора во время не слишком частых выездов из родной Москвы. Из них, словно паззл, складывается многогранный образ человека, который стремится прожить жизнь, «не прогибаясь под изменчивый мир», но и не вступая с ним в жесткое противостояние.
Множество страниц дневника посвящено размышлениям над прочитанным. Они показывают постепенное расширение кругозора рядового советского интеллигента, стремившегося заглянуть за «железный занавес», но не имевшего связей среди тех, у кого был доступ к спецхрану. Видно, с какой жадностью он ловит каждую строку, свободную от идеологического диктата. А по записям середины 80-х можно судить о том, как стремительно открывались перед советскими читателями запасники мировой культуры.
Особую группу образуют картины природы. С юности она стала для Соколовского нерукотворным храмом, в котором можно без помех обращаться к тому, кого еще древние назвали «неведомым богом», — проекции вовне внутренней жажды справедливости и совершенства. Именно природа, наряду с творчеством, становится для него «островком свободы», воплощением возможности гармоничных отношений личности и окружающего ее мира. На тропинках подмосковных лесов, в пеших походах, в труде на деревенском огороде он черпает силы для преодоления непонимания и отчуждения, которые возникают даже в отношениях с близкими людьми. А неизменный цикл смены времен года дает надежду на то, что и в развитии общества «черная» полоса обязательно сменится «белой».
Некоторые пейзажные и очерковые фрагменты дневника столь ярки, что могли бы свободно конкурировать с произведениями лучших советских очеркистов 60-80-х годов. И это — лишнее свидетельство скудоумия брежневской эпохи, душившей любые проявления инакомыслия и тем самым разрушавшей страну изнутри.
Не удержавшись в прозаической колее (недаром она всю жизнь шла параллельно поэтической!) Лазарь Соколовский завершает эту книгу послесловием в стихах, в которых подводит личный итог сделанному:
Я взялся за роман своей души,
перестрочив блокнотов 20 с гаком,
с конца 60-х, порешив —
кому-то хоть сгодится, пусть инаков
и быт, и знаний груз, и весь уклад
каких-то бессердечных технологий,
что размывают личность. И я рад,
что не фальшивой двигался дорогой…
Задача читателя — подвести свой итог, усвоив предложенный опыт и, возможно, двинувшись дальше, как завещал еще Л.Н.Толстой, по бесконечной дороге самосовершенствования.
Екатерина ЗОТОВА,
кандидат филологических наук,
выпускница Библиотечного техникума Мосгорисполкома 1986 года.
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют…
Б. Пастернак
Блокнот 1-й
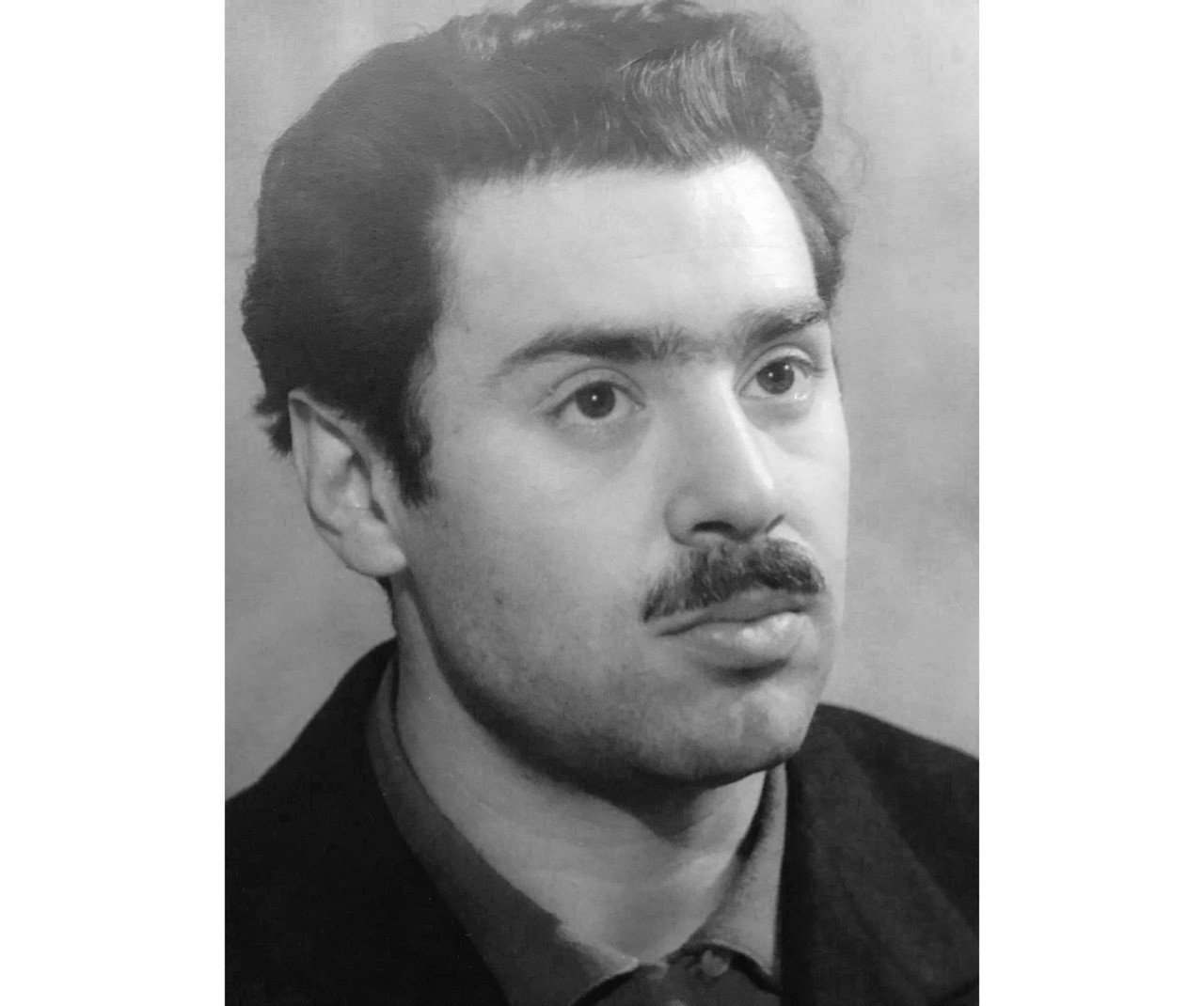
1968-Й ГОД
10 сентября
Мне 27 лет, и только сегодня начинаю вести дневник. Что сподвигло на это, сказать однозначно непросто, скорее всего помимо ошеломивших меня дневников Л. Толстого — пример старшего брата. Однако, безусловно одно — собственное желание прояснить себе самому не столько череду событий, проходящую параллельно жизни, не отдельные оттенки сиюминутных мыслей, возникающих ежечасно, сколько то, что составляет движение внутреннего мира в процессе его развития. Постараюсь быть правдивым и строгим к себе, не позволять красивой фразе подменять содержательность высказываемого, что зачастую случается со мной, а быть таким, какой есть — ведь себя-то не обманешь.
Поскольку начинаю эту работу довольно поздно, то, чтобы определить исходную точку движения, попробую оживить в памяти беспристрастно, хотя и с оттенком мемуарности, себя прежнего, даже если это будет несколько поверхностно и не очень конкретно.
Помню себя в детстве более-менее отчетливо лет с 5-ти, с тех пор, возможно, и появилось сознание личности. До этого еще в Куйбышеве в младенческом возрасте, будто сквозь сон, слышал о какой-то войне, еще не зная значения этого слова, что где-то там был незнакомый мне тогда отец. Когда оставался почему-то дома один, то боялся темноты, которая сейчас любимая пора творческих потуг. Был упрям и довольно драчлив, особенно когда обижал старший брат. Уже в Москве сразу после войны, когда началась школьная пора, умел прилично читать и писать, почему случились большие проблемы с чистописанием, т.к. выводить палочки и крючочки то ли не мог, то ли не хотел, видимо, из упрямства. В результате чуть было не оставили на 2-й год из-за этого проклятого чистописания. Зато дальше пошли только похвальные грамоты, хотя почерк с тех пор всегда был мягко говоря не очень.
В школе был честолюбив и, хотя не отличался в физическом плане, старался выдвинуться лучшими отметками, чтобы быть в числе самых первых не только в своем, но и в параллельных классах. То же честолюбие до самых старших классов проявлялось и в общественной работе, особенно после введения совместного с девочками обучения. Уже тогда, видимо, про себя огрызаясь на замечания отца, что много болтаюсь на улице, чем, в отличие от брата Илюши, провожу время за книгой, начал анализировать себя, замечал, что хорошо учусь скорее за счет способностей и хорошей памяти, а усидчивостью не отличаюсь, что довольно ленив и тяготею к позе. Однако часто, как это бывает и теперь, не очень осуждал себя, а если и осуждал, то не стремился перемениться. Правда, бывал резок и даже как-то порывисто честен и откровенен. Болезненно воспринимал не только неправду, но и всяческие отклонения от выработанного собой понятия «нормального». Иногда отчего-то чувствовал себя большим, хотя вряд ли был им на самом деле.
Страсть к чтению нахлынула после 6-го класса, причем к чтению не только литературы художественной, но и критики, газет, политических журналов. Баловаться рифмой, которая завораживала, начал класса с 9-го, это были шуточные куплеты, несколько басен. На этом юмористические писания закончились, поскольку как-то вообще не очень любил много смеяться, напротив, в силу робости в общении с девушками появилась даже довольно значительная нота иронии надо всем и всеми, пробуждалось внутреннее тщеславие.
Записывать случайные стихи в отдельную тетрадь начал почти сразу после окончания школы. Потребность же писать постоянно возникла с первого года работы на заводе, куда пришел с целью узнать подлинную жизнь народа. Именно там начал замечать, что мои романтические высказывания о «правде, добре и честности» встречаются окружающими меня людьми с улыбкой. Появился первый незрелый скептицизм, к счастью, ненадолго. В большей мере именно тогда возникла потребность, отбросив школьные книжные представления, самостоятельно продумать основополагающее: зачем живет человек и общество, зачем я сам. Отсюда тяга бродить в одиночестве темными вечерами, думать, глядя на звездное небо. Писал какими-то урывками, не приучив себя к систематической работе над стихом, над логической последовательностью мышления.
Вирши получались никакие, но из-за свойственного честолюбия и малого знакомства с поэзией вообще не замечал их несделанности.
Оттого где-то в 1961 г. после нескольких ночей погружения в поэтическую стихию Пастернака (братом достал мне на неделю синий том издательства БП), как тогда казалось, окончательно бросил рифмоплетство и начал пробовать себя в прозе, и опять с надуманной тематикой и плохой обработкой, поскольку жизненного опыта было совсем мало, да и фразой не владел в должной мере.
Вузовские годы приучили читать не только много, но и более вдумчиво, что привело к серьезной работе над собой. Дневники Л. Н. Толстого, «Жан Кристоф» Р. Роллана и стихи поэтов «серебряного века» перевернули меня, а сильнейшее взаимное чувство любви вернуло к поэзии. С этого времени начинаю измерять свой творческий и человеческий рост.
11 сентября
Теперь начинаю собственно дневник. Сегодня весь наш институтский отдел послали на овощную базу. Целый день занимался переборкой полугнилой капусты, устал больше, чем от сидения за бумагами в своей информационной конторе. Голова, правда, свежая, но сил никаких нет, как бывало еще на заводе. Так где же лучше работать, какой полезной деятельностью заниматься?
Зашел спор о приоритете между умственным и физическим трудом.
Доводы у сторон довольно старые, привычные, но одну хорошую фразу сказал директор склада: «Жизнь с чего началась — с торговли!» Мой коллега Володя Ш. в ответ: «С взятки!» Оптимизм…
День прошел, хотя появились, вроде, какие-то мысли, но развить их не могу — устал. И скучно. Жду (отчего бы?), когда Марина приедет. От физической перегрузки появляется некая гармония спокойствия.
14 сентября
Илик утром делился своими впечатлениями от чтения с моей подачи дневников Л. Н. Т. Мне пришла в голову интересная мысль: Толстой дошел до своей философии через тернистый путь самосовершенствования и только потом позволил себе давать советы другим, как жить, чтобы не повторять тех ошибок, что делал он сам. Как ни хотелось бы мне жить подобно, однако чьи-то готовые, пусть и выстраданные рецепты невозможно просто взять целиком и вживить в собственные разум и сердце. Надо пройти всю эту дорогу самому, то есть сначала проанализировать ту жизнь, какая есть вокруг, далее, впитав чей-то близкий тебе опыт, определить собственный путь познания истины и, только пройдя его, иметь, наконец, право проповедования. Первое есть у всех, второе требует критического ума и искренности, третье — силы воли и дисциплины, четвертое — мудрости и таланта. Как видно, от начала к концу требования нарастают, значит, идешь дальше. Но если в силу разных причин останавливаешься на полпути, то к последнему так и не придешь.
Что же сказать в этом плане о себе? Что пока я в состоянии только идти по направлению, которое могу определить словами «чего я не хочу». Конечно, такая позиция всегда много проще, однако приближаюсь ли я к пониманию того, «что я хочу»? Думаю, да. Надо проследить.
Очень скучаю по семье, считаю дни, когда мои приедут. Без них не хватает тепла, но зато очень свежа голова и на душе хорошая злость. К настоящему времени твердо сложилось желание уехать из города, не ходить на пустую службу, а жить на земле и учительствовать. Это настолько захватило, что не могу пересилить свое раздражение на себя за то, что из-за различных обстоятельств не в силах исполнить задуманное или хотя бы заставить себя спокойно так идти к этой возможности, как делал раньше. Хотя, если быть откровенным, это и раньше было в большей степени самоуспокоением.
Ах, да что говорить о таком значимом — не тратить бы время на глупое препровождение, не мотаться на футбол, не смотреть часами спортивные передачи. Самому за себя стыдно и противно.
Очень раздражен, хотя разве достаточно ограничиться только этим!
17 сентября
Смотрел «Гамлета» Козинцева. Очень сильно, глубоко и, главное, удивительно ритмично, причем ритм нарастает параллельно нервному развитию действия, что подчеркивает такая же ритмичная музыка. Интересно, что у Шекспира, когда Гамлет узнает ужасную правду жизни, он разуверяется во всем, и все люди кажутся ему фальшивыми. Однако в конце пьесы, умирая, он завещает Горацио рассказать о произошедшем, чтобы, возможно, его опыт не пропал даром, а послужил какому-то развитию в дальнейшем. Что же, узнав о силе зла в мире, Гамлет не верит в добро, в его возможности? Что же — Шекспир погрешил против себя, низвел частный случай в философию, а затем отбросил ее? И почему в его пьесах, где карается зло, конец все-таки печален, но никогда не безысходен? Вероятно, если бы было иначе, он не нашел в себе силы жить. Прав Некрасов:
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.
Нас заставляет жить борьба со злом, а не самоуспокоение и бездействие при внушаемой себе видимости, что все в порядке. Наш путь в достижении гармонии, а не в купании в ее лучах. Так, очевидно, должно быть, отсюда сила христианства: воздай добром за зло, тогда оно, возможно, опамятовшись, покается. Средства, правда, раболепные, ничтожные, и в этом случае смирение попахивает эгоизмом: добро ради одного себя. А должен ли человек, сознательно идущий на борьбу со злом, не думать, что этим он делает добро? Нет, не должен, ибо это приводит к обезличиванию, т.е. к другой стороне несвободного мира.
8 сентября
Будет ли когда-нибудь конец трагедиям? Нет, никогда, потому как никуда не исчезнут Гамлеты и Банко (как хотелось бы верить в это!) и никогда мир не будет освобожден от ясонов, макбетов и бесчисленных клавдиев. А сколько есть и будет простаков лаэртов, рефери нашего времени… Боже, сохрани Офелию! Пусть девственница ею и останется! А куда мне?
21 сентября
В развитие «Гамлета». Развязка унесла всех главных персонажей: род короля и Полония. Вместе со сворой погиб и потенциальный герой. Была тюрьма — тюрьмы не стало. Что же стало? Казарма.
Шекспир устами Клавдия говорит, что Гамлета любит простой народ, но этого быть не может, поскольку тот, во-первых, молод, почти не жил на родине. Да и вообще за что его любить: он, пусть и будущий, но глава, возможно, и диктатор. А интересно, каким Гамлет мог бы стать королем? Он человек размышлений, но не дела, а там надо именно дело делать и далеко не всегда чистое — положение заставляет. Так что народу не до Гамлета, которого он мог считать лишь «не в своем уме». К тому же только расскажи первому встречному о пикантных подробностях жизни известной личности, обыватели будут пережевывать их со смаком и удовольствием на всех перекрестках. Нет, Шекспир тут, кажется, несколько погрешил.
Надо сказать, что интеллигенция в основе своей — разрушитель. Создателем является простой народ, трудовой, который создает по нутру своему, потому что так делали его предки и делали не задумываясь. Такой народ ломать не любит, т.к. знает: тяжело досталось. Написал и подумал, так ли это, не погорячился ли я с таким выводом, беря жизнь вообще, а не конкретный момент ее…
3 октября
Кавказ, Цейская долина. Сидим с Иликом на больших камнях горного потока. Солнце пронзительно, небо высокое-высокое, горы теснятся вокруг. Кажется, затем и забрались сюда, чтобы насмотреться, надышаться и пропитаться обступившей природой в ее свободном полете, да еще параллельно размышляя над Гетевским «Фаустом» в прекрасном переводе Бориса Леонидовича Пастернака. Чудо как хорошо! Но вдруг поймал себя на мысли, что одновременно скучаю по дому. И это всего через 4 дня после отъезда! До чего же я непостоянен: будучи дома, как канатом, тянет в дорогу, куда-то к черту, а уедешь, хоть в такие дивные места, и опять тянет домой. Я люблю двигаться, думать «ногами», деятельничать — значит, это не совсем обломовщина. Но в то же время и недалек от того, чтобы превратиться в кабинетную крысу. Куда меня снесет?
5 октября
Мамисонский перевал. Высота около 2900 м. Чувствую себя лучше, простуда после вчерашнего подъема через снежную пургу уходит. Мы в маленьком, обитом крашенным в коричневый цвет железом домике метеостанции с двумя гостеприимными, чудными хозяевами. Если бы не радио, казалось бы, что это самый край заброшенной земли. За окном дождь вперемешку со снегом, когда выходишь, почти из-под ног выворачиваются белые куропатки, вскидываются вверх и так же тяжело плюхаются в пушистый снег метрах в десяти. Завтра утром спускаться в долину, к людям, которые неизвестно как встретят. В такие минуты разливается блаженная лень от воспоминаний о родном доме и близких, становится тепло.
19 октября
Вчера ходил в редакцию журнала «Знамя». Сразу понял, консультант даже не смотрел рукописи. Стало противно. Подумалось: захотел бы я сидеть на его месте? Да нет, уж лучше быть в стороне от этого окололитературья.
Замыслил «Поэму идущего». Основные три части: путь вверх, на перевал — тяжело, не знаемо, что впереди, мужество, долг; вершина перевала — достижение цели, анализ прошедшего, контуры будущего пути; спуск — дорога сквозь снег и ветер к солнцу, в долину; внизу — долгожданная родная земля, простой крестьянский труд, виноград, вино, улыбки, ненаигранное гостеприимство. Слажу ли?
20 октября
Целый день почти должен был возиться с домашними делами. Злой ужасно и в первую очередь на М, хотя она тоже устала. Злой на нее за довольно частое равнодушие и непонимание того, что мне нужно делать в первую очередь. Знаю, что требовать от нее этого — мой эгоцентризм, но внутренне требую. Раздражает меня в ней какая-то легковесность, увы, присущая многим женщинам. Но не мириться с этим невозможно, потому что, кажется, люблю ее и все больше хочу единого для нас отношения к занятиям каждого.
31 октября
Все более захватывает мысль о том, что необходимо служить там, где это имеет наибольший смысл. Для меня всегда и особенно теперь это сфера воспитания и образования. Следовательно, надо идти в школу. Представляю, что совмещать учительство с литературными занятиями довольно тяжело, к тому же и там будет некое однообразие и даже иногда бумажная рутина, однако это совсем не та «польза», что в теперешней псевдонаучной бодяге.
Все сильнее ощущаю, что юношеские грезы уходят, краски весны тусклее и тусклее, а плодов почти не было. Что же впереди — беспочвенные мудрствования, железная логика материализма или все нынешнее к черту! А там работа нужная, полезная, практическое приложение сил… Пусть будет так. Еще одна дорога.
5 ноября
Настроение все более кризисное, внешний тупик усугубляет внутренний. Семейная жизнь дает скорее неудовлетворенность, чем творческое наполнение. Времени почти нет для чтения и письма. Мысли не вынашиваются — глохнут в повседневной суете. Связи с внешним миром не завязываются, внутренние связи хаотичны, потому не преобразуются в сгустки энергии. Если так будет и дальше, то, видимо, пришло время снова что-то менять.
16 ноября
Вечером читал У. Уитмена. Поразила схожесть ощущения с моим в его «Песне о себе»:
Это вечное стремление вселенной рождать и рождать,
Вечно плодородное движение мира.
Из мрака выходят двое, они так несхожи, но равны: вечно
материя, вечно рост, вечно явление пола,
Вечно ткань из различий и тождеств, вечно зарождение жизни.
Незачем вдаваться в подробности, и ученые и неучи чувствуют,
что это так.
Это лучшее из того, что может создать художник. Приход этой мысли, ее осознание, вживление в нее — это уже огромно. Возможность выразить ее словами — это счастье. Качество высказывания зависит от силы образов, рождающих его и, конечно, таланта. Так писали, вроде бы просто, Пастернак, Заболоцкий, Фрост.
25 ноября
Прочитал книгу отца и сына Урновых о Шекспире — вот уж действительно словоблудие! И чьих только нет мнений, и каких только нет толкований Ш., особенно Гамлета: и немолод, и толст, и трус, и… Половина книги почему-то о Пушкине-гении, проникшего в Ш. и ушедшего много дальше. Однако сравнивать Шекспира с Пушкиным, при всем уважении к последнему, такая блажь. Да и вообще — зачем?
Значит, не блажь — элементарная проституция, хорошо оплачиваемая и одобренная цензурой. В подобном же ключе Лермонтов не умен, Белинский сводит счеты с Шиллером, а заканчивается «эпопея» от Шекспира славословием опять же Пушкину. Фальшь в жизни, в поэзии, в критике — чего же еще совковой идеологии осталось завоевать? К чему еще надо быть готовым? Словно в продолжение темы посетил сегодня издательство «Молодая гвардия». Одно название чего стоит — молодая… Рожи у сотрудников откормленные, разговоры свысока, будто «с пониманием». Не то, что противно и мерзко — зло страшно! А приходишь домой, пишешь свои обличения в школьный блокнот и понимаешь, что ты тот же Гамлет, тот же Дон Кихот: мечешься, тычешь наугад своей детской шпажонкой — авось заденешь какого-нибудь Полония. Однако песенка твоя, как и их когда-то, давно спета.
7 декабря
Начал писать «Идущего», настроение боевое, радостное, хочется читать всем подряд, пусть даже и незаконченное. Просыпаюсь среди ночи и тянусь к блокноту. Вот бы так и дальше! Но свободное время убиватся дико: то в магазин надо, то лететь в Кузьминки (мама опять заболела), то что-то сделать в квартире — и все к черту, запал куда-то исчез. Может, действительно надо, чтобы никого и ничего.
Всем недовольные люди в наше время скулят, что некуда приложить свои силы, и бездействуют, не желая служить фетишу либо поднадоевшей сказочке, навязываемой сверху. Вообще, конечно, нелегко, однако как же можно без дела? Когда особенно глухо и свинцово, и тебе представляется тоже, что выхода нет. Но странно, это состояние уходит, замещается работой, правда, если эта работа, по-твоему, приносит пользу. Значит, если есть такая работа, то уже не так тяжко, понимаешь, что просто существует зло, которое нужно преодолевать, т.е. объект для работы же. Безысходно тогда, когда настоящая работа не идет, не получается головой (руками, зубами) бороться — тогда тупик. Но тоже зависит от тебя — преодолей, найди выход!
Значит, по логике софистов, понятие «хорошо» и «деятельность» тождественны в сопряжении. А так как работа (по результату) не для себя одного, то и хорошо выходит не для одного, хотя оно, вроде, только твое хорошо. Следовательно, когда делаешь другим хорошо своей работой, то и тебе хорошо, тогда и других любишь, работаешь для них. Даже ненавидя, все равно любишь, потому, когда не идет работа, ненавидишь скорее себя, хотя можешь сорваться на других под влиянием недоброй минуты и собственной слабости.
Кажется, силлогизм сложился, отчего же цепь зачастую рвется? Почему не работается? На первое ответ — сам не тянешь, на второе — видимо, работа не та.
10, 15 декабря
Витезслав Незвал писал: «Когда-то слова были новыми и светились рядом друг с другом благодаря своей неустанной природной интенсивности. Но постепенно от частого употребления создалась фразеология… Логически стакан относится к столу, звезда к небу, двери к лестнице. Поэтому эти предметы мы не видим. Необходимо было звезду положить на стол, стакан поставить вблизи пианино и ангелов, а двери поместить по соседству с океаном. Речь шла о том, чтобы сорвать маски с действительности, придать ей светящиеся формы, как в первый день творенья».
Здорово сформулировал Незвал. Однако в наше время, как, впрочем, и в недавнее, не только слова, но и значительно большие единицы лексики, семантики, фразеологии, и того больше — морали стали настолько затасканы, что каждое из них необходимо объяснять как бы заново. Например, если говорит о патриотизме Л. Ошанин и ему подобные, то сразу следует остерегаться, потому что их патриотизм — это патриотизм проституток и бездарностей, которым платят временщики, кормчие от государства, лишь бы молчали через них другие. То же с официальной этикой, эстетикой и т. д. Поэтому в наше время истинный патриотизм следует поставить как можно дальше от действий по усмирению танками Чехословакии, от верности идеалам сталинского наследия, то есть от политики иезуитов. Тогда куда же его ставить? Ответ на этот риторический вопрос должны дать не только и не столько художники, сколько футурологи, причем желательно не сегодняшние российские.
22 декабря
Вся неудовлетворенность жизнью заключается не в том, что не знаешь, куда идти, а в том, что даже подведя итоги и решив выбрать иной маршрут, не удается идти по нему твердо, поскольку что-то расшатывает и норовит увести прочь от, казалось бы, уже выбранной дороги. Я твердо знаю, что следует жить так, как подсказывает собственное нутро, писать и вообще трудиться бескорыстно, без честолюбия и гордыни. Но в то же время, когда честно говоришь об этом, а тебя никто не слышит, понимаешь, что действуешь впустую. Что же делать, упрямо пытаться пролезть в пишущую братию любым путем? А если совесть не позволяет и не умеешь приспосабливаться, а не просто хочешь остаться «чистеньким».
Ах, как все это подло, да и не твое вовсе, уж лучше писать в стол.
Однако не можешь не думать об этом, и тогда совсем не просто идти своей дорогой — уже злость, неверие, скепсис… и пошла цепная реакция. А когда еще в резонанс с семейно-домашними неурядицами, тогда взбаламученное море горьких размышлений не остановить.
27 декабря
В последнее время ощущаю сильнейшее раздражение. Кажется, что, как у Гоголя, кругом «какие-то свиные рыла» с мелкими бесконечными заботами, сплетнями и пошлой чепухой. Отчего так-то? Да не только оттого, что нет времени работать для себя. Главное, вижу, что живу не так, не на своем месте, общаюсь поневоле не с теми и практически замкнулся в себе настолько, что зачастую не контролирую себя с другими, что в общем-то глупо — они-то здесь при чем? Иногда чувствую силу большую. Читая Броневского, удивляюсь, что могу не только так, но и лучше. Однако у него была жизнь, а тут — скотство. В тысячный раз призываю себя изменить все, все!
1969-Й ГОД
1 января
Итак, новый, 69-й! Встречаю его не с той восторженностью, как было 10 лет назад, когда только начинал о чем-то серьезно задумываться, бродя после заводских будней по вечерней улице с поднятым воротником пальто, и не с той грустью, когда после чтения «Дневников» Л. Н. Толстого подошел к пониманию настоящего пути. Встречаю настороженно, с неосуществленными планами и скромными надеждами. Хочу прежде всего закончить сборник с «Поэмой идущего» и, может быть, начать драму о Моисее. Хочу работать на земле и бросить чиновничье обывательство. Хочу больше свободного времени и леса.
4 января
Получил письмо от П.Г.Антокольского. Пишет, что моя поэма «не состоялась». Начинает тревожить мысль, что я чего-то не понимаю. Может, на настоящем этапе мой вкус изменил мне? Или я действительно в должной мере не владею поэтическим синтаксисом и слишком прямолинеен? Здесь есть какая-то черта, к рубежу которой я подошел, но переступить ее мне не удается. Неужели я почти так же далек от границ мастерства, как и при начале пути? А что, если я упрямо лезу в поэзию, а таланта нет? Как же мне жить тогда, чем…
Я знаю, что жизнь все расставит по своим местам, что единственно верное — идти путем поиска, работы, надежд, разочарований, и так все дальше и дальше. Ну что ж, раз мне не суждено пока потрясать мир, не надо. Но действовать, стремиться к самовыражению, к отходу от пустой суеты к чему-то цельному, истинному и честному — разве этого мало? Так, значит, и надо идти. И все правильно. А что до мастерства, то придет оно — счастье! Не придет — так тоже проверка на прочность: найди иную полезную деятельность, чтобы захватила тебя целиком. Так только и можно жить.
16 января
Что держит меня здесь, в Москве, институте? В Москве — ритм, шум, театры, выставки, консерватория. Но ведь я нечасто доволен этим гулким ритмом центра города, больше люблю лес на Опытном Поле, а театрам предпочитаю чтение первоисточников, поскольку театральная режиссура зачастую с моей внутренней не совпадает. В консерватории тоже, к сожалению, бываю не так часто, как хотелось бы. А боюсь уехать отсюда потому, что, как кажется, и хочу, и страшусь одиночества. Но с кем я близок, вернее, кто мне нужен постоянно? Пожалуй, только брат.
В институте меня держит привычная обеспеченность, хотя довольно скромная, но постоянная. Семья — это тоже привычное, пусть часто понимаешь, что не такая, как мечталось. Однако при всей этой стабильности я теряю то, что могло быть прочитано, написано, осуществлено. Больше всего меня приковывает к месту уже многолетняя тяга к систематической работе, и я не знаю, как жить, если буду свободен, а писать не смогу. И что тогда, как оно выйдет? Надеяться разве на то, что жизнь сама подскажет… Плыву пока по течению, а там…
27, 29 января
В начале года почему-то усиливается раздражение. Еще недавно, казалось, я был, как воск, податливый и мягкий, а тут страшно иногда самого себя — нахлынет вдруг волна вроде бы беспричинной злости, нахамишь кому-нибудь по инерции, а потом самому стыдно, внутренне казнишься. А ведь совсем это не мое, скорей Илюшино. Отчего же?
Зимой вообще как-то глухо: и читается урывками, а о письме и сказать нечего. Иногда и придет минута озарения, когда настроенность вот она, и чувствуешь, что в силах управлять ею — и нет возможности и времени сесть и работать. Куда там! Службишка да домашняя суета, а творческий настрой ускользает, как солнечный зайчик в редкие прояснения. Остаются только торопливые записи каких-то отрывков в рабочем блокноте да бесполезная злость, знаю, что разрушительная, но остановить которую не то что воли не хватает, а просто не хочется: должно же что-то вылиться наружу.
25 февраля
Живу будто в начале 19 века: весь в мире Бетховена и Гете под музыку чудного тома Роллана. Как мощно, широко и глубоко! Какой творческой силой веет от всех троих. Более привлекает Бетховен: бескомпромиссный, откровенный до последней черты, гений, безграничный во всем. Это выше привычного и даже непривычного людского понимания. Высотой помыслов он близок Заратустре, только не божественнее, а человечней.
А мой Гете! Как романтического воина я люблю его в «Геце», как за ищущим путником иду за ним в «Вильгельме Мейстере», преклоняюсь, как перед Бахом, в «Фаусте». Но бог мой, как я с Бетховеном против светского Гете: можно ли не понять или не принять возможности сотрудничать с таким же гением, которого он сразу увидел в молодом композиторе. Возможно, Гете был уже не молод, но ведь сросся же с Шиллером…
О, великие! Как же с вами в чем-то бывает нелегко. Но как без вас темно, будто сплошная ночь без единой звездочки.
Вчера смотрел фильм Де Сика «Затворники Альтоне» по пьесе Ж.П.Сартра. Кажется, что антифашистскую тему надо решать проще: или в пацифистско-символическом плане как у Брехта, или в натурфилософском как у Белля. Сартр смешал оба эти направления, и картина оказалась недостаточно реалистической и излишне нервной, особенно в концовке. О единстве и синтезе в искусстве надо продумать глубже и попытаться выразить хотя бы для себя.
4 марта
Читаю дневник Илика — вот молодец! Эти записи — уже само по себе книга, творческая лаборатория человека, его роста через поиски, подъемы и падения.
Почему же у меня не так? Что заношу в дневник я? Прежде всего пишу мало и нерегулярно, в основном те мысли, которые являются для меня глобальными. О минутных колебаниях и волнениях почти не пишу, да и зачем собственно — они в стихах. У Илика проза, она, конечно, требует большей разработки, подмеченных где-то деталей и острого взгляда на внешнее. А у меня разовый выплеск эмоций, вся энергия кипит внутри. Если бы писать нечто эпическое…
Конечно, я вчера бы мог записать такую сцену. В вагоне метро сижу напротив пары, каждому лет около 30. Мужчина с резкими чертами, высокий, лицо землистого цвета, худой, неинтересный. Женщина среднего роста, в очках, тоже неинтересная. Но сколько чувства в их общении друг с другом! Они будто не замечают никого из окружающих, говорят, вроде, о вещах обыденных, но какая нежность сквозит в их движениях: он заводит ей часы, показывает, где нужно стереть под глазами лишний карандаш… Как меня это затронуло! Да еще весна!
Илик все подобные вещи сразу пишет в дневник, чтобы использовать где-то потом, а я записал только 2 строчки в рабочем блокноте:
И так меня задела свежесть их,
Как будто мартовость меня коснулась хмелем.
И все, хотя и правил эти строчки четырежды. Или в пятницу захватило желание написать о дочке, и вот фрагмент будущего стиха:
Совсем не ждал тебя, и вдруг такой подарок.
Дочурка милая, расти, будь балериной
и смейся так, как солнце в феврале.
Потом задумался глубже о форме этого стиха, о том, как та же тема прекрасно дана Бернсом: усеченный размер, тонкая ирония над собой, затаенная любовь к своей незаконной по его вине дочери. И дальше потекли мысли чисто литераторские, но в дневник об этом ни слова — а зачем, кому? Пишешь-то для себя. Может, поэтому дневник может показаться сухим — ему не хватает меня более живого.
5 марта
Гете не выносил минорности, упадничества, его жизненная сила всегда побеждала сомнения даже в самые тяжелые моменты жизни. Да, Гете в этом смысле не похож на своего Вертера. Поразительно, что он, глубоко интересующийся естествознанием, биологией, минералогией и т.д., с его саркастическим Мефистофелем, казалось бы, издевающимся над наивной глупостью божественного идеализма, в то же время не допускал даже мысли о полной гибели человека, его нисхождения до нуля. В финале «Фауста» дух героя, т.е. его могучая энергия не может исчезнуть, испариться — он продолжает свое движение к истине, тому вечному, космическому, которое опять дает начало бесконечным земным поискам и свершениям. Что разбираться, прав или не прав в этом Гете. Главное в нем — могучий оптимизм, вера в силу человеческого разума. Прекрасно и вдохновенно! Это главное во всем Гете, не только в «Фаусте», его отрицания — дело второе.
6 марта
Какая странная штука — поэзия! Вдруг почти в полусне появляются какие-то видения, возникают откуда-то звуки, диктующие ритм — и понеслось, совсем не представляешь, куда эта ладья выплывет, к чему пристанет. А ведь сам заставлял себя писать последовательно, не отходя от заранее продуманной идеи, пусть и смутного еще, но все же сюжета, развивая их логически. Однако музыка стиха, его стихия так завораживают! Вчера например, словно что-то переклинило в голове: вдруг захотелось попробовать — получатся ли терцины (раньше не писал) ямбом, да еще о весне, да еще прямо на работе… И написал! Не знаю, как там насчет внутренней глубины или импрессионистской свежести, но терцины! Здорово. Я рад.
И о другом. Вчера же, казалось, совершенно выдохся на работе, полный бумажный завал, но вечером хорошо читалось и даже приходили какие-то мысли. Зато потом почти не спалось, поднялся весь разбитый. Однако такое оживление чувств, прямо ледоход какой-то: записываю куски к, возможно, будущим стихам прямо в метро, вижу их в голове и по дороге к институту. Не растерять бы этот запал до субботы.
7 марта
Думал о том, как лучше преобразовать мир: от человека — «снизу» или от государства — «сверху» (Илик в дневнике пишет о философии раннего христианства). Кажется Эзоп по этому поводу мог бы составить две басни.
Вот первая. Собрались однажды все люди: бедные и богатые, жадные и добрые, честные и льстецы — и решили построить большой дом, чтобы жить вместе. Началась работа, и каждые клал свои кирпичи на стены: у бедного он был какой-то сыпучий и худой, у богатого — крепкий и толстый, у жадного — с небольшими отверстиями, у доброго– мягкий и пухлый, у честного — гладкий и даже блестящий, у льстеца — полый, но склеенный из яркой бумаги. В результате дом получился кривой, разномастный и даже кое-где дырявый. И плохо было жить в нем людям: он не спасал ни от дождя и ветра, ни от жары и холода. Тогда люди подумали, не оставить ли его и разойтись по своим прежним одиноким жилищам? Однако, одумавшись, решили сделать еще одну попытку, построить другой. Но чтобы этот новый был более удачным, стали гранить кирпичи из одного материала и по одному размеру. В результате дом вышел ровным, крепким и красивым.
Мораль: чтобы дом был хорош, должны быть хорошими кирпичи.
А вот вторая. Предыстория та же, однако выход и вывод иные. Первый неудачный дом построили, но решили сломать его, поскольку пользы от него не было, и начать все заново — вдруг получится здание, в котором жить будет приятно. Принялись строить, но так как работали те же люди, то и кирпичи были те же, и дом опять вырос кривой и дырявый. Оставшись после второй попытки без средств и без сил, закручинились люди, да так, что хотели уже разойтись по своим старым, казалось, отжившим свое приютам и никогда больше не собираться вместе, а тем более делать что-то сообща. Однако подумав, осознали — чтобы дом был хорошим, нужны хорошие кирпичи, а для этого нужно всем стать близкими, единым коллективом и, поделившись друг с другом материальным и духовным, строить общий дом из одинаковых кирпичей. И, придя к такому решению, они начали дружно работать и построили такой дом, он стоял на вершине холма добротный и прекрасный, и люди в нем жили дружно и весело..
Мораль: от беды и плохие люди могут измениться, так же, как и от радости.
Конечно, первая басня много убедительней, хотя я долго размышлял именно над второй, но не смог придумать более реальный сюжет и доводы тоже.
Блокнот 2-й
6 апреля
Чувствую, что постепенно весна поселяется и во мне, снова пошли стихи и мысли. Ездили сегодня в Донской монастырь, как хорошо, что потрясения не было. И архитектура обычная, и стены, и памятники. Даже могилы Хераскова и Сумарокова особенно не выделяются на фоне всяких титулярных или тайных советников, графов, князей и просто мещан. И какое все это русское и почему-то такое родное, что даже странно для интернационалиста. А тут еще вербное воскресенье, и потянуло было зайти в церковь, стать на колени и просто молиться, как все Ростовы молились государю со слезами на глазах. И хотя отгоняешь эту глупость, однако почему-то жаль самого себя в такие минуты и не до гордости от своего разумного развития. Это что-то от стихийного чувства природы, видимо, ведь в большей мере я все-таки язычник.
7 апреля
Утром, выйдя из метро, пошел на службу Александровским садом.
Кремлевская стена с Большим дворцом затеняют большую его половину. «Так что холодно, а почему: то ли солнце низко, то ли Кремль выше солнца — размышляй, читатель,» — сказал бы Стерн. Но сказал это я сам себе.
Земля уже почти без снега, но еще заскорузлая, твердая. На одной клумбе крупные листья какого-то цветка и стрелки ирисов. Все от прошлого года, но выстояло под снегом и зеленое. Скорее всего погибнет при первом же потеплении, да не от погоды, а от лопаты садовника. Деревья уже готовы впитывать влагу от тающего снега, включить мотор всасывания и преобразования ее в почки и листья, но пока греют на солнце отмороженные ветки. Черные и старые, непритязательные и будто мертвые, они скоро снова задышат и зазеленеют. Как я жду этого. А пока прошел мимо своей любимой липы, которая, не стесняясь чужих глаз, все так же нарциссически обнимает себя на середине туловища и тянет верхушку к скупому, походя, небрежно ласкающему и ее солнцу.
9 апреля
Перечитал «Войну и мир» впервые после школы. Заново открывается Андрей Болконский, ранее не понятый, потому отрицаемый мной и Иликом. Мы считали его честным, но слишком гордым и довольно цинично настроенным по отношению к жизни и людям. Однако как мое теперешнее состояние близко к его богучаровскому и предбородинскому. Он желал и, безусловно, мог принести много пользы, но не видел реальных путей для этого. Да, освободил своих крестьян, завел акушерку в деревнях, но сознавал, как это ничтожно мало при полном убожестве существующего уклада всей страны, с которым примириться он просто не мог. Внутренняя сила распирала его и, не находя конкретного выхода, поневоле зачастую обращалась в желчь в общении с чуждыми ему людьми. Оставалось разве быть для себя полезным другим, при этом самому определять свою полезность. Но и тогда, как и сейчас, это благое намерение, видимо, не осуществимо, т.к. вся государственная машина дробит частное бескорыстие как куски кирпича, обращая их в гравий. И как принять, что для примирения с самим собой надо умереть или умирать? И дело не в избыточной дороговизне платы, а в невозвратимости себя.
10 апреля
Итак, я перед выбором. Есть возможность уехать на несколько лет от городской суеты и никчемной службы, оглядеться и попробовать учительствовать. Ну что же, надо уцепиться за нее. Мысли в голове чистые и ясные. Давно хочется сбросить бессмысленную эту получиновничью ношу, с которой не только не могу ужиться, но которая все сильнее сдавливает мне грудь. Но как же быть с семьей…
14 апреля
По воле воображения я уже не живу здесь, в Москве. Я так же встаю, пью кофе, еду на работу, высиживаю свои тусклые часы, затем возвращаюсь домой, читаю, пытаюсь что-то изобразить и ложусь спать. Все это как раньше, однако мысли мои в новом, неосознанном еще до деталей положении. В этом-то вся прелесть, хотя пока конкретики никакой. Просто я хотел бы работы, которая была бы полезной в моем понимании этой пользы и, главное, не отнимала время так бездарно, давала пищу душе, чтобы можно было писать не надуманные, а реальные, испытываемые непосредственно связи с окружающим. Я вижу и семейную жизнь совсем в ином роде, в каком — пока не представляю, только не в нынешнем.
И самое радостное, что меня опять, как это было давно уже, в 28 лет потянуло на романтику, к юношескому, что может дать тесное общение не с законсервированными взрослыми, а только с детьми.
15 апреля
Прочитал 2 стихотворения Евтушенко на смерть Ахматовой. Вроде, хорошо: метко схвачено и дано выпукло, как кристалл хрусталя. Он похож на Некрасова: то же движение в стихе, та же прямота изложения, приземленность и пафос одновременно. Только написано современнее, и потому, когда отделано, кажется, что глубже (зато у Некрасова много шире). Когда же сыро, лишь бы прошло в печать — просто скверно. Но при этом чувствуется, что не та его истинная душа, все напоказ, скупости ни на грош, каждая строка, особенно удачная, на продажу. Нет, совсем Евтушенко не подвижник — делец. Талант есть и, пожалуй, немалый. Но талант не благородного русского дворянина или образованного разночинца круга Белинского, а нечто среднее, новоявленное, псевдореволюционное. И когда выдает себя за мужика, то веры ему нет — шея не мужицкая, ей ярма не снести. Вот за гроши и старается, хлеб его не пОтом — маслом смазан.
24 апреля
Нашел сегодня удивительную строку у Радноти, которая могла бы стать и моим девизом:
Будь зорок человек, приглядывайся к миру!
Хотелось бы нести его через своего лирического героя со всей необъятной силой и мудростью жизни, освобождающейся от пошлости и фальши ее оборотной стороны.
25 апреля
Какое раннее солнечное утро в Александровском саду, и совсем ему нет дела до нашей мелкой суеты: заседания СЭВ за охраняемой дежурной ВОХРой стеной, предстоящих официально помпезных праздников и прочей пустопорожней говорильни очередных «вождей». Да бог с ними, главное — пришла весна!
27 апреля
Лес еще гол, даже почки не набухли, не то, что на городском бульваре. Если присмотреться, молодые, тонкие в стане березки кажутся стройнее сосен, как-то томно, всем телом поддаются ветру. Осины, как и осенью, праздничны, только если осенью пронзительно пунцовы, то теперь бархатисто зелены. Вербы провожают зиму яркими, серебряными сережками, словно ледяные капельки, застывшие на солнце. Липы черны и непривлекательны пока со своими вытянутыми стволами и мохнатыми, как на гравюрах, кронами. Не верится, что через пару месяцев от них пойдет одурманивающий запах забеременевшего от любви к жизни лета.
Интересно, что первые капустницы садятся на ствол березы там, где от него расходятся ветки, и в черные пятнышки на белом поле. Вот они только застыли, сложив крылышки, и сразу слились с корой, не видно их!
3 мая
Пришел отказ из Архангельска. Сколько же раз в своей недолгой еще сознательной жизни я получал одни отказы, ни единого согласия от разных организаций, издательств, редакций и т. д. Нет, я не могу быть нанят учителем даже где-то в северной глуши! Что же это за машина, которая определяет судьбу человека, не беря в элементарный расчет его склонности, желание служить своему делу? Почему я не достоин быть преподавателем словесности?
Не знаю, из каких сил сдержать кипящее бешенство и обиду.
4 мая
Прочитал книгу Роллана «Великие люди. Страдальцы и титаны», и будто захватило меня тремя потоками: Микеланджело, Бетховен, Толстой. Что за жизнь каждого — битва за человека, за его развитие в разуме и любви! И работа, работа, работа! Постоянно, без каких-либо скидок на усталость, нездоровье, на мерзость окружающего. Только вперед, куда ведет могучий дух творения! И нет конца пути своего!
А что если это — просто биологическая потребность организма к функционированию и завышенное тщеславие, и тогда это в общем-то патология, выделяющая гениев? Чуть засомневаешься, дашь слабину, и в мозгу уже какой-то буравчик: «А стоило ли это целой жизни, такой тяжелой и по сути довольно одинокой? А, может, как-то иначе, совместить творчество с радостями бытия и просто жить? Да не узковато ли?»
Брат говорит, живи лирикой, будь поэтом во всем. Но я прекрасно знаю, что пока не прояснил для себя конкретность пути (хотя зову нечитателя просто идти вперед) и его нужность, мне не до лирики, не до рифм. Видимо, натура еврейская сидит прочно: все надо разложить по полочкам, а уж потом — за песни или плачи.
6 мая
Где-то вычитал о поэтической субъективности, которая должна быть у поэта. Согласен, должна, но какая? Конечно, должен отражаться собственный образный мир, чувственность, гражданское я. Однако эти три составляющих не являются самоцелью, чтобы раздеваться донага, тогда это просто патолого-психический стриптиз напоказ, как частенько бывает у Вознесенского.
Мне кажется, что субъективность поэта интересна, когда она созвучна настроениям времени, даже чуть опережает их. Это важно не только в гражданской лирике, поскольку поэтическими средствами выражается весь спектр современного художнику бытия. «Поэма конца» Цветаевой, «Лейтенант Шмидт» Пастернака отражают настроения начала новой эпохи много глубже, чем наивная, больше крикливая машинизация Вознесенского или пафосная плакатность Евтушенко. Глубина и чувственный накал Цветаевой в противовес обывательскому прожиганию жизни, яркий свет личного участия в борьбе за иной путь развития человека, не согласного с «мучениками догмата» современны и сегодня. Подлинная искренность непреходяща из века в век.
Кажется, что обостренность чувства в определенные моменты прорывается и у меня, подталкиваемая недовольством собой, желанием разобраться в причинах несовершенства окружающего, дойти при этом до первоосновы, поскольку реальность показывает, что нельзя верить ничему официальному, лжи и фальши, от него исходящим. В то же время отчаянная открытость, жажда подлинной любви и языческого слияния с природой питают поэтическое честолюбие, которое, правда, постепенно угасает, причем не столько от невозможности воплотиться, сколько от внутренней работы.
9 мая
Казалось бы, крупно поссорились с Иликом, бродя по тропинкам Кусковского парка. Он даже выпалил, что я растворился в семье, отпал от своего пути. Затем разошлись: он со своим спаниелем домой на пару часов, я пошел в ближайший лесок, где сложилось 14 приличных строк. Когда он вернулся, мы помирились, и разговор, даже частично задевая самолюбие каждого, стал в конце концов полезным, критически оправданным.
Однако если раньше его упреки в лености настраивали меня на работу, то теперь нет. Да мне этого и не надо: пусть пишется не так споро, зато много качественнее, осмысленней. А что до семьи — действительно высасывает. Поэтому завтра с утра на Павелецкий и в отрочество — в Калиновку, где не был целых 10 лет.
10 мая
9.30 утра. Только за деревней вышел на простор, как все московское осталось далеко позади. Отчетливым знаком этого вдруг из оживших озимых появился взъерошенный жаворонок, приветственно взлетел в раннюю синь и зазвенел своим тонким горлышком, застыв в верхотуре, часто мельтеша бурыми крылышками.
По другую сторону сельского тракта пара видавших виды тракторишек, жужжа, словно упрямые шмели, вгрызается в слежавшуюся землю. Распаханная уже по краю глина лежит суровыми пластами, ее серьезность подчеркивают иссиня-черные грачи, хозяевами расхаживающие в поисках законной добычи. Но вот уже и край леса с нашими куиндживскими березами. На самом краю его небольшое озерцо, окаймленное высокой болотистой травой, словно волшебное пристанище Дюймовочки.
Сажусь на первый встреченный пенек, чтобы записать впечатления от дороги, разговор с хозяйкой дома, где прожили два давних уже лета, доброй, забитой пьяницей мужем рано постаревшей худенькой, как подросток, женщиной. Но все это будто куда-то уходит — полностью живешь лесом. Подавляют ранние соловьи, на стройных березах играют солнечные блики вперемешку с черными родинками, которые будто пляшут вместе с раскачиваемыми ветерком тонкими зелеными косами ветвей. Трубочками тянется из-под прелой прошлогодней листвы густо зеленый ландыш, трехпалые детские ручки тянет земляничка. А почва еще свежа, из нее еще не ушла мощная вешняя влага.
По знакомой лесной тропе через частый, темный, оттого всегда молодой ельник вышел к нашему любимому крутому склону перед Сопроновкой. Сколько там было собрано маслят среди редких высоченных сосен, сколь сижено часов в созерцании этой тихой, неброской подмосковной красоты с журчащим понизу неунывающим ручьем, будто обсаженным невысоким ольшаником, из молодых веток которого получались заливистые свистки. Растянулся прямо на траве под звон раскрывающихся сосновых шишек и ловил разлетающиеся сверху легкие однокрылые с запахом смолы семена.
19 мая
Словно заново встречаю весну в Омске. При подлете из иллюминатора поразил вид голых, скучающих полей и неестественно белых, будто специально побеленных известью, стволов берез. Облачно, ветрено, неласково. А там, наверху, над плотным пологом, сияло солнце, было вечное лето, и только мягкие, пушистые, белые очески воздушных, едва зарождающихся ниже облаков, намекали о земном, возможно, не таком уж сказочном.
Иртыш в разливе спокоен, терпко пахнет холодной еще влагой. И чайки, и рыбаки, и прогуливающиеся парочки — все говорит о начале сезона, когда свободное время можно проводить у воды, просто глядеть и глядеть на ее стройный ход, на низкое над ней небо, на раскинувшуюся далеко кругом степь. И только покосившиеся вешалки деревянных пляжных зонтиков без покрышек по колено в воде напоминают о печальной осени.
Настроение вообще меняется, как направление ветра на водной глади. А Иртыш все идет и идет. Проползают маленькие юркие буксирчики, которые упрямо тянут за собой громадные и остроконечные сухогрузы. Резко поднимаются еще не успевшие разделиться попарно стаи птиц, с шумом перелетая то на ту, то на эту сторону реки.
Ходишь и смотришь с любопытством новоприбывшего. Немного скучаешь, потому как не начал еще работать. А все кругом заняты: магазины полны солидными взрослыми, молодежь, видимо, перед вечерними занятиями в местном втузе забила небольшую столовую, по-над рекой, у больших домов мальчишки с криками гоняют на великах. А Иртыш все идет и идет.
20 мая
Весна здесь не такая яркая и бодрая, как у нас. Небо свинцовое, тяжелое, хотя дождя нет, ветер настырный, пронизывающий, но не сильный, солнышко выглянет иногда минут на 15—20 и надолго уходит.
Такие же и люди: лица, кажется, простые, обычные, однако если вглядеться внимательней, различишь волю, стремление, упорство. И в глазах чистоты больше, чем у наших. У нас каждый инженеришка корчит из себя интеллигента, а на поверку — серенький обыватель. Здесь же по каждому почти видно, что он из рабочих, да не наших пьянчужек, вроде соседа Павла, доброго, но забитого, а из сибирских, стойких, с железными мышцами и твердой основой — иначе в этих суровых краях как раньше, так и теперь не выжить.
22 мая
Здесь, в Омске, как бы заново встретил весну, однако она уже не оказала на меня того мощного первого впечатления — так, разве чуть-чуть. Об этой же повторяемости переживаний рассказывает Роллан в «Кристофе», причин, правда, не называет. Меня тоже удивило внезапное равнодушие после бурной восторженности всего-то неделю назад. Так почему же? Жажда разнообразия? Но ведь весна была так ждана, с такой откровенностью выражена! Но там она уже проходила, и сам я стал двигаться к лету. Здесь она вернулась, но я-то уже живу внутренне в другом измерении природы, я уже впереди.
Ежегодная повторяемость особенно хороша, когда ты стал глубже воспринимать ее, чем это было год назад. Значит, стал богаче. А если не растешь, то восприятие почти одинаково и возвышенность в том же пределе. Вероятно, так же у нас и в других проявлениях: в любви, дружбе, отношению к успехам, познании (повторении пройденного). И только, пожалуй, в творческой работе это не грозит — слишком много в ней алогичного.
Перечитал написанное и увидел, что мысль, вроде, верная, но выразил ее не так — слишком уж суховато. Хотя все просто: начало весны умерло во мне, перейдя в лето, а возродиться здесь, да так скоро, не может. И потому такая ровная, глубокая и бескрайняя, как сибирские степи, грусть наплывает, обволакивает и поглощает тебя.
24 мая
И вот лесостепь, равнина с жидкими перелесками и полями спокойного, уверенного в себе чернозема, неожиданного в здешних местах. С едва зазеленевшими деревьями, особенно с их контурами все это походит на классические пейзажи старых французских и голландских мастеров.
Вхожу в ближний лесок. Он редок, травы еще почти нет, очень много сушняка. Деревца тонкие, в основном береза, редко осина.
Но березки слишком белые и гладкие, совсем не как наши с черными разводами и розоватые, особенно под весенним солнцем. Эти же скучно однотонные, как долговечный сибирский снег. И лес тоже чересчур ровный: ни балок, ни овражков, даже мягких уклонов нет; сними деревья — и будет то же поле, ровное и скучное. Птиц немного: крякающие сороки да забавные вертишейки-трясогузки. Других не видно и не слышно даже.
Лесостепь… Нет в ней мощи пробуждения, которая прет в наших лесах, весна здесь скромная, видно, что не надолго.
26 мая
Итак, последний день в Омске. Столкнулся здесь с бытием технической интеллигенции большого промышленного города. Отметил, что люди в большинстве основательно погружены в химию, машиноведение, экономику, умеют пользоваться разнообразными приборами, интересуются информацией по своей специальности и память их занята всеми этими отраслями почти до основания. Что же касается остального, не технического, а гуманитарного, то его как будто и нет. Книг они почти не читают, искусство и политика глубоко их не интересует. Так… где-то что-то слышали, но чтобы погрузиться в это — ни боже мой, времени жалко на такую чепуху.
Подумалось, что машинизация психологии исходит не от машин, а от людей, ими управляющих. Они будто сливаются с узлами, деталями, технологией производства, так что кроме работы в их жизни ничему другому места не остается. Какая фантазия, эстетика — только рефлексы, условные и безусловные и все по разнарядке. Вот приехали на отдых в Чернолучье, как говорят, самое прекрасное место в округе. Машины остановились прямо у поляны перед всегда загадочным для приезжего незнакомым лесом. Вытащили богатый инвентарь для игр, коробки с припасенными продуктами, и понеслась привычная массовка. Они играли в футбол, волейбол, затем пили и ели, пели песни, хороводили, даже танцевали под магнитофон. Но и нагрузившись основательно, не говорили о людях, жизненных проблемах, нет — завод, машины, нефть. Ни один из них не пошел пройтись по заросшей лесной тропе без цели, просто полюбоваться природой — ведь такая задумчивая тайга. Куда там! Промышленный ритм вбирает людей, его создающих, и под черным дымом химических производств устоять ли хрупкому роллановскому чувству или неуловимому ритму Лорки. Грустно, но факт: время теснит искусство. Безостановочно вращаются моторы, идет перегонка вещества, работающие выдают готовую продукцию, с продукцией развивается жизнь. А как же песня, что не под полупьяную гармонь?
28 мая
Первый день, как вышел на работу после командировки, и сразу будто в ступоре — ну, не могу сидеть 8 часов в четырех стенах от звонка до звонка, тупею, глядя в окно на серую цементную стену противоположного строения, мысли как будто исчезают в этой консервной банке. Что будет, если не получится уехать в какую-нибудь пусть даже затрапезную загородную школу?
31 мая
Семейная жизнь требует много терпения. Все чаще чувствую, насколько чужды мне Марина и Маргуша, особенно последняя. Я ласков с ней, но она, даже плача по пустякам, не обращает на мои утешения никакого внимания. В своем детском эгоизме ей нужна только мать и бабушка, а меня будто вовсе и нет. Марине я тоже в общем-то нужен как подпора, не больше. Внешне она, вроде, со мной, но внутренне ей мои метания по барабану, она понять этого не хочет в своем эгоцентризме. Бывает так тяжко: слишком уж кругом не те…
10 июня
10 дней безделья умственного и творческого, усталость и апатия во всем. Только однажды поднялся было лирический вал, да и то благодаря розыгрышу по телефону. Как показалось, звонила Г.Ж., полыхнула в памяти первая, незабываемая любовь. Под этим впечатлением начал было «Зону», захватил прежний замысел стиха в стиле Аполлинера, широкого, с прозаизмами и параллельным лиризмом. Кажется и идея пришла: не промышленный бум давит жизнь, а бесчувственность города, государства, с их раз и навсегда вменяемой машинной дисциплиной, определяемой как гражданский долг.
Когда идешь в потоке, то инерция сгрудившихся вокруг тел и дел несет, и даже не так сильно гнетет тебя, что зачастую не замечаешь, что сам — часть этого стада. Но вот, выбитый из колеи, отошел чуть в сторону (не вечно же в стаде, там хоть одна из коров да забредет вдруг ни с того, ни с сего в ближний лесок), и тогда на тебя обрушивается сознание бессилия и бессмысленности хоть как-то противоречить заведенному укладу. Ты в одно и то же время мал и велик для себя, а если еще, пусть только в словах, идешь на стычку с ним, то в глазах других — просто сумасшедший, идиот.
Так бы хотелось написать все это, да формы пока нет, так пара строк на пробу.
24 июня
Какое-то дикое состояние: полная апатия и равнодушие к окружающим на работе коллегам и, главное, к самой работе. Планы снова разрушил очередной отказ из провинциального РОНО. Вероятно, и там решили, что я, вроде, успешный столичный научный работник с приличным заработком и возможностью карьерного роста, вдруг захотел все это бросить и уехать в какую-то нищую глушь. Ну, с чего бы это? Скорее всего какой-то ненормальный тип. Не проще ли послать его куда подальше… Вот и посылают.
Что же мне — ждать еще целый год, когда сил вариться в этой бессмысленности уже нет, да и пустая трата молодости! А равнодушие такое: режь — и боли даже не чувствуешь. Если бы не страсть к творчеству (и откуда она взялась?), то и не жить вовсе.
29 июня
Барвиха. Только сели с Иликом на краю поляны на невысоком склоне с красивой перспективой, как тут же подошел человек с военной выправкой, но в штатском и, хотя не строго, сказал: «Не положено здесь располагаться, проходите». И мы прошли: куда деваться — значит, и эта зона не для простых смертных. Вот страна — кем и почему человеку положено быть не личностью, а жалким колесиком и винтиком железной, бездушной системы.
Однако, не считая этого осадка, день прошел с пользой — отдых полный. А я так часто нуждаюсь в нем, поскольку отключиться целиком от будничного не могу — разучился ничего не делать, тем более, что забот всегда хватает. А тут были первые грибы, ласковое солнце и страшная жалость к почему-то засыхающим, ущербным в это лето дубам.
2 июля
Вечером печатал уже отобранные стихи. Год работы — и только 26 всего! Или работал мало и плохо, или слишком строг отбор. Но так не должно быть, выходит, что сборник в сотню стихов потребует 4 года!
Анализируя, пришел к выводу, что получается в неделю 1—2 стиха, а в застой работа иногда тянется месяцами, поскольку будни просто сгорают, по инерции усталость чуть отпускает к субботе, а для настоящей работы остается только воскресенье, да и то не всякое.
22 июля
Примерно в это же время в прошлом году ушла из «Знамени» Галя Корнилова и ее заменил очередной журнальный прохвост. Сейчас из «Литературной России» исчезла Озерова. Я потерял первых двух отзывчивых профессионалов, которые меня как-то направляли и поощряли. С их поддержкой в этом году должен был напечататься, но куда пойти теперь, разве в «Юность». Великолепная тактика системы — перекрывать дороги. Все тихо, без лишних слов, но задушено.
1 августа
Вот уже 3 дня мы в Молдавии в нескольких километров от Оргеева. Все на первый взгляд кажется похожим на подмосковье, однако, если посмотреть внимательней, и холмы повыше, и овраги поглубже, и лето потеплее. А насколько щедрей земля! Как десятирукий солдат, крепко стоит табак с широкими, сочными опахалами на самых сладких местах пологих скатов взгорок. Ухоженные участки разделены на квадраты: для каждого хозяина своя делянка, а во дворах под навесами свисают на жердях развешенные для просушки уже собранные листья, которые затем режут и сдают оптовикам. Так что здесь объединение в колхозы весьма относительно, есть чем прокормиться и без этого диктата, только прикладывай руки, если есть земля. Богатые сады окружают деревенские хаты, разнящиеся в зависимости от достатка и трудолюбия хозяев. Отец Ефима, к которому мы и приехали, скорее бездельник, созерцатель, потому свою делянку для посева табака отдает в аренду, довольствуясь садом и участком земли под продукцию для семейного стола. Как пламенеет в эту пору крупная с кислинкой вишня! Мы трясем довольно высокое деревце и долго собираем ягоды на варенье, объедаясь разбившимися при падении, самыми зрелыми. А вот уже бродит в чану знаменитая местная бражка из каких-то совсем ранних ягод и резаной яблоневой падалицы. На огороде не по-нашему густо засажены вперемежку кукуруза, картошка, фасоль, огурцы, бобы, укроп, помидоры рядом с арбузами. И все это прет между тяжких от наливающихся на ветках плодов абрикосов, сливы, яблок, груш и кистей винограда на подвязанных к колышкам лозах.
Да, благодать полная, хотя как-то не видно, чтобы люди вкалывали на своих участках. Видимо, главное — посадить, а уж затем солнце и дожди довершат остальное.
Народ здесь приветливый и очень гостеприимный. Хозяева не только накормят и напоят по самое горло, но и поведут затем к своим родственникам. И там море разливанное: ставится графин — и стакан пошел по кругу. Не допить не положено: следующий, сидящий рядом, ждет своей очереди. Когда графин опустеет, наливают заново, и так несколько кругов с постепенно нарастающей от горсточки орешков до блюд с долмой, всяким заливным, целыми запеченными курами и утками и прочей невпроед закуской. Если учесть, что у каждого хозяина в ближайших деревнях родственников хватает, то прийти домой в тот же день и трезвым вряд ли возможно. Мы попали однажды в такую карусель и еле сбежали только на следующее утро.
В каждом дворе делают по 300—500 литров вина в год и его не продают — все для себя и гостей. Осенью, говорят, сплошные праздники и, естественно, пьянки. Пожилой уже Борис, отец Ефима, брата Марины, веселый, остроумный, работающий парикмахером в местной богадельне, землю не очень любит, потому и виноградника настоящего у него нет, так… несколько лоз для стола. Но графин вина (здесь почему-то принято использовать для этого скучные канцелярские графины) ежедневно к обеду приносит, приговаривая: «Это то, что надо. Я знаю: я пью».
В 60 км отсюда — Румыния. У многих здешних с военных лет там родня, и они частенько ездят туда погостить. По их рассказам большинство тамошних живет в городах и удивляются на наших: как, мол, можно столько пить… А ведь кажется, все у них одно: природа, язык, нравы. Правда, живут и здесь аккуратно, достойно. Хаты обмазаны глиной и побелены, некоторые даже покрашены. Внутри просто: стол, широкая лавка, кровать, застеленная покрывалом с горой подушек в головах, на полу — местные тканые ковры, большая русская печь с невысокой лежанкой, иконка или румынская картинка в красном углу. Редко у кого есть приемник, еще реже — телевизор, книг не видно вовсе.
Денег у крестьян почти нет, живут натуральным хозяйством: летом овощи и фрукты свои, покупают только хлеб и изредка мясо; зимой питаются тем, что заготовлено впрок: картошка, кукуруза из части для домашней птицы, соленья, варенья да сушеные фрукты. Крупного и мелкого скота не держат: не прокормить. Денежные доходы в основном от сдаваемого в контору табака. Весной, говорят, довольно голодновато, зато сейчас — самое раздолье: в лесу грибы, в речке рыба, в огороде все, что душе приятно. Осенью зальются доверху душистые бочки и на весь год забрызжет в граненых стаканах и дурь, и горе, и веселье, закружится в бесшабашной пляске бровастый красавец со своей, как цыганка, острой на язык молдаванкой. И улыбнется в ответ щедрая в этих местах природа, в день конца сбора плодов глянет на раскинувшиеся внизу деревни старые, сбросившие листву кодры и уйдет под снег на заслуженный отдых.
5 августа
Два дня гуляли в одном из богатейших мест Молдавии у подруги нашей хозяйки, жены отца Ефима, которая оттуда родом.
Исаково — большое село с одинаковыми по всей округе мазанками, крытыми черепицей или тростником. Тростник, сам по себе трубчатый, сантиметров 8—10 в диаметре, положенный толстым слоем, примерно вдесятеро, свисающий с краев крыши, пострижен аккуратней, чем волосы какого-нибудь классического трактирщика. На перекате крыши на метр с каждой стороны еще один слой тростника для надежности, так что создается впечатление разложенных на плоскостях снопов. На более богатых домах поверху красуется узкий резной деревянный конек.
Входим в просторный двор. Перед нами большой дом с высаженными перед почему-то двумя входами цветами и такой же большой сарай, заполненный громадными, литров на 500 каждая, бочками для вина (к слову, подвал в кухне забит бочонками для вишневки). В углу — место для скота, где вперемежку расхаживают куры, гуси, 2 овцы; в закуте повизгивает свинья. В углу же двора установлен мощный пресс — через месяц-полтора готовый давить для вина виноград.
Комнаты в доме небольшие, я насчитал четыре, все очень чистые, увешанные коврами собственного изготовления. Вообще ковры здесь — гордость хозяев, потому в каждом доме, даже самом небогатом, они висят на видном месте. Ткут их из шерсти своих же овец на ручных, редко — ножных станах. Они плотные, на черном фоне человеческие фигурки в стиле Матисса: яркие пятна на темном. Много делают и полосатых ковров, но они попроще. На первых, парадных, ставится год изготовления, который смотрится (он выткан тоже), как на памятнике. Ковры не только развешаны по стенам, но и сложены на кроватях под подушками с вышитыми кружевными наволочками. Чем выше такая пирамида, тем богаче считается дом. В этом такая горка лежала на софке (кровать-сундук из красиво обработанного дерева, вероятно, дуба). Раньше внутри таких софок держалось приданое для невесты, ее и отдавали замуж вместе с этой софкой. Сейчас ковры тоже часть приданого как для девушки, так и для парня.
В каждой комнате висит икона, только если в первой это стандартное подобие Христа в оправе с какими-то нереальными цветами, то в следующей — изумительная картина: Мария в полуоборот с тонким профилем и в свободной спадающей одежде. Лицо задумчивое, очень чистое и юное — уж никак не богоматерь. Вероятно, это бумажный оттиск 30 на 40 см работы незнакомого мне художника в простой деревянной раме. В третьей комнате, самой просторной в доме, где мы пировали, на стене под стеклом громадная бумажная же копия, изображающая святого Николая, который застыл в фас со всеми знаками отличия, как старый генерал: лик мудрый, не то гордый, не то доверчивый. Остальное убранство комнаты составляли ковры на стенах и увеличенные семейные фотографии, на которых вместо обыкновенных людей были отсняты какие-то сказочные красавцы, не имеющие ничего общего с оригиналами. Хорошая работа местных ретушеров! На узкой полке, подвешенной под потолком, стояли красивые блюда и почему-то селедочники. Вся обстановка уютна и домовита, а вот лампы свисали из-под потолка без всяких абажуров или плафонов.
В доме праздновались именины старушки, матери новой хозяйки, пригласившей нас на торжество. Имениннице исполнилось 76 лет, но она по старому обычаю все-таки ежегодно справляет свой праздник со всем семейством и некоторыми приглашенными.
После приветствий, знакомства с вновь прибывшими и осмотра дома все, наконец, уселись за большим столом, и трапеза началась (если бы знать, чем она закончится…). Сначала от одного к другому пошла чарка чистого, выгнанного из сахара самогона под закуску совершенно не к месту для такого напитка дешевых карамелек и такого же печенья. К тому же на столе поставлена была вазочка с вареньем из молочных грецких орехов (удивительной вкусноты!) и одна ложечка в стакане с водой, которая тоже шла по тому же кругу.
Семья, пригласившая нас, состояла из вышеупомянутой старушки, ее дочери, женщины полной, веселой, видно, в недавнем прошлом красавицы, ее мужа, который был по глазам добр, а по лицу хмур, особенно когда косился на гостя, который уже готов было не принять положенный ему по очереди шкалик горячительного. Первый муж этой дочери, как я понял из перевода нашей хозяйки (все ведь говорят по-молдавски или по-румынски, что почти одно и то же), погиб на войне или просто умер, оставив ей парня, жившего теперь в соседнем дворе в доме бабки, имевшего жену и годовалого мальчугана.
Именинница выпила 100-граммовый стакашек шутя, тогда и кончили пить крепкое и сразу появился неиссякаемый знакомый графин с вином и на стол стали метать уже настоящие закуски: чем-то вкусным заправленный салат, тающие во рту небольшие голубцы, холодец с куриным мясом, изумительная свежая брынза, затем рисовая каша, сдобренная запеченными цыплятами. Все это даже просто попробовать было сверх сил, да еще со следовавшим обязательным кругом стакана с вином! Ух, тяжело! В долгожданном перерыве между очередной подачей нового яства старушку усадили на отдельный стул и стали вручать ей подарки, в основном недорогие ткани на юбки и халаты, после чего ее троекратно подняли со стулом вверх.
Как я понял, были среди приглашенных и племянницы старушки с мужьями и детьми. Один из мужчин, сразу как-то окосевший больше других, вспоминал фронт, с трудом подбирая из памяти редкие русские слова, часто не имевшие отношения к данной фразе. Таким образом он раз пять выдал «твою мать», причем окружающие не обратили на это никакого внимания, так же, как и он, не понимая скрытого в этих словах логического смысла.
Тосты провозглашались каждую минуту, и если бы они все сопровождались выпивкой, то через полчаса мы встретились бы под столом. К счастью, они запивались даже реже, чем через один, однако мы нагрузились так изрядно, что уже часам к 10 вечера завалились спать.
Надо сказать, что нам, приезжим из самой Москвы, почет был особый. Через нас шли все разговоры, нам переводили рассказы о местных обычаях. Здесь вообще любят гостей издалека, зазывают к себе, ставят привычный графин и еду, рассказывают о разных приключениях, особенно зимних, когда слишком уж скучно и кто-то что-то необычное сотворит. Поэтому-то Молдавия и прозывается пьяной республикой: поедешь, вроде, за нужным делом, но там стаканчик, там другой, этот на пробу, тот — последний из бочки, а потом и до дому не доберешься, надо ждать до следующего утра: здесь зимой ночью не ходят, а ездят, потому как волки не пожалеют.
Что еще поразило, так это то, как хорошо поют женщины церковные песни, тянут долго и слаженно на несколько голосов. Секрет этого в том, что многие пели в церковном хоре. В этом доме мы видели фотографию участников одного такого хора: как десятиклассники, каждый снят в отдельном эллипсе, а посредине — батюшка с матушкой.
Уф, кажется, на сегодня закончил. Даже устал. Никогда раньше таких подробных картинок не писал. Вероятно, вышло оттого, что стихи не идут совсем, поскольку внешние впечатления захватывают целиком, и я плыву, как полусонная рыба, еле двигая плавниками, чтобы не перевернуться брюшком вверх и окончательно не захлебнуться. И все это от летней жары, от шумной компании, хотя сам довольно инертен. Такой отдых для серьезного писания бесполезен, хотя все лучше, чем никчемные московские будни.
12 августа
И вот мы уже в Одессе. Пляжная дневная жизнь, вечерние прогулки по красивому городу с массой литературных и прочих ассоциаций, тем более, что в первый же день купил в букинистическом собрание Сервантеса и том стихов Арагона — удача! Однако надо продолжать записки путешественника, это хоть слабое утешение при поэтическом ступоре.
13 августа
Кажется, религиозность в сельской части республики довольно велика, если судить по окрестностям Оргеева. Старики и люди среднего поколения ходят в церковь почти все, а поскольку уважение к старшим — закон обязательный, то и молодняк держит в домах продаваемые на рынках местными рукодельниками иконы да хотя бы по праздникам тянется в храмы, чтобы не обижать родителей.
Вообще здешний отдых напоминал картины из «Фиесты» Хемингуэя, когда герой описывает Байи. Дом отца Ефима нависает над прудом, и ночью на его поверхности страшновато выглядят отражения звезд, колеблемые легким бризом. Полная Луна, еще целиком не поднявшаяся из-за гребня ближнего холма, зажигает яркий пожар на горизонте. Когда же она является полностью, то туманно-белый свет покрывает все открытое пространство, и любопытно, и жутковато идти по будто освещенной кем-то дороге, тревожно вглядываясь (а вдруг — волки!) в объявляющиеся из тени очертания кустов и мелькающие огоньки светлячков в прогалах между деревьями, которые то приближаются, то удаляются, как хищные глаза воображаемого зверя.
Утром, часов в 6, над озером сначала сгущается в плотную пелену, а затем, медленно рассеиваясь, поднимается туман, очищая посвежевшую за ночь колыбель воды. Длинными косыми тенями во всем блеске белого сияния отражается прямо на средине монастырская церковь с колеблемым крестом на главке. Поднятые как бы в корявом откровении лапы могучего дуба тянутся к нему, ломая на ветру пальцы, в отличие от отражений верхушек спокойных стройных сосен. Гладь воды недвижима, тишь, только вдруг плеснет хвостом жирный сазан, колебля кругами отражения и церкви, и деревьев, да плюхнется с берега в воду утиная семья.
15 августа
Вечером, часов с 7-ми, озеро начинает остывать от дневного зноя, отстаивается взбаламученная купальщиками вода, в истекающую речку сходит собранная поверху ветром ряска вместе с легкими лодочками утиных перьев. Тени опять удлиняются, как утром, рябь постепенно успокаивается. Когда солнце уходит за горизонт, то вместо играющих ласточек, хватающих насекомых на лету прямо с поверхности воды, не замочив ни перышка, с окрестных деревьев начинают сыпаться летучие мыши. Они будто нависают над темнеющей гладью, широко и беззвучно распластав свои кожаные зонтики крыльев. В это же время над водой заколеблется вдруг комариная пляска, и начинается извечная каждодневная война, в которой человеку не хочется быть судьей. Комары здесь обильны и прожорливы, так что в лесу и днем не погуляешь. Поэтому покидаешь поле битвы в ранних сумерках, предоставляя летучим дьяволам уничтожать мелкую кровососущию пакость.
16 августа
Аиста я увидел совершенно нежданно. Мы шли к кукурузному полю, чтобы набрать початков покрупнее к обеду. По дороге, захотев пить, подошли к колодцу-журавлю, которые здесь довольно часты. Их можно встретить и в лесу, и в оврагах, там, где, судя по рассказам, собираются в стаи волки. Только мы достали ведро воды, как увидели вдруг прямо на нас низко летящую птицу с огромным размахом крыл. «Орел!» — крикнул я испуганно и бросился в сторону. Птица развернулась, и вырисовывались вытянутые в воздухе длинные шея, клюв и тонкие лапы. Так впервые я восхитился свободным полетом прекрасной птицы.
На следующий день я увидел ее снова ранним утром. Она стояла на дамбе большого озера, куда мы пришли на рыбалку. Я осторожно подходил к ней совсем близко, пока на расстоянии метров 10—12 она посмотрела бесстрашно мне прямо в лицо, а затем спокойно, мощно и красиво взмыла в небо.
Такой у меня в памяти и осталась Молдавия, как на ее символическом гербе: сквозь виноградную гроздь уходит в полет гордый и свободный аист.
25 августа
Ну, вот и конец отпуска. Отрыв от привычной московской колеи полный, но поэтической работы почти никакой, так, некий задел на будущие стихи, если пойдет. Это был, видимо, последний рывок на юг, теперь только в нашу среднюю полосу, хорошо бы в деревню, к лесу, в дожди и лучше всего без семьи.
Перечел неторопливо впервые после студенческих лет «Божественную комедию». Поразили удивительно живые сравнения, неожиданные повороты, бьющие, как у Пастернака и раннего Маяковского. Изобразительная сила поэмы, если можно назвать это просто поэмой, совершенно необычайная, особенно Ада и Чистилища, хотя даже в Раю несколько песен — абсолютное совершенство.
Однако, сравнивая философию Данте с Лукрециевой, отдаю предпочтение второй. У великого флорентийца невообразимая фантазия и огромное желание чистой, незамутненной размышлениями веры, хотя порой и проскальзывают некоторые сомнения в ее реальной достижимости и абсолютной справедливости: те же некрещеные, т.е. родившиеся до Христа, находятся в Лимбе, путь в рай для них закрыт и т.д.. У Лукреция — ясность мысли материалиста, отсюда и мудрость более реальная, приложимая, пусть у него и проскальзывает иногда примитив (любовь, например, не более, чем обычный секс, если ее не романтизировать). Но ужасно интересны оба. Надо перечитать всего Данте внимательно, с карандашом.
8 сентября
Постепенно вхожу в работу, начинаю улавливать звуки и ритмы, появляются воплотимые в образы мысли. Однако очень трудно сосредоточиться хотя бы на ту протяженность времени, которой достало бы для оформления творческого состояния в конкретную форму, которая бы вылилась, записалась пусть и вчерне. Нужны только тишина, одиночество, отъединенность от лишнего. Вместо же этого тенью мелькаешь среди родственников и друзей с их и своими в данный момент бесполезными визитами, встречами, хотя даже интересными иногда разговорами.
Маргуша стала значительно ближе ко мне за счет того времени, которое ей отдаю. Я прекрасно понимаю, что надо больше быть с ребенком, чтобы он срастался с тобой сердцем, но где мне взять время, на это необходимое? отрывать от себя? Пытаюсь описать застывший в первом заморозке лес, еще не готовый к осенней тишине, но уже отошедший от недавних разноцветных плясок. Я сам тоже словно застыл меж летней расслабленностью и жгучей осенней жаждой работать, застыл меж августом и сентябрем.
11 сентября
Вчера вечером одним махом перечел «Неведомый шедевр» Бальзака. При встрече сегодня с Иликом говорили о сближении позднего романтизма с реализмом в 1-й половине 19 в., как это нашло отражение в поэмах Пушкина, прозе Лермонтова, во всем Гоголе и как сказалось на главном романе Булгакова. У европейцев это начиналось, безусловно, от Гофмана, затем через Бальзака прижилось у Флобера и Мопассана. Главное, здесь очень важна романтическая ирония, чтобы не заноситься в такую высь, падая с которой легко разбиться. У Илика в «Тумбе» эта ирония есть, и ее символическая роль в сюжете как раз соответствует норме. Если же случается перебор, то как правило вся художественная конструкция разваливается или содержимое просто становится заумью.
15 сентября
С упоением впитываю воспоминания Роллана, книгу о развитии его духовной жизни. Как широко, остро, мудро и откровенно! Ему было нелегко, он задыхался от интеллектуальной нищеты тогдашнего Парижа, боролся с затхлостью антигуманной цивилизации. Противопоставляя ей плоды человеческого гения, сам стремился вдогонку за ним, чтобы передать обществу энергетику естественной жизни — синтез великого и смешного в творческом будничном.
Нам еще тяжелее. Цивилизация уводит человека от природы, каменный город наглухо запирает его в тесной конуре современного улья-дома, опоясанного узким, в 5—10 метров газончиком. Распад еще глубже. В людях спонтанно пробуждается злоба от невозможности достичь желаемого уровня потребления хлеба и зрелищ. Отсюда бездуховная мораль — прожить сегодняшний день, урвать как можно больше материального у других, восторжествовать самому.
Даже человеческое воспроизводство падает, люди стараются не заводить детей. Зажатые в карусель зачастую бесполезного труда, не имея времени оглянуться на себя в этом текучем будничном потоке, они хватают на лету фальшивые идеи, которые мечут им под ноги самые хитрые и хищные из них же, чтобы не только залезть в кошелек доверчивых, но и опустошить их душу, сравняв с ничтожной своей. Понятие патриотизма, родины, любви, дома стало застывшей догмой, которой пичкают молодежь, и она вынуждена глотать ее, давясь и отрыгивая. Лучшая, думающая часть ее вынуждена отбрасывать всю эту фальшь целиком, превращаясь в не верящих вообще ни во что, а худшая, но далеко не инертная, принимая выгоду от плодов такого официоза, становится его корыстным апологетом. А в основном — пустота, пустота, пустота… Трудно сохранить заряженность работать ради людей, распахивать душу перед этой неподготовленной к твоей исповеди, кривляющейся в агонии потребления толпой — «ярмаркой на площади».
В Александровском саду примет осени особенно не видно: аккуратно пострижена трава, деревья еще зеленые, без желтых вкрапин, прохожие, такие же, как я, торопливо оглядывая обрамленный суетливо шумящим рядом городом «тщательно подметенный» по Флоберу фрагмент природы, спешат к своим скорее всего канцелярским трудам. Единственное, что поразило меня в этой картине, это одинокий грач, гордо расхаживающий между кремлевских серебристых елей в серой своей манишке подобно аристократу типа Онегина.
20 сентября
Необходимо найти путь служения, которое приносило бы конкретную пользу людям. В моих условиях это трудно. Во-первых, потому, что сам не дорос еще до уровня, позволяющего не просто говорить что-то важное аудитории, но и быть понятым и принятым ею. Во-вторых, нет же никакой аудитории. Конечно, работа по самосовершенствованию необходима, но достаточно ли одного этого? И тут опять захватывает идея идти к детям, ведь все начинается со школы. Но как это осуществить?
1 октября
Вот и осень в разгаре. В городе холодно, сыро, серо. На душе не менее противно от бессмысленной чиновничьей работы, называемой по вывеске научно-исследовательской. Кто-то что-то, возможно, и исследует в нашей конторе, но в основном женский персонал занят сплетнями и тряпками, мужской — глубочайшим анализом футбольных или же политических новостей. Стремление у всех общее: поскорее отбыть положенные жопочасы, а там — воля! А какая она, воля, хотя бы у нашей небольшой группы из 4-х человек, называемой научно-методическим отделом, это у каждого индивидуально.
Начальник, еще довольно молодой, но уже с солидной проседью и таким же солидным положением в институте, всегда отглаженный и аккуратный, как и предельно осторожный в высказываниях, например, стремится к большой, т.е. партийной карьере и успешно к ней продвигается. Мы, трое старших научных сотрудника, ставим себе планку пониже. Один, крепко сбитый, мужчина еще в самом соку, хотя и большой дока в делопроизводстве, особенно в составлении картотек, думает в основном, как бы раздобыть мясца к концу недели, чтобы побаловаться с семьей в выходные хорошим обедом под графинчик ледяной водочки. Он люберецкий, поскольку родился не в Москве, вот и вынужден таскать провизию из единственно сытного в стране места. Наша уважаемая женщина проводит время по большей части за телефоном. Средних лет, но еще чрезвычайно активная. Прямая, беспощадная в своих оценках, высказывающая их прямо в лицо собеседнику, эта худощавая, довольно высокая представительница неслабого пола с пучком седеющих волос, схваченных резинкой, и немного агрессивно вздернутым носом не имеет к информации никакого отношения. Ее заботят более важные вещи, которые она упорно разруливает по проводу: разогрел ли вернувшийся из школы старшеклассник сын оставленный в холодильнике суп и, главное, собирается ли муж после рабочего дня сразу пойти домой или же опять, как вчера, завернет с приятелями-сослуживцами кое-куда по дороге. Возможно, все они, как и остальные сотрудники учреждения, и приносят пользу в такой важной сфере деятельности, как информация по нефтепереработке и нефтехимии, хотя мне что-то не встречались серьезные публикации о первостепенной проблеме в этой отрасли — защите окружающей среды от того опустошения, которое она уже успешно произвела и производит каждодневно. А уж этого-то я насмотрелся достаточно даже в кратковременных в командировках.
Ну, да бог со всем этим. Главное — что здесь делаю я? Бесполезно высиживаю так называемые рабочие часы в казенном сером каменном доме, глядя в окно через такой же серый канал с мутной водицей, как во рву тюремной башни, с обреченностью затворника. И все это вместо того, чтобы… И насколько хватит терпения!
9 октября
Ну, вот, кажется, пришла смена деятельности и сферы обитания: послали на ежегодную обязаловку — сельские работы в подшефном хозяйстве.
Жизнь в совхозе «Озерки» мало похожа на цивилизованную: нары, крысы, денег нет, еда на 1 рубль в день. Пригнали сюда на помощь крестьянам в уборке скудного урожая человек 400—500 городских бездельников, которые все жаждут только одного: убраться отсюда поскорей всеми правдами и неправдами. Наши покои по удобствам носят названия, выписанные крупными полупьяными буквами над дверьми то ли складов, то ли бараков, по степени постепенного улучшения: Освенцим, Майданек, Метрополь, Люкс, Пансионат. У нас в ночлежке человек 15, все время гудит магнитофон с рычащими песнями Высоцкого, так что побыть наедине с собой никак не получается. Еда, которой кормят приезжую интеллигенцию, как будто на машинном масле, единственно приличное — молоко.
Первые такие три дождливых дня плюс крысы, проносящиеся ночами по головам и ногам лежащих на скрипящих, поставленных впритирку железных кроватях гуманоидов — моральное угнетение довольно серьезное. К тому же с утра и до ранних сумерек льет почти беспрерывно. Какая уборка в раскисшей до манной каши земле!
В основном коротаем время за картами, и тут у меня явное повышение квалификации — научился неплохо разыгрывать пульку преферанса, чем раньше не баловался, сберегая свободное время для совсем других занятий. Но вот неожиданно выглянуло солнышко и, будто в последний раз, поманило за собой в ближний лес. Оставив увлеченных игрой картежников в их представлениях о жизненных приоритетах, я двинулся к изначальному — к природе.
Только вошел в довольно молодой еще редкий сосняк и сразу спугнул дятла. Так стало обидно за обычно не присущую мне косолапость, а наоборот настороженность в лесу (вероятно слишком засиделся-залежался в холодном и таки душном бараке), что упустил возможность понаблюдать за полезной работой пернатого. Однако пройдя еще немного вглубь услышал знакомый растекающийся дробью стук будто колотушки по дереву. Теперь подошел уже совсем тихонечко и увидел: молодой дятел заботливо обрабатывал засыхающую макушку еще живой понизу сосны. Я постоял несколько минут и, не спугнув на этот раз птицы, пошел дальше, в смешанный лес. Там последний — дубовый листопад, все деревья уже почти голы, листья остались только на верхушках. Клены обнажились совсем, устлав богатым разноцветьем материнскую почву, по дубраве проходишь гулко — хрустят под резиновыми сапогами чуть уже подсохшие листья. Подлесок черный, тонкий и ломкий, и весь лес будто застыл — ждет изменений как в сторону холода, так и бабьего лета.
В одном месте на небольшой полянке наткнулся на следы лося, тут же у горки его черных катышек — на 6 раскрывшихся будто напоказ мухоморов, а рядом стайку маслят, слившихся цветом с побуревшей уже, рассыпавшейся веером листвой. Иду не спеша, прислушиваясь и приглядываясь к таинствам незнакомого, потому загадочного леса, как вдруг с ближней сосны падает прямо мне на голову кусок отлетевшей от крепкого ствола коры. Задираю кверху голову — белка! Чудная красавица с пышным посеребренным по бокам хвостиком и крупная, не сравнить с теми, запертыми в зоопарке. Эта живая, хулиганистая, ушки с кисточками, бусинки глаз словно смеются. Посмотрела на гостя мгновение, потом зачокала, закружилась — и вверх-вниз по ветке от края до ствола, туда и обратно, будто заманивает: ну, что стоишь-то, давай-ка за мной, посмотрим, кто ловчее. Долго я глядел на нее, пока ей игра не надоела и она не ушла в лес, причмокивая от удовольствия.
Я, довольный, пошел назад по той же тропе. Стайка каких-то незнакомых маленьких птичек, сереньких с длинными тонкими хвостиками, окружили меня, покачиваясь на тонких нижних ветках какого-то уже облетевшего дерева, и заливисто посвистывали, будто прощаясь.
На самом выходе из леса я снова столкнулся, может, с тем самым дятлом, которого спугнул входя. Большой, поджарый, он работал серьезно, не обращая никакого внимания ни на меня, ни на ворчавшего на соседней полосе трактора, ни на хлюпанье по глубоким лужам проезжающих в сотне метров по разбитому шоссе машин. Я даже обиделся на такое его равнодушие и стал бить своей палкой по стоящей рядом сосне. Он сначала посмотрел на меня, презрительно скосив свою головку в красном берете вниз и набок, и как ни в чем не бывало пошел стучать дальше, на следующие мои детские удары он уже не обращал внимания, мол, ходят тут всякие… С чего, и сам не пойму, я рассердился за такое отношение к старшему брату и так врезал по стволу, что он отпрянул на ближнюю ветку и свесился вниз — что там за дурак не дает работать! — и снова за свое. Однако когда я упрямо ударил еще раз, он, уже не глядя на назойливого гостя, понесся в гущу деревьев: беда с этими людьми, таскаются по лесу в любую пору, пожрать не дадут.
Так завершилась моя прогулка. Сейчас темнеет. Ветер быстро гонит разорванные им же клочья облаков, низко-низко тянущиеся над землей к суженному горизонту. Весело и шумно играют в горелки воробьи у конторы. Вроде, распогодилось, значит, завтра выходим в поле: морковка заждалась.
26 декабря
Прощай, год уходящий! Сколько дал ты часов раздумий, хороших мыслей, верных и точных выражений. Однако ты же дал и столько разочарований, недостигнутых высот, неоформленных прозрений. Чем ты дорог мне? Да хотя бы тем, что я жил в твоей природе весной и осенью. С ней, загадочной и непознаваемой, мы были на ты, как товарищи, старший и младший, учитель и ученик. Я стал ближе естественному природопорядку и через это спокойней и уверенней в конечной цели, гармоничней в словах и делах своих. И если порой еще кружит житейская суета, упрямая строптивость, то уже отдаю себе отчет, борюсь с этим, с того полон уверенности, что желаемое придет.
Практически я все глубже ухожу в себя, как осенний лес затаивается в тишине. И пусть это довольно тяжело, поскольку далеко не всегда совпадает с общественными запросами — в школу-то не пускают! — однако на избранном пути пока единственное, чего достиг.
Блокнот 3-й
1970-Й ГОД
1 января
Где-то внутри шевелится замысел поэмы о себе в зиме, застывшей на половине, о людях, спешащих встретить другой год, верящих в лучшее и идущих к нему в то время, как я словно остановился и не знаю — куда дальше: живу не так, не с теми, терзая душу, что пишу совсем не то, что надо бы. Даже появляется какая-то мелодия: а снег все падает на землю, и мысли-строки все бегут.
13 февраля
Уже три дня во Львове. Зримая история Европы: готика, камень. Соборы и костелы уводят взгляд в небо, ясное уже почти совсем по-весеннему. Город с холма Высокого Замка покрыт маревом солнца и испарений, поднимающихся снизу. Старинные шпили пронзают эту дымку, и только они одни как будто грудью встречают весну через бьющий наповал растрепанный сноп пронзительного светила. Внутри Старого города улочки узкие, как говорят, в длину копья. Дома тоже старые, с рыцарскими гербами на фронтонах или более поздние, купеческие, с цеховой геральдикой. В аптеке-музее встречают разнообразные приспособления для определения мер и весов, причудливая посуда и всяческие сосуды алхимиков, а рядом с ними миниатюрные статуи античных богов-исцелителей вперемежку с великими лекарями прошлых веков. На каждом шагу то храмы, то аббатства бенедиктинцев ли, францисканцев, на крышах статуи героев, святых, ангелов с тяжелыми крыльями за спинами, даже самому Мицкевичу такой ангел будто посажен на голову.
Три дня ходил, глазел, изумлялся и в то же время, будто разбуженный этой изначальной красотой, писал о своей первой настоящей любви (Илик всегда говорил, что это мой долг). Начал прямо в автобусе по дороге из Дрогобыча во Львов, и здесь уже в средневековом костеле, современнике Куликовской битвы, удалось, кажется, найти символ, выражающий свою природу, родину, дом, боль, пути-перепутья. Символ этот выражен в рефрене стиха –” хата на краю села». И, возможно, до этого нигде и никогда, как в этом памятнике Западной Европы, каждый камень которой излучает историю, культуру, традиции, я так не чувствовал себя связанным с Россией, своей любовью к клубку бегущих по ней дорог, по которым мне идти и идти, как нищему скальду в «Исландском колоколе» Лакснесса.
15 февраля
Через два часа киевский поезд. И пора: Львов обхожен, и то, что задело, уже прочно в памяти. История Украины и Речи Посполитой особо не забирает, барокко эпохи Возрождения тоже: богато, красиво, однако приедается, средневековая аскетичность ближе. Сегодня смотрел в городе удивительный франко-итальянский фильм «Электра» со скупыми пейзажами скалистой Корсики, и так потянуло к нам, в леса, где уже прыгают по подтаявшему снегу первые солнечные зайчики. Нет, не в Москву хочется, а в свой березняк, на свое глинистое поле в Сопроновке.
18 февраля
Как мне повезло! В Киеве я впервые наблюдал такое явление весны. Яркий морозный день, градусов 15, все, вроде, застыло, только пар от дыхания едва колышется в прозрачном воздухе от безветрия — и вдруг откуда-то обрушивается пронзительный, жизнерадостный, черный поток: грачи летят на родные места. Вся сила тосковавшей по родине массы птиц разлилась по ближнему небу, будто шла сама весна. Гонцов, которых она «выслала вперед», была не туча, а целый смерч. И если осенью они уходили волнами, не решаясь разом всем вместе покинуть родные кочевья, то теперь это был напор, наводнение: они метались по сторонам, одни налетали на других, шли и сверху, и снизу, и по бокам с несмолкаемым диким граем. Весь этот галдящий рой, пролетавший над моей головой, казалось, бесконечно долго, вдруг застыл на мгновение и понесся на север, туда, куда стремлюсь и я — на суровую, долготерпеливую родину.
Вчера и сегодня смотрел Софию и Лавру. Впечатление настолько смешанное, что даже трудно выразить. Эмоционально прежде всего разочарование и злость на привычное уже извращение: все выдающиеся и древнейшие памятники будто выхолощены. Строгость и чистота первоначальной архитектуры изуродована поздним псевдоукраинским барокко, почти все так безвкусно перестроено, что требуется масса усилий реставраторов, чтобы хоть как-то вернуться к подлиннику.
Более всего поразила мозаика в Софии, которая несравнима ни с чем, что когда-нибудь видел ранее, а еще скромная могила Нестора-летописца. А какое диво — бюст Ярослава Мудрого, который Герасимов создал по черепу замечательного князя. Ну, вылитый Корифеич: тот же хитрый прищуренный взгляд, вытянутый вперед тонкий нос с круглым набалдашником на конце, то же выражение лица, на котором будто написано: «Ну-у, нас просто так не проведешь. Мы-то свое дело знаем». Только у Герасимова это уже старик с острой бородкой, не то, что Илюшин приятель, тоже однако с довольно лукавой улыбкой и выдающейся вперед челюстью. Вот история!
8 марта
Читая Ганди, все больше прихожу к мысли о нужности незанудного кодекса естественных моральных правил, соответствующий тому, что давала в свое время библия, только с позиций уже нашего времени. Теперь получилась странная картина: материализм привел к обесцениванию морали. Повседневность со своей относительностью понятий добра и зла и стремлением к благополучию любым путем, ограниченная лишь юридическими нормами, напоминает скорее неуправляемую антиэтику, так что даже упоминание о необходимости следовать подлинной этике воспринимается как попытка ограничить свободу личности.
Ганди прав во многом, прежде всего в том, что ограждение себя от так называемых телесных соблазнов может проходить только внутри себя. Я много думаю о возможности ограничения своих желаний. В условиях города это много сложнее, а если удастся вырваться, то нужно разработать дисциплинирующий распорядок не только деятельности, но и питания, размышлений, отдыха. Надо попытаться обеспечивать быт при минимуме средств и максимуме возможностей. Лучше всего этого можно добиться работой на земле, научившись работать руками, т.е. огородничать, строить, немного шить и т. д. В таком патриархальном быте есть большой смысл, пусть даже он не способствует развитию цивилизации, зато способствует внутреннему развитию личности. В этом плане впечатляет пример Толстого.
14—15 марта
В голове бредовые идеи о совершенствовании такого же бредового мира, который катится к апокалипсису с такой скоростью, что, кажется, уже не остановить. Если так, то что ж — туда ему и дорога, коли стихия берет свое. Однако жалко трудов, которых столько приложило человечество, чтобы выжить. Неужели все напрасно и даже разум приводит к тупику? Неужели даже управляемый чем-то или кем-то космический хаос пожрет собственное, казалось бы, разумное творение? И что при этом твои потуги изменить неотвратимый ход событий вселенского масштаба… Игра, детские считалки про кому водить, хотя и без них прекрасно знаешь, что водить всегда тебе и не находить искомое тоже тебе. Так бывает грустно!
28 марта
Солнце. Морозец. Оторвался от вчерашних упорных размышлений о модернизации государственной системы и очередной выработки уже для себя строгого, потому и невыполнимого распорядка ежедневного существования — и на природу.
В нашем лесу наст еще целиком укрывает землю, проталины овальными лунками только у самых стволов, да и то, где они довольно редки. Большие серые птицы, вероятно, сойки, выныривают вдруг из-под ног и с шумом и треском скрываются так же, как появились. Словно дети, прямо под носом, обгоняя одна другую, играют синички. А скворец уже зовет подругу, зовет настойчиво, бегая по веточке, как мышка, и то кричит, то свистит, то запоет, поднявшись на свои тонкие лапки и хлопая себя по бокам крапчатыми крылышками. Ужасно хочется встретить дятла, но где же он? Привычной долбежки не слыхать, но издалека уже раздается будто пулеметная очередь.
Приближаешься по звуку к дереву, но ничего не видно, хотя очередная дробь подсказывает, что он где-то совсем рядом. Приглядишься и вдруг увидишь только один красный гребень. Сама птица сливается со стволом. Она долбит почему-то еще молодой дуб, примеривается секунд 20, а затем, как отпущенная пружина, делает подряд ударов 5—6 в течение 2—3 секунд и снова смолкает. Дерево сухое, замерзшее, и потому звук глухой, настороженный. Красавец сидит на солнечной стороне, подставляя лучам темную с подпалинами, как у скворца, спинку, а гребень с хохолком горит ярким огнем.
Лес действует на всех, подчиняя их своему естественному волшебству. Я заметил сегодня, насколько лесные воробьи интересней городских. Головки у них светлее, перышки темнее, шапочка ярче, тельце стройненькое, а голосок, как у певчих, звонкий, радостный и долго звучит в воздухе, как отпущенная на волю гитарная струна в заключительном аккорде. Городские же серы, чирикают себе хрипло, однообразно, сами грязные, словно в лохмотьях, суетятся, ругаются друг с другом, и вся жизнь ради одного только хлеба насущного. Нет, лес все-таки волшебник!
Илик в своем дневнике смешал меня с грязью. Пишу в ответ не от гордыни, не от желания оправдаться, да и перед кем здесь-то — перед самим собой что ли? То, что слабость во мне есть, он не прав, потому как не есть постоянно, а бывает, как впрочем у всех нас. А вот то, что нет простоты — так не прав совсем. Она прежде всего в том, что я страстно люблю жизнь, чувствую ее всеми жилками и в весеннее утро вытягиваюсь в лесу, как молоденькая березка. В такие минуты я чувствую первооснову природы, как дышат ее молекулы, атомы, наравне с ней я перехожу границы своих возможностей.
Простота… Я не горд, не спесив, постоянно принуждаю себя к смирению. Его же приписываемая мне гордыня — это стремление к независимости, я не хочу связывать себя во внутренней работе даже подчас его обществом, когда оно мешает.
Денежная непрактичность, дворянство… А я корю себя за то, что подсчитываю каждую копейку и не разу не приезжал из командировки с минусом и без новых книг. Но не могу тратить на себя из и без того скудного семейного бюджета! Да, никогда не мог заработать столько, чтобы позволить себе не думать о деньгах, просто работал и побочных доходов не имел, но копить всегда было противно. Ну, бог с этим всем, а вот почему меня так задела его неправота, не помогает ли она мне быть еще более недовольным собой, больше работать? Но задела и довольно прилично.
29 марта
Итоги сегодняшнего дня. Великолепная лыжная прогулка в лесном гуле ветра, записи на влажных от снега страницах блокнота о затаившейся молодой весне. Закончил читать Тувима. Он весь за исключением политических мотивов мягок и пластичен, Стафф более жесток, особенно если взять «Проливень-ливень». Но оба хороши, хотя попадаются и проходные вещи, но это бывает у всех.
Говорили с Иликом после вчерашних стычек в результате обмена дневниками. Уже спокойно согласились, что идем ровно, я только считаю, что совершенствования для себя одного мало, надо искать возможности общественного служения. Про себя отметил, что разговоры у нас почему-то не получаются по душам, что, если со стороны взглянуть, братья мы по литературе, философии — как угодно, только не по крови. Однако мне иногда просто хочется приласкать его по-мужски, ведь самый близкий мне человек, большая душа, великая сила духа. Как я жажду его счастья, ищу следов его в каждой строке дневника, в письме, в улыбке, когда он играет с Маргушей. Хотя и я таков, сдержанный, немногословный. Но тоже, как и он, с затяжными порой кризисами.
30 марта
Поразили слова Арагона:
Да, говорите о любви,
Ведь все другое преступленье.
Вот это поэт! Что-то истинно французское, хотя было у Ремарка и Хемингуэя, а что касается поэзии, то без темы любви ее вообще не существует. К нашему разговору с Иликом это подходит, если брать 2-ю строку. Но как определить, чем ограничить понятие-слово «любовь», чтобы и 1-я совпала с моими представлениями. Если любовь к женщине, а здесь именно этого требует Арагон, то вряд ли этого может быть достаточно. Значит, любовь шире: к природе, к своему труду, к сущему вообще. Мне кажется, он имел в виду страсть. Если так, то выражение звучит высокопарно. Но замечательно! Вспомнились кадры любовных игр чаек Галапагосских островов из фильма о Дарвине, как самцы объясняются в своем желании, показывая будущей подруге себя со всех сторон, пританцовывая, размахивая при этом крылышками, и только затем при одобрении — целомудренные поцелуи и в итоге верность до самого конца.
2 апреля
Слушал фортепианные пьесы Шопена. Сердце разрывается — вот душа, выплеснутая наружу, обнаженная, чувствующая настолько тонко, как может чувствовать только душа художника, каждый оттенок словно наплывает: взгляд, ответное пожатие руки любимой, трепет губ, тонкая линия талии, вздымающаяся грудь — и тоска разлуки, и гибель идеала, и улица, пустая, как брошенная людьми комната с зияющим посредине креслом, еще сохраняющим форму и теплоту прекрасного тела, и тоска, не рвущаяся в безумии, а негромкая, как струны арфы, перебираемые дуновением проходящей за ее пределами жизни.
Возможно ли одеть эту музыку снов в слова, в рифму, в строгую форму? Как часто я чувствую озноб от охватившего ощущения близости, слияния с природой, с лирическим строем ее, с всесильным течением времени — и нет мне возможности адекватно выразить это. И замолкаю, будто высшая сила наложила тяжелую печать на мои уста. Иногда успокаиваешься, довольствуясь тем, что хоть чувствуешь подобно. Нет, не гордыня толкает меня к попыткам выразить это. Не знаю, что, но толкает настойчиво. Однако выразить с такой же силой и тонкостью пока не могу. Сумею ли когда-нибудь, и можно ли это выразить словами вообще… Грустно, но и хорошо.
7 апреля
Снова думал о музыке. Будучи в классические времена искусства уделом одиночек и привлекавшей одиночек, она по силе воздействия безгранична. И как жалко выглядят сейчас сотни композиторов с их «легкой музыкой» для всех. Сколько прежняя несет в себе мыслей, оттенков чувства, соприкосновения с космосом и природой — словами этого не выразить, а если и пытаться, то все одно покажется или вычурным, или тяжеловесным. Звуки ее входят в твое сознание непосредственно, пробуждают уснувшие было ассоциации, дают возможность прикоснуться к вечному. Слова же должны пройти через разум, отстояться в нем, перевариться и лишь затем, если они действительно несут что-то значимое, к тому же изящно выраженное, усваиваются и словно срастаются с тобой. В основном это близкие музыке стихи. Хотя и они… Вспоминаю Варвару Николаевну (ранний мой рассказ «Музыка»), забитую жизнью, морщинистую, никакую. Ну, что ей стихи наших поэтов, которые иногда читал в тесной нашей редакционной комнатке в издательстве Медицинской энциклопедии, когда Клиберн открыл ей в «Грезах любви» Листа мир, которого она раньше и не предполагала, старая, ненужная никому и никогда женщина. Как она влюбилась в этого юношу, как сверкали ее глаза, когда она говорила в который раз о своем единственном идеале, увиденном вживую на концерте (непонятно, как она туда попала!) в консерватории.
Музыка! Как я чувствую рядом с ней свое бессилие. Вот видел чайку, кружащуюся под Каменным мостом, как будто никак не могла вырваться, металась в узком пространстве между самой тяжелой конструкцией и отбрасываемой ею тенью. Пытаюсь выразить — и не могу: все не то, не так… А тут фортепианный или скрипичный концерт, да что там, даже небольшой ноктюрн, а смысла вложено — мне на роман хватит. А тишина какая, ни тебе предлогов, ни союзов. И берет за горло так, что, лишь опомнившись, снова бросаешься в это нескончаемое море звуков. Однако, увы, сильно отрываешься от реальности, а, как писал Шиллер, «наш век для идеалов не созрел, я гражданин грядущих поколений».
8 апреля
К предыдущей цитате из Шиллера. Хотя само понятие романтизма как отдельного направления в искусстве еще только зарождалось, его черты и прежде всего устремленность в будущее уже звучали у ранних титанов вовсю, пускай порой перемежаясь с горьким скептицизмом. Какая космическая глубина, пронизывающая временные границы, у Баха, Моцарта, Бетховена, в той же шиллеровой оде «К радости», взятой композитором в финал 9-й симфонии! А шекспировская «Буря», искрометная сатира Рабле, замешанная на здоровых телесных потребностях, снисходительная улыбка Вольтера в «Философских повестях» с мудрой заключительной сентенцией! Я уже не говорю о «Фаусте» Гете с его бесконечным движением к истине.
Почему же у нас устремленность в будущее все гаснет и гаснет? Как ни расширяются исследования космоса, чем дальше мы развиваемся в научно-техническом плане, тем в общей массе становимся более скептичны даже в оценке ближайшего столетия. Главное стремление романтики исчезло, и с ним исчезла сама романтика, которая сейчас воспринимается как наивная детская сказка. Потому, видимо, и не берут меня в учителя даже в захудалой провинции, думают: блажит человек, что-то тут не то. А что если я действительно смешной Дон Кихот нашего времени, лишний совсем человек…
Несколько слов к «Моисею». Рисуя нравственное и духовное развитие Моисея в процессе великого исхода, нужно показать необходимость такого роста не только внутрь, но и во вне. Если бы М. совершенствовался только для себя, скатываясь к аскетизму, то мог бы с одинаковым успехом оставаться в пустыне или даже в Египте и быть одним из пророков или просто философом-созерцателем. Его же борьба за себя стала борьбой и за людей, потому и привела к его перерождению в предводителя народа, идущего к свободе.
9 апреля
Получил предложение перейти на повышение в смежный институт с зарплатой 170 руб. вместо моих нынешних 130. Смешно! В школу на 100 руб. не берут.
Читал Гельдерлина. Обожаю греческие образцы, которые он воскрешает. Напевно, пусть даже не всегда содержательно, но интересно и убаюкивает, как эпос. А настроение поганое, все плохо со школой, кажется, опять не получится начать жить заново.
11 апреля
Смотрел фильм «Первый день свободы» по пьесе Леона Кручковского. Все наши с Иликом словопрения о свободе личной (в частности в творчестве), о будущей судьбе человечества собраны здесь, как в призме. Война — это патология, смена поколений — это зачастую прогресс технократии, предпосылки гибели культуры, кризис морали и этики. Нейтральный в этой мясорубке гибнет, даже если и раздевается. Какая тут Беата Тышкевич: разодранная насильником блузка, перекошенное в бессильной злобе и бессмысленности сопротивления лицо, опавшая в преддверии смерти грудь — это дымящееся чрево земли, лежащее прахом! Свобода… кому, когда, где? Свобода растоптать кого-то мне или кому-то меня?
Сократ и Эмпедокл были счастливее, воздух вокруг них был чище, и просто уйти от гниения им было легче: Этна или цикута, одно мгновение — и (по их верованиям) уже на Олимпе. Мы не боги, но тоже, вроде, на Олимпе и распинаем наивных мудрецов за их недальновидную романтику. Вот свежий пример: по ТВ репортаж из Загреба, баскетбол, СССР — Италия. Все прекрасно, полные трибуны, сильные ловкие игроки, отточенная техника профессионалов — смотри и получай удовольствие. Но вдруг короткая стычка за отлетевший от щита мяч, и у нашего парня потекла по лицу кровь. И тут началась оргия в зале, как на поле войны: взбешенные, перекошенные от ненависти лица еще минуту назад, казалось, благовоспитанных обывателей — потенциальные палачи!
Нет, я утверждаюсь во мнении, что отношение к народу не строится по принадлежности свой — чужой. Палач и душитель свободы — мой враг, какой бы нации он ни принадлежал. а единомышленник — мой друг. И главное: мне было тяжело смотреть на бушующий в диком возбуждении зал. Если бы это было от неведения, которому мы так много прощаем — но нет, это был инстинкт стаи волков, почуявших запах добычи. И если этот инстинкт не исчезнет, человечество придет к самоистреблению. И будет благом, если силой, установившей законы разума, будет более совершенная сила. Что же — опять бог…
В добавление к этой теме был вчерашний разговор с Иликом, Он утверждал, что с войны люди возвращаются обновленными, уже знающими хотя бы, чего они не хотят ни за что, и ищут другой путь. Но ведь другого они знать не могут, т.к. после всего пережитого круг их желаний замыкается в желании забыться в чем-то внешнем, как правило это женщины, вино. Выбор-то во внешнем небольшой, а вот как измениться внутренне… В этой связи мне вспомнился один из польских фильмов. Бывший командир партизанского отряда завел богатый огород и теперь постреливает солью в мальчишек, лазающих за своей долей на его делянки через высокий забор. А ведь он совсем еще недавно воевал за этих же мальчишек да и сам в детстве баловался этим. Вот оно, перерождение идеи! Нет, что-что, а война не очищает. И Ганди в этом совершенно прав: очищает только ненасилие, жертвенность. Однако мое бунтующее естество к такому смирению не готово пока. Мой пессимизм не болезнен, я слишком люблю жизнь, жажду движения, работы, борьбы и с собой, и с миром.
12 апреля
Снег в лесу еще лежит между деревьями, но под ним уже собирается вода, почти готовая вот-вот преобразоваться в ручьи. У птичьей кормушки щегол и стайка синиц, которых вытесняет дружная ватага лесных бандитов-воробьев. Все они снуют то туда, то сюда, раскачиваясь на близлежащих ветках и лишь на какие-то секунды вспархивают на поставец кормушки, чтобы схватить пару рассыпанных для них зернышек Вдруг сквозь эту карусель прорывается ошалевший скворец, хватает черную корку и тут же бросается прочь.
Пасмурно. Идет мелкий дождь. Утро стоит насупленное, недовольное. А птицы знай себе раскалывают угрюмую тишину своими звонкими голосами. И каких только не услышишь: то совсем частые-частые, как кряканье утки, а то кто-то неожиданно заголосит попугаем. Сквозь несмолкаемые разборки воробьев вдруг пробьется тонкая мелодия красавца щегла. Посвистывает упрямо крапчатый скворец, ждет нетерпеливо, когда же выглянет ласковое уже солнышко. Короткой однообразной трелью отмечают свое присутствие яркогрудые зяблики, которых в нашем детстве пацаны называли большаками. Дрозды на этом фоне летят молча, деловито, целенаправленно. Все звуки как будто бы узнаваемы, только нежданно запоет тенорком какая-нибудь невидимая маленькая птаха, и застынешь, прижавшись спиной к стволу старого дуба, и заслушаешься, пока не смолкнет. Хорошо!
Главной задачей еще 4 года назад я ставил приучить себя к тому, чтобы задумываться над своими поступками, манерой общения с людьми, стараться меньше говорить и больше слушать собеседников. Это было у меня интуитивно в основном, я чувствовал, что без этого развития не происходит. Илик тут прав, видимо, интуиция — моя главная движущая сила, вот только надо следовать ей. И теперь я еще больше укрепился в том, что, самоанализ и самоконтроль — первая ступень на пути самоуглубления.
Мне оттого тяжко бывает в доме оттого, что Марина и Фима не обладают этими качествами ни в малейшей степени, разве только очень изредка поверхностное самокопание, когда что-то задуманное не получается реализовать или кто-то незаслуженно обидит. Это скорее корыстное и скоро проходит, материальное вытесняет вынужденные духовные всплески. И все мои усилия направить, подтолкнуть их даже просто к чтению классики не имеют успеха, им достаточно довольствоваться жалким школьным багажом. Тогда снова замыкаюсь в себе, поскольку дома не с кем серьезно, вдумчиво поговорить, так, шутки-прибаутки… Фима допоздна льет свои витые свечи, Марина плетет свое макраме, а я пишу в дневник непонятно что и зачем. Обидно, хорошие ведь люди и не без способностей.
13 апреля
То ли в связи с тем, что вылилось в дневник вчера, то ли время подошло — не знаю, но захотелось вдруг вернуться к себе, откровенно сказать, что мне дали отношения с Г. Ж. Женщины определяют в жизни мужчин много, иногда почти все. Я думал об этом за прошедшие 2 года постоянно. Мои мысли то улетали в романтические грезы совсем недавнего прошлого, то скатывались к вульгарному материализму — в зависимости от причины или объектов, толкающих к воспоминаниям. Раньше я не позволял себе этого, моя больная совесть страшилась коснуться того светлого, чистого, что было в этом взаимном прекрасном чувстве. Видимо, сильно подействовал на меня Гельдерлин, вся моя юность, как и у него, отразилась перед глазами, будто в зеркале, и стало горько от сознания, что я потерял с нею, но одновременно счастливо от того, что обрел понимание этого с возмужанием.
Да, я в неоплатном долгу перед Г. Ж. Мечтательный юноша с горящими глазами, порою грустными от испытанных рано разочарований. Какие могут быть идеалы, когда кругом сплошная общественная фальшь, духовная и материальная нищета народа и выхода не видно… Кругом него пустота. И вот он встречает свою Диотиму, немолодую женщину, при всех ударах судьбы полную восторга и весны, чувствующую природу так, как ее чувствуют прозрачное апрельское небо и умытая первым дождем освобожденная от снега земля. И все это она открыла мне, как любящая мать открывает ребенку, учила слушать, сохранять в себе запахи леса, цветов, слышать шуршание трав и наслаждаться птичьей разноголосицей и, главное, ощущать тягу к изначальному — к почве. Мне стало в радость готовить ее к посевам, разминая руками тугие на ощупь комки, сыпать в бороздки сухие, еще не живые семена и ожидать первые робкие всходы, погружаясь в беспредельно тянущую к себе жизненную силу продолжения рода. Она призывала меня при любых обстоятельствах быть ласковым и прямодушным, тонким и принципиальным, честным не только с другими, но и с самим собой.
В этой сильной, поглотившей меня целиком любви, выковывалась моя юность, сгорая и уступая место еще неопределенному и ранимому мужанию, которое затем и привело к нашему расставанию.
Целый мир был мне открыт в этом чувстве, и одно из чудес его — это музыка, которая стала и частью моей души. Другое чудо — чистое и прекрасное благоговение перед женщиной, которое передано нам великими Рафаэлем и Леонардо. И третье — та громадная сила, даримая природой влюбленным для поддержания в них негасимого пламени жизни, которое испепеляет неосторожных, коснувшихся его случайно или незаслуженно.
Сколько мы вынесли в нашей любви, об этом знаем только мы, и никто никогда узнать не имеет право, но этого было с лихвой, чтобы выковалась моя богатая, как считает Илик, интуиция, мое неоспоримое качество искать и узнавать внутреннюю красоту во всех ее проявлениях, бороться за нее и за попранную бездуховными веяниями гармонию Природы.
Родная, прости меня за последний вынужденный шаг. Я знаю, как тебе было тяжело, но ты должна это сделать, слабость и ненависть не могут овладеть тобой. Я должен был прийти к этому, развязать и сбросить начинавшие душить меня путы твоей немолодости и пойти дальше свободным, открытым свежим ветрам.
Проходит время, но я пока не встретил человека, равного тебе по душевной силе и удивительной женственности, подчиняющей тех, кто окружал тебя. Забудем тяжкое, что встало между нами. Ты была так же прекрасна даже в последнюю встречу, где хоронила нашу любовь в тающем весеннем снегу у старого монастыря в переулках Покровки, как и другой весной, когда я впервые увидел тебя, стремящуюся ко мне сквозь людской поток на Садовом Кольце у Курского вокзала после нашего самого начального еще робкого объятья в тесном коридорчике казенного редакционного уголка, куда нас обоих ненароком или же с умыслом одновременно забросила кознодейка судьба.
Я хорошо помню, ты предрекла мне существование в одиночестве — и ты была права тогда, это действительно мой путь и, возможно, мой долг. Но хочу ли иного?
Полночь. За окном позванивает бодрая капель с крыши. Я читаю письма Гельдерлина, и передо мней раскрывается чистая, благородная душа вечного поэта, соленый свежий морской ветер бьет в ноздри в виду такой близкой и мне романтической Эллады. Я читаю его откровения и нахожу в них свои мысли, мечты, они у нас общие, несмотря на разводящее нас время. В его любви я вижу и свою, ощущаю щемящую грусть от ее исхода и счастье обретенной вновь свободы. Брат мой, благодарю тебя. Я, так же как и ты, верю, что пока живы наши потуги борьбы за человека, деятельной любви к нему, близкое общение с природой, жизнь имеет смысл, она прекрасна.
14 апреля
Снова братское общение с Гельдерлином, общность с его главным постулатом:
Смелее! Стоит жить хотя б ценой страданья,
Пока нам, странникам, сияет солнца свет,
И в сердце лучших дней живут воспоминанья,
И друг внимает нам и плачет нам в ответ.
Давно, еще в пору пробуждения моего юношеского романтизма, я заимствовал подобную же мысль Олдингтона и передал ее так:
Мы живем, потому что любили до нас,
будут жить, потому что полюбим и мы.
Пусть это звучало несколько высокопарно, я тогда уже отдавал предпочтение жизни не суетной, не жалкой повседневности, а чему-то более возвышенному, что ли. И сейчас мне часто хочется бросить бессмысленные метания между ощутимой телесно хваткой жесткого материализма и мягкостью, податливостью поэтического идеализма.
Усиливается желание простой естественной жизни без постоянного толстовского: что я? кому я? для чего я? Особенно, когда светит солнце и стремишься к созерцанию и слиянию с природой.
По дороге домой с работы я продумывал извечную дилемму и уже готов был принять на веру соблазнительный эгоистический порыв, однако одновременно возник вопрос: а правомерно ли это, не есть ли это путь наименьшего сопротивления и вообще искания только в своем Я — не конец ли это собственной философии, или же ее начало, так как только познав себя, можно бороться за изменение общества? К чему прихожу я — да к тому, что все-таки принимаю последнее, и минуты гельдерлиновского жизнелюбия пусть будут тем импульсом, богатым и всемогущим, приносящим то вдохновение, которое выливается в восприятие, ощущение и непосредственную передачу значимых деталей окружающей нас жизни в формах искусства.
15 апреля
Размышлял после лекции по марксистско-ленинской философии, прочитанной в порядке так называемой введенной в обязаловку политической учебы нашего недостаточно подкованного в этом плане брата. Тема — построение коммунизма в стране. Философ, кандидат соответствующих наук, настолько непринужденно жонглировал формулировками различных направлений и наук, что было видно, насколько ему совершенно безразличны судьбы человеческие. Какая это философия, когда ни одной глубокой идеи, одна только притянутая за уши партийная идеология, с точки зрения экономики и психологии не имеющая никакого позитивного смысла.
Я подумал о древних мудрецах, о Сократе и Эмпедокле, жизненным опытом пришедших к своему миропониманию. Писатели и поэты, ищущие свою истину, неважно, обретают они ее или нет, — вот настоящие философы, хотя и не имеющие научных званий. Только тяжкий путь познания дает возможность и право вести людей по такой неоднозначной жизни, которая не умещается ни в какие схемы, поскольку, как писала Габриэла Мистраль, «вкруг дома ветер ведет перекличку рыданий и воплей.»
17 апреля
Вчера был у Льва Николаича в Хамовниках. Дом в сером налете, краска потрескалась, калитка в сад закрыта, и только с левой стороны можно пройти и увидеть за голыми еще стволами тот самый холм и хрупкую лавочку наверху. Чернеет сзади забор. Шумит соседняя фабричка. Ломают старые и готовятся строить новые дома. А здесь все по-прежнему прекрасно, в этом словно обособленном мирке, сохраняющем мысли трудившихся тут и светлую о них память.
20 апреля
Думал о смерти. Не о ее приходе, который можно встретить только молчанием (хорошо это у Эльзы Триоле), а вообще о факторе человеческой смерти, ее значении в нашем сознании. Гельдерлин считает смерть человека частью его существования, возвращением в постоянный круговорот природы: естественный распад, а затем новое рождение видоизмененной жизни («Гиперион»).
У меня параллельно возникла мысль, что для живых смерть человека есть его постепенный уход из памяти оставшихся дальше, дальше и навсегда. Как улетает чайка или уходит вглубь рыба. Их для нас больше нет, только воспоминание, которое тоже исчезает. Сотни поколений в нашем подсознании, но ни одного человека конкретно, одни контуры образов, навеянные литературой. От этого что-то невесело.
23 апреля
Плохо у меня с Мариной. Бывает, особенно наболит, когда ощущаешь всю тщету напрасных усилий побудить ее к чтению, когда, хотя и не высказываемое вслух, абсолютное непонимание моих мыслей и попыток изменения образа жизни. Тогда вся склеенная на живую нитку мозаика семейных отношений разлетается в прах. Высказывать это бесполезно, злюсь молча, потом слушаю Грига и брожу в одиночестве по пустым улицам допоздна. Вспоминаю, как еще совсем мальчишкой гулял по темну с больной мамой во время ее приступов депрессии, отвлекал ее от больных навязчивых мыслей, старался рассмешить, чтобы она в конце-концов хоть чуточку поспала, чуточку поела. А теперь, как тогда, выгуливал себя до тех пор, пока не придет успокоение, чтобы продолжать осмысленное движение по избранному пути.
24 апреля
Говорили с Иликом о пессимизме. Не знаю почему, но даже при всех творческих и жизненных кризисах он мне чужд. Видимо, прав Белинский, утверждающий в «Письме к Гоголю», что пессимизм, скепсис — это свойство натуры вообще или в отдельные моменты времени. Скепсис же в искусстве, даже если он от неприятия современного жизненного уклада в мире ли, в твоей ли стране, не есть воинствующая позиция. Потому Фофанов, Надсон, некоторые символисты скорее однодневки, а не пророки, как Лермонтов или Блок.
Каким странным предстает удивительно талантливый Ю. Олеша в своем как бы дневнике «Ни дня без строчки». Рядом с тонким анализом различия между Чеховым и Буниным поверхностное мнение о Л. Толстом, Гоголе, Хемингуэе. Сначала даже не понимаешь, откуда у него такое суждение, не по идейным же соображениям, и только когда натолкнешься на фразу, что «от искусства для вечности остается только метафора», становится ясно его небесспорное суждение.
Так же странно его отношение к животным. Это не любовь, а что-то совсем иное. Он пишет: «Мне кажется, что я мог бы из пасти любого животного вытаскивать бесконечную ленту метафор о нем самом.» Формализм ли это? Вероятно, да. Но не в этом суть. Даже в блестящем по форме романе «Зависть» отсутствует анализ жизненных сил, обстоятельств, проблем и соответствующих выводов. Его проза, даже дневниковая — это красиво звучащие фразы-афоризмы Уайльда, его психоанализ — это умирающий непонятым Человек-невидимка Уэллса. Человека, стоящего на земле, тут нет. Это подобно поэзии некоторых символистов, пытающихся описать цветущую розу. Самого цветка при этом нет — есть метафора, ассоциация, долженствующая вызвать у нас конкретный образ. Это как смотреть на дерево через запотевшее пенсне.
Блокнот 4-й
26 апреля
За день проглотил «Женщину в песках» Кобо Абэ. Это лучший прочитанный за последнее время роман, чем-то напоминает «Подлиповцев» Решетникова. Так же, кажется, просто, так же о первоначальной, естественной жизни людей, которая состояла, вроде бы, только из борьбы за пищу и воду, и поэтому так же мощно. Это целая поэма, скорее даже эпос с потрясающим, неожиданным концом. Здесь не то, что у Серафимовича в «Песках», не просто пустыня, пожирающая людей, а наоборот, дающая ей смысл в сравнении с закодированной жизнью городских людей-машин. В борьбе со стихией как бы происходит естественный отбор, в результате которого сильный, выживший в нечеловеческих условиях, получает право пусть на примитивную, но любовь и в конце концов совершает открытие самого себя.
27 апреля
Первыми пробились наружу красные, нежные, как паутинка, как пейзаж на японских гравюрах, листочки бузины. Уже проклюнулась бороздка зелени на черносмородинных кустах. У сирени на нижних ветках от крепких острых почек уже отлепились защитные чешуйки. Самый светлый, ясный встречает тополь. Она, именно она, а не он (у Даля это «осокорь душистая, алтайская, рай-дерево») доверчиво раскрыла солнцу свое нежное переливчатое тело и застыла от наслаждения, еле дыша полураскрытыми почками, чуть зардевшись то ли от стыда, то ли от истомы.
Все это я подметил, когда шел на трамвайную остановку утром. Тепло настолько, что можно было сбросить надоевший плащ, а с ним и накопившуюся зимнюю тягость.
30 апреля
Прочел «Ферму» Апдайка. Понравилась языком, бытовыми деталями, особенно так называемыми литературными табу: постель, женские недомогания и т. д. Это у него как у корифеев возрождения — любовь к человеку во всех его проявлениях. Главная идея, а это стремление к земле, как почве, в наше время урбанизации звучит уже консервативно. Но у него она единственно приемлемая. Книга подтвердила мою мысль о невозможности находиться в чуждом тебе окружении, в конце концов лучше порвать с ним, чем тянуть из соблюдения порядочности, ложного чувства долга.
Интересное сравнение пришло в голову вчера вечером, когда при возвращении домой здорово вымочил дождь: промокнуть до мозжечка.
3 мая
Предыдущие два праздничных дня мы за городом. Вылезли из переполненной ранней первой электрички в Шараповой охоте. Само название и густые кромки леса по обе стороны путей притягивали всегда, когда проезжал мимо. Звучит загадочно, кто такой этот Шарап или Шарапов, на кого он ходил со своим ружьецом или рогатиной? А, может, просто роскошная охота, зверя в достатке, бери на шарап.
Наконец мы здесь, прошли через магазин, где ничего особенного, и, минуя небольшую в два ряда домов деревушку, вошли в дебри. Там еще сыро, и пройти можно по более высоким закраинам дорожки, по сухой подстилке прошлогодней листвы. Дубы и клены стоят еще черные, спящие, а на осинах, ольхе и орешинах раскачиваются в легком дуновении ветерка зеленые тугие сережки. Поднимается скрученный спиралью папоротник, вылезли трилистники земляники. Тихо, и вдруг какой-то нечеловеческий шум. Взглянул наверх — скворцы погнали нагрянувшего без приглашения разбойника, большую хищную птицу, которая неторопливо и гордо уходила от этой воинственной мелочи, волнообразно помахивая крыльями, как Плисецкая в «Лебедином». Дальнейшее тоже было превосходно: и знакомство с пенсионером-обходчиком, и завтрак в его дворе сладким пахучим молоком и свежим хлебом с деревенским маслом, и разговор с невысоким хозяином маленького домика, в котором мы ночевали, и молодой играющий со всеми бычок, и веселый ручей, быстро бегущий прямо под самым забором, да и все чудесное солнечное утро.
На следующий день отправились в Мелихово. Автобус остановился на широкой пыльной улице среди деревни. Палисадников нет, одни старые липы с сухими поверху стволами с облетевшей корой, с нанизанными на толстых ветках мономаховыми шапками грачиных гнезд. Узкая асфальтовая дорожка ведет в чеховскую усадьбу. От нее остался соток в 45—60 участок земли с неширокими аллейками, где оградой служат согнутые в полукруги ветки орешника и ольхи. Сад — редкие яблони, вишня, по бордюрам — цветы. Дом совсем не барский: небольшой, видно, что с невысокими потолками. Если бы не более-менее просторная терраса, сделанная в форме ладьи, и смотреть было бы не на что — обычный дом деревенского середняка. Направо от него маленький флигель со спальней и кабинетом. Кабинет крохотный, давят стены и низкая кровля. Света тоже немного: два узких оконца напротив друг друга. Письменный стол смотрит в стену.
В кабинете главного дома звучит чудесный чеховский вальс Молчанова. Тихо. Элегически лирично. Здесь будто действительно все по-чеховски скромно и со вкусом. Было счастьем обнаружить в себе созвучное и ему: тяга к земле, три построенные школы, любовь к задумчивой нашей природе, лишенный мелкого честолюбия труд и т. д.
В музее нехватка экскурсоводов — вот еще один вариант для меня на всякий случай. Но и без этого нужно как следует прошерстить дневники и письма Антона Павловича.
В деревне выпили молока и пошли к погосту. Красивая деревянная церковь с куполом из пластинок осины, который светится, играет под лучами. Невдалеке у большого стога устроились на привал. Духмяный запах сена, звонкие колокольчики жаворонков, расхаживающие по голой земле грачи, белеющая березовая роща на другом краю поляны, и солнце, яркое, ласковое, приятно греющее руки и плечи — все было прекрасно и от этого даже немножечко хмельно.
6 мая
Письмо Р. Роллана Ж. Р. Блоку от 1911 г. «Я хотел бы, чтобы, независимо от ваших оценок моей книги, вы опубликовали бы все то, что в вашем письме относится к Толстому. Вы спрашиваете, как примирить идеи Толстого с законными требованиями жизни.
«Толстой, — пишите вы, — побуждает меня жить так, как я до сих пор жить не умел, жить по законам его добродетели; но стоит мне этого достичь — и мое поведение превратится в самоотречение и вступит в противоречие с самыми законными импульсами моей натуры.»
Дорогой друг, вы забываете, что этого идеала Толстого вам никогда не достичь, и никому его не достичь, даже самому Толстому. Прочтите в моей книжке, что пишет Толстой в послесловии к «Сонате» на тему об идеале христианского целомудрия (…) Для него верить — это не обладать, а хотеть, добродетель — это не самое совершенство, а постоянное восхождение к совершенству, которого никогда не достигнешь. Идеал Толстого — это движение и постоянное усилие.
Если весь мир станет Толстым, думаете вы, мир остановится. Если мир станет Толстым, мир достигнет цели; судьбы свершатся; он созреет для смерти — для прекрасной смерти, которая будет не уничтожением, а завершением прекрасного творения жизни.
Вот почему героическое толстовство — толстовство Толстого — является принципом действия, открывающим перед человеческой энергией такое поле деятельности, которого ей никогда не исчерпать.
Впрочем, имеются и другие принципы действия; я не отвергаю ни одного из них. Мир — это симфония. Каждый инструмент исполняет свою партию. Нужно постараться прочесть партитуру дирижера. Тогда сможешь еще лучше исполнить свою партию.»
Как это великолепно выражено, за исключением немного идиллически возвышенного конца!
А вот что Роллан пишет тому же Блоку в 1912 г.: «Если нам удастся еще двадцать лет прожить без войны, если мы будем по-прежнему развиваться в мирном труде и умственной деятельности — я уверен, что через двадцать лет Франция окажет на Европу влияние, равное тому, какое она излучала в 18 веке.»
Вот это уже совсем неудавшаяся идиллия, за которую Роллану и следующим за ним лучшим представителям интеллигенции, увлеченным его великим порывом, пришлось жестоко расплачиваться двумя мировыми войнами и окончательной гибелью социально-экономически необоснованных (читай — обглоданных требующим прежде всего денег и жратвы человечеством) иллюзий.
И все же Роллан удивителен, особенно когда он пишет такое: «Художником можно быть лишь тогда, когда ты полностью — в творимых тобой образах, но и когда ты совершенно отстраняешься от них после завершения работы, отстраняешься с той мощью равнодушия и забвения, какая присуща природе.»
7 мая
Слушал вечером 5-ю симфонию Мендельсона, удивительно глубока 3-я часть. Затем Фима принес букет черемухи, от запаха которой совершенно пьянеешь, у меня к тому же всплыли воспоминания детства, когда отец брал меня 6-7-летнего в однодневный поход, для меня казавшийся очень далеким и трудным. Его все называли черемуховым. Мы шли по проселочным дорогам через поля и деревни, для меня тогда необычные, поскольку кроме городских видов я других не знал. Хорошо помню, как в одной из них, остановившись на привал, пили холодное со льда молоко из погреба, а затем уже недалеко от станции в оврагах каждый наломал себе черемухи столько, сколько мог удержать в ладони. Уже в электричке, счастливые, с целыми охапками, как снежными сугробами, цветов, снимали с веток тонких противных до тошноты гусениц, очищая первозданную красоту удивительного дерева. Сейчас выбросил бы, наверно, всю черемуху, если увидел бы хоть одну гусеницу.
Внимательно перечел «Сестра — моя жизнь» Пастернака в своем сборничке из малой серии БП. Из 20 стихов отметил как отличные — 3, как хорошие — 2, как интересные — 3, в остальных идейная кайма размыта, только образность и ритм. Это было написано 27-летним поэтом, но уже там во всех без исключения стихах, как россыпи жемчуга, разбросаны перлы великого таланта, идущего к своему осознанию мира. Это уже не то, что в «Начальной поре» и «Поверх барьеров», там удивительная уже метафоричность, даже с избытком, чересчур, ощутимая физически вещность образов, деталей описываемых природных явлений, но при этом фантастическое «черт знает что», особенно если посмотреть на даты создания — это годы начала 1-й Мировой. Поражает схожесть и различия с ранним Маяковским.
8 мая
За короткую перебежку тепла все деревья распустились, не видел только дуба, не знаю, как он. А всего-то такой погоды было со 2-го по сегодня. Наступает новая пора, а мне еще не расстаться никак с той ранней прозрачностью леса, с копытцами воды под стволами, с беспорядочной, суматошной толкотней вернувшихся домой скворцов, с высоким, уже набирающим более густой голубизны небом. Надо теперь осознавать лето, искать к нему тенистые тропинки, разлагать на составляющие его сочную зелень, погружаться в него, как в песок, по самое горло, перехваченное тем же комом, что и в апреле.
Так, видимо, создавались Чайковским «Времена года»: октябрьская «Осенняя песня», июньская «Баркарола», апрельский «Подснежник», январский «У камелька». Он не просто гулял по лесу, выходил в поле, сидел у ручья — он слушал… Как это много — слушать и слышать природу! Только нужно уметь впитывать ее потаенные звуки и записать, донести эти то нежные, то страстные и всегда удивительные голоса, идущие извне. Так же чувствовали эти живительные токи и Чехов в своем Мелихове, и Толстой в Ясной. Как бы хотелось мне научиться, подобно им, передавать с такой тонкостью вдохи и выдохи скромной и в то же время удивительно глубокой отечественной природы. Тогда я смог бы сказать себе, что тоже приобщился к искусству.
11 мая
Два предыдущих дня провели в подмосковной Швейцарии — в Звенигороде. Все было прекрасно: и возвышающиеся на пригорках вереницы лесов, и полоса ближних полей, огибающая видные с нашего пристанища на срединном плато селенья, бросающая в оползни глины сочные зеленя, и хохочущий где-то неподалеку филин, и кукушка прямо над головой, и замеченная только под утро голубиная квартира прямо у нашей палатки в развилке ближней ольхи, и долгий вечерний костер, и пахнущая дымком незатейливая пища. Жаль, что работать с увиденным, входящим, кажется, в плоть и кровь, я не могу, так… какие-то наброски, которыми не передать даже малого ощущения близости с этой замечательной живой картиной. Для этого нужно не только эмоциональное восхищение, но, главное, постоянное наличие свободного времени, которого в должной мере у меня нет. Что ж, остается перебиваться мелочевкой.
14 мая
За утро прочитал киносценарий М. Антониони «Красная пустыня». В в очередной раз темы города, давления на человека бездуховной каменной цивилизации. Все это было уже много раз. Чем же он затронул? Прежде всего близкий мне облик Джулианы — романтика со сдвинутой психикой, не соответствующей принятым канонам, как у героини «Черного обелиска» Ремарка, любимой героини Г. Ж. Это личность, интуитивно чувствующая пустоту и отсутствие кислорода в наступающей по всем фронтам новой жизни, которая принесет еще большую фальшь и никчемность человеческих схем, функционирующих механически и будто состоящих из одних половых органов.
Джулиана — борец и одновременно жертва такого мира. Слабая и беззащитная, она для окружающих ненормальная, т.е. вне нормы. Герой и идиот равно идиот и герой — тема, идущая от Сервантеса и Шекспира, Гоголя и Гофмана, через Достоевского и Кафку переходящая к Ремарку и Булгакову. Здесь такой персонаж — женщина, поскольку сегодня это лучше и верней. Таких людей обычно называют «прошлыми», но они никоим образом не прошлые, наоборот — слишком будущие. В этом их трагедия и, главное, трагедия времени, нашего времени, уже пришедшего, сегодняшнего.
Такому герою присуща идеальная стройность души: тонкость, отклик на малейшее возбуждение психики, снисходительная мягкость к людям, зачастую просто не ведающим, что творят, и оттого бесконечная неизбывная вселенская скорбь.
Вся картина, нарисованная Антониони, напоминает красный, горящий город Шагала, и название почти то же — «Красная пустыня».
16 мая
Давно не был в своем лесу, и вот здесь. Только сошел с трамвая и углубился на десяток-другой метров, как чувство близости с ним обдало меня, словно волной. Что сразу бросается в глаза — это яркость и множество внешних деталей, сменивших недавнюю еще прозрачную глубину, которую в свою очередь почти восстанавливает обилие тени. Птицы поют, но куда не так призывно, как прежде, в начале апреля. Гнезд не видно теперь, и потому наблюдать за птицами почти невозможно, только впитываешь звук. От колебания листьев и солнца рябит в глазах. Дорожки сузились и из открытых, просторных стали загадочно настороженными, особенно на изгибах.
Все, вроде, усложнилось, от первоначальной несколько аскетичной материальности, по-античному простой и ясной, ничего почти не осталось. Голоса птиц, казалось бы, те же, однако стали утонченнее, трели технически совершенней. Скворцы уже не свистят бескорыстно, просто так, глядя на смутное еще солнце, призывая избранную только что подругу. Вокруг черных стволов по низу задрожали былинки новой поросли, как вышитая мережка кружева. От густой листвы деревья кажутся ниже. Лес уже так далеко не просматривается, потому теперь не стремишься в неясную, но различимую в очертаниях зовущую даль. Листочки еще светлые, мягкие и хрупкие, но по размерам почти взрослые, словно светлокожие юноши с пушком над верхней губой, худые, в очках, что не набрали еще соков и ума, но уже вытянулись в рост, на голову выше окружающих.
Чем дальше идешь, тем лес больше открывается, оживает. Хотя старые липы вдоль дороги и прикрыли дупла-гнезда, но узнаю или угадываю их по памяти. Прошлогодняя сухая трава скрылась под свежей, для которой стала естественной пищей. Издалека слышен молоточек кукушки. Вот и комарики налетели, теперь не зевай по сторонам, сорви хотя бы веточку для опахала, не то…
Сворачиваю в молодой березняк. Вербы отцвели. Сухо. От земли поднимается мягкое тепло. Взор скользит по островкам нежных, коротконогих фиалок, по кустам малины, выбросившим уже хрупкие мохнатые соцветия. Наконец набрел на подобие поляны с сочными, могучими одуванчиками, почти перпендикулярно тянущимися к свету так, что захотелось даже пригнуть их параллельно почве, подтрунивая, пропеть: одуваны как диваны… Все это писалось легко, на ходу. Теперь осталось найти пенек или сваленное дерево, усесться на него и попробовать заниматься серьезно
С налету сложился «Крестьянин», хотя здорово мешали комары. Здесь много всяких насекомых: зеленые «ведьмы», желтые мушки с длинными, отброшенными назад крылышками, как у Ту-104, множество жучков-паучков, а в ландыше, еще не совсем раскрутившим трубочку парных листьев, застал спящую крупную божью коровку. Ну, вот, вроде, и все, что записалось в этот необычно-обычный день.
19 мая
С наслаждением читаю то ли роман, то ли художественное эссе о Хемингуэе, как он писал «Колокол» по 1000 слов в день в течение 7 месяцев, спокойно и вдохновенно, как ездил за материалом, как автобиографичен, при этом используя истории своих знакомых. Что в нем поражает, так это то, что он, как, пожалуй, ни один из художников, главную свою линию вел из простой, элементарной истины: надо жить в соответствии со своим понятием правильности того, что делаешь. И он старался жить так, как ему хотелось: ездил на войну запросто, как на прогулку да еще с приятным холодком риска, одинаково страстно переживал корриду, рыбачил, охотился, любил женщин и писал, писал так же просто и естественно, как и любил. Условия позволяли ему делать это. Никакого исступления, самокопания. Главное требование — человек должен быть просто порядочным перед собой, не скотиной и так же относиться к другим, как к самому себе.
Это так далеко от толстовства, хотя у раннего Льва Николаевича в «Казаках» это тоже есть, вспомним Ерошку. Однако натуры слишком разные, оттого разные и жизненные кредо, хотя по темпераменту они, кажется, близки. Я иногда завидую американцу, но насколько ближе мне наш гений.
20 мая
Найти у Плутарха историю о Ликурге. То, что прочитал в «Знаменитых греках» о нем, очень заинтересовало, особенно, что касается государственных реформ, последнего путешествия и мотивов гибели. Поразительно, что до тех пор, пока Спарта соблюдала данные им законы, она была сильна при всей аскетичности нравов, и наоборот: как только туда проникло преклонение перед материальными благами, она погибла. Не великолепный ли это материал для драмы!
23 мая
Закончил «Постороннего» Камю. Сложилось впечатление, что это много сильнее, чем вся литература «потерянного поколения», много глубже, хотя в чем-то безотрадней. Близок ли мне экзистенциализм, пока не знаю. По отрицанию всего высшего, по торжеству вселенского хаоса — скорее нет, я по натуре не нигилист. По грусти же о потере идеалов, какой-то тоске, причем космического масштаба — скорее да. «Отчуждение личности» в равнодушном к тебе мире ощущает каждый не глухой и не слепой человек. Однако надо ли уходить от него недружественного целиком в себя? Не стоит ли пытаться как-то изменить вмененный или же не вмененный кем-то абсурд? Может, в этих попытках и есть главный смысл нашего существования?
После дневного дождика и тягостных раздумий от прочитанного вышел на улицу. Из палисадников несет запахом цветущей сирени, вишни, рябины так, что слегка кружится голова. Хмарь прошла, небо открылось к вечеру чистое, голубое. Высоко кружат стрижи. Так же и у меня очистились мысли, стало спокойно и хорошо.
26 мая
Сегодня получил ответное письмо от Арсения Тарковского. Счастлив, что этот глубоко уважаемый мной человек и большой поэт не отмахнулся от молодого литератора. Позвоню ему завтра. Настроение приподнятое, поскольку недоброжелательности не жду, как это всегда присутствовало в редакциях и псевдоинтеллигентных журнальных кругах, а жду серьезного, полезного разговора с мастером.
Слушал свою любимую классическую музыку. Поразительный секрет у Чайковского: чем глубже в него погружаешься, тем больше осознаешь несовершенство словесного выражения эмоционального состояния перед звуковым. Если бы можно было передать впечатления от раскрывшегося перед тобой пейзажа так проникновенно, как у него в 1-й части шестой симфонии!
Кстати, мои эксперименты в области стихомузыки притормозили.
29 мая
Какой молодец старший брат — большой синий том Пастернака теперь мой наконец, собеседник до конца жизни! Сразу погрузился в статью Синявского. Все, вроде, верно, достаточно глубоко, хотя как можно сказать о нем простыми словами, когда ими говорил он сам, но как говорил! Некоторые пассажи вообще сбивают с толку — «субъективный поэт»! А каким же иным может быть поэт такого масштаба? Это самая высокая похвала: субъективный — весь в себе и одновременно весь наружу. Так вода из тучи выплескивается на иссушенную почву, и пусть земля впитала слишком поспешно, не вобрав, как хотелось бы, но все же частично взяла. У кого из художников достало бы творческой влаги, чтобы напоить ее (нас, простых смертных) до пресыщения — она все одно высыхает, как и нам не дано долго стоять на мысочках.
Хорошо отмечена в статье манера П. в описании природы не через «я», как у Есенина, Цветаевой и др., а наоборот: «я» через природу. Не думая об этом, я тоже подсознательно тянулся к такому же.
Не спал с 5-ти: дорабатывал белым стихом из февральского еще цикла, чтобы окончательно закончить сборник. За утро устал и с наслаждением весь отдался скрипке Паганини (1-й концерт).
Как и 5 лет назад, когда только лишь просматривал такой же том из большой серии БП, данный мне всего на несколько дней, я с ужасом и восторгом вижу, что в прошедшие 10 лет и будущие лет 50 говорить стихом не надо: здесь почти все уже сказано и выразить так и такое вряд ли кому-то будет под силу. И мне так же далеко до него, как до неосуществимых пока мечтаний о земле, как до океана, до Кордильер, как до той настоящей в своем горниле любви, называемой единственной, без которой жизнь можно считать неосуществленной. Увы…
6 июня
Вчера смотрел «Турбиных» Булгакова. Как прозаик он много интересней драматурга, судя по пьесам («Бега», к сожалению, не читал) и инсценировкам («Анна Каренина» без Левина и Кити)). Я не режиссер, но вчера совершенно явственно представил экранизацию его вещей, особенно «Мастера и Маргариту», но именно экранизацию, а не инсценировку. Его надо ставить, как и Гоголя, с чертями, летающими бутербродами, каруселью уходящих за горизонт дворян, полным хаосом настоящего и весьма призрачного будущего.
В «Турбиных» нарушена и сама структура первоисточника. Роман — это эпическое полотно с рваным ритмом, массой героев в потоке хаотических событий, происходящих то в затаившемся городе, то на подходах к нему. В пьесе — только одна квартира и все герои немного смешны, не только Лариосик. Кроме прекрасного 1-го акта, остальные провисают, не тянут до глубокой идеи о той самой «Белой гвардии», которую растеряла Россия. Щемящее чувство утраты не посещает и в заключительной сцене, где артподготовка входящих в город большевиков не стыкуется с заздравным блефом Мышлаевского.
По выходе из театра и раздумье об обстоятельствах и судьбе Булгакова, я, конечно, представил, каково было автору прятать свою главную мысль за сценическими придумками, чтобы протащить хоть что-то из нее в те невыносимые времена, чтобы в конце концов просто элементарно выжить.
Ах, Россия, Россия…
7 июня
Вчера в лесу, когда уже смолкли оглушительные базарные птичьи споры и тихо начал спускаться вечер в сопровождении своих вечных спутников — тишины и прохлады, когда сквозь расщелины в мягком покрове облаков прямо на горизонте светило начало стремительно пробиваться и в конце концов добилось своего, затратив столько сил и энергии за тем только, чтобы протянуть свою теплую ладонь друга на прощанье, будто говоря: «Прощай до утра, товарищ,» — когда вся полоса неба по-над закатом раскрыла свой глубокий простор, края которого засветились огненным пламенем, когда речушка внизу начала наматывать на притаившиеся по берегам камыши запутанные бинты тумана — тогда-то только и явился в овраге первый соловей. Сначала робко, полусвистом он бросил свое ля! и смолк, кажется, совсем. «Улетел», — подумал было я, но вдруг снова и снова он то ли прочищал свое горлышко, то ли проверял слышимость и проводимость звука в окружающем воздухе. Постепенно робкий посвист превратился уже в двойной, тройной, расширялся и креп, превращаясь в целый поток полнозвучия, и вдруг разлились на всю округу первое стремечко и долгожданная наковальня.
Однако это было только начало концерта, окончательно птица распелась, когда уже стало темнеть. Но разойдясь в своем вдохновении, она разбудила соседних соловьев, заставила и их поверить в свои силы, и вскоре загремел уже весь оркестр. Трели неслись и с другого края оврага, и откуда-то из чернеющей полоски ближнего леса. Заслушавшись, я застыл и долго стоял на одном месте. Но только решил двинулся, чтобы вернуться к дороге, как из-под ноги с шумом, до смерти меня напугавшим, вылетела пара диких голубей и, гулко хлопая на взлете лопастями крыльев, скрылась в лапах стоявших на стороже густых елей. На тропинке глина была уже чуть влажной и прохладной. Я шел быстро, поскольку торопился выйти до полной темноты, а вокруг со всех сторон во всю мочь надрывались соловьи, уже даже слишком громко, как хулиганящие мальчишки, озорно заложившие в рот по два пальца каждой ладони. И яркий, словно выкованный на сыплющих искрами соловьиных наковальнях, вставал над загадочным теперь лесом остроухий месяц.
8 июня
Читая о Валери в книге Моруа «Литературные портреты», оглянулся на свой путь развития от юности и ранней молодости к нынешним годам. Как у многих начинающих, пора «любви, надежды, тихой славы» проходила на вечерних затемненных улицах равнодушного города в размышлениях до боли в голове о судьбах человечества, о возможности утверждения своего «я», о необходимости достичь ясности в творчестве, пушкинской прозрачности. Само же творчество естественно начиналось с подражания сначала любимому тогда поэту, поскольку его, еще не углубляясь, знал по школе. В 10-м классе я даже начал поэму в стиле «Евгения Онегина» и написал строк 150. Затем с таким же «успехом» присоседился к Лермонтову, Брюсову, послеоктябрьскому Маяковскому. Эта болезнь продолжалась года 4, затем, осознав тщетность этих попыток приблизиться к настоящему искусству, вступил в полосу молчания, чтения книг по философии, истории, углубился в занятия литературой и языком в институте. Вероятно, там в процессе соприкосновения с широтой и глубиной литературного процесса, начались поиски себя не только через произведения прежних художников, но и в опытах ближайших, более современных и близких по духу. Какие-то свои образы, еще не совсем проясненные, явились на Кавказе, вдохновленные первой, захватившей меня целиком, любовью.
Недостаток мой или достоинство — не знаю, но могу восхищаться разными, подчас даже противоположными по форме и содержанию произведениями мастеров, принимаю многое, кроме откровенной попсы, что, однако, не мешает искать свою узкую, еще не вполне определенную тропу. Теперь, правда, круг любимых сузился до 20—30, но отметать то, что кажется чуждым, не могу, если интересны какие-то мысли или детали. Они тоже в определенной мере близки, пусть это и не мое.
Что касается мыслей художников слова Франции, которые анализирует Моруа, то меня поражают их поиски глубины, заключенные порою лишь во внешнем: методике исследования, стиле письма, приспособления к вкусам публики. Для меня главное все же в субъектах и объектах изображаемых картин жизни. Однако при этом мне нравятся их упрямые попытки достичь истины, граничащей с бездонностью.
Сейчас, на данном отрезке жизни, я удовлетворен тем, что стараюсь идти своим путем, что стремлюсь к земле, к почве. Я еще не пришел к ней, но уже знаю, что дальше будет только сложнее, поскольку нет уверенности в том, сумею ли я справиться, охватить суть ее, передать обретенный смысл людям и выйти обновленным и омоложенным этими вечными поисками, как Фауст. В настоящее время путь этот кажется мне единственным, и от сознания этого я почти счастлив.
16 июня
Все два выходные дня занимался печатаньем сборника. Страшно устал, и только сегодня немного прояснилась голова.
В воскресенье долго натягивавшийся нарыв обложных туч наконец прорвался ужасной грозой. Она медленно приближалась, издалека ворча громами. Потемнело. Ветер налетал ураганом. Стало даже немного страшно. Я выскочил на крыльцо, когда небо вдруг раскололось над головой и ливень обрушился сразу, причем таким потоком, что струи его были не разрознены, а неслись ручьями с крыш, и часть влаги, превращаясь в пар от соприкосновения с горячим еще от дневного зноя асфальтом, словно курилась над ним. По улице потекли целые реки. Было прекрасно. Молнии и грома словно били наповал, и один из ударов был таким оглушительным, со звоном, будто бомба разорвалась над самой головой и посыпались осколки. Я непроизвольно бросился в дом, наивно ища в нем защиты.
Гроза прошла быстро и начала удаляться вместе с грохотом, ветром, дождем. В палисадниках вода впитывалась в землю, как в губку — до того земля была суха и жаждала влаги. Молодая трава и робкие еще всходы цветов сразу склонились перед стихией и поднялись только к утру. Стало удивительно свежо, дышалось вольно, будто обновление пошло и по стране.
Читаю «Антихрист» Мережковского. Довольно интересно показан царевич Алексей, не знаю, правда, подлинны ли его дневники. Петр, по мнению автора, очень спешил в своем стремлении построить европейскую страну, что приводило к обнищанию народа, массовой гибели крепостных на новых постройках. А вот разумно ли это — писатель окончательной оценки не дает. С одной стороны, он понимает, что в России нельзя иначе, но, с другой, считает, что таких жертв можно и нужно было избежать. В его романе сын выступает более умеренным, чем отец, склонным проводить реформы на национальной русской почве, его протест противодействует не новому, но всегда сопровождающим его наростам: пьянству, разврату, воровству, безбожию. Этого, конечно, и ранее было достаточно, однако не в таких же масштабах. Алексей против вульгарного материализма Петра, и Христос дорог ему как духовное начало.
В предреволюционный период в стране, во многом напоминающей описываемую в романе, автор выступает как защитник «чистого» христианства, против той безоглядной ломки, которая, возможно, и даст плоды экономические, но уничтожит нравственность и мораль. Еще Энгельс говорил, что всякий прогресс с другой стороны ведет к регрессу (положение женщин после моногамного брака, рабочих в разгул технократии и т.д.). Так же и здесь: отставшую Русь в новом веке заманчиво было поднять на дыбы, но чем это обернется для народа? У Мережковского Петр в запале движения отметает скопом все старое. Алексей же считает, что национальные традиции не вредят развитию, и, если их правильно направить, то можно в строительстве нового избежать многих жертв и вредоносных наслоений.
18 июня
Да, нет любви, а что есть, так это пустое. Как в старину говорили — «один только блуд», хотя на нем да на порядочности и держится все. Что делать, когда все не по-моему, понимания никакого нет. Стараюсь не обращать внимания, однако долго делать это не могу, срываюсь, и стыдно, и тошно. Надо как-то менять. Все надеюсь, что буду жить один, за городом, но когда это будет и будет ли.
20 июня
Дочитал «Антихриста». Роман сильный, особенно интересно сравнить его с последующим толстовским «Петром I». У Мережковского уже раньше использованы в композиции перемежающиеся сцены ассамблей, скитов, заграничных реалий, великолепный язык, вот разве что слишком много «мессианства». Характеры его героев переданы значительно психологичнее, чем у А. Толстого, у которого шире показ, больше персонажей, лаконичней фраза, однако идея настолько по-сталински тенденциозна, что жестокость и нищета не вопиют, а только создают нужный пропагандистский тон на наивно обнадеживающей картине вздыбленной, обагренной кровью жертв России. Мережковскому интересен царь-борец, но и противоположный лагерь он рисует с симпатией, как бы напоминая, что это один народ, будущее которого неотвратимо вне зависимости от характера правителей. Однако, в его понимании, эта неотвратимость не нуждается в такой жестокости, как у Толстого. В «Антихристе» собран громадный документальный материал, сам по себе настолько интересный, что зачастую подчиняет авторский художественный вымысел. Но это никак не мешает целостному восприятию. Толстовское произведение не менее интересно, даже ритмичней, ярче, сочнее, однако уже вторично и к тому же сильно попахивает желанием понравиться одному — правда, какому! — человеку ли, монстру, одержимому безумной идеей.
24 июня
Не писал дневник, целых 4 дня. Тут Илик прав, говоря о моих недостатках: однобокость философии, тягучесть жизни и прорывающийся при всем нежелании признаться в этом пессимизм. Однако на данном этапе я своим ростом могу быть доволен, хотя немного страшусь предстоящей работы. Накопившегося задела полно, но как-то пойдет сейчас, летом, задуманная еще зимой поэма? Что будет с прорвой незаконченных, брошенных стихов? Да и начинать новую книжку, как всегда, страшновато, кажется, что будет не лучше прежней. Но надо работать, другого не дано.
1 июля
Пишу за вчера и сегодня. Решил отправиться с тещей на Украину, в ее родные места, в маленькие еврейские местечки в бывшей черте оседлости, где жила когда-то большая семья и где теперь реальные следы прошлого — братские могилы расстрелянных оккупантами тысяч ни в чем не повинных стариков, женщин и детей.
Дорога, поезд. Полный вагон пассажиров. Душно ужасно. Но вот первая дорожная суета прошла, люди угомонились. Я лег на свою верхнюю полку и принялся читать. Наискосок, на верхнем же, только боковом месте лежала девушка лет 17-ти. Отрываясь от книги, я изредка поглядывал на нее. В чертах лица ее не было какой-то особой красоты, но кожа была нежного цвета мягкого загара, гладкая, томная. Она дремала, лежа на спине, и при этом ее руки вдруг приподнимались и начинали странно блуждать, словно она хотела, но не решалась обнять кого-то. Я глядел на нее все дольше и все внимательней. Сами собой сложились стихи. Мне давно не писалось так естественно и спокойно, а тут слова легко ложились в строки сами, почти не приходилось подгонять их под рифму и размер.
После жаркого, солнечного, раскалившего вагон дня пришли, наконец, сумерки. Не спалось. Я приоткрыл верхнюю часть окна так, чтобы струя свежего воздуха била в голову и плечи. Читал. Думал. И снова откуда-то приходили стихи. Я записывал. Работалось так легко в непривычных, вроде, условиях под непроходящий, однообразный ритм колес, легкую тряску, особенно при торможении. Жутким почерком, который предстояло потом расшифровывать, я рисовал летящий в ночь поезд, духоту, свое настроение и вечернюю зарю, разливавшуюся пожаром сквозь разрывы несущих долгожданную грозу туч.
После довольно долгого творческого молчания меня вдруг словно прорвало: мысли воплощались в стройные ряды стихов, плотина скованности была разрушена, все формалистические препоны унесены потоком. И пусть стихи, написанные в поезде, по более спокойному вторичному прочтению оказались еще сырыми, некоторые образы и связи не совсем удачными, однако они пришли свободно, без надрыва, сами собой. Я благодарен дороге за это и надеюсь довести весь цикл «Две недели лета» в конце концов до ума.
Могилев Подольский, куда мы приехали к утру, стоит в котловине, вокруг раскинулись голые холмы. Город получил название от не совсем приятного слова «могила», а подольский оттого, то стоит внизу, на «подоле». Когда безоблачно и ветер почти не доходит до котловины, то можно представить, как жарит солнце по маленьким белым оштукатуренным мазанкам, разбросанным по пыльным улочкам, расходящимся от вокзала.
Узнав на станции, что автобус до села, куда мы направлялись, будет часа через два, моя сверхактивная теща решила не сидеть среди простого крестьянского люда, расположившегося на небольшой площади с торбами и корзинами, а наведаться непрошенной, но редкой здесь московской и посему почитаемой гостьей к более «порядочным» людям, естественно, соответствующей национальности или по меньшей мере оставить у них вещи на час-полтора и прогуляться по городу. Прямо животная ее интуиция привела нас к одной из типичных хаток, может быть чуть аккуратней соседних, в которую она и постучалась.
Дверь открыла женщина средних лет, казалось, лишенная какой-либо индивидуальности, и впустила нас в идущую прямо без прихожей небольшую комнату с голыми, холодными белеными стенами и одним маленьким окошком. Подумалось, что здесь же, по-видимому, находятся и кухня, и спальня, а, возможно, и туалет. Стол, шкаф, лежанка и три седых от старости стула составляют всю обстановку. Над лежанкой, правда, висят несколько увеличенных, оттого потерявших цвет фотографий. За столом, стоящим посредине комнаты, завтракает окрошкой в эмалированной посудине совершенно круглый от маленького роста и непомерно большого живота мужчинка. Представились. Он, пожимая протянутые нами ладони, улыбается не только гнилыми зубами, но и рыжими висюльками всклокоченных волос и напористо предлагает разделить с ним означенную трапезу. Мы отказываемся вежливо, конечно, наблюдая тучи мух на хлебных крошках, рассыпанных по линялой клеенке и, возможно, частично попавших и в саму миску. Я сдерживая подступающие к горлу позывы тошноты, но чувствую, что теща может не сдержаться. Однако она тоже справилась, мы сели на заправленную лежанку, и как-то потек непринужденный разговор.
Хозяин назвался Срулем (по-еврейски Израиль) Жидовецким. Я с трудом сдержал смешок — дальше уже ехать некуда. Зато какая находка для записных антисемитов! Он с энергией рассказывал о своей семье, особенно детях, разъехавшихся по большим городам и удачно сделавшим свои карьеры. В качестве подтверждения указал на свою дочь, ту, что открыла нам дверь, приехавшую навестить его, недавно овдовевшего. Затем он спросил тещу о ее положении, причем слушал с большим любопытством, что не мешало, однако, чавкать и улыбаться одновременно. Я молчал, поскольку разговор велся на идише, который совершенно не в зуб ногой по причине, что дома он никогда не звучал. Но по тещиному переводу для меня отдельных интересных фрагментов я узнал, что хозяин повел рассказ о каком-то Лёне, шутнике лет 70, который вдруг умер прямо на рынке, затем о гордости семьи — родственниках за границей: в Америке и Израиле. Оживившись до предела, он наконец выкатился из-за стола к шкафу и достал кучу цветных фотографий каких-то неестественно красивых в размазанных красках детей, внучек и внуков, с радостью демонстрировал их нам, особенно одну, где был изображен мальчик лет 13, получавший в синагоге право называться совершеннолетним, похожий на деда как две капли воды.
Странный дом и странные обитатели, казалось мне, из далекого прошлого. От дочери главы узнаю, что ее отец был мясником и колбасником, даже прилично зарабатывал. Ага, вот откуда его рыхлость и рыжесть! Теперь он на пенсии (48 рублей), но, как сам признается, понемногу докладывает (откуда?), так что ему хватает. Я еще раз охватываю взглядом убогую обстановку, однако не могу представить, как они тут жили с кучей детишек, где те играли, делали уроки и вообще все остальное, включая интимное…
Пора было собираться на вокзал. Уже прощаясь, узнав от меня, что теща не замужем, Сруль настоятельно просит ее заехать к нему на обратном пути и одновременно сует мне в руки растрепанный блокнот с выпадающими листками, чтобы я записал тещин московский адрес. Я записываю, и с тем мы покидаем этот случайно оказавшийся у нас на пути странный дом, очевидно, довольно типичный не только в этом уголке нашей такой же странной страны, казалось бы огромной и богатой, вызывающий одновременно и горькую иронию, и щемящую жалость.
Осматривая город по пути к автостанции, удивился тому, что голуби на деревьях и проводах не курлычут, как обычно, а просто стонут. Вглядевшись внимательно, я понял свою ошибку: это дикие голуби, они светло коричневого переливчатого цвета, в полете много изящней и, естественно, легче упитанных городских. Центральная улица, конечно, носит имя Ленина. Напротив магазина «Кулинария», выбранного для этого скорей всего не нарочно, он сам фанерный сидит на деревянном же бревне, сзади, немного наискосок, из соломы воссоздана копна сена, а сбоку — подобие костра с костровищем и подвешенном на поперечине синим эмалированном чайником. Все сооружение под стеклянным куполом, чтобы, не дай бог, чего-нибудь непредвиденного не случилось. Теща моя прямо обомлела: «Смотри-ка, прямо как живой!» Я тоже такого еще не видал, однако успокоил ее наивную, далекую от интеллекта душу.
В культурном плане в городе имеется четыре кинотеатра и один книжный магазин. В природном — Днестр, широкий и красивый. От быстрого течения гладь воды местами даже пузырится. Застывшую провинциальную тишину разрывают своими всхлипываниями разве кружащие над рекой чайки.
На базарной площади, на одном углу которой находится и автостанция, густая пыль перелетает с одной стороны на другую и обратно в зависимости от движения редкого транспорта, и так без конца. Пока ждем около часа, она покрыла все открытые участки тела, въелась так, что, кажется, не будет никакой возможности смыть ее, соскрести. А солнце печет, все, как в пустыне: жажда, сухое горло, желчь. Теперь даже не верится, что деревни, которые мы проезжали на поезде, с густой, пышной зеленью, с богатыми каменными церквями на пригорках были настоящие. Здесь представляется, что везде жара, пыль, из людей — одни жидовецкие.
Дорожный энтузиазм постепенно снижается почти до нуля, а тут еще из микрофона нам сообщают, что автобус до Лучинца, который мы уже устали ждать, сломался и следующий рейс, возможно, будет часа через 3. Я в ступоре и уже ищу глазами свободное место на скамейках, занятых дремлющими пассажирами с огромными торбами, чтобы по меньшей мере подремать на пустой желудок: пара сморщенных пятидесятикопеечных пирожков с непонятной начинкой не в счет. Но моя боевая теща терпеть «это безобразие» не собирается.
Уступая мне свое место, она встает и, гордо расправив широкие плечи, направляется в диспетчерскую, а, может, и к самому начальнику «этой конторы». Минут через 20 она возвращается с порозовевшим, но удовлетворенным лицом. Опережая мое любопытство, она, усаживаясь, сообщает: «Я ему все выложила. Я сказала, что мы из Москвы, и если он думает, что Брежнев не знает, что здесь происходит, так он узнает!» Я уже готов был расхохотаться, как вдруг из того же микрофона прозвучало, что ближайший рейс в какое-то, не помню, местечко переносится, а автобус на Лучинец будет подан через 10 минут. Вот тебе и провинция! Вот тебе и теща! Вскоре мы уже покатили к конечной цели нашего путешествия.
2 июля
Лучинец — довольно большое село километров в 30-ти от Могилева. На главной площади — магазины: продуктовый, промтоварный, хозяйственный, культтоваров и аптека. Привилегированное место продавцов занимают, вероятно, по традиции одни только семиты. Домики идут не как в наших селах по одной линии, а лучами от площади. Это беленые мазанки, в основном крошечные, без террас, хотя есть и попросторней, но на вид такие же. Направо от хатки, где мы остановились у двоюродной сестры тещи, старой девы с совершенно детским складом жизни и ума, белеет двуглавый костел за массивной каменной оградой. На праздники туда приезжает ксенз, собираются прихожане со всей округи и идет служба.
Вчера вечером, когда мы трое, как здесь принято, сидели перед дверьми дома на старых поскрипывающих стульях, подходили, сменяя друг друга, поздороваться и немного поболтать пожилые местные местечковые евреи, расспрашивали тещу о новостях, говорили эмоционально, почти кричали, так же громко раскатисто смеялись и сморкались. Фигуры и физиономии разнообразнейшие, руки у мужчин тяжелые, со вздувшимися венами, рабочие руки. Над этим, как будто птичьем на мой слух разговором на идише, на еле видимой паутине парили пауки, довольно большие, с трехкопеечную монету, с белыми крестами на вздутых темных спинках. Я насчитал их штук 7.
Сегодня еще до 7 утра пошли на базар. Как тещу приветствовали на площади! Какие лились гимны в честь поезда, доставившего ее сюда. Все это непередаваемо. Сама она в старом, но почти бальном платье (не важно, что молния сзади не застегивается по причине давнишнего отсутствия замка), в чулках, тапочках, с ниткой дешевых бус на средней глубины декольте и с ярко, словно свеклой, накрашенными губами, гордо выпрямив стан, шествовала вдоль торгового ряда, оживленно разговаривала со знакомыми товарками, что, однако, ничуть не мешало ей упрямо торговаться и запихивать в уже тяжеленькую корзину, которую нес, естественно, я, купленное съестное.
В четверг рынок небольшой. Говорят, что в воскресенье будет грандиозно, съедутся из всех окрестных деревень, пригонят на продажу даже скотину. Сейчас же довольно скромно, хотя та же обычная строгая закономерность: украинцы продают, евреи покупают. Ранние ягоды и овощи еще дорогие, пора им не пришла, зато молоко — 25 коп. литр, творог — 15 коп. стакан, сметана — 50 коп. поллитровая банка, яйца не дороже 1 рубля за десяток. Все это и кусок масла в лопушином листке было куплено довольно скоро, на ходу, но главное-то впереди — какой обед у еврея без курицы! Однако с этим все далеко не так просто. Конечно, ощипанных тушек — навалом, бери не хочу, а вот живой птицы для потребляющих только кошерную пищу, подготовленную официальным иудейским профессиональным резником, совсем нынче немного, всего у 4—5 продавцов. Итак, подходим ближе. Возле каждого из продающих небольшой кружок желающих. Щупают по очереди, обсуждая, не слишком ли жирная, осматривают гузку, сдувая для этого мягкий пушок на попке, торгуются до получаса за каждые 20 коп., советуются друг с другом. Теща наконец сделала свой профессиональный выбор и понесла лакомую жертву головой вниз, держа ее за связанные бечевкой лапы. По дороге домой нас не единожды останавливали тоже, вероятно, крутые специалисты, как правило женщины-хозяйки, щупали добычу, поддерживали на ладони, прикидывая, на сколько потянет, стоит ли отданных денег.
Такое вот веселое раннее базарное утро. А в то же время на другой стороне этой затравевшей площади проходит разъезд тракторов, грузовиков, какие-то колхозники едут на поля, какие-то идут в коровники. Пора работать. С 9 часов солнце начинает припекать, громко выступают петухи, галдят соседские детишки. Мамаша у них, молодая еще украинка лет 35, в серой холщовой юбке и такой же кофте, расправляется с ними круто. Домишко ее плохонький совсем, почти развалившийся, с дырявой черепичной крышей. Как мне сказали, она гулящая, принимает любого встречного-поперечного. Оттого и бегают трое приблудных, неухоженных девчонок. Здесь кто не работает, тот живет в полной нищете. И эта красавица, говорят, если и ест, то пустой хлеб, цыбулю да бурак, хотя и бутылочка винца перепадает иногда от случайного кавалера. Утром она зашла к нам со всем своим выводком: а вдруг удастся чем-нибудь поживиться у приезжих. Глаза темно-синие, почти фиолетовые блестят, как у психических, юбка, видимо, единственная, не подшита, по низу полощется по голым немытым лодыжкам. От глаз по дуге до подбородка с обеих сторон пролегли две глубокие борозды. Вся она какая-то грязная, лапастая, однако не выглядит жалкой. Не знаю, правда, кто может покуситься или пожелать такую. Дети тоже неухоженные, рваные, глядят, как затравленные волчата, и даже леденцы, которые они сразу же прячут за щеку, не смягчают их. А впрочем, что это я взялся судить женщину! Кто знает, какие обстоятельства привели ее к такому положению — чего только в жизни ни бывает.
Внизу перед селом запруженная речка образует длинный, метров с 200, довольно широкий водоем, по берегам густо поросший камышом. Над его поверхностью постоянно барражирует с десяток чаек. Оперенье их серое в синеву, они меньше наших, таких же озерных, стонут, как чибисы, и ловко выхватывают из воды зазевавшуюся мелкую рыбешку. Как только начинает смеркаться и на прохладную уже землю кучками усаживаются разноцветные бабочки, наступает жабья охота. Словно слаломисты или какие-то древние ископаемые «завры», они подбираются к добыче медленно, неслышно и замирают в полуметре. Затем последний мощный скачок — и для легкокрылых все кончено. Долго кружит на одном паренье крыльев то ли журавль, то ли аист, не теряя высоты, спокойно и прекрасно, а потом с достоинством, не торопясь, будто нехотя уплывает вдаль, к полоске едва различимого горизонта. По другую сторону плотины маленькая, обессиленная мощной стеной и небольшим выпускным шлюзом, та же речка еле течет вдоль зеленой полосы левады. Там высокая густая трава, редкие деревья среди поросли ольхи, прохлада. Сидеть на пеньке и писать дневник очень приятно.
Днем без меня (я как раз созерцал все вышеописанное) случилась страшная история: у двух соседских старушек сбежала курица, только утром приобретенная на рынке. Она как-то, вероятно, клювом сбила веревку с лап, через дверь сиганула прямо в огород и была такова. Теща видела ее бегущей у дома напротив, но, естественно, не придала этому значения — мало ли крутится разноперых хохлушек у палисадников. Тут же собралось откуда-то прослышавшее о таком вопиющем безобразии милое суетливое старичье, и потекли сочувствующие ахи и вздохи — еще бы, мясо исчезло из почти готового бульона! А по мне птица — молодец, сумела вырваться хотя бы на недолгую свободу. Теща облазила всю ближайшую округу, выслеживая блудницу, пытаясь заметить, где та сядет наконец, чтобы вернуть купленный законно товар в лоно кастрюли. Курица же бегала долго с одного двора на другой, а потом, видимо, уставшая, залезла на серебристый тополь и уснула. Уже вечером ее, беднягу, сняли с дерева вернувшиеся с работы мужики. Так однодневный, к сожалению, не человеческий бунт был успешно подавлен.
3 июля
Ранним утром разбудил шум капели дождя по крыше. Он как-то быстро прошел, я встал, умылся и вышел из дома. На реке тихо, редкие рыбаки подремывают за удочками, на другой стороне двое мальчишек в зарослях прибрежного камыша, возможно, ловят раков. Невдалеке от меня в небольшой заводи по колено в воде притаился дед с большим, судя по раскинутым дугам, сачком. Я спускаюсь с пригорка и прохожу мимо него. Он пугливо озирается, показывая мне великолепный щучий профиль со вздыбленной по обеим сторонам бородой и торчащей в зубах прямой трубкой. Старик настолько испуган то ли моим внезапным появлением, то ли тем, что его застали за нехорошим делом, что я быстро прохожу мимо и не спрашиваю об улове, чтобы он невзначай не плюхнулся в воду.
Я иду вдоль берега к зарослям камыша, надеясь увидеть там гнезда чаек и (вдруг так повезет!) самого журавля. Как только я подхожу к тому месту, где камыш особенно густ, на меня бросается пара чаек. С диким криком они кружат над моей головой, призывая на помощь других птиц. Они так напористы, что я принужден скинуть рубаху и крутить ею над головой, чтобы отпугнуть распоясавшихся мерзавок. Однако они кричат еще громче, и я соображаю, что сам их потревожил, что где-то совсем рядом гнезда с выводками. Что ж, наблюдать их, увы, не получится, надо было подойти крадучись, незаметно, а теперь птицы встревожены не на шутку. Убираюсь восвояси.
В леваде сыро и даже прохладно. Здесь тень и потому так приятно, особенно после дождя. Через определенные в полминуты промежутки сверху раздается звонкий, переливчатый свист той самой птицы, которую спугнул вчера. Звук гортанный, прерывистый, как в детстве у игрушки-соловья, когда нальешь в трубочку немного воды. Я долго смотрел сквозь густые ветки ветлы над головой, но отчетливо так и не увидел птицы, вероятно, иволги, только, когда уже собрался пройти дальше по тропинке, промелькнуло вверху что-то желто-крапчатое и бесшумно исчезло.
Солнышко поднималось, становилось теплее. Я вышел из левады, поднялся на пригорок и сел на бревно у плетня первого от реки дома, чтобы записать увиденное в дневник. Подошедшие двое пацанов с любопытством смотрели, что это я делаю. Через несколько минут из калитки вышел немолодой (лет 55—60) мужчина и сел рядом. Выяснив, откуда я и к кому приехал, он не торопясь закурил и принялся рассказывать с подробностями, как воевал с финнами, об обмороженных солдатах и многих-многих раненых. Потом о том, как он, тоже раненый, вернулся после госпиталя на родину, в Лучинец, и скоро началась уже большая война. Они узнали о ней не по радио, а по громадному зареву дальнего пожара: немцы жгли Жмеринку. А там эвакуация, сборные пункты и фронт, затем плен. Дальше мужик уже еле внятно говорил о колоннах, патрулируемых вражескими солдатами с собаками, о лагерных бараках, голодухе, ежедневной гибели естественной и насильственной смертью сотен людей. На мои уточняющие вопросы он почему-то не отвечал, не слушая их, захваченный воспоминаниями, а однажды даже прослезился. Потом, помолчав минуту, он резко поднялся и зашагал в сторону, вероятно, магазина.
4 июля
Совсем раннее утро. Пасмурно или туман еще не поднялся. Грязновато. Спускаюсь со своей удочкой к реке, где уже расположились трое рыбаков со вчерашним дедом. Тишина, только кричат «чье-чье» неугомонные чайки да ветер доносит то громче, то тише звуки радио с той стороны реки.
Рыбалки у меня не получилось: крючок зацепился за камышину и при попытке освободить его оторвался вместе с поплавком. Это меня нисколько не опечалило — и так хорошо. Я сел на большой камень прямо над этим местом, глядел вокруг, думал, что-то писал. Вдруг из левады с шумом выпарила громадная птица. Мягкими взмахами черных с белым крыльев она, как опахалом, ласкала воздух. Тонкая струной шея, вытянутый по направлению полета длинный красный клюв — таким я впервые видел журавля на подъеме так близко и низко. Он гордо проплыл над суетящимися спозаранку чайками и ушел в сторону зеленых куп на горизонте, скрывшись или, вернее, слившись с фоном их самих и надвигающихся с запада облаков. Так меня вознаградила природа за столь ранний подъем.
Интересно в эту пору наблюдать за любым птичьим семейством. В дневное время можно увидеть очередную парочку: кто-то из родителей ведет за собой в полете неопытного, слабого еще, хотя и подросшего птенца. Тот светленький, крылышки его наполовину из пуха, он машет ими быстро-быстро, стараясь не отстать от спокойно летящего впереди родителя, и тянется, тянется за ним, как человеческий ребенок, вынужденный бежать за размашисто шагающим взрослым. А все-таки как быстро подросли птенцы, они уже пробуют свои силенки, еще немного — и двинутся в свой первый серьезный вояж, насмотрятся на дальние страны, узнают радость перемен и щемящую тоску по родине.
Как хороши поля в Лучинце! Только выйдешь за околицу, как видишь, будто море колышется по обе стороны дороги. Сначала плывет озимая пшеница с пожелтевшими колосьями, полными уже почти зрелым зерном. Затем по правую сторону стелется горох, по левую — стоймя стоят начинающие полнеть бураки. Прислушаешься — из гороховой паутины раздаются короткие, как азбука Морзе, позывные перепелов, гнезда их прямо тут, у дороги. Поднимешь голову — прямо над тобой высоко взлетевший жаворонок и свищет, и звенит колокольцами, словно целый хор поднялся в воздух. Он стоит на одном месте довольно долго, лишь чуть меняя высоту, а потом вдруг, все так же крича, складывает крылышки, падает вниз и только перед самой землей снова расправляет их, уже медленно опускается в гущу сочно цветущего гороха и замолкает. Однако тут же, рядом с его посадкой, поднимается другой певец, и звонкая мелодия снова заполняет полевой простор. Так здорово идти по проселочной дороге, впитывая всю эту красоту. Легкий ветерок обвевает прохладцей. Стихи ложатся легко. Так вот сложилась и «Рожь».
Была вторая половина дня. Я собирался добраться до леса, который, как сказали, в 5 км от села. Укатанная проезжая дорога обещала недолгий путь, но кто знал, что почти у самой цели она обсажена не какими-то кустиками — мощными деревьями дикой черешни. Я, естественно, соблазнился и полез собирать пусть не очень крупные, но уже спелые ягоды. Тары никакой не было, оставалось отправлять их прямо в рот, немытые, но вкусные ужасно. Объевшись и набив оскомину, я спустился на землю и через минут 15 подошел к лугу, на правой стороне которого в полукилометрах просматривался небольшой лесной массив. Конечно, хотелось войти в него, однако было уже поздно, а я ушел за полдень, никому не сказав куда. Пришлось повернуть назад. И вот шагаешь между двух разных, но одинаково прекрасных картин: с одной стороны — краснокорые раскидистые, манящие сладкой ягодой деревья, с другой — уже почти в рост человека ряды подсолнухов, готовые вот-вот раскрыть свои круглые солнечные головы. Спугнул большую крапчатую сороку и застыл у гнезда, хотя парочка их, не взлетая, чертыхается на меня во всю мочь. Дальше вижу, как буксуя, но не сдаваясь, муравей тащит здорового слепня. Деревенский парень лет 16-ти, здоровый и загорелый, залез на самую верхушку черешни, куда я не решался забраться, и собирает в подол рубахи самую крупную ягоду скорее всего на продажу. Двое мужиков окашивают, не знаю, законно ли, край оставленного под парами луга. А кругом, через прямоугольные поля открываются цепочки лесополос, между ними прячутся села, отдельные хутора и совсем уж далеко темные кромки леса. Видно так ясно, что глаз в целый окоем различает всю панораму до тех границ, где она встречается и сливается с небом.
Начинается предвечерье. Трактора еще привычно урчат, уползая по дороге к своим машинным местам, прячутся в гнезда жаворонки, смолкают даже неугомонные кузнечики, и в полях разливается чуть звенящая тишина.
Прогулка вышла почти на полдня. Подошел я к нашему селу немного усталый и присел на лавочку у крайнего дома, чтобы записать какие-то впечатления. Вышел хозяин, немолодой мужик серьезного вида, сел рядом, сказал, что уже слышал про приезжих москвичей, спросил, откуда я возвращаюсь. Услышав, что я собирался в дальний лес, он стал меня предостерегать, рассказал, там на него напал большой барсук, и, если бы не топор, то быть бы ему без наследства, а, возможно, и жизни. А еще добавил, что там лютуют кабаны. Мы закурили, он поинтересовался, что это я пишу, и начал рассказывать о войне, о том, как был ранен в Карпатах, о будних солдатских тяготах. Да, натерпелись наши отцы! Неслучайно здесь первый разговор о войне и о том, что надо сделать так, чтобы ее больше не было.
5 июля
Рынок сегодня, в воскресенье, в общем-то для местечка прямо-таки огромный. Часам к 6-ти утра начинают съезжаться фуры из ближайших мест, везут слегка прикрытые брезентом мясо, птицу, разнообразное молочное и всяческие соленья. Прочую мелочь не берут, видимо реализовывая у себя. Гонят за собой и живность, в особенности молодняк. В 7, расположившись на площади, где уже поджидают первые, самые нетерпеливые покупатели, вся эта приезжая армия начинает торговлю. Мясо рубят прямо на возу, здесь же ставят весы. Прочие продукты обмена также у возов на снятом сверху брезенте. Никаких прилавков тут не предусмотрено, да и так сойдет, было бы чем торговать. К такому особенному дню все магазины по соседству тоже открылись в 6, мало того — промтоварный и хозяйственный разложили свои товары так же — прямо на земле и бойко торгуют.
Часам к 9-ти вся громадная площадь забита людьми, большинство в черных пиджаках, хотя солнце уже припекает. Ходят по рядам спокойно, присматриваются, прицениваются, покупать пока не спешат. Зато местная еврейская «интеллигенция» прет корзинами. Прямо напротив рынка, у штакетника, отделяющего его от местной лечебницы, жадно оглядывают привозное изобилие худосочные больные: со скудных казенных харчей не очень-то раздобреешь, а тут хоть наглядеться.
Костел по случаю воскресенья тоже открывается. Бабка в белом платке подметает каменные полы. Храм еще пуст, через открытую широкую дверь видно в глубине распятие на большом тяжелом кресте в натуральную величину. Материальное и духовное — в одном флаконе.
Блокнот 5-й
6 июля
Утро. Солнце еще не пробилось сквозь тонкую простынку облаков, а из коровника уже густым рыжим пятном выползает стадо. Колхозники собираются у грузовиков, чтобы отправиться в дальние поля.
Вчера во второй половине дня был устроен пробный выезд техники, смотр, так сказать, готовности. Скоро, недели через две, начнется уборка озимых и гороха, и все должно быть в порядке. Выстроившиеся все на той же на площади, где располагается рынок, трактора и комбайны совершили то ли пробный, то ли торжественный круг и строем двинулись на земли 1-й бригады, прямо за селом. Там механизаторы заглушили моторы и расположились в привычной для всех областей страны обстановке, чтобы укрепить свои силы перед сбором урожая. Была расстелена большая клеенка, на которую поставили привезенное необходимое (выпить и закусить), и пролог страды потек своим чередом. Смотр технических и, главное, людских ресурсов — прочная и прекрасная традиция нашей деревни.
После завтрака вышел за село и пошел вверх по реке, к истокам. Подходя к деревне, спускающейся к берегу бурно цветущим картофелем, полюбовался на почти новые, оттого что красиво побелены, хаты под высокой, толстой соломенной шубой. На одной из таких хат увидел большое журавлиное гнездо и его самого так близко, что отшатнулся и спрятался за кусты сирени, чтобы не спугнуть. Гнездо было сложено прямо на соломе на той стороне кровли, что смотрит на реку. Птица кормила двух еще небольших, но уже оперившихся птенцов, отрыгивая из зоба собранную ранее добычу. Я спросил у подошедшей от колодца крестьянки, как давно журавли прилетают сюда. Она спустила ведра с коромысла и ответила, что это скорее всего не журавли и не цапли, те обычно гнездятся вдали от людей. Тем более не аисты. Их здесь зовут черногузками. Я в очередной раз поразился точности народного словца: птица вся белая, однако концы крыльев и гузка черные, а лапы и клюв красные. Удивительная расцветка! Женщина прибавила, что они прилетают весной парами, гнездятся и выводят молодняк. Уходя, она покосилась на мой блокнот и, как и почти встречавшиеся мне местные, спросила в свою очередь, зачем я все это пишу. Я ответил, и она, недоверчиво покачивая головой, вошла в калитку. Тогда и я решил продолжить свой путь, но только отошел от скрывавшего меня от птицы куста, как она, почуяв опасность, нахохлилась, втянула голову, так что длинной шеи как-то не стало, сразу пропала и вся журавлиная стать. Конечно, хотелось бы посмотреть, как она поднимается в воздух, как, словно струна, вытягивается в полете, но я не решился далее нарушать покой святого семейства и убрался восвояси.
С километр от этой деревни, у моста через речку, стоит другая, полузаброшенная, с покосившимися постройками и заросшими дворами. Я уже хотел пройти мимо, как вдруг на самом краю ее увидел хорошо сохранившуюся двухэтажную мельницу. Снизу от чуть приподнятого над водой большого деревянного с лопастями круга, стоящего горизонтально, через несложную систему валов и шестерен сила потока передавалась на громадный, диаметром метра в 2 и толщиной около полуметра, жернов. На дверях этого сооружения болтается тяжелый засов с каким-то старинным замком, окна забраны толстыми решетками.
Иду дальше. Полдень. Становится жарко. От земли исходит пахнущая навозом и мятой духота. На реке появились две крупные белые чайки, рассекающие воздух своими острыми угловатыми крыльями. Глядя на них, мне уже кажется, что мелкие серые чаечки на нашем пруду — это их птенцы-первогодки. Однако вряд ли.
9 июля
Вчера целый день ушел на поездку в Бар. Поднялись в 4.30 утра. На небе расплывчатыми розовыми мазками догорала утренняя заря. Свежо. Сонливо. Автобус довез до железнодорожной станции, и через 3 часа ожидания и 1 час пути поездом прибыли на родину тещи.
Бар — небольшой, типично районный городишко в 5 км от станции, однако крупнее Могилева-Подольского. Он стоит над речкой, настолько густо заросшей кувшинками, что утром, пока их еще не оборвали, они смотрятся как белый переливчатый жемчуг. Центр — почти правильный круг, где расположены все магазины, ресторан и 2—3 новых каменных дома. Кольцо огибает то ли зеленый сквер, то ли парк, где на скамейках и просто на траве терпеливо ожидают сельский автобус в основном женщины, как всегда и везде, с большими сумками и мешками. Они, сказала теща, приезжают по ранью на рынок, чтобы продать свой товар и успеть вернуться засветло, поскольку автобус ходит нечасто.
До рынка идем по главной улице, естественно, Ленина на край города. В полдень рынок уже почти пуст. Еще дальше, километрах в полутора — поле, на дальнем краю которого фашисты устроили кровавую вакханалию, расстреляв все еврейское население города и окрестных местечек. Памятник виден издалека, на него находишь, как на Нерль в Суздале, и производит он неизгладимое впечатление: шесть обложенных камнем квадратов, символизирующих края выкопанных самими жертвами ям, расположены правильным ромбом, а в средине — простой, дешевый купол памятника. И тишина… И так отчетливо, будто наяву, представляется стреляющее небо, вопли и стоны раненых, бегущую ручьем кровь, тупые рыла палачей и груды еще не скрытых под землею, не оказавших сопротивления тел. Идя обратно по дороге, будто видишь движение колонны стариков, женщин, детей, слышишь лающие звуки чужеземного языка. И над всем этим — солнце, глубокое и грустное, как еврейские глаза, бездонное, как еврейское отчаянье. Солнце, уже ничего не могущее поделать, разве оставить на будущее хоть малую капельку надежды.
На обратном пути идем молча, даже теща не шарит глазами кругом, выискивая, над чем бы подтрунить. Ее в общем детская душа, не занятая проблемами мироустройства, не знающая грусти и занятая сугубо материальным, в основном добыванием пищи, сейчас как-то притихла. В городе она привела меня к месту, где был ее отчий дом, где она росла девочкой в большой семье, немалая часть которой, оставшаяся здесь в военное лихолетье, обрела кровавый покой в своем Бабьем Яру. Я же не могу избавиться от навязчивой мысли о том, почему они не пытались драться, пусть голыми руками, бежать хотя бы, а покорно шли на убой. Ведь исход-то один… хоть бы напугали… Тут, вероятно, что-то происходит с психикой. Да и кого бояться этим нечеловеческим сукам — старики, женщины, дети…
10 июля
Началась настоящая июльская жара. Заниматься можно только в ранние утренние часы. Днем, когда палит немилосердно, хорошо купаться, загорать и после 2-х часов валяться в тенечке на леваде, подремывая, но делая вид, что читаешь. Вечером, когда приходит прохлада, открываю дневник.
Сейчас, когда первые впечатления записаны, попробую увиденное обобщить. Что касается внешнего вида, то дома в селах по местным меркам приличные, особенно у колхозников и работающих в обслуге. Большая их часть крыта черепицей, меньшая — жестью или соломой. Дома, где раньше жили большие еврейские семьи, а сейчас в основном остались одни старики, выглядят довольно жалко. Они почти не обновляются, за исключением тех, где еще есть работающие или где хорошо обеспеченные на новых местах дети поддерживают своих оставшихся здесь родителей на приличном уровне.
Евреев-колхозников буквально на счет, поскольку они не привыкли к полевой работе, в прежние времена им было запрещено иметь землю, и они вынуждены были заниматься торговлей или ремеслом: портняжить, чинить часы, делать разнообразную ювелирку. Вообще когда-то значительное еврейское население в местечках сокращается с каждым годом, и лет через 10—20 здесь почти никого не будет: молодежь устремляется в города, а старики, естественно, уходят. Но всегда, однако, остается фольклор, особенно когда небольшая кучка аборигенов собирается перед каким-нибудь домом, усевшись на выставленных стульях, и начинаются бесконечные разговоры о прошлой жизни, то просто тары-бары, то грустные истории, а то и веселые анекдоты. Ты только успевай записывать, если не лень и, конечно, если есть кому переводить с незнакомого языка.
Дороги по всей округе широкие, в 2—3 колеи. Главные, между городом и большими селами, покрыты булыжником, проселочные и полевые — слежавшейся каменной глиной. И пыль, страшная пыль. На пажитях в основном три вида посевов: пшеница, сахарная свекла (бурак) и кормовые. Деревни стоят в лощинках и видны издалека по темнеющим купам деревьев. А простор… глаз не охватит, и все на жарком солнце радушно, приветливо и широко.
Написал и подумал, что это действительно внешнее, что сразу бросается в глаза. Если же копнуть чуть глубже, присмотреться внимательней, то видишь, что хозяйства-то небогатые, по приусадебным участкам в основном одна картошка. Колхозники имеют дополнительно по 30—35 соток земли, и какой земли! Но там тоже картошка или, чаще всего, бурак. Люди не хотят выращивать что-то более зкзотическое, поскольку воды на такой сад-огород все равно не натаскаешь, а без воды в такую жару нечего и надеяться на отдачу. Зато за картошкой здесь серьезный уход — свирепствует колорадский жук, личинки которого надо собирать каждый день и сжигать, иначе он сожрет все посевы. Как ни жаль, редко где можно увидеть греческую пальму (грецкий орех), хотя есть любители, которые кроме яблок, груш, черешни и слив выращивают отличный виноград. Однако таких энтузиастов немного. Крестьянам достаточно заготовить на год картошки, свеклы, моркови, лука и, главное, получить от бурака побольше сахара, чтобы наварить самогона и гулять от души.
12 июля
От жары и стихов устал. Обуяла какая-то обломовская лень. Не зря у Гоголя Иван Иванович с Иваном Никифорычем сидят голые под навесом. Здесь тоже наешься до отвала да нажаришься на солнце, и, как местные говорят, «даже бабы не хотится». Но все-таки читаю. Думал, что мемуары Альберти будут интересней, однако у него все как-то наскоком, слишком поверхностно и такая богема, что даже неловко. Отрывки стихов без глубокого содержания, хотя, конечно, меткость выражения, удачно схваченный образ присутствуют. Вот андалузская поэзия в лучших своих чертах прекрасна: удивительное богатство рифмовки, в образах и элегичность, и тоска, и страсть. Вся она наполнена этим и, видимо, дала хороший толчок развитию европейской поэзии в свое время.
Внимательно просмотрел и сопоставил изначальные варианты ранних стихов Пастернака (22—28 лет) с отредактированными в
1928 г., и убедился, насколько за десять лет он профессионально вырос. Первые совсем сырые, и тех образов и рифм, присущих ему более зрелому, нет и в помине. Однако поэтическая дерзость проявляется уже и в них, ранних, а именно стремление лететь за ритмом, не обращая внимания на неточности, уход куда-то в сторону от темы. Да, музыки больше, чем смысла — но зато какой музыки!
В бывшем «местечке» настолько глухо и тихо, что даже нервный человек успокоится, а активный и темпераментный интеллигент просто сойдет с ума. Ни искры искусства, ни движения ума, один день похож на другой, как две капли самогона. Вот как проходят вечера у нас. Только приходит прохлада, часам к 7, после ужина, как я, теща и ее двоюродная сестра Хона берем стулья и усаживаемся на более просторном соседском дворе. Там уже расположились хозяева: высокий худощавый Мойша, человек принципиальный и прямой, сумевший при этом «вывести в люди» двоих сыновей и дочь, и его ухоженная, более дипломатичная жена. Он зарабатывает заготовкой кожи и шитьем различных вещей из нее же, видимо, достаточно, если один тянул всю семью и даже обеспечил детям высшее образование. Приходит еще одна парочка стариков: маленькая, кругленькая Голда (по моей уже укоренившейся здесь с приезда кличке называемая Голда Меир) и ее муж Хаим, мужичок 70 с лишком лет, сапожник, тоже имеющий деньгу. В хате у обеих пар на стенах — ковры, кровати застланы бархатными цветастыми покрывалами, над мужниной постелью — увеличенный фотопортрет жены, над противоположной — мужа. Такая любовь.
Днем мужчины работают в комнатах, женщины хлопочут на кухне, а вечером выползают на воздух, и до полуночи катится неторопливый, спокойный и в основном пустой разговор. И так дни, месяцы, годы. По приходящим на часок хорошо им знакомым односельчанам, среди которых есть даже учителя и врачи, вижу, что образ жизни у всех примерно одинаков: заработать на еду и остальное необходимое, не зло посплетничать, хорошо поспать. Газет почти не читают, удовлетворяются слухами и радио, о книгах даже и заикаться нечего. Что касается авторитетов, если моя неграмотная теща, которую московская родня принимает за человека «с приветом», идет здесь за светскую столичную штучку, то комментарии излишни.
Я общался и со многими украинцами и убедился, что те тоже ведут животно-растительный образ жизни, разве пьют более вдумчиво. Даже о войне многие, те, что сами не воевали, вспоминают без придыхания: опять же «кушать было чего, румыны не зверствовали, убили только одного еврея, да и то, чтобы забрать накопленное золотишко». Естественно, о массовых расстрелах они, как и далекая отсюда власть, предпочитают не вспоминать, разве что в День Победы.
Да, тиха украинская ночь! Тиха и жизнь тут — муха пролетит, слышно. Не всколыхнуть этих людей ничем. Несколько раз я говорил на вечерних посиделках о честности, благородстве — куда там! Отреагировали примером о том, что фотограф берет за фотку на паспорт целых 2 рубля! Я возмутился, а мне в ответ: «Ну, что ж, пусть заработает.» Я бы за них продолжил: «Мы тоже свое возьмем.» И нищая, беззащитная тетя Хона тоже привычно качает головой.
Как писал Помяловский: «Что-то грустно, господа…»
13 июля
Последние денечки здесь, скоро домой, в скучный, хоть и шумный, город. Пока же каждый день, когда иду к реке купаться или что-то записать, всякий раз вижу являющегося неожиданно и идущего кругами журавля. Сегодня их было даже трое, двое взрослых чуть впереди, за ними — третий, меньший. Здорово! Птичья школа уже заработала вовсю. Счастливые родители! С какой бы радостью я учил детей читать, все равно как летать! Когда вот только…
27 июля
Трехдневная командировка в Бердянск. Приехал к 9 вечера, бросил вещи в гостинице — и сразу к морю. Темно. Все незнакомо, оттого таинственно, слышно только, как впереди глухо ворочается прибой. Подхожу: Луна зависла в метре от еле различимой кромки горизонта на мачтах стоящих у бакенов яхт. Море ласковое и теплое, как зрелая женщина. Плывешь вперед неторопливо, ощупью, словно только знакомишься с ним, с Азовским морем.
А утром реальность безжалостно вытесняет наивную романтику: небольшой пляжик прямо у городского сквера, унылое солнце, какой-то крупный, грязный песок под ногами и море, мелкое с зеленоватой из-за обилия водорослей водой. Вчерашняя тайна как-то испарилась вместе с сумерками — нет, это не Черное море… Разве в небе парят большие чайки-бакланы, кажущиеся издалека по крайней мере ястребами, однако вблизи такие тихие и добрые из-за мягко направленного книзу кончика клюва, совсем не хищного.
За время в Бердянске не написал ни строчки: жара и море, солнце и море, жажда и море. Весь лучинецкий ритм работы, когда каждый день был полон впечатлениями, просящимися быть занесенными хотя бы в дневник, к сожалению, сошел на нет. Да и впечатлений-то не особо, разве загаженная как-то даже сверх российской меры дорожка к пляжному туалету. Такое не забывается.
9 августа
Какое точное попадание — горьковские «Дачники», и как созвучно при теперешней атмосфере в стране. Только сейчас еще виднее плесень, глубже гниль, мерзостней запах мертвящего тела. Уже не только псевдоинтеллигенция, эта блудящая и восхищающаяся собой масса, причисляющая себя к элите искусства, продает душу ничтожным власть имущим. Не отстает от нее уверенная в своей призванности усовершенствовать (то бишь окончательно угробить) мир технократия, эта высшая прослойка межклассовости. При полном уничтожении образованного дворянства и том, что наполовину репрессированная подлинная интеллигенция загнана в угол, остается только два базовых класса: спившиеся от нищеты рабочие и страдающие этим не меньше обезземеленные крестьяне. Вот наша полная картина. При этом особенно грустно и безысходно, что заражается, как при чуме, и здоровое начало. Молодому, честному и активному человеку, который выходит на борьбу не за свое благополучие, а за необходимые всем перемены, приходится биться головой о стену отчужденности и кончать либо инфарктом (раньше у разночинцев была в моде чахотка), либо загнивать вместе со всеми.
Классовость… Где они, наши классы! С каким наслаждением я пошел бы на борьбу вместе с рабочим классом, только не за то, что явилось результатом в 17-ом году. Но теперь с кем идти? куда Один вижу путь: одиночки с долгими привалами на узкой тропе да с ожиданием бури на совершенно в этом плане безоблачном пока небе.
24 августа
Итак, чиновничья моя бодяга позади. Слава богу! Как я устал от этих бумаг, скрепок, готовых вот-вот появиться нарукавников. Сколько времени потрачено зря.
В моей домашней клетушке гремит 5-я симфония Бетховена и зовет куда-то вдаль, в новую явь, куда я устремлюсь, и ветер перемен зашумит в начинающей стекленеть березе.
Что-то писать и даже читать не могу после вчерашнего получения известия, что принят на работу в школу, эмоции переполняют. Однако сегодня уже немного пришел в себя, и снова начала буравить мысль, пойдет ли параллельно с учительской литературная работа. Слаб ли я, что не в состоянии работать постоянно, без кризисов и рывков? Внешние условия помехой этому или что-то иное? Вот сейчас будет совсем другой ритм жизни, и я ощущаю себя маленьким мальчиком, который боится, что у него отнимут единственную игрушку. Мне скоро 30, а практически я все на том же полуученическом уровне, немного лучше. Не слишком ли долго я ищу себя или просто невелик мой творческий диапазон?
Сколько вопросов, и пока нет ни отзвука, ни отсвета. Однако чувствую, как начинает отчетливей пульсировать кровь, как голова и руки жаждут настоящего дела. Я, как «господин» Жорж Санд, перемещаюсь из небытия в бытие, и такими толчками, импульсами движется моя работа, незаметная для других и огромная и бесконечная для меня, которая то давит на сердце, как тяжелый и грубый самец, а то легка, как стройная и нежная подруга. Но какой бы ни была, она всегда со мной.
26 августа
Из института не отпускают, умный с хитринкой Зелькинд предлагает руководство лабораторией, больше денег, крутую карьеру — а я в уже в предшкольных хлопотах, прошлые маршруты позади. Хотя минутами накрывает такая тоска от неизвестности, что некуда податься, а тут еще тягостное и одновременно сладостное одиночество. К тому же Тарковский все болеет и не может принять меня.
Прочитал о Жорж Санд в «Литературных портретах» Моруа. Не знаю, то ли в силу того, что объект изображения слишком неоднозначен, но цельного образа писательницы у него не получилось, хотя хорошо вышел Шопен, а это уже кое-что. Здесь же слишком много любовных историй различного толка, хотя небезынтересные намеки о Тургеневе. А вообще я этого разложения на высокие чувства и телесные страсти не понимаю и понимать не хочу, все это, по-моему, просто блажь от нечего делать или вернее, как сказал бы Толстой, бешенство самок и самцов. Как будто больше не о чем думать! И при этом полное неприятие Коммуны в отличие от Гюго. Однако она же угадывала в Тургеневе гения — провидица! Надо дать прочесть Илику для осознания некоторых нюансов женской психологии.
4 сентября
Состоялся мой учительский дебют. Пока не совсем доволен: слишком устаю, особенно от гула на переменах, который стоит в ушах с час-полтора даже после прихода домой. Состояние всю эту неделю странное, спазматическое: с одной стороны бодрость, ясная голова, с другой — ни одной строчки не только не написал, но и не прочел. Все мысли о предстоящих уроках. Конечно, надо будет организовать свой распорядок иначе, готовиться к занятиям на целую неделю в полсубботы и быстрее проверять тетради.
Что мне дает эта работа в моральном плане, пока еще не разобрался, однако с детьми на уроках чувствую себя хорошо и, главное, при деле. Свои же писания как-то ушли на дальний план и сейчас кажутся мелкими, лишенными размаха.
7 сентября
Не выходит из головы квартира Тарковского, куда был приглашен передать для рецензии стихи после ответного письма на мою просьбу. Такой обстановки я никогда не видел. В прихожей встречает старинная вешалка с круглыми коническими шипами вместо крючков, сбоку место для тростей и зонтов. Рядом, видимо, привозной из Европы изящный светильник. В проеме стены установлено зеркало в форме трапеции, в углу — небольшая кушетка и телефонный столик. По всей длине коридора от пола до потолка — застекленные стеллажи для книг, тоже под красное дерево, причем неодинакового размера: внизу более глубокие для больших томов, в середине — обычные для стандартного формата, вверху — опять глубокие.
В гостиной, куда меня провели, большой ковер на полу, в центре — стол со стульями явно несовременной работы, у стены — сервант и какая-то замысловатая этажерка. Свет неяркий, приглушенный звук радиолы откуда-то из глубины квартиры доносит мелодию сонаты для скрипки и фортепиано Бетховена.
Жена поэта, по-девичьи гибкая и стройная, с красивым мягким голосом, вначале поразила меня своей молодой статью. Однако когда я разглядел ее при более ярком свете, чем в прихожей, то обидно резануло далеко не молодое, как губка, лицо и наведенная на нем, как на панно, косметика.
Сам Арсений Александрович полулежал в небольшой комнате, возможно, служащей ему и кабинетом. Его лицо было того желто-серого цвета, который указывает на недомогание. Пустая штанина брюк была аккуратно сложена на тахте рядом со здоровой ногой. Он читал какой-то литературный журнал и слишком долго извинялся, что не мог принять меня раньше. В его глазах была только усталость и никаких следов огня, вдохновения и чего-либо подобного. Бедный поэт! Нужен тебе этот уют, в котором еще явственнее твоя, кажется, уходящая жизнь.
Оставив стихи, я грустный ушел из этого дома.
12 сентября
Прошла еще одна почти пустая неделя. В школе все хорошо, а настроение скверное. Мысли об утраченном времени, о плохо движущейся поэме и вообще о неспособности работать хоть понемногу, но ежедневно. Послушал передачу о Блоке, о его жизни в Шахматово среди тихой грусти русских просторов, которые дарят спокойное вдохновение. Я вспомнил поля и дали Украины, и стало хорошо и одновременно больно, что у меня нет этих далей, что обречен на город, который иногда тоже люблю, но без пустоты окружающих суматошных дел и блеклых декораций К тому же он стесняет мое воображение. Единственное удовлетворение, что в таком критическом настрое бывает иногда что-то стоящее выходит из-под пера вопреки всему.
28 сентября
Сегодня был у Арсения Александровича. Чрезвычайно полезный анализ, первая профессиональная оценка моих писаний. Вот его основные советы и напутствия.
— Расширять словарь. Мой еще невелик, что препятствует более тонкому и глубокому выражению мыслей.
— Строже относиться к языку, избегать слишком общих слов и выражений. едить за логической стройностью при передаче задуманной идеи или сюжета, не позволять «заноса» в поисках рифмы или под влиянием упоения ритмом.
— Стремиться к соблюдению синтаксической и логической цельности строфы.
— Не бояться вычеркивать пустые, ненужные строки, чтобы не терялись среди них значимые, работающие на главную мысль: нельзя заполнять пространство строфы чем угодно, надо стараться делать ее единой лексической единицей, желательно одним предложением.
— Вводить больше «реалий» — конкретных деталей при описании природы, человеческих характеров и вообще окружающего. Пробовать писать более хлестко, более смело, даже несколько вызывающе.
— Избегать слишком «широких коридоров» в передаче чувств, избегать многоточий, глубина передаваемого должна следовать из стиха в целом, а не из недосказанности в расчете на реакцию читателя.
— Больше самоконтроля, но и больше веры в свои силы. Не бояться выйти за пределы дозволенности — раскованность!
— Искать разнообразные формы в строфике, ритмах, избегать банальных рифм.
Это был интересный часовой разговор. А.А. даже оживился, сел на диване и велел прикрыть дверь. Строго ли он судил меня? Безусловно, да, особенно с точки зрения техники и словаря. Но главное, он сказал, что верит в меня, что мое совершенствование — дело времени, и не надо спешить печататься, не надо честолюбия — надо работать, тем более, что в заработке литературной халтурой я не нуждаюсь. Еще один очень важный совет: аккумулировать себя перед броском, набирать, сжиматься и только тогда уже готовиться к удару.
Я очень ему благодарен за поддержку. Ушел вдохновленный и готовый терпеливо нести свой крест надежд и разочарований, а, главное, готовый к упорной работе.
25 октября
Из всех ранних пьес Ибсена (до «Пер Гюнта») мне более понравились «Воители в Хельгеланде» и «Борьба за престол», где на сцене та сила и воля, то прямое и гордое, что было присуще человеку изначальному, еще не поглощенному темным и жирным закулисьем экономики, не отравленному мягким, но душным елеем христианской церкви. Там викинги — воители, живущие борьбой, битвой, не пресмыкающиеся перед вязкой паутиной времени, как в «Бранде», но и не такие кликуши, как последний. Тем же удивительно хороши норвежские и исландские саги, поющие гимн героям, одолевшим не только вековечный мрак и лед, но и раздвинувшим тесные границы вмененной жизни, оставив которую не исчезающим навсегда, а попадающим в песню и, значит, в бессмертие.
28 октября
В кусковском парке полюбовались с Иликом на скворцов, обсевших липы, молчаливых и сосредоточенных, будто перед разлукой насыщающихся картинами родной осенней природы, на прекрасную лиственницу, стоящую перед оранжереей, еще не опавшую, в прозрачной желто-зеленой рубашке. Говоря о передаче реальности в сюжете, где путешествие проходит канвой, как в моей поэме, пришли к согласию, что конкретные детали не должны превалировать над передачей внутреннего состояния лирического героя. Я опирался при этом на пастернаковского «Спекторского».
Был дома после полудня. Сижу в нашей крохотной комнатке, слушаю шумановский фортепианный концерт. Настроение мрачное. В окне поблескивает сырой асфальт и покрытые рубероидом крыши старых, как и наш, деревянных домов. Что-то грустно. Но вдруг солнце прорвалось сквозь сомкнутые веки сизых туч и словно одарило силой и мужеством сопротивления неприглядной природе и впадающему в пессимизм самому себе. А тут еще и музыка… музыка… и какая!
1 ноября
Вечер. Только что проводил своих стариков. Было немного шумно, но хорошо, ласково как-то. Я заметил сегодня, вероятно, очевидную вещь: у некоторых пожилых людей (а у моих особенно) недовольство жизнью или отдельными ее обстоятельствами выливаются, конечно, неосознанно в недовольство друг другом, поэтому они, зачастую даже при других людях, большую половину своих претензий переносят на сведение личных счетов. Интересно, как это будет у нас через 2—3 десятка лет.
4 ноября
Все предыдущие дни был занят в школе по полной. «Пера Гюнта» прочитал с большим удовольствием, хотя вещь и сильно растянута, или даже не растянута, а с замедленным ритмом, как, впрочем, почти все драмы Ибсена.
Главное, о чем хочется сказать, так это о методе показа поиска героем своего «я», пусть это и не совсем поиск смысла жизни. Данте и Гете, сделавшие это ранее, пошли самым прямым путем. Например Фауст, ведомый Мефистофелем, как и герой «Комедии» — Вергилием, через все адовы круги современной ему действительности обретает этот смысл в конце земного пути, после последней остановки в селении Филимона и Бавкиды, Данте — в раю, у Беатриче. Однако оба они — герои ведомые, не активные участники событий, а скорее свидетели происходящего или в какой-то мере жертвы стечения обстоятельств. У Ибсена герой-искатель уже действует самостоятельно, не он ведом волшебными силами, а наоборот — они тащатся за ним (и Доврский дед, и Кривая, и посланец Пуговичник). Пер не просто прохаживается по кругам бытия, а запускает их, как волчок, и со стороны смеется, когда тот крутится все медленней и медленней, останавливается и затем валится на бок. Конечно, он, как и Фауст, в большей мере человек-идея, трудно сказать, чего в нем больше — тщеславия, эгоизма или желания познать истину. Однако он много живее в своих земных проявлениях, что делает его реальней даже при некотором сходстве с лирическим финалом гетевского персонажа.
Насколько дальше идет здесь Л. Н. Т. Его герои (Пьер, Андрей, Левин) ведомы не потусторонними силами, а конкретными, пусть и переломными моментами самой жизни, они приходят к реальным выводам о дальнейших путях развития и в личном, и в общественном планах. Именно этот метод продолжают развивать художники 20 века: Дю Гар, Роллан, Т. Манн.
Думал об этот в связи со своими уж очень не срочными планами.
5 ноября
Был на прекрасной выставке лесных птиц нашей средней полосы, смог наконец увидеть близко тех певунов, которых в лесу почти невозможно рассмотреть, т.к. скрыты листьями либо сидят очень высоко. Оказывается, чиж — маленькая желто-зеленая пташка, и откуда у него силы так заливисто и громко вести свою трель! Синица длиннохвостая — совсем не похожа на пузатую, как гаишник, московку, она серенькая, по верху с черными полосками вдоль тельца, с длинным, подвижным хвостиком. Синица лазоревая — с меньшей головкой, но вся светится лазоревым переливчатым цветом. Славка — серая с голубым отливом крупная птица. Овсянка похожа на воробьиху, только ярче в бежевом окрасе и крупнее.
Всего не передать. Королек, варакуша, крапивник, юла, чечетка, вьюрок, пищуха, гаичка, завирушка, зарянка, мухоловка, зеленуха — все такая прелесть, если бы еще услышать, как поют, чтобы узнать на природе. Однако в неволе их петь не заставишь, остается только любоваться визуально.
Свиристель — гладко-серая птица с гордым хохолком на головке. Видел по зиме их стайки на вербах у края леса и заслушивался звенящими колокольчиками. Теперь узнал совсем близко. А желтая с крапинами крупная и тонкая птица, короткие плачи-трели которой слышал на леваде в украинской глубинке, оказывается, была иволга. Она обычно так прячется, что ее трудно увидеть.
Масса впечатлений и запомнится надолго.
7 ноября
Снег выпал слишком рано, так что в лесу я уже нужных ассоциаций не сыщу, а работать дома при нашей дикой тесноте не могу, все отвлекает, не получается сосредоточиться. Идти же на улицу тоже не тянет: мерзну, еще не привыкнув к ранним холодам. Остаются музыка и книги. Читаю с наслаждением Рокуэлла Кента «Это я, Господи!» и стихи Фета. От Кента — свежий северный ветер и неограниченный нашей упорной цивилизацией простор. Фет хорош тончайшими нюансами природы и чувства, современен, даже несмотря на обилие старых, ныне почти не употребляемых слов. Хоть своя работа в тупике, под их влиянием углубляется замысел сюжета «Поэмы отлета».
25 ноября
Давно не писал в дневник, поскольку был завален школьной повседневностью, которая дает большую отдачу и удовлетворение, но порой захватывает полностью так, что на остальное нет уже ни времени, ни сил. Вообще-то в учительском деле так и должно быть, я знал это, но надеялся на совмещение с литературной работой. Посмотрим, как пойдет дальше, а пока поэма, естественно, отложена.
Одновременно неожиданно захватил вряд ли осуществимый замысел — показать богатство внутреннего мира Сервантеса, этого титана выдержки и мужества в борьбе со столпами посредственности, преклоняющимися перед легкостью озороного таланта раннего Лопе де Вега (поздний, хлебнувший не меньше Мигеля, будет уже тоже совсем не в чести). Рассказать бы, скольким мы обязаны осколку зеркала на стене камеры в севильской долговой тюрьме, где, глядя на отражение своего измученного постоянными ударами судьбы и нежеланием пресмыкаться перед властью лица, великий художник увидел своего будущего Дон Кихота, образ, в котором реализм и романтизм совместились полностью. Тут внешняя пародия на средневековые рыцарские романы обернулась внутренним гимном подлинному рыцарскому духу служения добру и справедливости. Мельницы, на которые он нападает со своим копьецом, — это та же стена, что встала перед всеми. Так что же нам-то — повернуть назад или, подобно этому дерзновенному, как Гамлет, Фауст и другие герои, не отклоняться от поиска истины, быть всегда в пути, в странствиях, пусть в синяках, но на коне?
4 декабря
Был на студии Богучарова при журнале «Смена». Обсуждали стихи печатающегося довольно широко молодого, но уже чем-то мне неприятного, а, по мнению студийцев, возвышенно холодного Саши Медведева. Стихи неплохие, сделаны профессионально, но за душу не берут. Очень хорошо говорил Владимир Леонович, вдумчиво, серьезно, глубоко, без дешевых наскоков. Интересно почитать, что он сам пишет, поскольку по высказанным мыслям он мне созвучен. Вообще такие вот посиделки довольно интересны, нужно хоть иногда обмениваться мнениями и тем, что делаешь, желательно без уничижительных подколов. Во всяком случае это полезнее, чем прозябать в своей аскетической келье и вариться в собственном соку.
19 декабря
Слушая сегодня музыку Бетховена, прояснилось, чего при всей к ней любви мне так не хватает. У него, как у других немцев и французов, мысли и чувства переплетаются, наполняя друг друга, следующая мелодия вытекает из предыдущей, и они бегут то последовательно, то параллельно, то шумно, то затаенно. Но это все эпос города, его нагромождение домов, фонарные столбы, гудящие толпы, разве где-то к полуночи в упавшей тишине то ли призрак, то ли единственный ночной прохожий. То же у Шопена, только у него больше лирики, не внешнее, скорее внутреннее — не мысли, а отзвуки настроения города. Даже у Баха и Моцарта («Реквием») нет природы простой, нашей, человеческой, а гармоническая, надзвездная, мировая. И это прекрасно! Я люблю Бетховена за непокой, за космические глубины и земную битву. Баха — за то, что возвышает меня и обращает от тяжкой людской доли к могучему небу. Шопена — за великую душу, чистоту и тихую лунность. Моцарта — за свежий румянец юности и неиссякаемую энергию гения, бросающегося в отчаянные поиски гармонии и с детской улыбкой, тихой и грустной, легко обретающего ее. Шумана — за сомнения, страсти и уход от них в песни леса. И он мне как переброшенный мостик к Чайковскому, Григу, Рахманинову и Скрябину. Но мы деревенские, и потому нас тянуло вон из городской тесноты и скученности, мы постигаем вечные истины на просторе природы и сквозь природу, поскольку наши души — это сама природа. Те — гении, необходимые нам, посланные нам свыше или в противовес чему-то или за что-то. Мне сказут, что город — это культура, общение с единомышленниками. Конечно, это так, и я не против этого, только сейчас начинает параллельно и наша скифская, охотничья, рыбачья даже не тяга к природе — зов крови. И богатство отечественных художников — это прошедшее сквозь них богатство нашей неиссякаемой природной силы. Таковы Есенин и Чайковский, Цветаева и Рахманинов, Пастернак и Левитан со Скрябиным.
Боже, что пишу! Все не то, не так — тону в ассоциациях! Ах, музыка… непередаваемо словами, непостижимо.
Блокнот 6-й
1971-Й ГОД
3 января
Мой творческий год был средним: написал около 30 стихов, оформил сборник «От декабря до декабря», но поэмы так и не закончил. Зато главное осуществилось — пришел в школу. И еще главное: урок от Арсения Александровича, который нести и нести. Пришел к решению отмечать не официозные праздники, основанные кем-то когда-то, а те, что даются народом и самой природой: славянской письменности, весеннего прилета птиц, цветения вишни, хлебосбора, осеннего отлета птиц и возвращения снегирей.
4 января
Сегодня утром в буран отличная лыжная прогулка в лесу, которая подарила колдовское стихотворение. Вчера было два лирических, позавчера — важные фрагменты к поэме. Но вообще она меня настораживает и пугает, а должна бы манить.
Во многом очень нравится Баратынский, близка его та грусть уходящего мгновения присутствия духовного начала, тоска от невозможности достичь его в нашей будничной суете, которая зачастую приводит к мысли, что раз высшего не дано, то и низшего не надо. И какая душа! какая чуткость!
Начал внимательно перечитывать Ахматову. Пока не близка, но это самое начало. Однако даже в ранней лирике много замечательной простоты, чего не было у раннего Пастернака. Какие они все разные, и как это здорово!
5 января
В Третьяковке на большой выставке Николая Ге. Сразу поражает стремительность молодого художника в «Любви весталки», в колдунье, вызывающей призрак героя, а затем мощный, гениальный Толстой, ворочающий мыслями, с широким насупленным лбом, со спокойными руками, перебирающими только что исписанные листы бумаги. это лучший портрет писателя, который оказал такое влияние на дальнейший путь мастера, запечатлевшего его. Интересно, кто кого больше изучал на сеансах, о чем они говорили. Хотя что толку об этом воображать, когда есть записи самого Н.Н., который после знакомства со взглядами Л. Н. Т. ушел в философскую, если можно так сказать, живопись. Его Иисус, сначала традиционный, отрешенный от повседневности, задумчиво-грустный, но в «Тайной вечере» уже затаивший что-то, еще не совсем проясненное, стройное, а стихийную неприязнь, какую-то напряженность, которые делают его затем богоборцем, героем, не приемлющим, отрицающим суть человеческой жизни, проводимой только в смирении и терпении. Таков он и в полотне с Никодимом, в этюде к «Распятию» и уже совершенно ошеломленный происходящим, как, впрочем, и все участники и свидетели, в «Голгофе». Там все, как при атомной войне, современно и жутко. А какие краски — прямо импрессионизм. Великий художник!
Что сказать о стихах Ахматовой до советского террора — так… Лирику любовную я люблю, но когда ее так много и кроме этого почти ничего… Правда, у нее огромное преимущество перед другими поэтами этого же направления: ее стихи сжаты, афористичны, и потому их энергетика, напряженность не оставляет равнодушным. Но все равно слишком много ночей, молений, невстреч, разлук и прочия, прочия, прочия. Она при всей прозрачности всегда ущербна, и прав в чем-то Бунин, шаржирующий ее за ту позу, которую она избрала и довольно надолго, когда редко промелькнет интересная мысль, об эпическом и говорить не приходится. Более поздние ее вещи много глубже и интересней, но в этих и тонкость не блоковская, больше мишурные слезы, и недоговоренность не как у Цветаевой, когда ком застревает в горле:
Когда же по дороге куст,
Встает, особенно рябина…
Смотрел удивительный фильм «Колдовская любовь», где жизнь показана как танец, самовыражение тела могучего, молодого, гибкого, жаждущего безраздельной страсти. И поэтому все звонко: и гитара, и конвульсии обреченного под сталью навахи. И поэтому все ало: и восход жаркого солнца, и стекающая по лезвию кровь.
В единый танец сзывая,
в круг жизни и смерти алой,
Испанья, — любовь колдовская
в объятьях пяти кинжалов, —
так бы я сказал, подражая Лорке, об этой по-настоящему будоражащей что-то колдовское, дикое в душе и теле картине, тоже, в общем, о любви, как и ахматовские стихи, которые этого ощущения мне не дают.
7 января
Лирика прет из меня, будто листья из почек в весеннюю пору, и я боюсь спугнуть ее, хрупкую и чуткую, и, давая ей зеленую улицу, бросил думать обо всем остальном, даже о беременной жене. А как непросто, но зато здорово писать об этом потаенном и смутном водопаде. Но ты все-таки знал его, и, когда удается передать словами что-то живое, мелькнувшее хотя бы на мгновение, тогда так благодарен провидению, что нашептало тебе, возможно, не заслужившему этого, какие-то строки. И счастлив, как будто все заново, только сильнее и чище.
24 января
Настолько замотали школьная повседневность и домашний быт, что только сегодня (а в последний раз это было осенью) открыл своего Пастернака и прочел «Шмидта». Показалось, что П. того времени был слишком зациклен на эпических картинах, он рисовал их где попало, на любых обрывках и всовывал в поэму не скупясь, не заботясь о какой-либо стройности композиции. Потому она вышла хаотичной, разномастной, разностильной, и только венчающая концовка, где дана заключительная речь героя, вывела ее к ясности. В этой же сутолоке и хаосе, которые как-то передают, конечно, реальный калейдоскоп исторических событий, характер героя, его конкретные черты, хотя бы нежность и чистота с любимой женщиной, вроде, проглядываются, есть даже какое-то сомнение в избранном пути, однако все затмевает общественно-политическая тема. А зря! Ведь как это блестяще сделано! Во-первых, П. не боится никаких слов, выражений при описании жизненных реалий, грубого у него нет, нет помойки — все есть материал, нужный для поэта, как для простого мусорщика, если это не нарочито, а необходимо. Слова: рожа, обрызган и др. разбросаны без ложного стыда. Рядом с ним я чистоплюй, слова, режущие слух, при работе не приходят мне в голову даже для рифмовки. Во-вторых, он не боится отойти от классических поэтических канонов, спокойно ломает единство формы, ритма и даже рифмы. У него все перемолото, части небольшие, семистопный белый стих легко сменяется четырехстопными четверостишиями. И все это многозвучие, как в большом оркестре, звучит ярко и гармонично.
А я обычно колеблюсь, когда мой анапест в 5 стоп съезжает к пятистопному же ямбу, уже не могу спокойно продолжать поэму, вести стих дальше и останавливаюсь. О, Зевс громовержец! Разбей мои узы, вырви резинку из моих трусов!
12 февраля
Я весь в предчувствии грядущего изменения жизни, хотя это еще туманно и физически пока неосязаемо. Звоню каждое утро и вечер в роддом, бегу к каждому телефонному звонку в нашей коммуналке. Сейчас бы, кажется, только и писать «Хоралы», раздольно и широко, уходя от старой религиозной фальши и обретая иное звучание, основанное на человеческой вере и правде, как лилась она у Бетховена в 9-й симфонии мощным гимном пробуждения новой жизни, шиллеровским призывом к радости объединенных в общей борьбе за внутреннюю свободу людей.
Мой бог! какое это счастье — мгновения творчества! Часто ловлю себя на мысли, что, разговаривая с людьми, я бываю слаб и даже немощен, редко в спорах голос мой обретает силу и значимость. Зато как могу высоко парить, подобно всякому художнику, наедине с собой, в момент поэтической концентрации, озарения и ясности, кристаллизации чувств и, пусть временного, торжества. Слушаю 9-ю бетховенскую и будто плыву в океане созерцания и борьбы, затаенности и глубокой мысли, лирики и тоски, трагедии старого, глухого человека и великого счастья жизни, венчающего симфонию. Быть творцом, передавать свою позитивную энергию другим, сознавая свой долг перед миром — это подлинное счастье!
13 февраля
В 9 часов вечера родился сын. Сын! И здесь провидение меня не обмануло. Занавес раскрылся. Действие новой пьесы началось. Каким выйдет это произведение? Я весь в ожидании нового. Не могу что-то даже пытаться выразить словами, получится слишком высокопарно.
16 февраля
В эти дни было столько гонки, что некогда было что-либо записать. Настроение внешне спокойное, внутренне — как у мамы во время приступа депрессии: голова гудит роем хаотичных и пустых мыслей, так что даже не осознаю в полной мере свое отцовство. Сплю до 3-х ночи, и все, хоть глаз выколи, а потом болит затылок. Вот и раскололось вдребезги твое хваленое спокойствие созерцателя, хотя, конечно, есть этому оправдание: и ребенок, и новая квартира — все сразу, как обухом по голове. И разговоры только об этом, целые дни.
Вчера прочел у Делакруа сходную мысль о недовольстве собой из-за неимения качеств мужественного созерцателя, который встречает все неожиданности как давно известное ему, без всякой внутренней напряженности. Только не слишком ли сухо это? Не пахнет ли здесь сверхчеловеком, этаким Эмпедоклом что ли? Иногда я это настроение в себе замечаю, тогда кажется, что ты выше всего окружающего, и ловишь себя на мысли о гордыне и необоснованном эгоизме. Как правило это бывает, когда ты в толпе, может быть, вследствие того, что, во-первых, противно ощущать себя бараном в стаде и хочется вырваться оттуда любой ценой, во-вторых, из чувства мятежного противопоставления, пусть и не всегда оправданного. Когда же наедине с собой, то быть этого не может — слишком хорошо себя знаешь и потому судишь. Подобное встречается в спорах с Иликом: то принижаю себя до нуля, а то не соглашаюсь даже с легкой и в общем-то справедливой критикой.
Кстати ко вчерашнему его замечанию, что в моем дневнике нет ни строчки о беременности Марины. Не странно ли это, как считает Илик? Сейчас я думаю, что нет, т.к. я не только это переживал и носил в себе, но и делал все для благополучного исхода на протяжении более полугода при всей тяжести ее беременности. Конечно в какой-то мере за такой срок даже болезненное состояние становится более будничным и радостное ощущение отцовства просматривается туманно. Но ведь и «Хоралы» были задуманы именно тогда.
А, впрочем, может, он и прав, считая, что я становлюсь все более замкнутым. Это действительно так в некотором роде, поскольку слишком открыт ежедневно с детьми в школе, но при попытках отражения в творческой работе собственного мира чувств и образов, ограничиваю себя во внешних проявлениях особенно с теми, кто находится рядом. Да и нелегко мне сразу от абстракции, где больше надуманного, чем реального, перейти к будничному натурализму. Но чувствую, что иду к нему. Посмотрим, как отцовство отразится на мне, но ведь я еще и не видел сына.
20 февраля
Как интересно пробуждаются чувства первого отцовства. При известии о рождении ребенка они еще в зачатке, и, хотя столько было представлений об этом, их все равно заглушает повседневность. Я больше был занят хлопотами переезда на новую квартиру, которую получили на нового члена семьи. Я радовался, что она в районе щелковского леса, куда доходил на лыжных прогулках. Боже, чем только не была занята моя голова, каких только планов я не строил. Но вот вчера, когда зареванная и опухшая Марина вдруг сказала по телефону, что нашего малыша с воспалением легких отправили в Морозовскую больницу и что я должен забрать ее домой, потому что там не разрешают быть даже матерям, а можно только привозить каждое утро к кормлению сцеженное молоко, меня будто ударили обухом по голове. Неизбывная боль и не оставляющее ни на минуту волнение за судьбу этого крошечного, беззащитного и уже такого родного существа заполнили до краев, ничего другого в душе не осталось.
С этих пор мне надо было постоянно следить, чтобы моя все возрастающая любовь к нему, даже еще не успевшему прижаться к отцовской груди, была равной любви к жене и дочери. Девочка особенно остро чувствует своим сердечком, что ей уже нет прежнего внимания, и, конечно, по-детски ревнует к вновь прибывшему откуда-то братцу. Да, все так, но это потом, а как сейчас моя кровинка в шестидневном возрасте уже в казенном учреждении, брошенный и один!
12 апреля
Сколько событий протекло со времени последней записи. Но было не до дневника. Каждое утро будил Марину, она сцеживала молоко, и я в 7 часов уже летел в Морозовку с бутылочками, там слышал непрекращающиеся детские плачи со второго этажа, доходящие до посетительской, дежурные слова, вроде бы, доброго немолодого мужчины-врача, мол, надейтесь, конечно, но мы ничего не гарантируем. В смятении, заспанный, я летел в школу к 1-му уроку, а там выкладывался так, что никто и не подозревал о происходящем в моей душе. И сколько было таких дней! Но слава богу, все это прошло, Сашка дома и завтра ему уже два месяца, а декаду назад и мне все 30. Вот только смерть любимой бабушки, первый уход одного из самых близких мне людей. Правда, еще третья пневмония у маленького, но это уже не так страшно, как говорит наш педиатр. В общем, несмотря ни на что, живем! Однако третий месяц — ни строчки почти, разве что-то фрагментарное, на потом.
О, дневник! Еще тоненькая стопка блокнотов, глядящая на меня с укором: и здесь ленишься, пишешь порой не совсем то, а что-то и скрываешь, может, самое про себя важное, потаенное, не раздеваешься до нага, как и в стихах. Ну да ладно, я, как запойный, уже не оторвусь от тебя, и вместо стихов, еще не написанных, закружит с тобой, завертит водоворот бытия и мелькают дни, недели, месяцы. Опомнишься и ругаешь себя за бездарно растраченное время, ненужные встречи, пустые разговоры, неумеренную порой еду, алкоголь, потом бежишь в пригороды к старым полуразрушенным церквам или бродишь в своем близком лесу за кольцевой, с идиотским видом бормоча про себя заумные да еще рифмованные фразы. А вечером, прямо перед сном, садишься к письменному столу, включаешь лампу и потекла исповедь где-то самому себе, а где-то и с оглядкой: что скажет на этот раз строгий, требовательный братец.
Хватит, однако, каяться, пора к работе. Скоро лето, а у меня и на часть книжки нет написанного, одни заделы да заделы. И не то, что нет свободного времени или устаю — это ерунда, отговорки. Когда попрет — не остановишь. У меня похоже сейчас на то, что было у Блока в июне 1902 -го: «Бодро и телесно проводя дни свои, мечтаю о белом боге».
18 апреля
Весь в хлопотах и заботах о сыне. Когда утром, часов в 5, поднимаешься, еле расцепив веки от многодневного недосыпания и оттого раздраженный, и берешь его на руки, этот тепленький, живой, закатывающийся в крике комочек, и он, согревшись, прижавшись к тебе всем своим хрупким тельцем, доверчиво прижав головку к твоей щеке, засыпает, то какое может быть раздражение — счастье!
И теперь жизнь моя как маленькие первые желтые цветочки мать-мачехи, которые утром бурно приветствуют солнце, зато вечером закрываются, чтобы сохранить всю свежесть и аромат в затаенной глуби, выставляя напоказ одну только серую оболочку. Я тоже с рассветом с Сашкой на руках подхожу к окну, отдергиваю шторы и жадно глазею на уползающий восвояси туман или мутную дымку, прикрывающие разоренный осколок бывшей деревни в окружении новых, как вычищенные зубы, белых домов, и шепчу на всякий случай какие-то сказки, только из нашей будущей жизни, конечно, со счастливым концом. И так мы с сыном проводим раннее утро, пока не встанет сменить меня еще более измотанная Марина и мне пора будет собираться в школу, тоже к своим детям.
Как прекрасна жизнь, когда она подлинно естественна!
19 апреля
Опять раннее утро, но все спят и Сашка тоже. По привычке встал и стою у окна. Пошли первые автобусы к метро. Пелена поднялась над лесом в конце Уральской улицы, хорошо видной с нашего 9-го этажа. День начался, на деревне уже орут петухи, хотя псы еще дрыхнут. Смотрю на эту прелесть, и что мне какие-то правители с их грязными делишками в возне за сохранение власти, что до жаждущих карьеры и денег, чинов и регалий соискателей, когда у меня есть собственный чудо-сын и целых три класса пытливо глядящих на меня тоже моих теперь детей, забота и развитие которых мне необходимы, как насущный хлеб в вынужденной и избранной добровольно нами пусть и нищенской учительской доле. Я стремился к этому, и я это получил. Чего мне нужно еще — будущее покажет.
16 мая
В лесу хорошо, разве дрозд перебьет
раздумья и рифму сломает кликуха
иная, но все, что стремится в полет,
подвластным становится оку и уху.
Как дома в лесу, и хотя забытье
минутами этими будет недолгим,
наполнись природою, сердце мое,
как полнится водами вешними Волга,
и слово, рожденное ветром в ветвях,
пусть в мир понесется свободно и плавно,
как хор от властей независимых птах,
и нас с малышом захлестнет, словно равных.
Гулял долго и сидел в нашем лесу с Сашкой, спящим посапывая в своей коляске, а стих, кажется, не вышел.
2 июня
За май прочитал «Алексиаду» и восхитился Робертом Гвискаром, которого как-то смазано вывел Клейст. А личность титаническая, и вообще в византийской истории захватывающих сюжетов хоть пруд пруди, а мне знаком лишь Юлиан Отступник по Ибсену. Но где эти книги достать?
Стоит ранняя жара, в голове звенит от нее, и потому пытаться что-то писать надо по утрам. Вчера уже к ночи и рано совсем сегодня отчетливо всплыла в памяти поездка в Мелихово, к Чехову. Получились стихи, которым я рад несказанно — первые после четырехмесячного молчания, когда только читал свои последние и боялся, что не смогу больше так сделать. А душа простора просит, да сын по утрам, когда самая работа, тоже настойчиво просит меня всего.
Надо к отпуску уже сейчас приучать себя к строгому режиму: с 7 до 10 утра работа и никаких других дел, а после до 5 можно крутиться; с 5 до 8 — снова писать, и хоть не идет — надо пытаться. И хорошо бы сделать «Хоралы», этот четырехстопный дактиль не оставляет.
16 июня
Ах, эти благие намерения! За время с последней записи почти ни строчки. От внешней и внутренней суеты: и конец первого года в школе, и очередная простуда сына — в голове полный хаос. Какая тут может быть концентрация творческой энергии! Я нервничал, а потом начал читать, успокоился и, когда уже весь погрузился в мир «Самостоятельных людей» Лакснесса, голова прояснилась окончательно.
Книга замечательная, с одной из вечных идей, сильным героем, описанием скупой, выразительной природы и дивными, кажется, совсем не северными стихами. Я немного чего-либо подобного читал и сейчас, как в прошлую весну во Львове, упивался теперь исландской весной, пел вместе со скальдами Лакснесса протяжные эпические сказания. Какая мощь и глубина в этой прозе, хотя всего единственный хутор, одна весна и одно лето, много страшных в своем однообразии зим — и вдруг солнце, восходящее для людей тяжелого труда, как фольклорный викинг, сокрушающий мощные, сковывающие волю льды обмана, наживы, и идущий навстречу ему народный певец, нищий и голодный, но свободный и гордый, как солнце и ветер!
Три дня за этой книгой, и насколько изменился для меня мир так, что стало противно и стыдно за свои в общем-то мещанские хлопоты, и так потянуло в дорогу, что стих о ней вылился сам собой за какие-то полчаса, пока молчал посапывая Сашка.
21 июня
Меня все больше тревожат титанические личности, как Рильке тревожил лермонтовский Демон. Потому часто возвращаюсь мысленно к Моисею в его сопоставлении с Христом. Причем занимает не столько воля борца и гениальность вождя народа на пути к свободе и процветанию. Гораздо значительней для нас, сегодняшних, не сам его путь при жизни и даже не скрижали, которые он завещает хоронящим его, а та недолгая верность, вроде бы, соратников, их ранняя усталость и закоснение в мертвых догматах. Какая -то странная закономерность, что на смену этим великим пророкам приходят люди ничтожные, живущие жизнью гнилостной и долгой, умирающие в себе самих в мелкой заботе о сохранении власти, подрывающие собственные корни, еще хоть сколько-то связывающие их с таким недолгим и на поверку фальшивым обещанием следовать путем великого предшественника.
Мне представляется эта вещь в форме диалогов действующих лиц: Моисей и Аарон; Моисей и мальчик, пишущий с его слов Библию (возможно, он сын Аарона, который должен стать первосвященником после отца). Вначале эти притчевые сцены происходят на дороге, по которой Моисей ведет народ в страну обетования, данную Богом. Затем уже старый, немощный пророк передает свою власть и завет брату Аарону, но тот, не имеющий воли и энергии старшего, только тормозит продолжающееся разве по инерции движение и наконец останавливает народ, конечно же, слишком уставший за долгие годы лишений. Финал разыгрывается уже на пороге будущей Иудеи. Умирает Аарон. Полуслепой, обессилевший Моисей спрашивает левитов, почему он не слышит походных песен. Они обманывают его: проносят вокруг лагеря, будто движутся к заповеданной цели. Вместе с тем на месте стоянки всех 12 колен Израиля уже начинается строительство города, где сразу как-то появляются угнетатели и угнетаемые (вначале все равны), кому-то уже отливают златых тельцов как знак признания других богов, идея единства и верности данным свыше Законам постепенно затухает. Мальчик, переписчик Библии, сопровождавший Моисея, ставший теперь молодым человеком, плачет, рассказывая Моисею, прикованному к своему ложу, о новых порядках в недавно едином стане. Тогда великий патриарх приказывает собрать народ и при нем обличает жрецов Молоха, а затем умирает. Левиты Яхве, коленопреклоненные перед телом своего вождя, клянутся в верности делу его жизни: упорно идти к человеческому совершенству, провозглашают главной будущей добродетелью терпение и гуманность. Однако проходит совсем немного времени, как те же левиты объявляют за мелкое преступление письменных заповедей смертную казнь. Того самого мальчика, писца великой книги, утверждающего, что скрижали — не догма, но цель вечной дороги к истине, как завещал сам Моисей, побивают камнями за спор со старейшинами. В заключительной сцене поросший свежей травой могильный холм вождя накрывают двустворчатым камнем, подобием кожаной обложки Библии.
Кажется, здорово, но напишется ли это когда-то.
23 июня
Вчера дня на 3—4 вырвался с Иликом на Оку. По дороге остановились осмотреть останки Царицынской усадьбы, которая казалась такой заманчивой из окна вагона электрички, когда еще пацанами ездили на лето в Сопроновку.
Сам Дворец, построенный Казаковым, удивительно величествен. Своими протяженными краями он упирается в старые парковые деревья, а перед фасадом — прекрасная с высокой травой поляна.
Здание трехэтажное, невысокое, но за счет стрельчатых полуготических окон и сочетания кирпичного цвета с белой известковой отделкой, разбросанной по выступам стен и под самой крышей, которой, естественно, давно уже не существует, оно кажется значительно выше и чем-то напоминает общей архитектурой знакомые по гравюрам французские классические дворцы. Однако нам больше понравились увиденные позже здания Театра и Малого Дворца, построенные Баженовым. Насколько они индивидуальней, легче, симметрия точнее и сама композиция интересней. Но что совершенно поразило, так это почти современная отделка: в одном случае — традиционный двуглавый орел, символ царской власти, зато в другом — полное солнце, выполненное из какого-то белого материала в стиле витражей, которое светит всем. Обидно только, что на родине так «зело» берегут чудесные памятники, что от них остаются голые стены и то далеко не всегда и не везде. А уж церковных руин и фундаментов дворянских усадеб по подмосковью мы насмотрелись вдоволь. Слава создателю, что здесь хоть прекрасная шатровая Церковь Вознесения в Коломенском осталась в живых, несмотря на прежние и нынешние гонения.
Только ближе к вечеру мы добрались до деревни Лужки, что у самой Оки, остановились для ночевки в пристройке старой, но еще крепкой избы, прогоняли с чаем батон вкусного свежего серпуховского хлеба с прихваченной с собой краковской колбасой и отправились на желанную реку. Мы подошли к ней через ровный и просторный заливной луг и немного прошлись по широкой, вероятно, далеко идущей дороге вдоль высокого берега. Кругом все было спокойно и умиротворенно. Тишина, особенно после долгого пути и шумного города, казалась просто пронзительной. Только трясогузки, грациозно взлетающие при нашем приближении, совсем негромко посвистывали, взлетали и через десяток метров снова приземлялись и бежали впереди на своих тонких, изящных, как у балерин, лапках, подергивая для соблазна таким же тонким и длинным хвостиком. Меня поразили желтые трясогузки, каких я раньше не видел. Вернулись в избу почти в темноте, улеглись усталые, под свет керосиновой лампы хорошо прошла 1-я песнь «Илиады», потом сначала тревожный, а затем глубокий до первых петухов сон.
Сегодня утром через Зуброво (заповедник зубров, огороженный проволокой) ходили в Данки. Место чудесное, сама деревня сложилась не по прямой, как обычно принято в России, а была разбросана вдоль живописного пруда. За ней — заповедные леса с замшелыми дубами, матовыми осинами и отчего-то пронзительно белыми березами. Только мы вошли в эту красоту, как загрохотало, и мы бегом вернулись к жилью, где под навесом крайнего дома вкусили вкусного деревенского молока под живительный джаз быстро прошедшей грозы. Днем сидели уже по-над Окой. Спокойное, уверенное в себе течение большой реки и такое же спокойное, смирившееся небо. Тишина. Голова погуживает. Не то, что писать — думать не хочется. Блаженная лень. Кажется, саму природу тянет в легкую дрему.
29 июня
Уже 4 дня в Москве. Как память об Оке — стройная трость из верхушки молоденькой сосенки с тремя кругами обрезанных годовых веточек стоит в углу вся узорах, вырезанных довольно умело, как когда-то в пионерском лагере. Жарко, потому не работается, да и цикл «Прелюды» почти закончен, только никак не подберу форму для «Дороги во ржи», а она должна подытоживать всю тему.
Прочитал 1-й том Д. Лондона. Что-то нравится и что-то не нравится. Во-первых, однообразие идей, героев, средств выражения. Философия ницшеанская чужда мне совсем. Север у Лакснесса и Лондона как полярные полюса, даже у Р. Кента он более одухотворен и человечен. Что же касается персонажей у Лондона, то они индивидуалисты, нет у них естественной, врожденной любви к людям, а если что-то доброе и появляется в их душах, то в большей мере из бунта против социального неравенства, наперекор ему. Его герой — сильная личность, но настолько суховатая, что обречена на одиночество. И если у Лакснесса его Скальд или Бьяртур с живой песней, освещающей надеждой одухотворенное лицо, то у лондонского журналиста ли, золотодобытчика лишь каменная усмешка на устах. Нет, слишком холодно от его историй, много холодней, чем даже у Дж. Конрада. Но талантлив, очень талантлив. Однако меня к такому не тянет, а вот перечесть М. Радноти и зарядиться от его тепла даже, казалось, в безысходности очень бы хотелось.
16 июля
Вчера заставил себя поехать по редакциям лит. журналов. В «Новом мире» меня хотя бы пропустили в отдел поэзии, где, конечно, отказали. Вообще это было интересно. Пожилой, прямой и как-то неестественно широкоплечий сотрудник, бегло прочтя первые-три стиха из подборки, сказал, что если взять луг, на котором один цветок и трава, то я последнее, то есть на среднем уровне. В конце нашего разговора в приемной появился вдруг Щипачев и подошел к нам. Я попросил его прочесть «Памяти Радноти». Он читал серьезно, не спеша, потом сказал задумчиво: «Профессионально… профессионально…» И все.
Я ретировался и по дороге задумался о том, что, возможно, какую-то грань мастерства я еще не перешел, так чтобы стихи сразу поражали палитрой широкой и яркой. Как бы в ответ на такое мое самокопание в редакции очередного журнала на Сущевском валу в проходной поставили милиционера, который без заранее заказанного пропуска не пропускает. Вот здесь все много проще и ясней — полная свобода печатного слова!
22 июля
Время растерянности после посещения «профессионалов» прошло. Уверен, что иду правильным путем, расширяя тематику и словарь, становлюсь более раскованным. В таком настроении написал несколько, по-моему, стоящих стихов. Но поэма стоит, ждет осени, вероятно. Что ж, писать с натуры, на пленере, может быть, станет легче, естественней. Посмотрим.
В букинистическом выловил книжечку стихов Николая Зарудина. Прекрасные стихи, но о нем самом — ни слова, только даты жизни, и время ухода заставляет задуматься — 1939 год, ему всего 38 лет! Что? Как? Отчего? Неужели и он та же из бесконечных жертва бездуховной системы? Надо обязательно найти его биографию.
19 августа
Заканчивается лето, уже неделю торчу в школе на пустых канцелярских работах. Творческий ритм сходит на нет.
Прочитал том Бунина о русских писателях-современниках. Очень сильно о Льве Толстом, хотя многовато о религии и прочем идеализме. Я совсем не против этого, но не могу рассматривать Библию как нечто неоспоримое, догматическое. Однако насколько могуч Толстой у Бунина! И не только как художник (здесь все прочие для него — мальчишки, ведь он спорит с самим Шекспиром, поскольку тот пишет не по-его), но и как человек вообще, этакий homo с мощными надбровными дугами неандертальца, и как святой — гордый, великий и одновременно заставляющий себя быть смиренным. Когда бы это только получалось у святых.
Одновременно хорошее у Бунина правило: приводить весь отобранный материал, в котором присутствует целая куча сплетен и документов, хлама и подлинности, а затем искать и находить во всем этом многообразии крупицы неподдельной истины. Так дружески, что ему не очень свойственно, пишет он о Чехове. Мне как-то живо представился Антон Павлович мелиховского периода.
«Второе рождение» Пастернака с 1-го раза не захватило, показалось несколько натужно то ли в поисках простоты, то ли чтобы не выделяться от принятой тогдашней поэзии, скатывающейся только к славословию власти. Куда-то делась присущая Б.Л. экспрессия и широта изображаемого. Подумалось о том, как тяжело было ему в ту пору. А впереди-то война! Вересаевского «Пушкина» прочитал с огромным удовольствием, как будто прикоснулся к чему-то живому.
Свои стихи еще идут по инерции, однако, перечитав написанное за год, расстроился. Конечно, много лучше, чем более ранние, но родник своего стиля так в полной мере и не пробился, может быть, на подходе.
26 августа
Ненужный спор с Иликом на высоких тонах не то чтобы меня опечалил (я сейчас еще глубоко в работе до 1 сентября), но мне как-то не по себе. Он, конечно, нездоров и раздражен — не идет писание, но главное в том, что он, как и я, одинок, весь в себе самом, что явствует из отчеркнутых на книжных полях высказываний близких, любимых писателей. Думаю, что к взрыву эмоций привело обостренное восприятие слов друг друга, а его даже какая-то злоба могла идти и от моей замкнутости, в которую я сразу погружаюсь при подобии скандала, что было с детства, когда заболевала мама.
Все это очень нехорошо, и я чувствую, что это нехорошее будет внешне углубляться и по вине наших неудачных женитьб. Но что стократ хуже, и в этом он прав, разъединение внутреннее, духовное. Да, мы близки в понимании многого, но пути преодоления трудностей становятся слишком разными. Он идет к аскетизму не столько толстовскому, сколько гоголевскому в «Переписке с друзьями», несколько попахивающему нездоровой психикой, к удалению себя от людей: раздевая их догола, он будто упивается видом гнойного тела. Я не раздеваю людей (себя — другое дело, хотя зачем об этом вопиять!) и, кажется, становлюсь добрее пусть и не ко всем людям, но уж точно к детям. Мной движет не всеобщее отрицание вся и всех из-за несправедливо устроенного мира и не самоуничижительное смирение гения, а простая человеческая отзывчивость Платонова и Заболоцкого, которой так много у Игоря Спивака и которую утерял Илик. А она у него была и в ранних рассказах, и в «Кухареве», но теперь его герой — аскет-одиночка Бах, Илья-пророк, а сатира стала не доброй, а язвительной.
Я хочу писать размашисто, а глубина чтобы пробивалась сквозь реальные детали в каких-нибудь нескольких строчках, как бы невзначай проявляясь в обыденности жизни. Он панорамности описания теперь не признает, а долбит упрямо в одну, безусловно, важную, но точку, обсасывает рассматриваемую проблему до мелочей. Мне кажется, что это скорее социологическое исследование, а не литература, документальное вместо художественного, которое требует не только фактов, но еще и красоты, тонкости в изображении пусть даже и негативных сторон окружающего. И в определении Тургенева он неправ, и не понять ему его, как и до конца Чехова, потому что они поэты! А кстати, чувствует ли он поэзию Гоголя и Толстого?
Возможно, это плохо, что я довольно редко спорю с ним, когда не согласен с его мнением. Так сложилось давно, уже после того, как мое влияние на его литературные вкусы достигло пика, после которого он пошел в искусство своим путем. Есть у него одно качество, которое мне не по душе — это стремление давить на собеседника, поэтому я не всегда могу рассуждать с ним спокойно, диалектически, так, как это делаю после, наедине с собой. Из-за этого мы почти перестали обмениваться не только дневниками, но и готовыми вещами, что приводит к расхождению, плюс каждый считает в душе свои занятия основными, а другого — менее важными.
Какой вывод? Да он прост. Во-первых, не обращать внимание на недружественные отношения жен, оставить в стороне упреки в том, кто прав в семейной жизни, а кто напротив, а взамен этого смотреть на внутреннее развитие друг друга, как это было раньше. Во-вторых, если и критиковать другого, то не зло, а дружески, тактично, без желания ранить, чтобы дискуссии только содействовали творческому росту.
Я вспомнил, как у Бунина Толстой просит прощения у монахов за свои произведения, как Лев Николаевич стал прост и добр с людьми и сам освободился в этой доброте, которую и бог, знающий людей до живота, проповедовал и завещал, ибо что еще остается!
28 августа
Итог лета оказался неплох: чувствую, что прибавляю, следуя советам А. Тарковского. Возможно, после осени, которая всегда возбуждает раздумья и их воплощение, соберется материал для сборника.
Прочел замечательные «Драматические отрывки» о французской революции у Пастернака и два стиха, созвучные той же идее: «Я понял: все живо…» и «Все наклоненья и залоги…» В последнем особенно поразили две строфы:
С тех пор все изменилось в корне,
Мир стал невиданно широк.
Так революции порок,
Что я, с годами все покорней,
Твержу, не зная, чей урок?
Откуда это? Что за притча,
Что пепел рухнувших планет
Родит скрипичные капричьо?
Талантов много, духу нет.
Вот и ответ на прежний спор мой с Ильей, который так точно формулирует Пастернак: главное — дух человека-художника, без которого талант может стать продажным и исчезнуть в конце концов, как например у Алексея Толстого.
29 августа
Вчера закончил повторное, более внимательное прочтение синего тома Пастернака. О ранних стихах судить однозначно не приходится, но после 28-го года интересного столько — не передать. Любовная и философская лирика на такой высоте, что не сравнить ни с кем из современников, разве Ахматова, Цветаева, Мандельштам. И все-таки мне ближе его эпическая сторона, как например в «Спекторском». Насколько подвластна была ему стихия эпоса, насколько писалось широко, свободно и одновременно глубоко видно даже из того, что он выбросил из окончательной редакции. А какие это куски, данные, к счастью, в комментариях! Естественно, что ему одному у нас было по плечу создать такой перевод «Фауста».
Когда я всматриваюсь в это чудо, то прямо убит своей бездарностью, хотя сначала, конечно, восхищение перед гением. А насколько далеко шагнул эпос Пастернака даже по сравнению с Пушкиным, не говоря уже о партийном эпосе Маяковского. Это широта и размах гетевского или байроновского толка, не меньше!
30 августа
Синявский очень верно отмечает, что краеугольным камнем пастернаковской поэтики является динамика, объемность, достигаемые сквозной метафоричностью и стремлением к простоте изложения материала вплоть до просторечности. К этому добавляется индивидуальное виденье мира, природы, человека и его духовного начала. Все это вкупе и создает, по справедливым словам автора предисловия, великого русского поэта.
Когда погружаешься в поэзию Пушкина, Пастернака и других мастеров такого уровня, то понимаешь, вернее ощущаешь их великость и гениальность в том, что после них выше ничего не откроешь, что достаточно просто стараться идти рядом, в ногу с ними, потому что нет смысла открывать что-то уже открытое для других, это можно и даже нужно делать только для себя, внутри себя.
7 сентября
Прошла первая учебная неделя. Работать теперь вдвое легче, т.к. и разработки уроков есть, и опыт постепенно накапливается, а с детьми проблем вообще не было никаких, только взаимопонимание и дружба. Однако школа занимает будни целиком, даже на просто почитать что-то для себя времени почти нет. А вот в семье бывает порой разлад полный, вызываемый различием с М. в практике воспитания собственных детей. Особенно удручает меня все более обостряющееся отчуждение дочери, готовой предать нас из-за куска сладкого пирога от сильной и коварной матери ее родного отца. Да, в дочери, конечно, наследственность сильна, эгоизма с лихвой, но и я не безвинен. А все потому, что в свободные от школы дни, когда пытаюсь что-то продумать, а затем записать, присутствие и причем шумное мешает сосредоточиться и, естественно, порождает раздражение, подозрительность и недоверие. Понимаю, что взрослому человеку надо подавлять свои разрушительные для окружающих эмоции, но сам не всегда могу это сделать.
15 сентября
В продолжение размышлений о поэзии. Даже у ранней Цветаевой поэтическое дыхание рваное, как ветер, стихи просты, звучат порой как фольклорные, в спокойное течение речи вдруг врывается что-то бунтарское или такое сокровенное, как:
Но вихрь встает — и бездна пролегла
От правого до левого крыла.
Или просыпается естественное желание любви, настолько сильное, что его можно сравнить разве с животным чувством жажды и голода:
Не самозванка — я пришла домой,
И не служанка — мне не надо хлеба.
Я — страсть твоя, воскресный отдых твой,
Твой день седьмой, твое седьмое небо.
Или возникает желание смести всяческие принятые устои, выйти даже к полублатному, жаргонному:
Не отстать тебе. Я — острожник,
Ты конвойный. Судьба одна.
И одна в пустоте порожней
Подорожная нам дана.
Уж и нрав у меня спокойный!
Уж и очи мои ясны!
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны.
Или, отступая от бунтарства, пробивается наружу простое, безыскусное, глубоко личное и прозрачное, почти как у Есенина и Ахматовой:
Должно быть — за той рощей
Деревня, где я жила.
Должно быть — любовь проще
И легче, чем я ждала.
И это в 24 года! И почти в каждом стихе до 1920-го есть столько сказанного прямо и просто, хотя и затаенного в самой глубине души.
Так уже с самого начала Цветаевой, девушки и женщины, перед нами встает Поэт, т. е. Я, причем не просто Я, как я есть перед природой и людьми, я тихий, хороший и честный, а Я громкий, даже громовой (ранний Маяковский), Я, срывающий с себя ненужные, стесняющие покровы, Я то с пуншем и Пушкиным, то с финским ножом на темных улицах Москвы, то с вырванным из груди сердцем, как Данко, Я переломных годов не только России, а всего мира, когда необходимость заставила пересмотреть свое отношение к фальшивым, навязанным устоям, которые расшатывал могучий гений Толстого. Цветаева, еще только нащупывая свой путь, еще Я негативное, но уже Я в противостоянии обоих лагерей предстоящей классовой схватки:
Обеим бабкам я вышла внучка —
Чернорабочий — и белоручка!
Для нее аристократка и каторжанка — все Поэт, и еще:
…а я
Чернозем и белая бумага. (1918 год)
Т.е. уже осознанная тяга к глубине земли (чернозем) и в то же время «белая бумага», на которой предстоит записать, что станет с миром и с ней самой в ожесточенной борьбе, где она еще себя ищет, но не сомневается в том, против кого будет всегда:
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно слитых:
Голод голодных — и сытость сытых!
Здесь, конечно, при всей романтической запальчивости следовало бы уточнить, что она враг тех «сытых», которые сыты за счет «голодных». Но это так… детали… А вот что еще сразу бросается в глаза с начала творчества до 20-х годов: отсутствие в стихах природы, хотя жила рядом и параллельно с ней, и почти никакого отклика на политические события за исключением «Белого стана», о котором знаю, но не читал, поскольку не печатали у нас. Тематика сугубо лирическая, и наряду с вещами, обращенными к родным по духу Мандельштаму, Блоку, Ахматовой, актрисе Софье Голлидэй, своей тени, дочери Ариадне — всего 1 стих умершей маленькой Ирине. Все несла в себе, весь груз переживаний страшных, переломных годов России. В художественном плане — удивительная простота слога, в которую хотя иногда и вплетаются атрибуты девичьего дворянского быта, их немного, и они звучат ненавязчиво. Более ранние стихи пространные, но следующие становятся сжатыми с элементами афористичности благодаря точности формулирования конкретной мысли. Разделения четверостиший внутри, ломки строк (многочисленные скобки) пока не используется, но уже очень много тире, вероятно, подсказка читателю для прочтения с соответствующей интонацией.
20 сентября
На студии 17-го меня резко критиковал Богучаров за четыре опубликованных стиха. Он нашел в них отсутствие поэтической мысли, растянутость и безвкусицу. С чем-то я согласен, но говорить о безвкусице… не понимаю. Стихи действительно не так сильны, как хотелось бы, но для меня годом ранее они были апогеем.
После этого разноса я в растерянности, потому дня 3 ничего своего не читаю. Надо остыть и внимательно просмотреть сделанное за это лето. С чем абсолютно согласен с Богучаровым, так это с тем, что у меня полное неумение, скорее даже не столько неумение, сколько нежелание шлифовать, доводить стих до высокого уровня хотя бы в собственном понимании. Вообще же мало кто меня читал из профессионалов, если не брать в расчет журнальных клерков из отделов писем, которые не смотрят на текст, а сразу отвечают уже напечатанным заранее дежурным отказом, отправляемым всем соискателям. Поэтому критика была мне полезна, хоть я и места себе не находил целых 2 дня подряд и даже приболел.
5 октября
Многие мысли Делакруа очень близки, это свой человек, от одних книг и музыки, от одной живописи. Очень хорошо он сказал: «Секрет избежать огорчения… заключается в том, чтобы жить идеями, которые мной овладевают. Поэтому я изыскиваю все средства, способные их породить». Великий мастер, он не говорит о живописи и других видах искусства так пространно, красиво и глубоко, как Рильке. Зато он бьет прямо в центр — в цель, будь то краска-цвет-линия, мелодия-мотив, сюжет-слово. Вот например: «Произведения Шопена полны юношеской свежести, которая слабеет в некоторых его последующих, более отделанных, более законченных произведениях и совершенно исчезает в его последних работах, отмеченных такой обостренной чувствительностью, что ее можно бы было назвать изысканностью изображения». А как интересно рассуждает он о Рубенсе! Но боже мой, какие же мы невежды (я во всяком случае), что судим о Рубенсе по картинам в Эрмитаже, где одни вакханки да пьяный, разложившийся Бахус. Делакруа же пишет об удивительно спокойном даже в муке Христе, о разгневанном Ахилле, беснующемся Агамемноне и т. д. Но как мне судить о том, чего я не видел! Да и у Делакруа, кроме «Данте и Вергилий, переплывающие Лету», я ничего не знаю, альбомные иллюстрации не в счет. Но дух его, близкий мне, романтически бескорыстный, дух ремесленника и поэта со мной через столько полных событий лет.
Прочел «Великий Гэтсби» Фицджеральда. Для меня это и да, и нет, причем больше нет, т.к. ждал большего. Язык и сюжет — все хорошо, только героям (всем без исключения) я как-то не очень верю, они мне не близки, в них больше американского, чем общечеловеческого и в поступках, и в разговорах. Рассказчик, за которым прячется автор, как судья для этой роли не подходит, т.к. не то, что не умен, а попросту сер, вернее бесхарактерен. Гэтсби — образ надуманный. С одной стороны — романтик, бессребреник, а с другой, — ходульный тип жестокого хищника. Такого сочетания в одной натуре быть не может. Картина получается как бы реальная и в то же время нереальная. Импрессионизм? Возможно.
Мне ближе герои Хемингуэя. Они более естественны и при всем хаосе событий, в которых оказываются, знают, чего хотят. А это прежде всего жить, т.е. со вкусом есть-пить, любить женщину, отдаваться работе. И нет этих болезненных разговоров о честности или «великом чувстве». Правда, роман Фицджеральда был раньше, но это не важно.
8 октября
Сегодня на студию не пошел: устал и смотрел футбол. Каждый вечер читаю Делакруа. К старости он становится интереснее как рассказчик и человек, хотя автор предисловия считает иначе. Вот он пишет: «В том, что я так много работаю, заслуга моя не столь уж велика, как это можно думать, потому что для меня самого это наибольшая радость, какую я могу себе доставить… За моим мольбертом я забываю огорчения и заботы, являющиеся общим жребием. Самое главное в этом мире — побеждать скуку и горе… Следовательно, надо работать так много, как только можно. В этом вся философия и единственный способ устроить свою жизнь».
Как много здесь верного в том, какое значение имеет сам процесс работы в жизни художника. К нашим разговорам с Иликом — это та же эгоистическая цель, та же в общем обломовщина в понимании Добролюбова. Высокие цели искусства с точки зрения самого художника — блажь, самообман. Художник замкнут, зациклен на своей каждодневной работе, он раб ее, как рабочий, крестьянин. Она может без него, а он без нее — нуль. А если кто не работает и при этом добровольно — тот вообще величина отрицательная. Чем же художник отличен от других людей? Кажется, ничем. Значит, гордыню надо отбросить. Что же касается наличия дара, таланта, то это от бога. А вот развитие, рост — это, как у всякого трудящегося, собственный труд и опыт. Здесь все мы на равных, без избранных и плебеев, все лодыри и трудовики.
11 октября
Сегодня сообщили, что 9-го на 78-м году жизни умер Коненков. Вот это больно. Большой художник и человек ушел. Вспомнились его «Юродивый», «Достоевский», «Паганини» и многое еще. Как живые, встали перед глазами «Дед» и «Бабка», разные, но одинаково удивительные пни и его собственная седая по-толстовски борода. Грустно.
12 октября
Интересно, как Делакруа пишет о слабости Гомера, Шекспира, Корнеля и Бетховена по сравнению с Вергилием, Моцартом, Расином и Аристотелем. Она, по его мнению, в том, что они «увлекаемы неожиданными порывами» и нет в них той цельности и законченности формы, взлеты чередуются с падениями. Нет, дорогой Эжен, я с вами не согласен, да и сам Вы не такой мраморно спокойный. Не бывает гения без порыва, с которым только и можно прорвать сети скудости и косности бытия. Конечно, и Расин прекрасен, но его страсть даже не так остра, как у Еврипида, и уж тем более это не рев Отелло. Великий Моцарт божествен, но никогда не достигал исповедальных откровений Бетховена. Его удивительная, совершенная форма — это часто оболочка гениального мастера, но не пророка. А пророк без порыва невозможен. Пушкин без порыва?.. Лермонтов, Толстой, Цветаева, даже Блок — без порыва… Потому они и не родня тоже великим Фету, Тютчеву, Заболоцкому. Те мудры и спокойны, эти — порыв к мудрости, погоня за спокойствием.
В движении жизнь! И Вы такой же.
13 октября
Вчера хорошая прогулка с Сашкой по вечернему лесу. Так тихо и безлюдно, что слышно, как осыпаются листья с почти уже голых дерев. Даже мои дубы лысоваты, а березы и осины качают уже почти сухими ветвями. Особая прелесть была в том, что лес будто отходил от нас и с осенью, и одновременно с надвинувшимися сумерками. На самом выходе все стало размыто, как в пейзажах Коро, а затем в течение нескольких минут какая-то плотная дымка постепенно укатала видимое пространство и от деревьев остались только одни контуры верхушек, все слилось в одну туманную массу и лишь серебряная ниточка асфальтовой дорожки потянулась прочь.
Легко и с удовольствием написал эту картину в 3-х строфах, по дороге к дому привел их в порядок, особенно концовку, которая, по-моему, удалась. Поздно вечером читал Тютчева, который мне в теперешнем настроении менее близок, чем Фет, т.к., хотя удивительно афористичен, довольно суховат, много стихов традиционных. Очень много от классицизма особенно в лексике в противовес более современному и тонкому импрессионизму Фета в описании природы и навеянного ею настроения. Правда, по глубине философской мысли они несопоставимы, здесь Тютчев велик.
6 ноября
Вчера ночью достал те два больших письма Илика мне, которые отложил, чтобы прочесть не в горячке после споров, а спокойно, на свежую голову. То, что касается наших расхождений в отношении жен, это не только остается, но и расширяется, причем с его стороны более и более агрессивно в силу порывистости характера. В чем сходимся оба, так это в том, что жены нам не подруги в работе, поскольку не в силах понять, куда мы идем, чего хотим, потому что Симу кроме быта мало что беспокоит, а Марину распирает непомерное тщеславие, не имеющее под собой основы.
Но это не главное, хотя именно оно привело его к крику в написанных мне зачем-то письмах, когда можно было поговорить о наших обстоятельствах спокойно, гуляя в щелковском лесу или в кусковском парке. Что делать, такова натура брата. Однако к делу. Наши близкие отношения, которые почему-то катятся к обрыву, действительно изменились, и виной этому многие причины. Но главная из них одна — углубление индивидуальности в силу профессионального роста и нежелание делиться кризисными явлениями. Ничего позитивного в литературной работе пока мы друг другу предложить не можем, а разговоры о ритуалах писательского труда удовлетворяют не вполне, поскольку каждый ищет свои пути на этой ниве, зациклен на своих трудностях и ни в чьей оценке, тем более критической, не нуждается. Что же касается совместного проведения досугов, полезного и интересного обоим гуманитарного общения, как это было раньше, то здесь Илик прав: нас разводят семьи и быт. Правда, у меня есть сын, который требует времени, а у него пока никого. А вообще-то, если разобраться спокойно, обе стычки с моей и его стороны были больше в запальчивости, чем в осмысленности. Однако какова натура! Какой в письмах сердечный выстрел! И, как всегда, меня поражает его дикая работоспособность. Мои потуги перед этим — крохи, разве что нынешнее лето.
8 ноября
Вчера встретил в метро Крутовского, сподвижника детских игр и юношеских ожиданий. Он все такой же, так что узнал сразу. То же острое худое лицо, хрящевидный нос, выпирающий кадык и яркая рыжесть. Остановились. Короткий разговор о бывших пацанами товарищах. Добродушный, по-медвежьи неуклюжий и самый сильный Кучум умер уже, хитрожопый Павел, самый малорослый и вертлявый, снова в тюряге, хорошо упитанный Мазай запил горькую. Сам он, солидный, прилично одетый, рассказал о себе, что все на том же заводе, куда ушел из 7-го класса, сначала получил от него комнату, когда привез из долгой командировки в Кострому жену и первого ребенка (сейчас у него 2 девочки), теперь живет уже в трехкомнатной квартире. Лет 6 назад вступил в партию, назначили мастером, зарплата хорошая, всем доволен. Это единственно удачно сложившаяся судьба из компании наших сверстников, оставшихся без отцов после войны, детей, скорее обременявших своих тоже не менее несчастных матерей, детей улицы.
Вероятно, следует подумать о продолжении темы послевоенного поколения в эпическом разрешении.
12 ноября
Сегодня на студии отмечали выход первого сборничка Вадима Ковды. Поначалу привлекает бескорыстие, доброта авторского Я в противопоставлении тщеславному, суетному, сиюминутному: “ Я не поэт, я просто житель…» и т. д. Половина книжки — природа, моя болезнь. На мой вопрос почему, он ответа не дал, а я по размышлении вижу в этом ограниченность темы доброты вообще, не приложимой к чему-то конкретному. Таких стихов много не напишешь, круг опять-таки замыкается на себе любимом. Мне кажется, что здесь не столько субъективности, сколько индивидуализма, нежелания мараться в рядовой повседневности, которая тоже требует внимания к себе. Привлекает меня у него сжатость и одновременно емкость выражения мысли, а еще более непредвзятость разговорной интонации и кристальная искренность в лирике (стихи о родителях, жене, дочери и сыне), хотя анализ времени и себя в нем мало убедительны.
Три дня под впечатлением от 20-го фортепианного концерта Моцарта, в нем предварена глубина Бетховена, только чище и яснее по форме. Показать Илику.
21 ноября
Вчера на студии читал свои стихи приглашенный сибирский поэт Анатолий Преловский. Такого в живую я еще не слышал. И стих внешне непритязательный, и словарь не ахти оригинальный, и рифма часто глагольная, сквозная, но темы и их разрешения — просто здорово. «Земной поклон» — книжечка маленькая, всего 2 печатных листа, но не просто о жизни вообще, а довольно глубокий анализ ее непосредственных проявлений, своей неудовлетворенности прошлым и настоящим и при этом взгляд в будущее не юношески бойкий, а с прищуром страдания и опыта наряду с любовью к родной земле и ее народу. У него не «я на земле», как у Ковды, а «мы на земле».
Но боже мой, даже в иркутском издательстве она провалялась 4 года, из-за нее сняли с работы 3-х редакторов, и сам автор весь желтый, как лимон, заикается и прихрамывает, словно контуженный. Не знаю, может, он и раньше был такой щуплый, но говорит, что работал «русским ковбоем» на перегоне скота из Монголии. Также рассказывал, что отца его сослали в Сибирь и он с матерью несколько лет прожил у «благих скопцов», не столько верующих в бога, сколько в добро, и какой это оставило след в его развитии.
Я так завидую тому, что он может писать реально о кандальной сибирской Руси, о раскольниках и политических ссыльных, о том, как они школьниками в войну собирали по домам золу для колхозных посевов, поскольку никаких удобрений не имелось. Мы были тогда еще крохи, и даже первые послевоенные годы оставили в памяти не ясные картины, а какие-то смутные пятна. Конечно, пережив кошмарный опыт того лихолетья, легче выразить боль и тревогу за будущее своего народа, и это Преловскому во многом удалось, хотя стихи внешне (на слух) не очень богаты, замысловатых метафор и прочих прибамбасов нет. А, может, так и лучше? Тема правды прошлого и настоящего не столько с вызовом, как у Евтушенко или Вознесенского, сколько с личной выстраданностью — это, пожалуй, то главное, в чем нуждается читатель, какого бы уровня он не был.
Пока слушал его, мне пришло в голову несколько сюжетов, стоящих письменного оформления: деревянные башмаки (воспоминание нашего цехового нормировщика Сергея Николаича о деревянных башмаках, в которых он в войну добирался мальчишкой на завод); трамваи в войну, почему-то постоянно сходившие с рельс, отчего я до темна ждал взрослых один в доме, прячась под столом; мы — пятиклашки (на смерть Сталина и прохождение с пионерским салютом перед его огромным, холодным, белым гипсовым бюстом); Мозаиха, потерявшая в войну мужа и доступная всем желающим мужикам в тесном бараке.
Может, когда-то это и напишется. Конечно, для решения таких тем надо пережить, перечувствовать многое самому, а мне, откровенно-то говоря, и брать исходный материал почти неоткуда. Сегодняшний день в нашем устоявшемся, спрессованном застое красками бледен, и глубина переживаний может быть отражена разве что через природу, лирику или память о не близком прошлом. Мне это интересно тоже, но в нем нет трагедии всеобщей, и замкнутость на себе не может этого восполнить. А все потому, что целостной картины настоящего не видишь или не хочешь принять, она тебе не интересна своей внешней убогостью, и проще в поиске красок оглянуться назад. Так и Пастернак в «Спекторском» настолько глубоко дал осмысление интеллигенцией революции, но сегодняшнего будничного дня тоже не дал. А кто дал?
Блокнот 7-й
1 декабря
Работа литературная стоит за неимением времени. Зато вечером слушал прекрасную передачу о Моцарте по книге Чичерина, у которого великий музыкант не только чист и прозрачен, но, вырастая, становится глубок и мудр. Как предтеча Бетховена, он тоже в силах порвать с обществом недоучек и тоже остается один. «Моцарт — высокое строгое небо», «Моцарт — композитор будущего», «бездонная таинственность» — вот эпитеты, приложимые к гению. И еще: «Бетховену необходим простор, Моцарт, как и Бах, глубок в малой форме, отсюда и сложность его». Споры о ничтожестве писем. Но есть два Моцарта — внешний и внутренний.
5 декабря
Что поражает в великих произведениях искусства — так это современное звучание, несмотря на время и место действия. Когда начал читать роман Симадзаки Тосона «Нарушенный завет», многое было непонятно, оттого, что еще не вжился в обычаи Япония начала 20 века. Однако чем далее, тем более проясняется герой, он становился мне настолько близким по духу, что, казалось даже, будто он — моя совесть, будто сам нарушаю отцовский завет: «Скрывай себя от других, не открывай души своей, рушь все привычные, ведущие к сытой, спокойной жизни траншеи, чтобы выйти на дорогу по верху, на дорогу правды, может быть, и борьбы».
Я и сам всегда был склонен к такому выводу, а тут, возможно, и под воздействием книги, которая подтолкнула на не совсем обдуманный поступок, выступил на партсобрании с отказом осудить академика Сахарова, якобы идущего против линии партии. Я сказал, что не мог читать его высказывания, поскольку их нигде не приводят, а осуждать человека голословно мне совесть не позволяет. К тому же я сам бы вышел из партии, если бы был уверен, что это только траншея фальши и скверны, прикрываемая словами людей незаурядных, но уже не существующих, следовательно не могущих отвечать за свои былые проекты. После моих горячечных слов в аудитории повисла настороженная тишина.
Главное, что дала мне книга прекрасного японского писателя, так это ощущение, что жизнь есть везде, а не только в том месте, где ты существуешь, она была и есть рядом и далеко, ты трепещешь и бьешься не один, и это общее дыхание несогласия и есть пульс жизни нашей земли-планеты, человека одного во многих и многих в одном. Так пишет Делакруа об античном зрителе, когда тот был высоким ценителем искусства. Падал зритель, падало и искусство, а не наоборот. По нему, три четверти человечества — варвары, жующие и прикрывающие плоть, дабы не открыть другим пустоту ума и сердца. Для кого же тогда искусство? Но оно есть! Оно как биение пульса, как самоток крови, как необходимость дыхания Рембрандта и Тициана, Фидия и Праксителя, меня, Илика и студийцев, бескорыстное да и в некотором смысле корыстное тоже. И пока этот пульс, который с веками все слабее и слабее, но все-таки бьется, для людей жизнь еще имеет смысл.
12 декабря
Нездоров уже почти 2 недели. Все серо кроме ежевечернего общения с Делакруа. Стихи Мартынова, которые перечитал по совету Богучарова, меня теперь не удовлетворяют: на один хороший стих десяток слабых, к тому же очень неряшливая лексика. Зато какой гонор!
Смотрел «Бег» по Булгакову. Фильм удался, особенно 1-я серия: точная игра актеров, прекрасная операторская работа. Вторая серия несколько затянута, кое-где даже фальшива, но что в ней поражает, так это полная потерянность настоящего русского человека, заброшенного на чужбину. Этой сильной, раздольной натуре невозможно там проявиться, и она не то что сгибается, она вянет.
Черт побери! Мне стало так больно за этих героев, попавших помимо своей воли под маховик исторических событий, будто я был на их месте. Да, без родины действительно нет тебе места под солнцем. Но куда же деваться, если родине в реальной жизни ты не нужен? Обратно, на смерть? Ответа на этот вопрос нет, и потому финал провисает, человеческая трагедия оборачивается бегом в никуда, одинокую, как ковыль, фигуру занесет ветер в чужеродную, бескрайнюю степь, где она просто исчезнет. Естественно, авторы фильма открыто на такой финал не могли решиться в силу наших принятых в высших инстанциях стандартов, но все равно оптимизмом в концовке не пахнет, картина обрывается на сцене возвращения к родной природе, а уж как встретят оболваненные революционной догмой и развращенные неподконтрольной властью люди — об этом можно только догадываться. А впрочем это хорошо известно.
15 декабря
Фильм «Серафино» в постановке Джерми — сочная, как румяное яблоко, картина крестьянской Италии. Это тот самый реализм, взятый вживую, без прикрас. Вот чему нам с Иликом надо учиться, если вообще возможно научиться чему-то, тебе не очень-то присущему. Мы ведь берем из реального только ту его часть, которая находится в апогее величия или в перигее падения, т.е. там, где она становится символикой и отделяется от того бытового, характерного и типического, невольно сближаясь с романтизмом. В «Серафино» же все проще: борьба и исход обычен. Человек не уходит в природу, а живет и работает в ней, не как я, который вопиет о невозможности находиться в городе, однако остается в нем. И не как Илик, глубоко и осмысленно осуждая урбанизм, не бежит от него, поскольку в нем удобно и легче найти женщину, с которой приятно поговорить и не только. Конечно, и жизнь в деревне, если она не протест против механического, машинного ритма, усиливающего мещанство, ханжество и материальное неравенство, однако тоже позволяющая не мерзнуть на открытом воздухе и при людях обжимать подружку, не менее животная, даже, можно сказать, скотская. Но это жизнь натуральная, пускай без глубоких идей, зато с общим весельем, добром по отношению друг к другу, рядом с женщинами, которые тебе милы и доступны и где так естественны дети. Да, не забыть о главном: тебя окружает пейзаж с чистым небом, просторными полями, лесами и горами на бескрайнем горизонте, который в городе не виден совсем. И что еще нужно простому труженику, если он не дорос и не хочет дорастать до такой противоречивой цивилизации? К чему ему путы на незамутненную душу, крепкие руки и ноги? Так, в «Серафино» есть что-то бернсовское, фростовское, то, чего нет в нашей литературе, даже и в деревенской, где слишком густо замешаны критические идеи в противовес описанию повседневной, естественной жизни. А в этом как раз итальянцы — мастера.
Кажется, я в чем-то тут зарапортовался, все несколько сложнее.
22 декабря
На днях читал Пьера Бейля, в частности об Илье Пророке, которого я всегда считал его героем, борцом за справедливость, за торжество добра и противника неправедной веры. Илику этот персонаж видится несколько сложнее. Он не только вечный мститель за попрание идеалов, но одновременно и в какой-то мере пародия на него, что-то вроде Дон Кихота, которому никак не добиться торжества добра, поскольку он одинок, да и что такое зло, как не оборотная сторона того же добра, и следовательно они неразделимы. Я согласен с братом в том, что в настоящее время необходим герой-бунтарь, бьющийся против фальшивого государственного манекена, прикрывающегося дежурными фразами о добре и вере. В нынешней смене вех, как во всякой поре расчистки места для фундамента нового мира, он, как Будда, Моисей и любой исторический герой любого другого народа, необходим, но только не как фанатик, а как личность, созвучная теперешнему, более сложно устроенному веку.
Как же дает Илью Пророка Бейль? У него это не человек, а безумец, уничтожающий все, что выходит за пределы иудейской догматики. Он вершит суд в одиночку, не отдавая себе отчета о содеянном. Ни капли не сомневаясь в праведности своего долга, он предает жестокой смерти всех жрецов Ваала, которых тысячи. Бейль высмеивает такое религиозное рвение, поднявшее на щит орудие, карающее без разбора, тупое и всесильное в своей ярости. Многие «подвиги» Ильи оправдываются в «Библии» его «боговдохновением» (как тут не вспомнить о фанатизме борцов за революцию для народа, приведшую этот народ к тому же неравенству и еще большей нищете). Бейль выступает против лицемерия любой религии, огнем и мечом преследующей все, что ей противоречит. Для философа Илья — это обряженный в черный клобук беснующийся под одобрительный вой инквизиции палач, вдохновенно исполняющий свои кровавые обязанности.
Я с ним полностью согласен, однако как жить без героя? И мы ищем образец его, а если в сегодняшнем дне не находим, то обращаемся ко дню вчерашнему, где у него и тогда реального лица не было, а теперь оно вообще сгнило в истории. И получается, что вчерашний герой — это наша сегодняшняя выдумка, наша марионетка, к которой лучше в качестве образца не прибегать, а если прибегать, то, подобно Толстому, с документальным подтверждением. Так и с этим библейским персонажем. И, вроде, нам-то все равно, каким был достопамятный Илья, однако просто анализируя скупые данные древнейшей книги, делать его ангелом с белыми крылышками, летящим в божественные небеса, как-то совестно даже и верующему человеку. Поэтому лучше не называть такого героя Пророком, лучше быть в этом отношении нигилистом, особенно, если учитывать подобную деятельность более близких нам по времени но не менее кровавых диктаторов.
1972-Й ГОД
8 января
Вчера утром с ребятами своего класса отправился в Архангельское. Чудесный лыжный переход от ближайшей станции. День морозный, где-то градусов 18. Красивая деревня Воронки по дороге на Опалиху. За деревней над оврагом просторное поле, засыпанное снегом, но по редким кустикам блеклого овса догадываешься, что было здесь летом. На невысоком холме отличная лыжня, и мы поднялись туда как раз тогда, когда солнце коснулось нижней своей дугой крыш далеко виднеющихся слева деревенских домов.
В музее зимой не топят, холодно, особенно у экспонатов не постоишь, однако солнечный день позволил мне (детям это, конечно, мало интересно) вдоволь налюбоваться не столько потемневшими, вероятно, от времени и условий хранения громоздкими полотнами Ван Дейка, Ван Лоо, Тьеполо и даже Веронезе, сколько мрамором Кановы, копиями с античности и бюстом Нерона, привезенным с раскопок Помпеи. Вид на парк с террасами в стиле Версаля поражает из широкого окна центрального дома. Нужно приехать сюда летом и осмотреть все закрытые на зиму скульптуры в парке, в том числе Антокольского, побродить по аллеям, читая Вергилия, и через Воронки пройти лесом в Опалиху, на обратном пути куда мы немного заблудились, потеряв лыжню, и потому вышли к станции уже затемно. По домам от школы разошлись где-то к 8 вечера, когда встревоженные родители уже оборвали мой телефон. Но ребята были счастливы.
16 января
В книге о древнем Вавилоне последовательно проходит мысль о том, что времена взлета любой цивилизации сменяется ее падением. Много таких изречений и в источниках, описывающих историю других народов и не только Междуречья. Например в иудейской «Библии», описывающей и расцвет, и периоды переселения через пророков Израиля, особенно Иеремии, полно предсказаний о гибели одних народов и возвышение других, через краткие передышки снова кровавые завоевания. Все это как бы видимая не непосредственно, а через призму прошедшего времени суета человеческих племен, которая, как ветер в степи, заметает следы неминуемых утрат. Как было бы ужасно, если бы не оставались памятники культуры, пусть и в руинах, которые все-таки дают нам возможность не только утверждаться в тщете собственных потуг, но и надеяться на торжество человеческого разума.
При этом, однако, не следует забывать об отношении древнего общества к тем художникам, которые эти памятники создавали. А отношение это было несколько снисходительным, даже с ноткой небольшого презрения, потому что единственно полезной и нужной считалась в то время жизнь человека, владеющего землей, или воина. И ни один крестьянин, а тем более аристократ не хотел бы быть Фидием или Праксителем, хотя и восхищался их творениями, а позже, в Риме, заказывал копии их произведений.
Что же тогда обеспечивало создание непревзойденных шедевров, которые, несмотря на непрекращающиеся войны и гибель в них целых народов и государств, все-таки дошли до нас и под их влиянием продолжается развитие процесса созидания новых памятников? Ответ прост: в искусство почти всегда шли и идут не карьеристы или обыватели, а бескорыстные подвижники, поскольку «служенье муз не терпит суеты». Только так можно сохранить его неиссякаемую преемственность.
30 января
Немного устоялось мнение об «Энеиде» Вергилия, которую прочитал, конечно, не так торопливо, как в учебный период с нигилистическим настроем юности.
Произведение, безусловно, сильное, спустя некоторое время по прочтении замечаешь, что в памяти остается многое. Не согласен с автором предисловия, считающим, что удался только главный герой эпоса, второстепенные же теряются на его уровне. В моем сознании запечатлелся не только Турн (этот образ действительно замечателен), но и Паллант, и сам старый Латин. Сравнивая эту эпопею с гомеровской «Илиадой», видишь, насколько зримо изменяется искусство. Здесь уже нет прежнего скрежета страстей, идя за развитием жизни вслед, искусство сглаживает острые углы и, хотя описываются события, близкие по времени, однако герои уже не те. Троя для них — это воспоминания давней юности, где беснующиеся Аякс, Диомед и Агамемнон — древние пращуры. Но, как и у Гомера, у Вергилия замечательны сцены переломных моментов повествования: бегство героя из горящей Трои, поиски жены, не пришедшей к месту назначенной встречи, любви и мук Дидоны, в своей страсти не уступающей и еврипидовской Медее, и др. Схождение Энея в Аид дано очень мощно и впечатляюще, хотя конец этой главы почему-то оборван неестественно.
В общем это эпос, почти равный Гомеру, написанный чеканным стихом, таящим внутреннюю напряженность, замечательную образность в передаче непростого сюжета, тонкие поэтические сравнения и т. д. Однако при этом нельзя забывать, что Гомер был первым, давшим такую мощную картину реально-мифологической действительности, и Вергилий уже шел от него и из него.
9 февраля
Порастеряв движенье жизни,
на землю глядя сверху вниз,
в своем профессионализме
и ты закис, и я закис –…
это написалось после сегодняшнего разговора с Иликом о потере самого себя при уходе в так называемое профессиональное, т.е. спокойное, размеренное, довольно обеспеченное благодушное казенное искусство принятых тем, идей и форм. Я думал также о том, стоит ли идти в чисто реальную поэзию, с подробностями быта, деталями обстановки жизни, в которых утрачивается таинство и музыкальность стиха, хотя взамен приходит беспощадное слово правды о происходящем на людной площади действе. С точки зрения Толстого — это единственно верное в искусстве. Но, видимо, в поэзии нельзя игнорировать музыку, поскольку она от нее исходит, сама ритмическая основа соединяет их и уводит ввысь. Встает вопрос, как сбалансировать эти две составляющие: приземленность факта и стремящуюся в пространство мелодию?
8 марта
Последние две недели прошли в трудной, но приятной работе над стихами, исходящими из ранних набросков. Несколько вещей дополнил и отделал, труднее всего давалось при этом «5-е Марта», написанное на смерть Сталина и отношение к ней нас, тогдашних четвероклассников. Я пытался выразить это лет 5—6 назад, но получалось плохо, т.к. чувствовал тему только на эмоциональном уровне, деталей не было, как не было и опыта создания подобной объективной картины. И теперь, набросав несколько строф начала, принужден был остановиться, поскольку снова не знал, куда привести пережитое самим, чем завершить воспоминания далекого детства, чтобы не скатиться в дежурное разоблачение всех и всего, переходящее в ничего не значащий крик. Хотелось большего: передать не только атмосферу растерянности, неуверенности в тот момент, но и нарождающуюся откуда-то изнутри волну неприятия того, кто столько лет, считавшийся «родным» для всего народа, был однако далек, как например загадочный президент какой-нибудь Америки. Поэтому основной смысл теперь вложил в последнюю строфу, даже в последнюю строку: как и тогда, не ведая, молчали.
Интересно, что скажет Илик, и дать почитать отцу.
Говоря откровенно, несмотря на интерес к этой крамольной теме, поворот к абсолютно реальному мне не совсем по нутру. Боюсь упустить лирическую образность, ту поэтическую мимолетность, без которой нет музыки, импрессионизма, глубины в недоговоренности, того, что остается за кадром, т.е. многоточия. Так отлично сделаны маленькие поэмы В. Соколова. А я мучаюсь страшно, оттого что не могу добиться единства замысла и его воплощения, а у него все так просто и естественно, глубина мысли не замутнена.
19 марта
Насколько понравился А. Камю своим «Посторонним», настолько чуждо мне его же «Падение». По-моему, вся это нездоровая психопатическая мешанина Достоевского идет от лукавого, исповедующийся герой не то, что не интересен, а просто противен. К тому же поневоле начинаешь всю эту мерзкую опухоль ассоциировать с ее автором, который как бы смотрит со стороны, но не взглядом психиатра (будь так, это было бы объяснимо), а взглядом человека, в чем-то даже сочувствующего этому чудовищному призраку, явлению скорее патологическому, чем типичному.
Такой Камю во многом близок «подпольному человеку», вероятно, любимого им Достоевского. При размышлениях об этом мне всегда приходят на память слова илюшиного друга Миши Шварца, одолжившего нам на недельку запретное тогда «Евангелие». Он на осуждение его обломовской лени и безделья обычно с иронией отвечал, что общество, мол, загнивает, и он ему в этом усиленно способствует. Мне в «героике загнивания» смысла не видится, и если уж в искусстве показывать дурное, тем более отвратительное, то надо над ним стоять со скальпелем и быть не просто хирургом, а скорее мясником. В этой повести Камю даже много холоднее и рассудочней Достоевского, который хотя бы безумно эмоционален.
«Венок» В. Соколова — это для меня сегодня образец поэзии. Прочтя, захотелось написать свой, но он получился хотя и неплохо, однако далеко не так. Вот и сравнение, можно помериться уровнем мастерства. Мне еще далеко до настоящего, а, может, его и не будет — не та мера таланта.
Вчера днем, только вышел на воздух, когда закончились уроки, как услышал мягкий звон многих колокольчиков. Я застыл привычно — целая стая свиристелей слетела с боярышника на уже ноздреватый грязный снег школьного двора. Штук 30 красавцев перелетали с одной кочки на другую, распушив свои окантованные белыми с голубым перьями хвостики. Восхищало в них все: и вьющиеся по ветру хохолки над пепельно-серыми головками, и яркие, прямо зябличьи подкрылки, и звоночки, звоночки, звоночки. Вот повезло мне — усталости как не бывало.
24 марта
Насколько чище и добрее героев Камю герои Апдайка. Они все уже не «потерянное поколение», хотя люди тоже обреченные, поскольку не вписываются в контекст окружающего их примитивного мироустройства, где материальное вытесняет духовное и большинство вынуждено подчиниться этому. Критик может называть их позицию «противостоянием хаосу», но это не противостояние, это инерция колеса, в котором они вынуждены вращаться, пытаясь разве сохранить при этом бесцельном движении в никуда хоть малую частицу своей индивидуальной сущности. К сожалению, это «лишние люди», уходящие кентавры, человеческая составляющая которых по невостребованности будет, вероятно, постепенно поглощаться животной и таким образом сливаться с обывательским большинством. Что ж, эволюция пошла наоборот, однако, хочется верить, только до какого-то критического момента, иначе — апокалипсис.
29 марта
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.