

В Перестройке. 1987—2000
Дневниковые записки
Предисловие
В конце восьмидесятых годов прошлого века в стране стали происходить значительные перемены, которые потом назовут Перестройкой. Конечно, они касались каждого из нас и я, привыкшая вести дневниковые записки с четырнадцати лет, продолжала делать это и в те годы. Допускаю, что, наблюдая всё слишком «близко», мы с мужем не всегда делали правильные выводы, — «Большое видится лишь на расстоянье» — но то было наше восприятие свершавшегося и, возможно, кому-то это будет интересно.
ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ
Уже второй год Горбачев ездит по стране, в другие государства, и нам интересно слышать его живую речь, видеть улыбчивое лицо, несравнимое с теми напряженными, «изношенными масками», которые были на экранах телевизора до него. И он для нас — тот самый свет, который «в конце тоннеля».
…Летучка. У моего начальника Афронова лицо красное, напряжённое:
— Зачем надо было в эфире упоминать Качанову (моему мужу) о загрязнении Десны и мусорных кучах города?
И зло смотрит на меня, режиссера, потому, что автора на летучке нет.
— Ну и что? — смотрю и я на него, — Горбачев призывает…
— Горбачев в Москве, — прерывает, — а мы — здесь.
И отмечает лучшей передачу недели, в которой поэтесса и редактор молодежных передач Ницкая спрашивает у пятилетней девочки: «Ты рада, что твоя мама — делегат Областной партийной конференции?» О-о!.. Отмечают и очерк «Сто пятьдесят лет фабрике имени Коминтерна» за находку режиссера, — вставила эпизод из фильма тридцатых годов: актриса идет по цеху и поет: «В буднях великих строек…»
— Хорошо-о! — хвалит начальник.
А я… а во мне опять: потерянные годы на этом телевидении. И слезы — вот-вот…
…Вчера в Доме политпросвещения для «узкой общественности» был закрытый показ фильма «Покаяние», но вначале — лектор:
— Варлам — где-то Берия, где-то — Сталин, его усы…
Думал, не поймем?.. Есть отличные эпизоды: очная ставка Сандро и Михаила; Немезида, которую гэбист тащит в кусты; обезумевший от пыток Михаил с его ответом следователю: да, он шпион и ему было дано задание прорыть тоннель от Бомбея до Лондона; сон Нины: они с Сандро бегут по улицам, по полю и всюду за ними на машине — хохочущий, побеждающий Варлам; и снова — они, но уже зарытые в землю… и только их еще живые головы — на вспаханной земле, и обреченные взгляды.
…Пять часов делала запись спектакля и вымоталась!..
Стою на остановке, жую яблоко, — мой оператор Саша Федоров принес аж целый мешочек из своего сада. Но вот подходит мужичок лет тридцати пяти в очках, в шляпе, лицо мелкое, худое, напряженное:
— Дайте яблочка, — смотрит хмуро: — Ничего сегодня не ел…
Когда вошла в троллейбус, подумалось: «Хотя бы не подсел!». Но как раз рядом и сел, заговорил: он — экскаваторщик шестого разряда, проработал на Севере двенадцать лет, хорошо зарабатывал, но вот потянуло на родину:
— Человек должен домой возвращаться, просто обязан, — хрустит яблоком: — Но вот, сменил здесь много мест работы, а сейчас опять хоть уходи! По две недели ничего не делаю, а зарплата идет. А зачем мне эти деньги? Я же хочу честно: заработал — отдай положенное, а не заработал… — Кусает яблоко, вяло жует: — Но начальник говорит: «Не уходи. Хочешь, еще больше платить буду? Я ж на тебя положиться могу. Ты, когда нужно, все хорошо сделаешь». — И вдруг повышает голос: — Да. Сделаю. Умру, но сделаю, если обещал. — На нас оглядываются, и он замолкает, смотрит в окно, а потом резко взмахивает рукой с искусанным яблоком: — Помощник мой ни-и-и черта не умеет! А получает семьдесят процентов от моего оклада. Говорю начальнику: да не нужен он мне! Нет, не убирает. По инструкции, видите ли, положено. — Снова замолкает. Но опять: — Когда пришел к нему устраиваться, то он сказал: «Видишь тот экскаватор? Отремонтируешь — возьмем». Ну, я и отремонтировал. Без всякой помощи. — Опять говорит громко, с нарастающей болью и на нас снова посматривают, а он, словно не замечая этого, громко возмущается: — Ни столовой рядом, ни обедов не привозят. Как собаки! — И вдруг бьет себя кулаком по колену: — Девчонка-контролер весь день на холоде работает! — Смотрю на его руки: в царапинах, мозолях, большой палец сбит, остальные скрючены, как в судороге. И он замечает мой взгляд: — Думаешь, грязные? Да нет, вообще не отмываются. — Подносит яблоко ко рту, но опускает руку: — Так вот… девчонка эта целыми днями на холоде и сегодня аж посинела вся. А у нее, между прочим, через два дня свадьба. Свадьба у нее! — выкрикивает с болью. — Ведь простудиться может на всю жизнь, а он… — Закашливается, молчит с минуту, а потом негромко продолжает: — А он не может ей даже будочку поставить возле ворот, чтоб теплей ей было и только все: «Давай, давай»! — Опускает голову, с минуту сидит, покусывая яблоко. — Ладно уж мне… Я двенадцать лет на Севере оттельпужил и сейчас на своем экскаваторе без окон работаю. Пальцы, думаешь, отчего не разгибаются? От холода. К рычагам приросли… Так вот, ладно — я, а ей за что все это? — снова выкрикивает и на нас опять оборачиваются. — Говорю сегодня начальнику: «Чтоб будку к зиме поставил! По-ста-вишь! Ты меня знаешь»!
И искусанное яблоко повисает у меня перед глазами, зажатое в кулаке, а потом медленно опускается вниз. Но уже подъезжаем к моей остановке, надо выходить. Он замечает это, с сожалением поднимается:
— А на родину человек должен возвращаться, — словно закругляет свой рассказ. — Нельзя без родины, без родных. Надо кого-то ругать, кого-то любить.
Выхожу из троллейбуса, оглядываюсь: через забрызганное стекло вижу улыбку… нет, гримасу на его маленьком издерганном
…По просьбе друга-художника муж начал писать статью для «Рабочего» о том, что в Худ фонде некоторые художники занимаются только тем, что на «производстве» бюстов Ленина заколачивают большие деньги, а сегодня приходит мрачный:
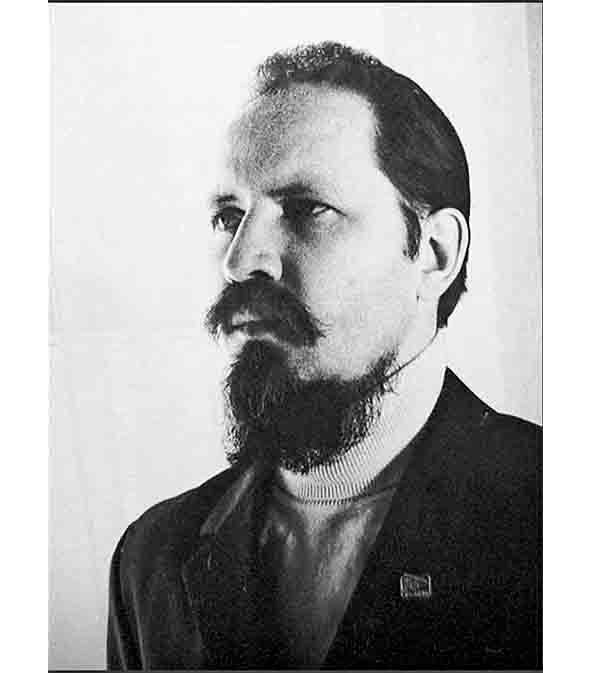
— Получил щелчок по носу. — И рассказывает: — Попросил у секретаря Союза художников, чтобы подготовил данные о зарплатах, а он, дабы выиграть время, сказал, что этот список бухгалтерия сможет показать только через три дня. Хорошо, через три, так через три. Прихожу сегодня, а он: «Вот Вы в прошлый раз предъявили мне свое журналистское удостоверение, а сегодня я Вам — своё». И показывает книжечку члена Обкома партии. «Я знаю об этом», — отвечаю, а он опять: «А раз знаете, то я бы посоветовал вам вначале выяснить свои отношения с редакцией», мол, станет ли она печатать статью? Какая сволочь!
Но все же сел её дописывать и теперь, если «Рабочий» её не напечатает, думает послать в центральные газеты с названием: «Под башмаком у корысти».
…Сегодня ровно год, как обрушилось на нас это бедствие — авария на Чернобыльской атомной станции. Помню, как несколько дней спустя, когда наш собкор ехал из облученной Красной горы и на посту его машину проверили дозиметром, то радиация превышала норму в двадцать раз. Помыли чем-то — вошла почти в норму, но после этого у Володи несколько дней кружилась голова и давило в висках. Да и меня качало, быстро уставали нервы, и было одно желание: забиться в уголок, свернуться калачиком и лежать, лежать.
Чернобыль… Только спустя несколько дней сообщили нам в программе «Время»: в радиусе тридцати километров от аварии все жители вывезены; восемнадцать человек, пожарники, тушившие атомную станцию, погибли от облучения, а тринадцать — в тяжелом состоянии. Да, были мы напуганы и не знали, что можно есть, чего нельзя пить? И желтоватые пузыри на лужах после майских дождей казались зловещими. Вот несколько моих записей тех дней:
«Приехали в Красную гору ученые из Ленинграда замерять радиоактивность, направились в близлежащие деревни и возвратились, — испугались, что очень высокая. А рассказывала об этом Лида, наша проявщица, у неё там сестра живёт.»
«Возле Красной горы есть Крижановские болота, так над ними повисло радиоактивное облако, и тамошние жители уверяют, что оно ночами светится.»
«Вчера Лида опять звонила сестре, — у той трое детей, меньшей девочке один год, — так та рассказала: всем дают таблетки от радиации и детей от них рвет; выдали людям робы, шляпы, постригли наголо, не советуют выходить на улицу; беременным делают аборты даже и в пять месяцев; не рекомендуют есть зелень, ягоды, пить молоко, а коров велят сдавать на мясо.
Стараюсь, чтобы и мы не ели щавеля, зеленого лука, не пили молока, но разве убережешься от этой радиации? Зато, часто едим салаты из морской капусты, говорят, что она выводит какие-то нуклиды».
«Снова Лида пыталась звонить в Красную гору, но сказали, что там нет электричества. Врут, поди.»
«Достала дозиметр на пару дней, совала во все углы и даже в грибы, которые собирали осенью. Вроде бы все нормально. А вот в Карачеве, в саду нашего знакомого Володи Рыжковского, у скамеек из гранита, на которых они любят сидеть, вдруг так запикал, что едва успевали считать. Да и барьерчик из мраморной крошки, что в Карачеве у автовокзала и на котором обычно сидят в ожидании автобуса, тоже с тридцатью бэрами».
И все же в «Рабочем» напечатали статью Платона о художниках, но после летучки в газете пришел взвинченный:
— Не отметили ее, — блеснул очками, разделся: — У всех какое-то глухое недовольство вызвала. Почему? — Присел на стульчик у порога: — То ли вообще недовольны мной, то ли статья что-то в них задела?
— Да плюнь ты… — посоветовала и уехала на работу.
Вечером возвращаюсь, а он все еще страдает:
— Как ужасно это наше одиночество! Если б не ты, так хоть удавись. — Уходит в ванную, потом входит на кухню: — Ну что, идти с ними на контакт?
— Не ходи, — улыбнулась, что б взбодрить: — Лучше оставайся в своей одинокой башне.
И завариваю ему успокаивающий чай. Но поможет ли?
…Перестройка. Ничего-то из нее не получится, пока будут живы обкомы-райкомы, пока не будет многопартийности, пока не будет хозрасчета на предприятиях, крестьяне не станут хозяевами земли. А гласность… В центральных газетах она с каждым днём «гласнее и гласнее», а у нас…
А-у, долгожданная! Где ты загулялась?
…После напечатания статьи о художниках, звонят Платону читатели по несколько раз в день, и он ведёт с ними длинные беседы. Вижу: ему это льстит. А меж тем секретарь по идеологии Обкома партии вызывал к себе зав. отделом «Рабочего» и беседовал с ним целых полтора часа по поводу публикации Платона.
…Вначале Платон не хотел идти на собрание художников, но я посоветовала:
— Иди. Потому иди, что отсутствующий всегда виноват.
И шло собрание аж шесть часов. Кулешов, зав. отделом культуры, сказал в выступлении, что статья Качанова пользы никакой не принесла, только потешила обывателей, а Платон взъерошился:
— Так Вы что, против гласности? Пусть она будет где-то там, но не у нас?
И резолюцию приняли такую: статья в основном объективная. Но художник Бенцель потом говорил Платону, что не ожидал этого, так как руководством накануне была подготовлена совсем другая, — осуждающая.
…Лида радуется, когда захожу к ней в проявку, — наверное, видит в этом поддержку себе, ведь многие в Комитете похихикивают над ней за веру в Бога.
А директор телецентра и её начальник как-то намекнул ей, чтобы помолилась за него, если помрет, — может, чувствует свою вину перед ней за то, что развел с мужем? А дело было так: когда после смерти матери Лида вступила в секту баптистов, то он чуть ли не каждый день звонил начальнику ее мужа, чтобы тот через него повлиял на жену. И тот повлиял, — муж заявил Лиде: «Или Иисус, или я». И она выбрала Христа.
…Летучка. Вхожу.
— Ты обозревающая? — спрашивает звукорежиссер Володя Анисимов.
— Нет, Володя. Сегодня я — подсудимая.
И потому, что знаю: обозревает редактор Ирина Носова и будет мстить за то, что на прошлой летучке раскритиковала ее просоветскую передачу. И она уже говорит медленно, зло:
— Очень жаль, что все три передачи были одного режиссера. Особенно плох был «Край родной», ведущий — Качанов. Ну… — И картинно вздыхает: — Не знаю, что и сказать… — Делает наигранную паузу: — Я же вычеркнула целые абзацы из его сценария, а он оставил.
Ей поддакивает Ильина, «снабженец» нашего начальства продуктами и винами из обкомовского магазина, в котором работает ее мать. Сидит она рядом с председателем Комитета Корневым, что-то нашептывает ему, зло поглядывая на меня, и когда Носова кончает, тот вдруг итожит:
— Да, передача «Край родной» — прокол на нашем телевидении. Её нельзя было давать в эфир. Ведь Качанов в ней говорил, что памятники надо ставить не героям гражданской войны Щорсам и Чапаевым, а таким, как купец Могилевцев.
Никто не перечит, и Корнев сворачивает летучку.
Выхожу во двор. Пытаясь успокоиться, медленно хожу возле березок, запорошенных инеем. Нет, не могу справиться с своим лицом, — маской скорби!
Но слышу, зовут просматривать так раздразнивший их «Край родной». Вхожу в аппаратную. Целая комиссия слетелась! И уже прокрутили рулон с передачей до того места, где Платон говорит: «Зачем было взрывать холм на Набережной? Ведь на нем стоял монастырь с часовней, который можно было приспособить под музей»… Нашли еще один криминал! И в=зрываюсь:
— Да только за это можно было бы отметить передачу, а не ругать! Журналист набрался смелости сказать об этом преступлении, а вы… — уже кричу, обернувшись к Носовой, которая стоит у двери, дымя сигаретой: — Сами-то привыкли болтать в эфире о чёрт-те-чём!
— Как это о чёрт-те-чём? — выкатывает глаза. — Вы думаете, что говорите? — краснеет от возмущения.
Нет, ничего больше не отвечу ей и, повернувшись, выйду. Поднимусь в другую аппаратную, нырну за штору. Не разреветься б! Глубоко, несколько раз вдохну, выдохну. Успокоиться, успокоиться!.. И все же, когда буду ехать домой, под сердцем… словно раскаленный шар будет сдавливать дыхание.
…Ходил Платон на встречу с поэтом и редактором журнала «Советский Союз» Грибачевым, который всегда кричал «одобрямс» или «осуждамс» «по велению Парии и народа» на тех, на кого науськивал Центральный Комитет. И на этот раз он по тому же «велению» направлял местных писателей: если бы не было коллективизации, не было б мощной индустриализации; если бы не Сталин… Ну, Платон и выкрикнул:
— А почему не говорите про Сталинские репрессии?
На него зашикали, кто-то крикнул: «Из зала надо вывести этого Качанова!».
Но он — опять:
— А, впрочем, Вы всегда прекрасно жили. И при Сталине, и при Хрущеве, да и теперь успешно перестраиваетесь. Поистине, можно позавидовать резервам вашей перестройки. Но если у вас осталась совесть, то честнее было бы уйти в отставку.
И снова кто-то выкрикнул:
— Не нравится Качанову, пусть уходит!
На защиту Грибачева бросился и ведущий журналист «Рабочего» Сергей Васенков, но Платон обернулся к нему:
— А ты бы уж лучше помолчал! За всю свою журналистскую жизнь ни одного критического материала не написал. Всё у тебя получалось так, как Обком велел.
— Да Вы тоже кричали ура вместе со всеми! — поднялся Грибачев.
— Нет, это Вы кричали и процветали, а я в загоне сидел. Да и сейчас сижу.
— Потому и сидишь, что всегда был врагом нашей Партии! — подхватился местный поэт Мирошкин.
Так что «цепные псы» партии так покусали моего мужа, что он весь вечер никак не мог успокоиться. И хорошо, что начался фильм «Процесс», который в свое время партийцы не выпускали на экран. А говорилось в фильме о том, что в свое время из ста тридцати участников семнадцатого съезда партии Сталин расстрелял девяносто шесть человек, да и перед войной — восемьдесят процентов командного состава Армии; и о том, что пять миллионов крестьян выслал в Сибирь.
…Возвращаюсь с работы. На лестничной площадке стоит озадаченная уборщица:
— Сына Вернидубовых привезли в цинковом гробу.
Да, помню его: круглолицый, высокий, всё-ё улыбался, здороваясь во дворе. Должен был в мае возвратиться со службы, но вот… Погиб в Афганистане. На войне, о которой, по мнению власти мы не должны знать.
…Редактор «Новостей» Жуков вернулся из командировки в район, сидит за своим широким столом, строчит очередную информацию, но вот поднимает голову:
— Опять в колхозе падеж скота. Совсем коров кормить нечем. А тут еще праздники начались, вся деревня запьянствовала, так что скот на фермах так от голода ревел, что аж в деревне слышно было.
— Вот и сделайте передачу об этом, — советую.
— А-а, — машет рукой, — все равно не пропустят.
И тут же стал созваниваться с Сельхоз управлением, чтобы прислали специалиста, который в «Новостях» дал бы советы колхозникам: что надо делать, чтобы повысились надои.
…Седьмого ноября на демонстрации, проходя перед трибунами, местные демократы выбросили лозунг: «Меньше слов, больше дела!», так потом из КГБ приезжали на студию просматривать видеозапись: не пропустили б этого в эфир! Вот тебе и гласность. Да и оператор Женя Сорокин рассказал, — он чаще нас слушает радио «Свобода», — что в Москве разогнали демонстрацию против Сталина и около двадцати человек арестовали.
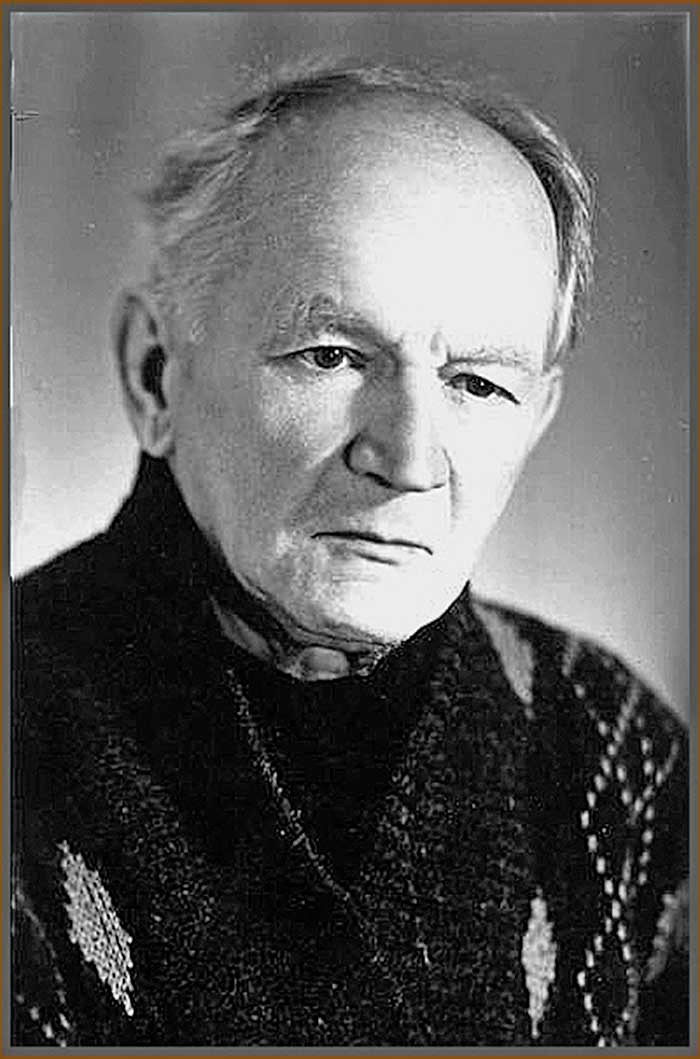
…Целых полтора часа держали Виктора, моего брата, в Обкоме по поводу его письма в ЦК. КПСС о том, что многотиражки не имеют никакой силы, так как подчиняются директорам заводов, и «товарищ» по идеологии был внимателен, все уверял, что они тщательно контролируют газеты.
— Вот и вашу проверяем, комиссию назначили.
Хорошо, что редактор отнесся к этой «выходке» брата без особого раздражения, а то могла бы обернуться для него бумерангом.
…Центральная пресса обрушила на нас лавину правды о жертвах большевиков в годы Гражданской войны и в репрессии тридцатых. И это для нас — как поминания в церкви. Только в церкви поминают иногда, а мы — почти каждый день.
…Твержу своим журналистам: ну давайте, пишите и вы смелее, как ваши коллеги в центральной прессе. Нет. Опять строчат информашки, принятые по телефону, забубённые тексты выступлений. Приведет редактор молодежных передач из Обкома раскормленных комсомольцев, те и болтают в прямом эфире о чем угодно, только не о правде прошлых лет и не о теперешних проблемах.
…Сегодня было открытое партсобрание, на котором присутствовал секретарь Обкома по идеологии Погожин и я разъясняла ему, что при таких отредактированных выступлениях по бумажке режиссура не нужна, ведь для Обкома важно не «как», а «что». Согласно кивал головой, что-то записывал. Ну и что? Ведь ничего не изменится.
…Предложил Платон Нестикову из «Рабочего» напечатать свою статью о мальчике, который выбросился из окна, но… А учился тот в ПТУ. Мать в те дни уехала проведать отца, который сидит в тюрьме, ну а этот пацан и привел к себе ребят, девочек. Веселились они у него всю ночь, а на другой день девчонки на перемене стали шептаться о противозачаточных средствах, это услышала преподавательница, стала допытываться, они рассказали о той вечеринке, и она тут же позвонила в милицию. Нагрянули блюстители порядка к тому пацану… аж шесть человек!.. начали делать обыск, рассматривать простыни, а тот выбежал на кухню, распахнул окно и… Вот Платон и предложил «Рабочему» написать об этом, но зав. отделом Нестиков не одобрил, повел его к редактору, а тот — тоже: «Нельзя такое печатать. Это — очернение нашей действительности». Вот такая у нас «гласность» здесь, «на местах».
…Спросила Платона:
— Ответь мне, пожалуйста: почему ты, хороший журналист, отстранен от журналистики и почему я, хороший режиссер, по сути не занимаюсь режиссурой?
Отложил книгу, взглянул, вздохнул:
— Значит, голубка, не вписались… — Помедлил, отвернулся к окну: — И потому что мы… надеюсь!.. выше того уровня, в котором живем, вот этот «уровень» и не прощает нам этого. — И стал вспоминать, как в начале нашей совместной жизни мечтали: соберем вокруг себя умных, смелых людей, будем спорить, вести дискуссии. — Помнишь, даже одно время и делали это. А потом поняли, что боятся люди говорить и больше молчат или просто врут. И разговоров откровенных не получилось.
Слушала, молчала. Конечно, так оно и есть, но ведь от сознания этого легче на душе не становится.
…И все же Виктора увольняют, а это значит, что его письмо в Центральный Комитет «сыграло свою положительную» роль. Поедет, наверное, работать в Жирятино, а это — в часе езды от города.
…Напечатали статью Платона о предприимчивых мужиках из районного города, — хотят те снять в аренду озеро, развести в нем карпов и кормить весь город, И уже дважды собирали они сходку горожан, спрашивали: хотят ли этого? Да, хотят. Но местное начальство не разрешает. Приезжали журналисты и от «Взгляда», — появилась теперь такая передача, которую мы ждем каждый раз с нетерпением, потому что она для нас единственный источник правды. Так вот, эти журналисты тоже собирали сходку горожан в этом городе, опрашивали людей, уехали. Но пока ничего не меняется.
…Дочка ушла встречать Новый год к подруге, а мы около одиннадцати, посматривая «Огонёк», втроём сели за стол, Но вдруг вырубился наш старенький телевизор и стало тихо. Пахло елкой, потрескивали свечи… и стало как-то удивительно благостно на душе! Редкие минуты в нашем раздвоённом существовании. Вот только жаль, что телевизор… А, впрочем, может, потому и благостно, что — без него?
ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ
Вчера во «Взгляде», ошалев от правды, смотрели интервью с Роем Медведевым, опубликовавшим на Западе книгу о «кровавом деспоте Сталине», интервью с парнем, который собирает картотеку жертв сталинизма и клип Гребенщикова «Нам надо вернуть нашу землю». И клип отрясающий!.. А сегодня у нас летучка и, обозревая передачи за неделю, редактор Лев Ильич Сомин, с которым делаю передачи, говорит:
— Журналистика призвана, — делает паузу и смотрит на председателя Комитета Корнева, — возбуждать общественное мнение.
— Не возбуждать, — поправляет тот, — а успокаивать.
— Ну да, конечно, — усмехается Сомин: — Поэтому наша журналистика такая и лживая.
Заместитель Корнева Афронов вспыхивает:
— Нет! Неправда!
— Сергей Филипыч, ну как же неправда? — вспыхиваю и я.
Но он — свое. Тогда Сомин прерывает его:
— Сергей Филипыч, разве вы всегда только правду писали?
— Да, только правду, — вроде бы и искренне ответил: — А вы что, врете?
— Конечно, вру, — пожал плечами Лев Ильич.
Вот такие начальники управляют гласностью у нас, «на местах».
…Приходил к нам Коля Иванцов. За чаем рассказывал, как несколько лет назад вербовали его в КГБ а он отказывался; как проголосовал «против» на собрании, которое клеймило писателя Солженицына и как выгнали его потом из-за это из газеты. Похоже, говорил правду.
…В первом номере журнала «Знамя» прочитали с Платоном пьесу Шатрова «Дальше, дальше, дальше…», в которой берется под сомнение и Октябрьская революция, и все социалистические завоевания и кто-то из героев говорит, что ничего, мол, у нас не изменится, пока там, наверху, будет старый аппарат. Чудо! Чудо, что дожили до таких дней.
…Платон вошел на кухню:
— Есть интересная тема: — Присел на табуретку: — Желдаков напечатал информацию в «Рабочем», как на Партизанской поляне обокрали машину его друга-генерала. И обокрали пацаны, их тут же, в лесу поймали. Желдаков делает вывод: надо, мол, этих пацанов работой загрузить, чтоб времени свободного у них не оставалось, вот тогда… А ведь там, в Белых Берегах, когда-то был монастырь, но после революции его разрушили, развезли на щебенку, из которой потом построили наш Дом советов и дорогу к обкомовским дачам.
— Да, тема отличная. — угадываю мысль. — Стоит написать для московского «Журналиста», а то что-то давно ты туда не писал.
И два дня муж сидел в своей комнате, писал, а сегодня читал нам с дочкой: пацаны растут в поселке обслуги, видят, что за проволокой и высоким забором скрыты озеро, дачи, особняки, в бронированные ворота въезжают и выезжают черные «Волги», вот и мстят… Хвалю написанное и советую:
— Под своей фамилией посылать будешь? Я бы посоветовала — под псевдонимом, а то опять вызовешь «огонь на себя».
Но он после прогулки говорит:
— Решил поставить свою подпись.
Решил, так решил.
…Утром проснулась с ощущением света и радости, — ведь сегодня Пасха. Прошла на кухню, позвала Платона, а он вошел, глянул на стол с традиционной кашей, усмехнулся, проворчал вроде бы шутливо:
— Ты бы вначале поставила на стол бутылку водки, нарезала ветчины, положила в тарелку солений, кулич испекла, а потом и приглашала.
Знаю, почти упрекает, что не умею праздновать. Да, не умею. Каток атеизма и государственного пренебрежения к подобным праздникам прошелся и по нашим душам. Но все же… Достала недавно засоленный кусок сала, нарезала колбасу, которую вчера на работе «дали», поставила кекс, испеченный накануне и вспомнила: есть же недопитое сухое вино!
— Вот тебе и ветчина, и бутылка, и кулич…
Удивился… Вошла только что проснувшаяся дочка, — сын-то уехал в Карачев, а она с подругой вчера ходила в церковь слушать песнопения… А мы слушали с магнитофона, на пианино стояла икона, перед ней горела свеча, и вот сейчас Платон налил вина в рюмки:
— Выпьем за то, чтобы истина, красота, добро всегда возрождались.
— Воскресали, как воскрес Христос, — уточнила я.

…И опять брала на работе магнитофон, хотя на этот раз уж очень дотошно допытывались: зачем нужен… режиссеру? Но дали, так что вчера ездила к маме и записала целую катушку. Кажется, она устала от своих воспоминаний и поэтому, если удастся еще раз взять магнитофон, то надо будет составить для нее последние вопросы, а потом… Смогу ли из этих «лоскутков сшить» что-то? Нет, еще не знаю. Но думаю, что в этом поможет мне моя профессия режиссера. А назову написанное «Негасимая лампада», и уже знаю с чего начну: мама рассказывает об учителе-революционере, который жил у них, и который однажды отрекся от Бога и погасил лампаду у иконы.
…Ехала в Карачев и в поезде дочитывала «Котлован» Платонова… И как он мог так писать? Словно докапывался до первозданности каждого слова. Мрачнейшая картина, — смесь крови, страдания и слепого энтузиазма тридцатых годов, лишенного здравого смысла… Наверно, борьба за справедливость неизбежно рождает ненависть, и самое яркое подтверждение тому — французская революция конца 18 века и наша, в ноябре 17-го. Ведь в финале этих битв за справедливость — реки крови.
…Сегодня на ПТВС делаю запись первомайской демонстрации трудящихся.
День — чудо! Я — в любимом костюмчике с белой кофтой, в новых туфлях. Ходим с операторами по площади, обговариваем возможные варианты, и я чувствую себя молодой, красивой… Вдруг подходит Погожин, секретарь Обкома по идеологии… Когда-то, в молодости, я была даже немного влюблена в него, ведь был тогда «растущим комсомольским работником» с тонким лицом… И вот сейчас здоровается, поздравляет с праздником, берет под локоть и, как бы, между прочим, говорит:
— Я всё смотрю во-он на ту камеру, что стоит на карнизе гостиницы прямо над центральным входом. Не упадет ли на людей?
— Ну и что? — шутит оператор Володя Бубенков. — Под ней же только одни гебисты стоят.
Все смеются. Улыбается и Погожин.
— Не-е, Володя, так нельзя, — смягчаю я его шутку: — Гэбисты тоже люди, у них даже дети есть.
Опять все смеются, а Погожин наклоняется ко мне и тихо говорит почти серьезно:
— Это вы хорошо сказали.
А перед началом записи вызывают меня из ПТВС и говорят, что во-от тот-то хочет меня видеть. Подхожу. Молодой гэбэшник начинает объяснять, чтобы не записала, «если вдруг кто-то выбросит недозволенный лозунг… как в прошлом году». Выслушиваю, киваю. Что ответить? Ведь если и запишу, то обязательно, когда приедут просматривать, вырежут.
…Конечно, Перестройка изменит что-то в нашей экономике, но не верю, что провозглашенный партией «принцип коллективного руководства предприятием» что-то улучшит в промышленности. И потому не верю, что коллектив не способен на риск и только хозяин, только личность может это делать, а, стало быть, идти вперед.
…Сижу во дворе Комитета среди березок, единственном тихом островке среди строительства нового здания студии и читаю в журнале «Новый мир» Варлама Шаламова, из Колымских, рассказ «Надгробное слово»: «Все умерли. Умер Носька Рутин. Он работал в паре со мной. Умер экономист Семен Алексеевич Шейнин, напарник мой, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце понял и стал спокойно ждать смерти… Умер Дерфель, французский коммунист, член Коминтерна. Это был маленький, слабый человек… Побои уже входили тогда в моду, и однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся…» Нет, не могу — дальше… И чтобы успокоиться, начинаю пристально всматриваться в то, что рядом: а листья-то у березы совсем еще весенние… дожди идут часто… и травка какая ла-асковая… муравьишки хлопочут под ней… а какой удивительной музыкой шелестят березы!.. Но тут вижу: идет ко мне Мурачев, наш студийный художник. Не-хо-чу!.. Нет, подошел, и, конечно, опять начал о своей очередной голодовке: он, де, прочистил желудок и теперь осталось прочистить мозги. Смотрю на него, слушаю, а у самой: «умер Семен Алексеевич, добрый человек… Умер и Дерфель, француз…» А Мурачев всё говорит и говорит. Долго, взахлеб:
— А вчера… слышь?.. — замечая мое отсутствие, заглядывает в глаза: — Случилось со мной ЧП. Наташка угостила меня семечками, а я и слузгнул парочку… Слышь? — И расхохотался: — И тут вспомнил: ба-атюшки, что ж я сделал?! Ну, быстро поехал домой, промыл желудок… слышь?.. а в кровь-то уже питание поступило! И пришлось начинать голодать с самого начала.
Решаюсь его прервать и открываю журнал:
— Кстати, о голодных. Вот, послушай: «Самое страшное в голодных людях — это их поведение. Все, как у здоровых, и все же это — уже полусумасшедшие. Голодные всегда яростно отстаивают справедливость. Они — вечные спорщики, отчаянные драчуны. Голодные вечно дерутся. Кто покороче, пониже, норовит дать подножку, сбить с ног. Кто повыше — навалиться и прижать врага своей тяжестью, а потом царапать, бить, кусать его…»
Мурачев стоит, слушает. Потом интересуется, что я читаю. Говорю. Кивает головой, как бы оценивая, а потом снова начинает объяснять, почему голод так полезен для организма.
…Такого никогда не показывали по ЦТ: на партконференции обсуждали каждого члена Центрального Комитета, прежде чем избрать. Вот так… И еще теперь не глушат радиостанции из-за рубежа. Замолчали монстры. И это — чудо! Молодец, Горбачёв!
…Нет, не приняли статью Платона даже в центральной прессе, сославшись на то, что, мол, случай частный. Да, конечно, «частный»… обкомовские дачи есть только в нашей области, а не по всему Союзу. Видать, в Москве еще далеко не все издания чувствуют себя свободными.
…Сегодня у нас заключительное политзанятие. И весь год вел их мой начальник Афронов. Странный он. Иногда думает, как и мы, но вот сейчас — ниже травы, потому что присутствует представитель Обкома и какой-то философ из пединститута. Все «студенты» говорят, конечно, «в пределах дозволенного», вот только корреспондент с радио Орлов:
— Пока будут живы обкомы и райкомы, — машет рукой, словно разрубая слова, — не сдвинется Перестройка с места!
Подошла и моя очередь. Тема: «Демократия — неотъемлемое условие Перестройки. Что ей мешает». Начала с Дудинцева:
— «Скандал, гласность — это факел, говорящий всем, что общество не терпит злоупотреблений ни с чьей стороны. Скандал порочит людей, но не общество». Так пишет писатель. — Все слушают внимательно, представители — тоже. — А вот что говорит ученый-экономист: «Некомпетентность одних руководителей не только порождает некомпетентность других, низших рангом, но и служит им щитом защиты». — Товарищ из Обкома делает всем своим корпусом движение: ну-ну, что еще, мол, скажете? И я продолжаю: — Этот закон работал у нас все годы, работает и сейчас, поэтому и отстаем от Европы по всем показателям на двадцать лет. И виноваты в этом обкомы и райкомы, которые, будучи сами не компетентны в сельском хозяйстве и в промышленности, порождают таких же руководителей и на местах. — У Корнева вытягивается лицо, заёрзал Афронов, бросил на меня любопытный взгляд философ, а я уже «иллюстрирую» свои слова «местной тематикой»: — Обком вмешивается даже в журналистику, в которой тоже не весьма компетентен. Недавно позвонили оттуда Поцелуйкину и сказали, что хотели бы просматривать все сюжеты для передачи «День животновода» до выхода их в эфир.
— Ну и что в этом такого? — смотрит на меня Корнев.
А я только руками разведу: вот, мол, видите? Потом выступал философ и, косясь на меня, говорил, что ему было очень интересно на этом занятии, что услышал кое-что впервые, а представитель Обкома стал опровергать то, что я говорила и, глядя мне прямо в глаза, добавил:
— В Обкоме не все такие некомпетентные, как вы думаете.
— А почему же тогда у нас ничего нет в магазинах? — съехидничала.
На что он ничего не ответил… А ночью опять все крутилось в голове: что если «рецидив прошлого» вспыхнет? Ведь загремим мы с Платоном. И было страшно не столько за себя, сколько за детей.
…И все же происходит у нас в городе что-то «впервые», — сегодня, в честь тысячелетия крещения Руси, у Свенского Монастыря — праздник, правда, проводят его не православные христиане, а баптисты. Ну что ж, тем более любопытно.
От монастыря спускаемся к Десне. Вдруг пошел веселый, обильный дождь и по асфальтированным дорожкам потоком ринулась вода. Мы с дочкой семеним под зонтиком, подхватив подолы длинных юбок, а рядом широко вышагивает Платон. Но дождь перестал так же неожиданно, как и начался и, наконец-то, — берег реки! В дальнем уголке луга, у самой Десны, мозаика из пестрых зонтов, сценка с плакатом: «Велик Бог. Все им создано, все им стоит». В стороне, возле серых ширм, стайка юношей и девушек в белых длинных рубахах.
— Что это они?.. — спрашиваю у Платона.
— Может, ангелов будут изображать.
Нет, оказалось, что их будут крестить. Речи, песнопения, чтения стихов… Всё это длинно, скучно, и не затрагивает душу. За спиной верующих торгует буфет, снуют пацаны, лижут мороженое. Недалеко от нас армяне запалили покрышку, чтобы согреться, и вонь от горящей резины понесло прямо на нас. Да и от мокрой травы, сырой одежды, обуви, тяжелой, грязной воды реки вдруг становится не по себе. Но вот начинает играть духовой оркестрик в маршевом ритме вроде бы и знакомую мелодию, под которую нелепо просятся слова: «Впе-еред, впе-еред, на-арод тру-до-вой…» и «ангелов» ведут на берег, пресвитер спускается в серую холодную воду и начинает по очереди окунать в нее головы посвящаемых… А они улыбаются! А они не замечают ни дождя, ни холодного ветра. Счастливцы! Смотрю на них и завидую. Ведь для нас этот праздник только спектакль, а для них… И все же! Когда поднялись к Свенскому монастырю и с высокого обрыва вдруг развернулась прекрасная панорама задеснянских далей, то затрепетала и моя душа.
…После обеда прочитала в «Новом мире» мемуары Гнедина, работника посольства двадцатых годов. Пишет, как пытали и допрашивали его на Лубянке, в Лефортово, в Сухаревских тюрьмах. Чудовищно, дико. Вечером по телевизору смотрели воспоминания академика Дмитрия Лихачёва о Соловках, где из монастыря большевики устроили концлагерь для политических заключенных с пытками и расстрелами. А ночью… Какие-то мафиози заставляют нас уезжать; мужик в рваной фуфайке, с ружьем через плечо протискивается в квартиру, я смотрю ему в глаза и вдруг понимаю: пришел убивать. И просыпаюсь… «Дефицит положительных эмоций», как теперь часто слышим.
…Теперь Платон — член СОИ, Совета общественных инициатив города. И собираются они… человек сорок, в выставочном зале, ведут разговоры об экологии, — о другом не позволяют соглядатаи нашей «руководящей и направляющей». Но под праздник переворота семнадцатого года обсуждали: с какими лозунгами идти на демонстрацию? И решили: «За чистый воздух и чистую совесть!», «НЕТ строительству фосфористого завода», «Отстоим здоровье наших детей!».
…Седьмого было холодно, по тротуару вьюжил снежок, и мы на площадь не пошли, а Платон ходил и рассказывал:
— Вначале нас было немного, но по дороге всё присоединялись люди, — светился от радости: — Ведь наши лозунги на фоне привычных «Выполним и перевыполним!..», «Достойно встретим!..» сразу бросались в глаза, да еще впереди шла девочка в противогазе и с куклой, так что смотрели на нас, разинув рты! К трибунам нас было уже человек семьсот, — смеется: — а когда уже прошли мимо трибун, то подошел какой-то мужик и сказал: «Молодцы! Молодцы, что не побоялись»!
Разговоров теперь в городе о колонне «зеленых»! Весь день звонили и к нам на телевидение, — ожидали, что покажем это, но гэбисты моему начальству не разрешили. А в коммунистическом «Рабочем» большинство сотрудников осуждают Платона за участие в СОИ, и секретарь райкома партии Дордиева кому-то бросила:
— Надеюсь, вы не запачкались участием в колонне «зеленых»?
Вот так… Даже «зеленым» нельзя быть в нашем красном… соцлагере.
…Снимаю в Навле заказной фильм на овощесушильной фабрике. Двор не заасфальтирован, механизация примитивнейшая, в суповом цехе даже днем по полу носятся тараканы, а в столовой по трубе и мышь юркала туда-сюда, когда писали синхрон. После съемок директор угощал нас: две бутылки водки, копченый хек, плавленые сырки и пачка печенья. Выпив и разговорившись, осветитель с оператором все нападали на Горбачева, — «Не стало дисциплины, порядка в стране!» — а я помалкивала — уж очень устала! — но после глотка водки все же ожила:
— Ну о каком порядке вы говорите в нашей стране рабов!
Директор бросил на меня удивленный взгляд, а я понеслась дальше: о крепостном праве крестьян до революции и еще худшем — сейчас; о том, что в годы социализма в простых людях была задавлена самостоятельность, проявление инициативы; что надо благодарить Горбачева хотя бы за то, что первым заговорил о раскрепощении… Директор вначале слушал меня вроде бы и без эмоций, но потом на лице его вспыхнуло удивление, он согласно закивал головой, а когда и еще выпили, то начал рассказывать о себе. Слушала его, не перебивала, — видела, что хочет выговориться, — и только, когда он как-то неожиданно замолчал, сказала то, что висело на языке:
— Знаете, Георгий Алексеевич, как я отношусь к таким, как вы? — Посмотрел на меня с любопытством. — Жаль вас. Всю-то жизнь вы были задавлены обкомами-райкомами-горкомами, инструкторами-указами, а вот в свободном обществе из вас, может быть, получился бы преуспевающий бизнесмен.
Поднял голову, посмотрел мне в глаза:
— В общем-то, вы правы. Всю жизнь единственной радостью было после дня выкручиваний, выверчиваний трахнуть водки и забыться. Вот вы говорили очень умно, правильно, — уже идем по коридору, чтобы уезжать: — Мне и не приходилось такого слышать… — спускаемся по лестнице. — Еще бы с вами поговорить, побеседовать, — снова заглядывает в глаза.
Но я уже сажусь в машину, машу рукой и в последний раз вижу его разгоряченное лицо. А ночью… Ночью всё прокручивала увиденное, услышанное и мелькало, металось: директор-то, наверное, специально подталкивал к таким разговорам, чтоб потом… А утром и Платон добавил:
— Видел сон. Будто ты вся — в черных пятнах… вроде как в саже.
— Это меня перед гэбистами директор вчерашний чернит, — пошутила.
— Может, и чернит…
Господи, за что? За что в наших душах это липкое, грязное подозрение к каждому, перед кем хоть чуть приоткроешь душу? Неужели с этим и помрем?
…Сижу с моим любимым телеоператором Сашей Федоровым в холле и читаю ему отрывок из статьи Нуйкина в «Новом мире»: «Пора бы наших „благодетелей“ поткать носом, как поганых кошек, в дерьмо: прошло уже семьдесят лет после революции, а они еще элементарно не накормили народ. На полках сейчас в основном полу гнилая картошка да минтай в банках…»
— И самое обидное, — вдруг слышу от него: — что мы все свои способности тратим на их брехню, заворачивая её в красивые фантики и выдавая зрителям.
Ох, как же он, — до боли! — прав.
…В выставочном зале — обсуждение выставки «Одиннадцати». Наро-оду, как никогда! И выступает Пензеев, скульптор… неопрятный, лохматый. И говорит о том, что, мол, не надо этих молодых художников хвалить:
— Какие они молодые? В таком возрасте уже кончать надо! — хихикает.
— Да-а, и впрямь! — вспыхивает Платон. — В таком возрасте Вы и кончили.
Знаю, о чем он: только и ляпает Пензеев бюсты Ленина «поточно». И тут же мой неуёмный журналист выходит и говорит, что многие из участников выставки уже настоящие художники и что если бы влились в ряды их Союза, то значительно обновили бы его. А в конце добавляет:
— Художник Меньковский только что благодарил отдел культуры. А благодарить его не надо, потому что молодые слишком долго пробивали эту выставку, даже пришлось им писать отчаянное письмо в ЦК.
Потом еще были выступления, а в конце снова вышел Пензеев:
— Вот я сейчас иду сюда, а из двери выходит девочка. Спрашиваю ее: ну как?.. А она махнула рукой и пошла. Значит, не понравилось ей выставка. Ребенок… душа чистая, ей и верить надо. Да и мне не всё нравится, разве это — портреты?
И пошел!.. Смотрю на Тамару, директора выставочного зала: как-то судорожно она листает книгу отзывов. Неужели это выступление штампующего бюсты Ленина и завершит обсуждение? И выхожу, говорю о том, что выставка хороша хотя бы тем, что на ней, вопреки соцреализму, представлены еще и другие стили живописи, что такого еще в нашем городе не бывало, а потому она — явление в его жизни. Говорю и о том, что, плохо, мол, когда на обсуждении нет «старших братьев-художников»:
— Это что, их зловещее предупреждение? — спрашиваю в конце.
И тогда поднимается художник Златоградский… красивый, похожий на Христа, и говорит:
— Может быть, представленные здесь живописцы во многом и подражают кому-то, но это естественно, это пройдет.
Ну что ж, надеюсь, что так извинился он за «маститых» членов Союза, которые побоялись прийти на открытие выставки взбунтовавшихся молодых «собратьев по перу».
…Ездил Платон в пятницу к Дому культуры железнодорожников на учредительное собрание народного фронта. Собралось человек тридцать, стояли группками возле него, чего-то ждали. Потом подъехал на такси мужчина, вышел, к нему подошли трое и увели в ДК, а к остальным вышла местная писательница Гончарова и пригласила вожаков к директору, у которого уже сидели те трое и расспрашивали приехавшего. Как выяснилось, он — член Московского народного фронта, а приехал сюда для того, чтобы и здесь создать такой же. Поговорили с ним и СОИвцы, так что уже второй день мой муж-борец ходит радостный — давно таким не видела! — и все повторяет:
— Пробуждается народ, пробуждается!
…В «Литературной газете», в статье Золотусского Гоголе, прочитала: «Лучшее, что есть в жизни, так это — пир во время чумы. И террор». И это написал литературный критик прошлого века Виссарион Белинский, статьями которого мы с братом зачитывались в шестидесятых годах… А в школе нам твердили: Белинский боролся за счастье людей, страдал за них! Да нет, критик он был блестящий, но вот оказалось…
…На очередном собрании СОИ председателем будет Платон, и поэтому ищет зал, где бы собраться. Как-то ходил к директору Дома политпросвещения и тот вначале отнесся к его просьбе положительно, но сказал, что вначале посоветуется с Обкомом. Когда же Платон на другой день позвонил ему, то заговорил тот совсем другим тоном: да вот, надо бы иметь вам свое постоянное помещение; да вот, мы можем только за плату сдавать зал… Тогда Платон позвонил в Обком секретарю по идеологии Погожину, а тот сказал то же, что директор Дома политпросвещения. И все стало ясно.
…Захожу в монтажную. Сидят мои подруженьки по работе.
— Кузьма Прутков, случайно, не еврей? — спрашивает Роза, имея в виду сатирический журнал Сомина «Клуб Козьмы Пруткова».
Объясняю, что, мол, сотворили Козьму Пруткова поэт Алексей Константинович Толстой и братья Жемчужниковы…
— Во, — подхватывает Наташа. — Жемчужниковы, наверное, и были евреями.
Подключается и Инна.
— Ты уж совсем… — машет рукой. — В «Клубе» у тебя одни жиды, только их морды!
— Разве не интересными были материалы? — спрашиваю. — Или плохо сделаны?
— Нет. Хорошо. Нам понравилось.
Но смотрят на почти враждебно. И опять говорю им: да, я не антисемитка… раз евреи делают интересно и умно, то пусть делают, тем более, что кроме них никто не хочет вести сатирический журнал. Сидят, слушают. Ответить им вроде бы и нечего, а вот:
— Смотри, как бы тебя в КГБ не пригласили, — ехидно бросает Роза.
Смеюсь:
— Ну, что ж, если вы им поможете…
…Сегодня СОИвцы собирались в парке Алексея Толстого, но к ним подошел милиционер и предупредил, что если они не уйдут, то будет составлен протокол. Мудровский предложил сразу же разойтись, а журналист радио Орлов засопротивлялся, и тогда два милиционера предложили ему пройти в отделение милиции. Вот так закончилось очередное «собрание» Совета общественных инициатив.
…Воскресенье. В парке Толстого по инициативе СОИ — митинг. Впервые! Накануне прошел снегопад, потом чуть подморозило, деревья выбелились инеем, солнышко все это осветило. Чудо!.. Подхожу. Люди топчутся на утонувших в снегу лавках, тянут головы к сцене, у которой стоит микрофон для вопросов, а над головами людей — плакаты: «Рыбы умирают молча. Мы — не рыбы», «Вся власть Советам!», «В Советы — достойных!», «Нет строительству АЭС и фосфоритному комплексу!». Митинг уже идет, ведёт его кто-то из СОИвцев и как раз выступает Платон. Хрипловатым голосом говорит о том, что Десна по загрязнению превышает допустимые нормы в двести пятьдесят раз, город перегружен промышленными предприятиями в три раза, но, тем не менее, вот, мол, с фосфоритного завода пришла колонна для поддержки строительства нового комплекса и предлагает выступить директору.
— Никто еще не умер оттого, что работает у нас, — начинает тот.
Но его слова тут же накрывает волна свиста, и тогда к микрофону подходит главный инженер завода:
— Фосфоритная мука очень ядовита и от нее болеют, — почти кричит.
Аплодируют… Но когда к микрофону выходит парторг завода, то свист взлетает снова и в какой-то момент даже кажется, что сейчас люди стащат его со сцены, но Платон кричит:
— Нельзя провоцировать беспорядки!
И тут же кто-то подсказывает ему, чтобы спросил: есть ли на митинге депутаты Горсовета? Он наклоняется к микрофону, выкрикивает вопрос. Нет, их здесь нет.
И снова взлетают возмущенные крики. Потом к микрофону все подходили и подходили люди, говорили уже не только об экологии города, а и наболевшем. Выступал и мой брат, предлагал создать отдельный совхоз, который выращивал бы чистые, без минеральных удобрений овощи для детских садов, школ и больниц, а не только для Обкома. Говорил горячо, срывающимся голосом и люди что-то согласно выкрикивали, аплодировали. А потом он, в своих старых вишневых бахилах, которые купил в уцененном магазине, заковылял к нам, его пятилетний сынишка Максимка ринулся навстречу, схватил за руку, смешно затряс её… А слева от сцены СОИвцы уже собирали подписи за передачу обкомовской больницы под кардиологический центр и против строительства фосфоритного комплекса. Мы с дочкой и сыном тоже подписались, и почему-то надо было указывать свою специальность, возраст, да и расписываться в двух журналах, — один останется у СОИвцев, а другой?.. «А другой, — подумалось, — попадет в КГБ». Но, мысленно махнув рукой, успокоила себя: «Ну и пусть».
…Удивительно! Корнев разрешил редактору молодежных передач Моховой сделать репортаж с митинга и пригласить в «Эстафету» СОИвца Белашова, а он и рассказал о деятельности этой общественной организации. В конце «Эстафеты» ему снова дали слово, и он выпалил:
— Когда я сидел в холле на телефоне, многие звонили и настаивали, чтобы обкомовскую больницу власти передали городу, так что… — И улыбнулся: — Так что придется вам, товарищи руководители, все же отдать её людям.
И теперь разговоров в городе!..
Всего несколько раз была я на собраниях СОИ, поэтому знала о первых «сопротивленцах-демократах» больше по рассказам мужа. И самым ярким, задиристым был Саша Белашов. Этот симпатичный блондин в своих выпадах против коммунистов нисколько не напрягал своего мягкого голоса и, может поэтому то, что говорил, звучало как-то особенно весомо. Были еще Мудроский и Шилкин, — сдержанные, осторожные и «правильные» (похожие на секретарей комсомольских организаций) они председательствовали на собраниях, митингах СОИвцев и доверия, симпатиии во мне не вызывали.
Спонсировал СОИвцев Петр Леонтьевич Кузнецовский, директор мясокомбината. Давал он деньги на издание листовок, плакатов, на проведение собраний и митингов, на поездки в Москву и соседние города. Когда нагрянуло время акционирования, Петр Леоньтьевич взял себе лишь один процент акций своего предприятия, раздав все остальные коллективу… Что б отдать этому коллективу только одну треть, как сделали дальновидные хапуги? Ан, нет, он понадеялся на «родной коллектив», а тот, вскоре разогретый молодыми и наглыми акулами, «свалил» его на общем собрании. Конечно, мы сочувствовали Петру Леоньтьевичу, еще не предполагая, что набирающий силу «ветер перемен» уже начинал выдувать, выдавливать не только таких, как Кузнецовский, но и бескорыстных демократов, вместо которых (как и всегда после переворотов) врывались «практичные и пронырливые проходимцы» (определение мужа-журналиста), которые и начинали растаскивать огромную государственную «коврижку».
Тот самый Саша… Еще в «застойные годы» захотел он стать свободным человеком и начал выращивать скот для продажи. Но восстали против него местные колхозные «феодалы», и пришлось Платону защищать его в газете. Не защитил. И бросил тогда Саша это дело, потому что по велению тех же самых «феодалов» на мясокомбинате перестали принимать его коров. Все эти годы он иногда приезжал к нам, привозя или кусок сала, или цыпленка, но с некоторых пор стали мы замечать в нем какую-то странность. А потом Платон и поговаривать стал: не все, мол, у него с головой в порядке. Казалось Саше, что следят за ним гэбисты, по пятам ходят, а как-то сказал, что не будет нам докучать целый год.
— Уезжаете куда? — спросила я.
— Да нет… — странно улыбнулся: — Но сказать не могу.
Но как-то снова объявился и был еще более странен, замкнут, попросил мужа устроить его в газету.
— Но как же, Саша? — удивился Платон. — Вы же не знаете этой профессии… не работали никогда.
— Да, не знаю, — пытливо посмотрел в глаза: — Но если вы меня порекомендуете, то возьмут.
Приходил потом еще раз, еще… Наконец Платон сказал ему, что не может рекомендовать его и пусть ищет себе работу по специальности, слесарем, на что Саша ответил:
— Ну, значит и Вы гэбист… как и все.
И пропал недели на три. А на днях звонит: хочет именно у меня попросить совета. Сидели мы с ним на кухне, слушала я его, и вначале было не по себе, — все говорил и говорил он о том, что уже совсем отравлен его организм, что жена и мать подсыпают ему в пищу отраву, что сидит на одной картошке, которую сам и варит, что гэбисты следят за ним днем и ночью, поэтому приходится ходить спать в поле, в стог сена. И мне стало страшно.
Страшно и сейчас. «Система, — сказал тогда Саша, — хочет убить меня». А я бы сказала: «система» в каждом из нас убила что-то живое, здоровое. И как теперь вернуться к истокам, как найти себя в том суррогате, который образовался в наших душах? Сумеем ли? Может, теперь — только дети?

…Из Новогоднего поздравления нашего друга-писателя Володи Володина:
«…В общем, хочу повторить то, что и говорил: я победил! Коммунисты покушались на мою душу бессмертную, но, — хрен им в сумку! — ничего у них не вышло. Они могут жрать в три горла, но я, даже хлебая баланду в лагере, был бы свободнее любого из них, а, значит, счастливее. Целые поколения кончали свою жизнь при расцвете и торжестве зла так и не узнав, что оно победимо. А зло победимо уже потому, что в созидании бездарно. Зло может только разрушать и, сожрав, обокрав, высосав всё вокруг себя, издыхает. Господи, какая радость, что мне пришлось дожить до этой агонии, во всяком случае, до ее начала! Благословенно это десятилетие — начало конца! Но — вопрос: что принесет новое?»
Ну, что ж, ободряющее Новогоднее поздравление друга!
ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ
В магазинах даже носки исчезли. Ввели талоны на сахар, на стиральные порошки. А меж тем скоро выборы народных депутатов СССР и на заборах, зданиях появились плакаты или что-то вроде листовок: «Возродим полновластие советов!», «Велихов, Ельцин + Сахаров = Перестройка», «Нищенская зарплата у нас, все остальное — у бюрократов», «Землю тем, кто на ней живет!», «Мы — за полную гласность, за полную свободу!», «Тарасов — против бюрократов!». Стою на остановке, читаю всё это и вдруг стоящий впереди полный пожилой мужчина оборачивается ко мне, кивает на плакат и говорит:
— Вот за кого надо голосовать. Молодец Тарасов!
Ему поддакивает женщина, старик… но когда возвращаюсь с работы, то листовок этих уже нет и остался только портрет Тарасова с глазами, выжженными сигаретой.
…Муж приходит и с порога бросает:
— Поздравь. Уже не работаю в «Рабочем». — И рассказывает: — Стал на летучке настаивать на публикации своего открытого письма в защиту СОИ к этому прохвосту Илларионову а главный редактор Кузнецов и сказал: «Вот теперь ты и показал свое нутро». Ну, я и ответил, что не скрывал его и что никогда не был рабом по сравнению с ними, а он и предложил коллегии проголосовать за мое увольнение. И проголосовали.
Посоветовала написать об этом в Москву, в «Известия», а он:
— Что толку?
— Тогда подавай в суд.
— А-а, и судьи такие ж, — махнул рукой.
Прав, конечно. Но надо же как-то… что-то делать!
…Небольшой выставочный зальчик. Очередное собрание СОИ. Председательствует Мудровский и говорит о том, как их обращение против строительства нового корпуса фосфоритного завода и атомной станции ходит и ходит по инстанциям. После него врач скорой помощи Шубников рассказывает об экологическом съезде в Москве (для его поездки СОИвцы собирали деньги) и говорит, как делегаты ночами не спали и все спорили, как бурлил съезд, и кто-то предлагал назвать их движение «Партией зеленых». Участвовал он и в составлении обращения съезда, в котором подчеркивалась трагичность экологической обстановки в стране, звучал призыв сделать движение альтернативным Партии, но это обращение даже и зачитывать не разрешили, — альтернативы Партии быть не может! Возмущались съехавшиеся и тем, что народный фронт Латвии имеет свою газету, а русский нет, и президиум советовал подобным движениям «лепиться к местным изданиям». (Советовать-то можно, но как прилепишься к нашему коммунистическому «Рабочему?) А после выступления Шубникова Саша Белашов вдруг предложил: те, кто «за» партию КПСС, после перерыва пусть не заходят в зал. И вошло только треть собравшихся. Тогда Саша пошел дальше:
— Давайте проголосуем, кто за, а кто против КПСС!
Но Мудровский, как председатель, вроде бы и не услышал его. Потом вышел парень с какого-то завода:
— Предоставило нам телевидение трибуну, а Белашов все испортил. — Разгорячился, покраснел! — Зачем выставлял требования о передачи обкомовской больницы городу? Да и вообще был некорректен к Партии!
Но Саша спокойненько обратился к нему:
— Почему же Вы, когда мы вышли из студии, сказали мне, что я — молодец и даже руку пожали, а сейчас говорите совсем другое? Значит, я имею все основания обвинить Вас в лицемерии.
Подхватилась какая-то женщина:
— Да, Белашов не сдержан, резок! Так нельзя. Он и против Горбачева высказывался не раз!
Встала и я:
— Я, режиссер телевидения, была на летучке, где обсуждалось выступление Белашова в «Эстафете», и наша администрация меньше испугалась его слов насчет больницы, чем те, кто сейчас обвиняют его.
Все зашумели, заспорили, а когда я добавила, что наш председатель Комитета жаловался, что ему на другой день всё звонили и звонили телезрители с вопросами: что такая за СОИ и когда, где собирается?.. то все засмеялись, зааплодировали. Выступал и мой брат, говорил, что наши советские издательства не публикуют книг русских философов. «Схватил аплодисмент».
…День весенний, теплый… Еще утром не были уверены, что митинг разрешат, но все же поехали, а в парке народу!.. И на всю катушку гремят два усилителя, — транслируют радио «Маяк», — поэтому Мудровский, напрягая голос, со сцены кричит:
— Директор парка пригрозил радисту: если выключит радио, то его уволят.
Люди возмущаются, какой-то мужчина… как потом оказалось, доверенное лицо Тарасова, вскакивает на сцену и надрывно кричит:
— Местные органы игнорируют народного кандидата Артема Тарасова! Ему ни отвели не только зала для выступления, но даже микрофона не дают!
И предлагает всем пойти к Обкому партии, чтобы заявить протест. Люди поднимаются с лавок… но тут радио вдруг замолкает, — выключили! — а на сцену выходит предприниматель Тарасов, тот самый, плакат которого висел на заборе:
— Ничего, что нет микрофона, я не боюсь сорвать голос.
И начинает говорить: да, экономика страны на грани катастрофы; да, народ замордован и заморен; да, медицина удручающая, экология тоже:
— Так что не новые законы надо писать… их у нас аж семнадцать томов!.. а издать один единственный, перед которым все будут равны, в том числе и те, кто руководит страной. — На Тарасове серая курточка, темные брюки, голубая рубашка и говорит он громко, словно и впрямь не боится сорвать голос: — У нас три слоя в обществе: верхушка — самый тонкий, уже живущий при коммунизме и которому на всех наплевать, средний — бюрократия и нижний — это все мы. Так вот раньше средний слой чувствовал себя уверенно и спокойно, а сейчас его стали беспокоить прострелы из нижнего, вплоть до верхнего, поэтому бюрократия консолидируется и переходит в наступление. — Лет тридцать пять ему, черная прядь волос все вздувается ветром и смотрится восклицательным знаком. — Если не победит демократия во всех сферах, — кричит надрывно, — то от нас все дальше начнут отходить другие страны. — Слушают его, затаив дыхание! — Поэтому необходимо нам всем объединяться и бороться.
Аплодируют. А он уже говорит о том, что в Москве депутаты, избранные неформально, собираются по субботам, чтобы вырабатывать свои позиции; о том, что после его выступления во «Взгляде», передаче было запрещено выходить в прямом эфире. А после него местный юрист Малашенко зачитывает письмо в центральные газеты: собрание, количеством в триста семьдесят человек, поддержало кандидатуру Тарасова в народные депутаты Союза.
— Может, кто против? — спрашивает.
Никого. И тогда зачитывает письмо и к местным властям, чтобы те разрешили собираться СОИвцам в парке два раза в неделю.
…Завтра в театре — собрание общественности по выдвижению местного журналиста Пырхова кандидатом в депутаты от СОИ. Отпечатала я на пишущей машинке аж пятьдесят объявлений, и вечером с сыном разносили их по подъездам, опуская в почтовые ящики. А сегодня я, Платон, жена брата Натали, работающая в газете завода, подходим к театру, — в шесть здесь будет собрание, — и возле него уже «моя милиция меня бережет», как писал когда-то поэт Маяковский. А у Центрального универмага стоят СОИвцы с плакатами, приглашающими участвовать в выдвижении местного журналиста Пырхова кандидатом в Верховный Совет. Но вот навстречу нам идет женщина, обращается к Наташе:
— Почему меняют место собрания?
Она-то утром объявила по заводскому радио, что собрание будет в Бежичах (как начальство разрешило), но после обеда из Райисполкома ей позвонил из Обкома Патринов и сказал, что собрание, мол, перенесли в драмтеатр. А вот и он идёт в рыжем расстегнутом пальто, размахивает руками, подходит к группке начальников, выхватывает листок из папки, показывает им, потом подходит и к Наташе, сует и ей такой же, а она, не глядя в него, возмущается:
— Чего ж это вы? Утром одно говорите, после обеда другое…
А он, подсовывая листки и нам, тоже возмущается:
— Ведь не разрешали мы собрания здесь, не разрешали!
И, не дожидаясь ответа, снова убегает к группе начальников. А уже без десяти шесть, надо заходить. Зал еще полупустой, но ровно в шесть… удивительная точность!.. на сцену поднимается поджарый старичок, начинает что-то говорить.
— Подождем еще! — выкрикивают из зала.
— Чего ждать? — топчется он у стола.
Но все же уходит, а минут через пять снова появляется, говорит, что собралось всего около ста пятидесяти человек, а, чтобы иметь право выдвигать кандидата, нужно пятьсот, так что собрание не полномочно.
— А кто вы такой? — спрашивает его Платон.
Тот стреляет глазами:
— Я председатель домоуправления.
— Ну, тогда не имеете права запрещать, — горячится Платон и предлагает ему уйти со сцены.
Но тот не уходит, кричит:
— Я по поручению! Я из Горисполкома!
И начинается перепалка между залом и этим старичком. Но Платон уже предлагает избрать председательствующего и секретаря. Зал одобрительно шумит, на сцене уже стоит юрист-соивец Малашенко и избирают их с Платоном. Но тут выскакивает из-за кулис директор театра:
— Кто за аренду зала будет платить?
Люди загудели, а Платон спрашивает его:
— А вы дотацию от государства получаете?
— Пятнадцать тысяч…
— Деньги-то эти народные, вот часть из них и пожертвуйте на собрание общественности.
А люди уже идут к сцене, требуют слова. Платон вызывает секретаря Горкома Сергееву, просит объяснить, почему поменяли место собрания? Та что-то пытается ответить, но ее слова невнятны, путаны, шум нарастает, а с трибуны уже выступает какой-то мужчина в очках, возмущается, что весь день пытался узнать о месте собрания в Обкоме, но ему отвечали, что собрания вообще не будет. Его сменяет женщина и сразу начинает жаловаться, что жить в триста одиннадцатом квартале очень трудно, вода и воздух отравлены заводом, поэтому они не доверяют космонавту Николаеву, а хотят избрать местного кандидата Пырхова. За ней на сцену хромает старик в калошах:
— Нет демократии! — возмущается. — Предложенные Обкомом депутаты продажные и не будут думать о народе!
И говорит долго, как и все старики.
— Конкретнее, дед, по делу! — уже кричат из зала.
Он же из-за выкриков сбивается, уходит, но ему вослед аплодируют. Теперь говорит парень о СОИ, что их, мол, оклеветал в газете Илларионов, а на самом деле они… теперь он видит это!.. интеллигентные, бескорыстные люди. После него выходит экономист с автозавода и кричит:
— Надо составить обращение и собрать подписи всех присутствующих для того, чтобы потом еще раз…
— Вот и пишите, собирайте, — бросает ему Платон.
А на трибуне уже преподаватель института возмущается СОИвцами, но зал освистывает его. Снова поднимается тот экономист и пытается что-то предложить.
— Ну садитесь, садитесь, пишите, — опять Платон — к нему.
И тот усаживается прямо на сцене, начинает что-то писать. А зал шумит, электризуется, уже говорят и с мест, лезут на сцену подписываться под тем обращением, которое пишет экономист, возле него уже очередь. Но тут снова выходит старикан, который пытался закрыть собрание, хочет что-то сказать, но его никто не слушает, и он зло, беспомощно стреляет глазами, а к Платону опять подходит директор театра:
— Уборщицы работали, прибирали… чем я теперь платить им буду?
А люди уже — в зале, на сцене, перед ней… спорят, кричат и никто не хочет уходить… И все же не удалось СОИвцам в этот раз выдвинуть в кандидаты Верховного Совета своего человека, — начальство разделило, запутало людей, — но это собрание стало громкой рекламой для них.
…В очередной четверг в выставочный зал, где собрался СОИ, пожаловали два милиционера с представителем Горсовета и заявили, что собрание проводится незаконно и составили протокол, а директора выставочного зала Тамару Динарскую вызовут на административную комиссию Горсовета. Да пишут, пишут СОИвцы в центральные газеты, жалуются, что их преследуют, звонят и в Москву, но пока все напрасно. А Илларионов снова опубликовал бичующую статью в «Рабочем», и в ней Качанов и Орлов (журналист радио) — «рьяные зачинщики, рвущиеся к власти».
…Мои сны.
Совсем пустынный пляж, и только — мы с сыном. Хорошо!.. Но вдруг вижу: бегут какие-то ребятишки… их много, и вот они уже возле Глеба, окружают его, толкают, виснут на нем. Что делать? И начинаю кричать: «По-мо-ги-те!» Да и сегодня… Что снилось?.. не помню, но кричалось трудно, надрывно. «Синдром страха» — говорят психологи. Да как же ему не быть, если каждый раз в магазине удивляешься: смотрите-ка, еще макароны есть!.. ой, и копченую ставриду выбросили!.. да и яички можно достать, если хорошенько побегать. А из головы не уходит: а вдруг и эта тонкая ниточка оборвется?
…Хотят СОИвцы выдвинуть народным кандидатом и Мудровского, которого на заводе уже три цеха поддержали, но избирательная комиссия регистрировать не хочет. А Пырхов, как собкор «Советской России», уже дал интервью по центральному радио: «Местные партийные органы сопротивляются выдвижению кандидатов снизу». Да, сопротивляются. Вот и наш журналист Сомин ездил в Обком добиваться прямого эфира для Тарасова, но не разрешили, — только вместе с космонавтом Николаевым, которого выдвинули сами. И пришлось подчиниться, но в эфире Сомин задал Николаеву несколько дежурных вопросов, а все остальное время беседовал с Тарасовым.
…Была на базаре, купила у еврея… Кстати, теперь часто вижу их там, — распродают всё, что не увезут в Израиль: одежду, картины, вазочки, украшения, посуду. Так вот, купила у мужчины две изящные металлические вазочки, расписанные цветной эмалью. А еще дочкина подруга предложила нам чайный сервис, — соседи-евреи, мол, уезжают, так не возьмете ли? — и мы купили. Видела на базаре и нашего оператора Аркадия, — распродавал свои пластинки, — значит, все же решило и его семейство уехать в Израиль.
…Митинг на Кургане бессмертия, организованный СОИвцами и, конечно, выступает мой муж:
— Вот все укоряют СОИ, что мало делает. Да, мало. И поэтому с нашим мнением власти почти не считаются, а если бы нас было столько, сколько в Житомире… Там сошлось на площади около пятидесяти тысяч, тогда бы и начальство подумало.
Выступал и Орлов:
— Мало того, что против нас было массированное выступление Илларионова в «Рабочем», но еще уволили из газеты Качанова, который попытался выступить в нашу защиту.
После митинга Платон все же написал письмо в «Известия» с просьбой защитить СОИ и приложил к этому письму рукопись своей статьи. А еще для коммунистического «Рабочего» написал открытое письмо-ответ на статью преподавателя Пединститута Илларионова, в которой тот снова зло и нагло облил грязью СОИвцев, но редактор Кузнецов сказал, что едва ли напечатает.
…Брат «бунтует» свой завод — взяли его все же в многотиражку Ирмаша — публикациями в защиту Мудровского, кандидата от СОИвцев и сегодня, в конце какого-то заводского собрания, поднялся и задал вопрос начальству:
— Почему препятствуете выдвижению Мудровского?
Люди уже направлялись к выходу, но тут остановились, зашумели, кто-то предложил проголосовать здесь же. И проголосовали. Единогласно. Вот так… лишь бы не за тех, кого предлагает «руководящая и направляющая».
…В прошлый четверг СОИвцы собирались уже не в выставочном зале, а возле него, но к ним вышел художник Златоградский, парторг музея, и сказал, что и здесь собираться запрещают. Тогда пошли они в парк Толстого, стояли там, говорили, а возле них все кружили два милицейских чина. Наконец, Платон подошел к ним и говорит:
— Ну как вам не стыдно! В городе преступность растет, а вы за нами гоняетесь. Гоода через два стыдно вам будет из-за этого.
Так подполковник милицейский аж покраснел:
— Может и будет… Но служба есть служба.
…Платон встречает меня у порога:
— Ты знаешь, опять обратился я к Брону, чтобы взял в свою многотиражку, а ему в отделе кадров и сказали: Качанова брать не надо.
Так что даже в многотиражку, на полставки, и то путь закрыт моему мужу-воителю.
…И снова митинг СОИ в парке. Еще до начала Платон пошел в радиорубку, чтобы установили микрофоны, и вроде бы начали, но потом…
— Почему бросили? — кинулся к директору парка.
— У нас ремонт в радиорубке.
Платон стал возмущаться, а он:
— Идите к секретарю райкома Федорову, разрешит… подключим.
А тот где-то здесь, в парке. Нашел его Платон, сказал, но тот стал крутить, вертеть и микрофоны так и не подключили. Тогда Платон вышел на сцену, рассказал всё собравшимся, а народ и зашумел: ответьте, мол, людям! Платон опять — к Федорову, а тот выкрикнул из-под дерева.
— У меня нет полномочий.
— А полномочия совести у вас есть? — прокричал ему кто-то.
Ну, после этих слов Фёдоров и появился на сцене, начал что-то объяснять, но люди зашумели еще громче, тогда он бросил в сторону:
— Включите микрофоны.
И включили! И снова СОИвцы агитировали за Пырхова, за Мудровского, Тарасова, после чего все и проголосовали за них. А потом начали выдвигать представителей на окружное собрание в Смоленск, и аж восемнадцать человек выбрали, в том числе и Платона.
…Собрала ему вчера «узелок», чтоб там не тратиться, и он уехал. А сегодня по «Маяку» слышу: собрание в Смоленске шло одиннадцать часов, люди выдвинули в Верховный Совет аж тридцать две кандидатуры и от нашей области прошел все же космонавт Николаев, а не Пырхов.
…И вернулся Платон из Смоленска. Сидит на кухне и рассказывает:
— Пырхов выступил со своей предвыборной платформой неудачно, поэтому уже с половины речи зал начал шуметь. — Чтобы как-то взбодрить его упавший дух, ставлю перед ним чашку с крепким чаем и кубышку с мёдом. — А его доверенным лицам и вообще слова не дали, — смотрит на плачущие мокрым снегом окна. — Но я все ж прорвался на трибуну, выкрикнул: «Вот когда вас прижмут к стене, тогда и вспомните, как другим не давали говорить! Это ваше собрание — похороны демократии»!
Встретились СОИвцы в Смоленске еще и с журналистом Политковским из «Взгляда», пообещал тот, что приедет к нам делать материал.
…Как-то позвонил Платону незнакомый человек и предложил приехать к нему, — сообщит какие-то ценные сведения. И рассказал: в Москве состоялась демонстрация в поддержку избрания народным кандидатом Бориса Ельцина и вначале разрешили проведение только митинга в каком-то парке, но администрация вдруг ввела за вход платные билеты, да по целому рублю! Но люди все равно собрались, пошли по улице Горького и по дороге образовалась огромная колонна.
…Ура! Шестерых СОИвцев пригласили в Горисполком! Со стороны Обкома было столько же и настаивали они, чтобы СОИ занимался только экологией.
— Нет, — сопротивлялся Платон: — Надо активизировать людей, пробуждать в них гражданскую совесть.
Не понравилось это представителям власти, и тогда Саша Белашов восстал:
— Вы что, газет не читаете? Ведь Михаил Сергеевич Горбачев тоже призывает к политизации масс.
Так что «продуктивного» диалога не получилось, но все же признают, признают понемногу СОИ как альтернативную общественную силу.
…Прихожу с работы вымотанная!.. Платон смотрит «Время», бросает:
— Сейчас расскажу что-то.
И чуть позже рассказывает:
— Сегодня встречаю редактора нашего Литобъединения Якушенкова, а он и говорит: получили, мол, письмо из «Рабочего» с твоей характеристикой, подписанное самим Кузнецовым, редактором газеты. Показать?
И читаю: «Ответственному секретарю отделения Союза писателей СССР тов. Якушкину А. К. и главному редактору отделения Приокского книжного издательства тов. Поскову Н. И. Сообщаем вам, что литератор Качанов П. Б. два года работал в редакции областной газеты „Рабочий“ в качестве общественного корреспондента. Периодически выполнял поручения редакции, готовил к печати материалы на разные темы. При этом, не всегда выполняя свои обязанности честно и добросовестно, порой допускал заведомые ошибки. Часто в этих статьях допускалась односторонность в анализе фактов, а также явная тенденциозность. Присутствуя на редакционных летучках, тов. Качанов часто вел себя неподобающим образом, допускал выпады против сотрудников газеты и демагогические высказывания, а 17 февраля этого года грубо оскорбил коллектив редакции, бросив ей в лицо: „Вы не коммунисты, а партбилетчики“ и тому подобные выражения. За такое бестактное, грубое поведение, а также за многочисленные ошибки и искажения в его статьях, редколлегия единогласно исключила тов. Каченовского из числа своих общественных корреспондентов. И.О. общественного секретаря газеты „Рабочий“ Мельник В. С.»
Да-а, хорошо же редакция закрепила свою победу над журналистом Качановым!
…Первое мая. День прекрасный! Почти жарко, деревья в пестрой зелени, трава густая, яркая, — хоть коси! — и среди нее желтые поляны одуванчиков. Удивительно ранняя весна. И сегодня праздник — «День международной солидарности трудящихся». Вырядились мы с Платоном во «фраки» и пошли к «полтиннику» — так у нас прозвали кинотеатр «50 лет комсомола» — вроде бы там должны собраться СОИвцы, чтобы «зеленой колонной» снова пройти перед трибунами. Но у «полтинника» их не оказалось, только мимо, выкрикивая что-то из машины с мегафоном, промелькнул Саша Белашов. Ну и ну! Демократ и с мегафоном!.. свободно, по улицам?! Такое у нас впервые. Подходим к милиционеру:
— Где здесь формируется колонна «зеленых»?
— А их нет, — отвечает мужчина, стоящий рядом. — Они сами отказались идти.
— Сами? — спрашиваю удивленно.
Он стреляет в меня глазами, но ничего не отвечает. Идем дальше. Возле остановки видим все же одного СОИвца, стоящего с плакатом, в котором объясняется, почему обкомовская больница должна быть передана народу и рядом с ним прямо на траве лежит развернутая тетрадь, в которой желающие оставляют свои подписи «за»… А людей необычно много! Стоят у обочин, приветствуя колонны, идут рядом с ними. Но возле Площади партизан их останавливают, — дальше только в колоннах! — и поэтому мы, обходя площадь Ленина, где «демонстрируются» перед трибунами, пробираемся оврагами, через Судок, через сквер Маркса и выходим, наконец, к банку, где снова вливаемся в колонны, но уже «отработавшие», — люди не спеша бредут по дамбе, несут на плечах свернутые знамена, транспаранты и я вдруг позади слышу негромкий мужской голос:
— Не люблю я эти демонстрации. Идешь, как арестованный через строй милиционеров и гэбэшников.
Оглядываюсь. Сзади — двое мужчин со свернутыми плакатами подмышкой.
— Чего ж тогда ходили, — улыбаюсь, — если не любите?
Один осторожно усмехается:
— Надо ж было отдать долг государству.
— А вы ему ничего не должны, — бросаю.
— Это оно вам должно, — добавляет Платон.
Ничего не отвечают, но чуть позже обгоняют нас, оборачиваются, рассматривают.
…В Москве заседает первый Съезд народных депутатов СССР, и среди них — Борис Ельцин, — всё же избрали его! А мы о нём только и знаем, что критикует решения Партии. Конечно, говорят на съезде и правду, но все же ощущение, что съехались «еще те», — захлопывают демократов и самого яркого из них академика Андрея Сахарова, а в конце ему вообще не хотели давать слова, но Горбачев настоял. Вышел тот, стал зачитывать свою резолюцию, проговорил отведенные по регламенту пять минут и «те» начали снова хлопать.
…Звонили Виктору из Обкома партии и расспрашивали: чем он недоволен, что все пишет и пишет в центральные газеты? Ну, он и высказал: почему СОИвцев выгнали на улицу?.. почему и там преследуют?.. почему не дают возможности защититься в прессе?.. почему единственного журналиста, выступившего в их защиту, уволили из газеты и даже направили в писательскую организацию грязную характеристику на него? Обещали разобраться, позвонить еще раз.
— Разберитесь, — пригрозил братец, — иначе буду писать и самому Горбачеву.
…Вчера Платон ходил к тому ответственному секретарю, который подписал его характеристику, — «Чтобы посмотреть ему в глаза», — и тот сказал: составлял, мол, ее Атаманенко, член Союза писателей, а ему велел только подписаться.
— И вы подписали? — возмутился Платон: — Но это же подлость!
— А когда вы писали свои критические статьи, ведь из-за них тоже кого-то увольняли! — ответил.
Встретил Платон и Нестева в коридоре, который тоже проголосовал за его увольнение, — а ведь когда-то почти друзьями были! — так он пригласил его к себе в кабинет и говорит:
— Хочу тебе помочь. Звонил мне редактор многотиражки, ищет сотрудника…
— Во-первых, — прервал его Платон, — давайте будем на Вы, а во-вторых… Нет, не нужна мне ваша помощь, не хочу быть обязанным… Вам.
— Да я и сейчас проголосовал бы за снятие тебя с работы, — разозлился тот и поправился: — Вас… И с характеристикой тоже согласен.
— А не считаете ли Вы, что поступаете так же, как те, которые в тридцать седьмом подписывались под доносами, после которых невинных расстреливали?
Нет, он так не считает… Вот так и поговорили… почти друзья когда-то.
…Сегодня Платон сам звонил редактору многотиражки Ирмаша, — там есть место в газете, — и вначале тот вроде бы согласился его взять, а потом отказал. Ходил муж и в Обком к зав. сектором печати Артюхову, а тот и начал:
— Ты же оскорбил всех в «Рабочем»… да и мест сейчас нет даже в многотиражках, вот только если в Злынку…
Но со Злынкой мы подождем.
…И все же подал Платон иск на «Рабочий» за свое увольнение — впервые журналист судится с газетой. Сегодня вызывали его к судье и, пришедшие от газеты Нестиков и Атаманенко, сказали ей, что он их всех оскорбил. Но судья заявила, что оскорбление вообще не может быть причиной для увольнения. Предварительно назначили суд на пятницу.
…Летучка. Все эти дни обдумывала: как не поддаться эмоциям и разбить Носову спокойно, аргументировано? И, казалось, что эмоции улеглись, но… Как только заговорила:
— Мне пришлось быть участницей события, которое освещала Носова, так вот… — И меня понесло: — В ее словах было много грязи.
Передо мной злой маской возникает ее некрасивое лицо:
— Это что еще за обвинение?
— Носова, дайте мне говорить, — перебиваю ее. — Побудьте хотя бы пять минут в положении СОИвцев, которых вы оклеветали. — Она выкатывает глаза, ехидно смеется, и тогда совсем срываюсь: — Вы воспользовались тем, что трибуна у вас, а не у них! Вы оболгали бескорыстных и честных людей, обозвав их черносотенцами. — Она вскакивает, выбегает из зала. Говорить без нее? И продолжаю: — Носова считает себя честным журналистом и честным коммунистом, но если бы и впрямь была таковой, то пригласила бы СОИвцев в студию и в открытой полемике доказала свою правоту. — У Корнева выкатываются глаза, он пытается прервать меня, а я почти кричу: — И как она могла так кощунствовать, сказав, что академик Сахаров поддержал бы ее! Она же воспользовалась его добрым именем для клеветы на порядочных людей, которые сбрасываются по копейке, чтобы издать вот этот «Вестник правды»!
И поднимаю его над головой. Что-то говорит мне Корнев, машет рукой Афронов, шумит летучка, возвращается в зал Носова с какими-то листками… текстом своей передачи?.. трясет ими над головой, орет, но Корнев уже подводит итог:
— Да, Носова отличный журналист, она корректно говорила о СОИ. — И почему-то усмехается: — Но почему Галина Семеновна все так горячо восприняла?
И предлагает отметить ее передачу. Афронов согласно кивает, бросает в зал:
— Кто против, кто воздержался? Никого? Вот и хорошо.
И все поднимаются.
…Встречался Платон в Обкоме с секретарем по идеологии Погожиным и еще кем-то и вначале говорил им о СОИ, о том, что ее зажимают, не дают помещения для проведения собраний, а потом стал даже выговаривать, что не идут на диалог с ними, не отдают людям свою больницу и приводил в пример Астраханский Обком, который уже отдал. Потом и о себе рассказал, — об увольнении, о характеристике «Рабочего», о том, что никуда не берут на работу, даже в многотиражку, а Погожин опять:
— Но вы же оскорбили журналистов, назвав их рабами.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
