
Сначала поленница. Затем костер. В конце пепел. Мир в трех протяженностях — прошлого, настоящего и будущего. Прошлое было безмятежно. Настоящее — война. Семь тысяч лет Ахура Мазда бьется с Ангра Майну, и еще семь тысяч лет продлится битва. Каким в Новый день предстанет будущее, зависит от Последнего выбора человека.
Авеста.
Дела развивались самым отвратительным образом. Его предали друзья, и враги наступали на пятки. Единственным желанием было, забиться в неприметную тараканью щель, где его никто никогда не отыщет, и забыть свое имя в надежде, что друзья и враги позабудут о нем. В надежде, что вихри, бури, радиационные торнадо пронесутся мимо, и он невредимым, неуязвимым тараканом, тем, кого коллапсы и мировые катаклизмы обходят стороной, выберется из своего убежища и продолжит существование тогда, когда весь мир будет гибнуть под руинами былого благополучия.
Эмир Тимур Тарагай «Уложение. Наставление потомкам»
Когда в кровавой сече у протока Ахтуба, там, где великий Итиль, разделяясь на множество рукавов, впадает в Абескунское море, я потерял внука и наследника империи славного принца гургана Мухаммад-Султана — да не померкнет в веках имя его! — я, не дожидаясь исхода сражения, оставил поле битвы и помчался к морю, и там на вершине неприступного утеса обратился в молитве к тому, кто владычествует и в том и в этом мире, кто управляет самовластно и землей и небом, в чьей воле все сущее во Вселенной и все, что видится нам в одних лишь грезах. С вершины утеса я обратился к тому, кто управляет временем!
Боль утраты моей была такой невыносимой, что не могла ее унять и радость победы, а молитва такой горячей — будто пламень, — что, казалось, жар ее, достигнув возвышенности небесного престола, должен был бы обжечь языками пламени пятки Вседержителя и тем обратить взор Господен на того, кто взывает к его милости. Но Хозяин Миров в ту минуту проявил бесчувствие. Он меня не услышал.
Тогда я обратился к подданным Господа, к его всесильным нукерам: к утренней звезде Чолпан и блистательному Альтаиру. Я попросил небесные светила, чтобы они, нарушив свое привычное движение, обратили время вспять, ровно на столько, чтобы успеть отвести удар копья от сердца моего наследника, моего возлюбленного внука принца Мухаммад-Султана, или принять удар на себя, если у меня для другого не достанет мига.
И небесные подданные Всевышнего в угоду мне расстроили священный ход времени.
Что из этого вышло? Об этом может догадаться всякий, кто чтит законы Господа и порядок, установленный им. Не знаю, удалось ли мне спасти внука, но знаю другое, решившись воспрепятствовать предначертанию, я сам бесследно пропал. Я провалился в Бездну! Я очутился в мире, приметы которого мне были открыты в отрочестве в обители святого шейха Абу Бекира Тайабади.
В обитель шейха еще безусым мальчиком привел меня отец, славный воин эмир Тарагай Бохадур. И сказал он тогда святому человеку: «Это мой сын и наследник Тимур Тарагай из рода Барласов. Я наставил его в воинском искусстве и привил ему навыки управления людьми. Я обучил его всему, что знаю и умею сам. Тебя же, аллаяр, прошу наставить его в любви к Аллаху и привить привязанность в вере, и дать ему те знания, которые помогут управлять не малым туманом, но целым улусом, потому как на сыне моем божья благодать — он родился под семью счастливыми созвездиями». На что святой шейх ответил: «Я слышал об отроке из Мавераннахра, в миг рождения которого звезды выстроились в ряд. Такое случается раз в восемь столетий — это воистину благоприятное предзнаменование. Тысячу шестьсот лет тому назад под подобным сиянием звезд родился величайший из завоевателей Искандер Зулькарнайн. Через восемьсот лет после того родился последний из пророков — Мухаммад-пайхамбар, тот через кого была поведана последняя истина. И вот прошло еще восемь столетий, и родился новый Сахибкиран — твой сын! И неужто ты думаешь, славный эмир Тарагай, что избраннику неба, тому, кто является в подлунный мир раз в восемь веков, уготовано Всевышним править одним только улусом? Должен сказать, что ты сильно ошибаешься. Твоему сыну, славный Тарагай Бохадур, уготовано управлять великим множеством народов. Он тот, кого Вседержитель избрал своим земным наместником, он тот, кого небо наделило всей необходимой силой для дел более чем великих. Ему предначертано собрать под свою руку все страны ислама и на зависть, и в назидание тем, кто еще пребывает в невежестве и глух к словам истины, установить в них твердый порядок». После этого шейх Тайабади пообещал моему отцу, что обучит меня всем премудростям, которые позволено знать смертным. «Весь запас знаний, хранимых в моем книгохранилище, сдувая пыль, я с полок книжных переложу на полки его разума. Я привью ему стойкость и твердость в истинной вере и научу его отличать добро от зла. И главное я научу его читать знаки, которые Всевышний подает своим избранникам. И тогда Сахибкиран, а именно так отныне следует именовать твоего сына, пройдет весь свой путь от истока и до устья так, как предначертано ему звездами».
.
Омон Хатамов «Меня звали Тимур»
Ближе к вечеру мы стояли под прицелом камеры наблюдения у ворот дома Кантемира. А несколькими минутами позже ворота открылись, и охранник провел нас в беседку, расположенную в середине сада, где нас поджидал Кантемир по кличке «Огнепоклонник».
Тот, кому приходилось видеть это чудовище хоть раз, хотя бы на фотографии, тот поймет меня. Он поймет, что я испытал, узрев бульдожью пасть Огнепоклонника и зверский оскал его белозубой улыбки. Я вдруг позабыл, что привело меня сюда, что я здесь делаю, и почему мне не сиделось дома.
Огнепоклонник вразвалку приблизился ко мне и, когда я протянул руку, клешней вцепился в нее и сжал так сильно, что я невольно взвыл от боли. «Ведь тебя никто не принуждал, — напомнила мне вдруг проснувшаяся память. — Так какого черта ты сюда приперся?»
Глядя на то, как я затряс больной рукой, Огнепоклонник указал мне на стул.
— Он? — спросил Кантемир у Васико.
Я занял указанное место. Васико зашла мне за спину.
— Он, — ответила она и опустила руки мне на плечи.
Руки у нее были сильные, а жест решительный. Два этих обстоятельства лишили меня возможности прибегнуть к спасительному плану — ноги в руки и прочь отсюда, подальше от Кантемира.
— Что-то не похож этот типчик на крупного ученого, — проворчал монстр, не спуская с меня глаз. — Бледновато смотрится.
Васико выразила удивление:
— Не похож? А каким должен быть крупный ученый?
— Посолидней что ли… А твой — дешевка.
Васико возмутилась:
— Катоев, не путай ученых со своими гориллами. Академик Сахаров, к примеру, тоже не особенно смотрелся.
— Скажешь тоже, — усмехнулся Катоев. — Академика Сахарова весь мир знал, а кто твоего академика знает?
Сам Кантемир узнал обо мне накануне. От Васико. Она позвонила ему из ресторана, где мы под армянский коньяк разрабатывали план военных действий, и в порыве пьяного вдохновения наговорила обо мне бог весть что. Превознесла до самых небес. И теперь, осознавая всю глубину пропасти, разделяющей вымышленного писателя Тимура и реального прощелыгу Моню, я, сидя на дне этой самой пропасти, с ужасом ожидал разоблачения.
Кантемир придвинул стул и устроился на нем напротив меня.
— Ученый, значит, — проговорил он, продолжая разглядывать меня, — писака.
— Больше, все-таки, ученый… а писатель — это так…
Что это была за пытка! Мне захотелось, чтобы он проглотил меня сразу, а не прожевывал кусками.
— И как тебя зовут, ученый?
Я ответил едва слышно:
— Меня? Моня… Пардон, Тимур.
— Тимур? — монстр выразил удивление. — Не Бекмамбетов ли Тимур?
— Бекмамбетов мой товарищ, — пролепетал я, как бы извиняясь. — Мы учились вместе.
— Вот как?
Мое признание отчего-то произвело впечатление на монстра.
— Только это было давно. На заре туманной юности, так сказать.
Кантемир перебил меня и заявил авторитетно:
— Тимур Бекмамбетов в кино большая шишка. Его знают даже в Голливуде. Он Анджелину Джоли живьем видал.
Суровые складки на лице монстра чуть разгладились, голос сделался чуть мягче. И его облик в целом стал напоминать человеческий. Он спросил человеческим голосом:
— А ты можешь чем-нибудь похвастаться, академик? Что ты за фрукт и с чем тебя едят?
Я пожал плечами и сказал в свое оправдание:
— С Голливудом, к сожалению, я не имею связей. И, вообще, очень далек от кинематографа. Можно сказать, что я к нему не имею никакого отношения. Даже не понимаю, с чего Васико решила, что я могу написать сценарий.
Монстр насторожился:
— А что, не можешь?
Облик Кантемира снова утратил человеческие черты, и монстр вернулся на сцену.
— В принципе написать сценарий… не так уж сложно, — поспешил я устранить наметившийся кризис. — Диссертацию, к примеру, написать сложнее.
— Что?
— Могу, — дал я однозначный и решительный ответ.
Монстр хмыкнул.
— Ты, академик, знаешь Бекмамбетова, и это огромный плюс. Не всякий писака знаком со звездой такой величины. И потом ты же историк. Верно? — спросил монстр у Васико.
— Моня, известный историк, — уверенно заявила та.
— Вот-вот, — Кантемир удовлетворенно качнул головой. — Ты ведь по Тимуру специалист… в смысле не по Бекмамбетову Тимуру, а по-другому. А кому еще писать о Тимуре, как ни тимуроведу?
Кантемир вместе со стулом придвинулся ко мне, и его медвежья лапа упала на мое колено.
— Брат мой, — процедил он сквозь зубы.
Нет, он не проникся ко мне братскими чувствами. Просто проявилась, как я догадываюсь, глубоко засевшая в нем старая крестьянская привычка — приласкать корову, прежде чем начать доить. Вот, он и сказал мне ласково:
— Брат мой, я не писатель и не режиссер, и даже не ученый. Я бывший спортсмен. В молодости я занимался штангой и кое-чего достиг. Я мастер-международник, у меня целый шкаф медалей и призов. Среди спортсменов меня до сих пор помнят и многие ценят. А сейчас я заправляю серьезными делами. Бабки ко мне текут рекой. Но бабки, как выяснилось, не приносят счастья, сколько бы их ни было. А хочется чего-то такого, от чего стало бы радостно жить. Раньше меня радовали спортивные победы. А теперь я увлекся историей, в особенности историей Тимура… Ну, не мне тебе про Тимура рассказывать. Но только, удивительное дело, о Тимуре, который, на мой взгляд, был круче всех, до сих пор не сняли ни одного стоящего фильма. Про всяких там Наполеонов-Багратионов сняли, про Македонских-Невских — тоже, а про Тимура — нет. Разве это справедливо?
— Нет, — заверил я.
— Так почему бы не восстановить справедливость? Что скажешь?
— Скажу, что справедливость восстановить необходимо.
Кантемир остался доволен моим ответом.

— Мы с тобой должны объединиться. Ты и я. И еще Бекмамбетов. И тогда мы снимем самый зашибенный фильм. О Тимуре!.. Я понимаю, что это непросто. Но мы справимся. Справимся, если подойдем к делу с умом.
Я кивком головы выразил полное единодушие.
— Что нужно, чтобы снять блокбастер? — спросил Кантемир и, не дожидаясь ответа, сам ответил на поставленный вопрос. — Нужны бабки!
Я снова кивнул головой.
— И идеи. И еще связи в Голливуде… Ну, бабки я найду, идею ты родишь, а связи нам обеспечит Бекмамбетов.
— Почему именно Бекмамбетов? — поинтересовался я. — И кроме него есть много хороших режиссеров.
— Мне Бекмамбетов нужен как лейбл. Его знают, на него зритель ходит. Так что придется тебе познакомить меня со своим другом… Что-то не так?
Я тяжело вздохнул.
— Познакомлю, если надо. Но для начала неплохо было бы…
— Обсудить сценарий? — догадался Кантемир. — У меня есть одна задумка. Я в одной книге вычитал… ну, книга не научная была, а так, худлит… Так вот в той книге написано, что Тимур, когда здесь на Кавказе воевал, оказывается давал поддержку нам, черкесам. Даже в войско свое принимал. И вроде бы даже приблизил к себе одну черкешенку. И та потом родила от него сына… Ты такую историю знаешь? В научных книгах об этом что-нибудь написано?
Я призадумался.
— Вы знаете, — проговорил я, почувствовав, что затягивать паузу небезопасно, — историческая наука не располагает сколько-нибудь достоверными сведениями…
Кантемир нахмурился, и я сообразил, что сейчас самое время прибегнуть к спасительной лжи.
— Но я, действительно, слышал от своих коллег, что-то в этом роде. Это, как я уже сказал, не вполне исторический факт, это скорее легенда. Но, ведь, мы не научный трактат собираемся писать, а снимать художественный фильм. А для кино легенда самый подходящий материал. Вы согласны?
Кантемир движением головы дал понять, что он согласен.
— От своих коллег я слышал, что черкесская девушка, которую приблизил к себе Тимур, была зороастрийкой. Вы знаете, что-нибудь о зороастризме?
По выражению его лица я понял, что он слышит это слово впервые.
— Зороастризм — древнее верование персов. Иначе огнепоклонство. Легендарная черкешенка была огнепоклонницей, так пусть и наша героиня поклоняется огню. Это придаст особенный колорит повествованию и толику историчности. Вы не против?
Лицо Кантемира сменило гримасу и стало напоминать кошачью морду с банки кошачьего корма.
— У Катоева погоняло «Огнепоклонник», — проинформировала меня Васико.
Я с пониманием качнул головой.
— А в твоей истории, что-нибудь говорится о сыне зороастрийки? — спросил Катоев.
— Мне известно, что сына зороастрийки от Тимура звали Кантемир. Знаете, как с тюркского переводится это имя?
— «Кантемир» — это наше древнее черкесское имя! Из наших мало кто знает, что оно означает. А я знаю. «Кантемир» значит «Кровь Тимура».
— Верно, — согласился я. — От средневекового Кантемира пошла династия местных правителей… и еще мода на это имя.
Кантемир окликнул охранника и велел подать чачу и закуски.
— А твой академик ничего, — сказал он, обратившись к Васико, — зачесывает гладко.
— Моня гений, — авторитетно заявила та.
Кантемир спорить не стал. Когда на столе появилась чача, он наполнил рюмки и объявил:
— В общем, я так решил. Ты, академик, напишешь сценарий, твой друг Бекмамбетов снимет фильм, а я буду продюсером, — он поднял рюмку и провозгласил. — За успех безнадежного дела. Так, кажется, говорят, когда берутся за что-то стоящее.
Когда выпили, он глянул на меня и сказал:
— Рожа у тебя кислая. Чача не понравилась? Или спросить о чем-то хочешь?
За меня ответила Васико:
— О гонораре не мешало бы договориться.
— Договоримся, — пообещал новоиспеченный продюсер и отмахнулся небрежным жестом. — Я человек, конечно, не самый богатый, но на твоего академика у меня денег хватит.
— А как насчет аванса? — поинтересовался я.
Кантемир посмотрел на меня, как на самого отпетого мошенника.
— Хоть пару сцен для начала накропай, — посоветовал он, — и тогда уже берись канючить, — Кантемир развернулся к Васико. — А говорила, что он ботаник, деньги будто не считает.
Огнепоклонник откинулся на спинку кресла и раздраженно махнул на меня рукой.
— Все свободен, — буркнул он. — Иди работай.
И я пошел.
А Васико осталась.
Я подождал ее за воротами, на улице. Не дождался. Пошел к ней домой, подождал там — она не пришла. Тогда сел писать заказанные две сцены.
Но прежде попытался вспомнить, как такое могло произойти, что я как круглый дурак ввязался в самую безумную авантюру. А произошло это накануне, солнечным, безоблачным днем на городском пляже, где мы с Васико лежали на песочке и лениво таращились на море.
Васико тогда сказала:
— Мы с тобой знакомы уже несколько дней, а я о тебе ничего не знаю. Только два твоих имени: Моня и Тимур.
А я ей ответил:
— Какое совпадение. И я о тебе ничего не знаю.
Васико вздохнула:
— А обо мне и не надо знать. Я обычный человек… А вот ты другое дело.
— Это почему же?
— Ты не такой, как все, особенный какой-то. Расскажи что-нибудь о себе, — Васико перестала таращиться на море и посмотрела на меня. — Чем ты занимаешься?
— Ничем особенным.
— Мне кажется, что ты художник, или писатель… или ученый.
— Глупости.
— В Тбилиси с нами по соседству один ботаник жил. В университете преподавал. Симпатичный, всегда красиво одевался, и вежливый такой.
— Ну и что?
— Ты на него похож.
— Я не ботаник.
— А потом его арестовали. Он часто заграницу ездил, в Турцию. Мы думали, что он на симпозиумы свои научные ездит, на конференции, а оказалось, что он туда наших девушек возил, студенток. На консумацию.
— Понятно. И ты подозреваешь, что я занимаюсь тем же самым?
— Нет, не в этом дело. Просто ты такой же как он задумчивый. Ты все время в своих мыслях, и я не знаю, о чем твои мысли.
— Мои мысли самые обычные. Я думаю о том же, о чем думает большинство мужчин: о пиве, о футболе, о девушках, и еще о том, где достать на все это деньги. Вынужден тебя разочаровать — я не ботаник, не писатель, и даже не художник.
— Так кто же ты?
— Фотограф, — признался я. — Но ты права, кое чем я, действительно, похож на твоего ботаника. Девушек в Турцию, конечно, не отправляю, но работаю с ними.
— С моделями?
— Я работаю в стиле «ню».
— Это как?
— Снимаю обнаженную натуру.
Васико насупилась.
— Голых что ли?
Я сомкнул веки.
— Правда?
— К сожалению.
— Зачем тебе это? — голос Васико дрогнул.
— Так я зарабатываю на жизнь.
— Ты снимаешь эротику? — в ее голосе прозвучал вздох надежды.
— Хуже.
Я глянул на нее и увидел, какой переполох вызвали в ней мои признания. В глазах изумление и растерянность. И было видно, как натужно работают мысли, пытаясь определить, кто я такой на самом деле.
— Ты же шутишь? — решила она, наконец. — Скажи, что шутишь!
Далее испытывать ее терпение было опасно. Я улыбнулся и спросил:
— А ты поверила?
В ответ она шлепнула меня по голой ляжке.
— Да ну, тебя, — сказала она и отвернулась. — Ты, конечно, можешь и дальше кривляться, но только зря. Так с друзьями не поступают.
«Глупо, как все глупо, — подумал я, глядя на Васико. — Люди страшатся правды и предпочитают выдумки».
— Каюсь, — я обнял Васико за плечи и развернул ее к себе. — Шутка не удалась. Больше шутить не буду. И ты угадала — я ученый. Не ботаник, конечно, но историк… и в некотором роде писатель. Да, я пишу книги.
— Правда?
— Чистая правда.
— А какие книги ты пишешь?
Я сделал неопределенный жест.
— Ты не читаешь такие. Это очень скучная тема, во всяком случае, для симпатичных девушек. Я пишу книги о Тимуре.
— О каком?
— А ты о многих Тимурах знаешь?
— Я знаю о Тамерлане, — похвасталась она.
Я всем своим видом выразил удивление.
— У одного моего знакомого целый шкаф книг, и все о Тимуре. У тебя какая фамилия?
Я предостерегающе погрозил ей пальцем.
— Я не пишу беллетристику. И даже популярную литературу. Мои книги для узких специалистов. Ты не могла увидеть мои книги в шкафу своего знакомого.
Васико понимающе качнула головой.
— Ты пишешь книги для ученых.
— Да. И мои книги не поступают в продажу. Они издаются ограниченным тиражом для тех, кто работает в одной со мной области. Твой знакомый не историк? Он же не занимается историей Тимура?
— Нет, — согласилась Васико. — Он бизнесмен, бывший спортсмен. Кантемир Катоев, Огнепоклонник. Слышал о нем?
Вот теперь я был удивлен по-настоящему.
— Кантемира Катоева, Огнепоклонника интересует история Тимура?
Васико кивнула головой.
— Еще как. Его даже спорт интересует меньше. Бывает, смотрит спортивный канал, смотрит, а потом выключит телевизор, схватит книгу и читает допоздна.
— Никогда бы не подумал, что неандертальцы типа Огнепоклонника берут в руки книги.
— Он только те книги берет, в которых написано про Тимура. А к другим не притрагивается. Даже газеты не покупает.
— Откуда такая привязанность?
Васико загадочно повела плечами.
— Тимур его кумир.
Удивительные вещи она мне сообщала. Ее информация совершенно не вязалась с тем, что рассказывали об Огнепоклоннике другие: примитивный живодер, преступник и проходимец, кошмар для всего побережья, самый опасный тип от Псоу до Туапсе.
— Если бы ты сказала, что его кумир Рокфеллер, Аль Капоне… или хотя бы Костя Дзю… Почему Тимур?
— Он считает себя его потомком.
— Да ну?
— Вбил себе в голову и слышать ни о чем не хочет. Даже кино о Тимуре мечтает снять.
Я истратил весь свой запас эмоций и уже не в силах был выразить как я удивлен.
— Столько интересных сведений о бывшем спортсмене: активист фанклуба, тимурид и кинопродюсер. Может быть он шизофреник?
— Он придурок, спору нет. Но я вот о чем подумала… может быть ты накатаешь ему сценарий?
— Что?
— Он для этого дела одного нашего журналюгу нанял (пишет статейки для местной газеты), но тот все тянет. Месяц прошел, а кроме болтовни ничего. Катоев сам не свой. Так что, может быть, ты впряжешься?
— Нет, нет. Ты меня в это дело не втягивай. Я не пишу сценарии.
— А что это трудно?
— Написать сценарий?
— Ты же пишешь книги. Неужели сценарий накатать труднее?
— Дело не в этом.
— А в чем? Катоева боишься? Он, конечно, тот еще тип, но если разобраться, он не такой страшный, каким хочет казаться. С ним, если не забываться, можно ладить. К тому же он слово держит и платит как положено. Ты сможешь хорошо заработать. Разве тебе помешает пара сотен тысяч?
— Сколько?
— Мало? Ну я не знаю, я это так сказала. Может быть, он больше заплатит.
— Вообще-то я подумывал накатать что-нибудь художественное. Тем более…
— Тем более об этом Тамерлане. Ты же всю его подноготную знаешь!
Таким вот образом я ввязался в эту кошмарную историю. И дело было вовсе не в деньгах. Нет, тогда я, не спорю, сидел на мели и отчаянно нуждался, но решающим фактором, повлиявшим на мое безумное решение, было желание угодить Васико. И что примечательно, ведь я за всю жизнь, не считая школьных сочинений, не написал ни строчки. Помню, мне тогда пришла в голову предательская мысль: «Не обязательно писать самому, можно переписать чужую книгу».
Дело в том, что месяцем раньше, когда я только появился на побережье, мне попались на глаза путевые заметки некоего Иосафато Барбаро «Путешествие в Тану и далее в Персию ко двору Великого Тимура». Книга ничем не примечательная, тонюсенькая такая, не больше ста страниц, в мягком переплете. «Что за Барбаро… Иосафато, — подумал я тогда. — Никогда не слышал». А позже на пляже в тот день, когда Васико так страстно и с жаром склоняла меня к авантюре, эта мысль получила развитие: «Если я не слышал о Барбаро, то вряд ли в этом городе хоть кто-то слышал о нем, и уж точно никто не читал «Путешествие в Тану…». Плеядой плагиаторов литература была переписана тысячу раз. Не я первый, не я последний».
Легкомысленно? Бесспорно. Безрассудно? О да. Но куда деваться, такой я человек. Я скиталец, легкокрылая бабочка, которая перепархивает с цветка на цветок, не зная забот, пока ее крылья согревает солнце. Но вот лето отгорело, наступила осень и на пороге зима. Куда деваться? У меня нет ни семьи, ни друзей. Ни родины, ни флага. Одни воспоминания о напрасных потугах и воз разочарований.
Я задумался о своей бестолковой жизни. О том, что происходит со мной, о том, что творится у меня в голове? Какие тараканы там завелись? Уже много-много лет они щекочут усами извилины, прогрызают норы, а я даже не подозреваю, куда и зачем ведут тараканьи ходы.

«Прожита половина жизни, а может быть, и большая ее часть. И чего я добился? — спросил я себя. — Что мне необходимо сделать, чтобы удача не поворачивалась ко мне задом, что предпринять, чтобы она, наконец, испугалась за целомудрие тыла? Неужто и вправду взять и написать этот чертов сценарий? Ведь пишут же другие».
Моя глупость, беспечность и способность находить неприятности вели меня по жизни. Не оставили и в этот раз. Я ухватился за Барбаро, как крадущийся впотьмах хватается за ствол пистолета, наставленного на него рукой убийцы.
Я забрел в этот город на побережье в поисках заказов. Пока дожидался их, бесцельно бродил по его улицам и пляжам, и однажды повстречал Васико. Она поразила сразу. Нет, правда, что-то щелкнуло в голове, что-то включилось, и глаза залило светом. Словно лампочка зажглась внутри меня, в черепной коробке. По сути, это была тревожная лампа, она сигналила мне: «Беги, беги из этого города!». Но я остался. Остался и ввязался в самую безумную авантюру. Ради чего? Ради девушки, которой я явно не стоил. Сильно захотелось произвести на нее впечатление, и не только ей, но и всему миру доказать, что я не так уж плох… Глупое и несерьезное желание.
Я предавался безрадостным мыслям так долго, что не заметил, как из-под пера вышли первые строки. И что интересно, обошлось без плагиата. Иосафато Барбаро остался нетронутым, а моя совесть незапятнанной. Я написал о Тимуре то, что знал, написал так, как чувствовал.

Не разгибаясь, просидел за письменным столом всю ночь. И только раз отвлекся, чтобы позвонить Васико. Она не ответила. Просидел всю ночь, и не заметил, как наступило утро.
А утро наступило, когда вместе с солнцем в комнату заглянула Васико. Она поинтересовалась, чем я занят, после чего закрылась в ванной. А потом опять ушла.
Я проработал до вечера. Когда предрассветный сумрак сменился закатным, снова появилась она. «Накурил, — сказала Васико, глянула через мое плечо на стопку исписанных бумаг и спросила. — Получается?» Как ни странно, получалось: слова складывались во фразы, фразы таинственным образом рождались одна от другой, и создавалась картина, очаровывающая меня своим правдоподобием. И казалось, что этот волшебный поток так и будет изливаться из меня, как вода из крана, пока не перекроют вентиль. «Ты хоть, что-нибудь ел?» — донесся голос Васико из кухни. Я целые сутки просидел на пиве и сигаретах, боясь отвлечься и упустить из вида полет легкокрылой птицы, называемой вдохновением, за которой неотрывно мчались мои мысли. Васико ушла. А птица взмыла под облака, и мысли потянулись за ней, вцепившись в оперенье хвоста. К утру капризной птице надоело носить груз моих мыслей. Она легко отряхнулась, потеряла два пера и испарилась в непроглядных высях. А мои бескрылые мысли рухнули на землю. Два пера превратились в две написанные сцены. Я перечитал, и остался доволен. Более того, проникся уважением к собственной персоне. Без лишней скромности заподозрил в себе затаенный доселе литературный дар, который вдруг отыскал в пластах сознания лазейку и забил из меня звонким фонтаном филигранных фраз и хитрых измышлений.
Да только подозрения мои, пусть мимолетные, не имели основания. Не было во мне дара. Скорее вышел казус — мое либидо сыграло злую шутку. Я возжелал девушку, которая ночевала с другими. Я возжелал так сильно, что затрепетало сердце. Дрожь нервных окончаний стрелами пронзила кончики пальцев, а трепет извилин генерировал ток моих мыслей. Так родились две сцены.
На исходе двух бессонных ночей я раскрыл в себе не дар божий, а зерно затаенной страсти. Семя пустит побеги. Побеги взойдут, разрастутся, заколосятся. А колосья, отяжелев, однажды осыплются зернами. Черт знает, какими всходами они взойдут!
Когда человек так проникается страстью, что теряет голову, без всякой надежды на исцеление, и так, что за ночь успевает исписать кипу бумаг, притом, что прежде и двух слов связать не мог, такое состояние принято называть любовью.
На исходе двух бессонных ночей я сделал кошмарное открытие: «Я влюбился!»
И вот что я написал, когда признался в этом:
«Он вел своего коня по узкой горной тропе.
В теснине сжимало грудь, так что больно было вздохнуть, и он задыхался.
Когда вышел к реке в том месте, где та давала крутой изгиб и, вспениваясь белыми гребешками волн, возвышала голос, к нему навстречу вывели толпу людей. Черных, чумазых оборванцев, глазастых, как таджики. Они испуганно глядели на усталого воина и сиротливо жались друг к другу…»
Из сборника преданий Кавказа о Катемире Катоеве по прозвищу Огнепоклонник
Детство Кантемира (записано со слов друга детства)
Когда Кантемир был совсем еще пацан, типа, под стол пешком ходил, у его отца — очень уважаемого в нашем селе человека, — был пес, такой огромный, лохматый волкодав, короче, конкретная собака, можно сказать не волкодав, а людоед. И этот людоед кроме отца никого больше не признавал, как бешенный на всех кидался. Так кидался, что мимо их дома с целыми штанами невозможно было пройти. Всех пацанов в селе этот гад перекусал. НВ взрослых мужиков даже кидался. Меня один раз — я его душу топтал! — так укусил, что потом из района доктор приезжал — пришивал мне назад откусанное место, а наш ветеринар потом целый месяц мне уколы делал. Короче, отмороженный был пес, такой отмороженный, что даже Кантемира не признавал! Нет, тогда Кантемир, конечно, еще не в авторитете был (я же говорю, под стол пешком ходил), но все-таки он был хозяйский сын, и этот сволочь должен был проявлять к нему хоть маленькое уважение. А он, отмороженный, вместо этого Кантемира даже больше, чем других гонял. Неудобно говорить такое про солидного теперь человека, но, когда Кантемир был маленький, он из-за этого сволоча у себя во дворе не мог пешком ходить — он все время бегал. Когда ему на улицу надо было выйти, он сперва смотрел, где прячется собака. Откроет дверь, высунет голову и осматривает двор. Если сволочь в будке или где-нибудь на задках гуляет, Кантемир разгонялся в коридоре и пулей летел через весь двор до калитки. А собака за ним. Еле успевал Кантемир убежать. Я думаю, что именно тогда он поставил себе дыхалку, что потом ему очень пригодилось в большом спорте. Назад в дом маленький Кантемир тоже по-человечески не возвращался, всегда через один маневр. Этот сволочь, этот отмороженный, чтобы все знали, был не только людоед и волкодав, он еще и кошкодав был — кошек ненавидел, гад. И вот Кантемир, чтобы домой попасть, ловил сперва где-нибудь какую-нибудь кошку, приносил ее домой и бросал через забор. Собака увидит кошку и за ней, а Кантемир в это время пулей в дом. Вот так Кантемир и выкручивался, так и бегал… пока кошки не закончились. За два месяца ни одной в деревне не осталось. И тогда к отцу Кантемира пришел один очень старый и очень уважаемый человек, хаджи (он в Мекку ходил, и Коран читал), и вот этот старый хаджи сказал отцу Кантемира: «Слушай, вася, ты, что за человек, ты о чем думаешь? Тебе твоя собака дороже или твой сын? Убей ее, очень тебя прошу. Не сделаешь, как я прошу, собака всех нас перегрызет, а первым сожрет твоего сына». Но отец Кантемира не послушался, хоть и уважал хаджи. Не стал убивать собаку. И выходит, он ее больше всех уважал. И вот, когда отец отказался выполнить просьбу уважаемого хаджи, Кантемиру ничего не оставалось, как сделать это за отца. К тому же деваться ему было некуда — кошки-то все перевелись. И вот как поступил Кантемир. У его отца имелся мотоцикл — он на нем в райцентр ездил. И вот, когда один раз отец оставил мотоцикл на улице возле ворот, Кантемир незаметно слил в ведро бензин и после того, как отец уехал, подманил к себе собаку и, когда она подбежала к воротам, облил ее из ведра. Всю облил от головы до хвоста. Пес, как мокрая курица стал. Шерсть к коже прилипла, и фигура наполовину похудела. Лаять перестал, собака, заскулил и начал нюхать, чем он так воняет. А Кантемир зажег спичку и поджег собаку. Так вахнуло, будто баллон с газом подорвался! Пес подпрыгнул от земли на метр, гавкнул в воздухе и, когда приземлился, уже весь горел. Он рванул через двор, перемахнул через забор, и побежал по дороге. Добежал до конца села и повернул обратно. И всё горел, как факел. Так и бегал туда-сюда, туда-сюда, пока не сгорел дотла. Все в селе сильно обрадовались, узнав об этом. И только отец Кантемира остался недоволен. Он снял ремень, схватил Кантемира и отлупил его. А на следующий день нового пса привел. Только новый пес был уже не тот, что прежний, не лаял и не кусался, а когда видел Кантемира, в будку прятался. А знаете почему? Потому что все люди в селе, пацаны и взрослые, и даже все собаки после того случая сделали один умный вывод: тот, кто на Кантемира лает — плохо кончит, а тот, кто скалит зубы — живьем сгорит!
Вот такая история с Кантемиром приключилась в детстве. Наверно, с тех пор у него кличка «Огнепоклонник». Но я настаивать не буду, точно не знаю.
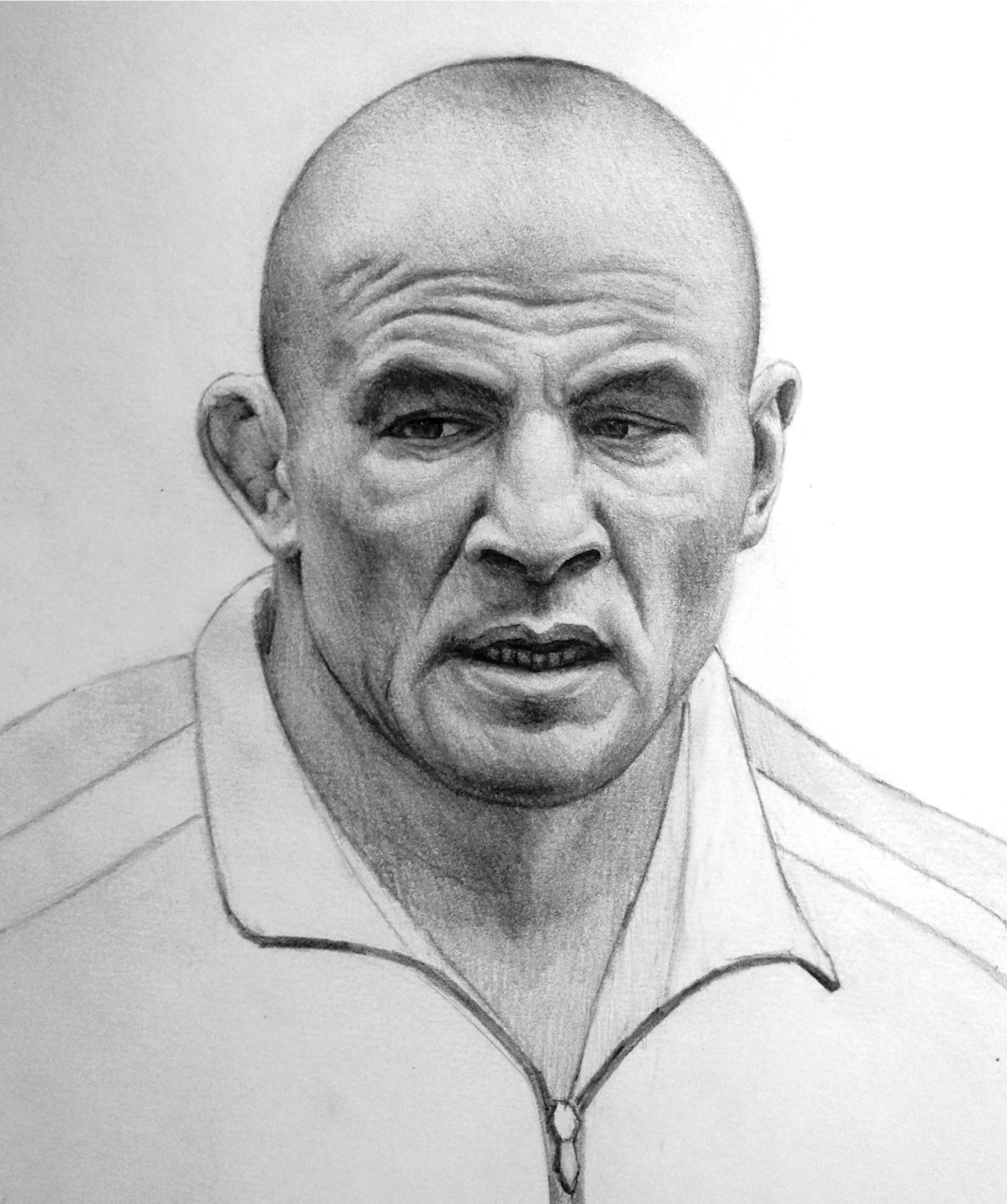
Юность Кантемира (записано со слов однокашника)
Сколько помню Кантемира, он всегда отличался силой. В спортшколе, где мы учились, слабых в принципе не было. Но Кантемир был самый сильный — намбер ванн, за что его сильно уважали. Прикиньте, Кантемир рвал штангу в сто кило. Без рывка. Жимом! Только и это ерунда. Конечно, не каждый пацан может выжать такой нехилый вес, и поэтому, когда Кантемир в первый раз проделал это, все, натурально, обалдели. Но речь не об этом. Я хочу рассказать о том, когда к нему пришла настоящая слава. А случилось это, когда напротив нашей школы поселили девок из гостиничного техникума. Мы тогда все были зелеными еще пацанами, и похвастаться нам было нечем. Но нам, помню, очень хотелось стать мужиками. Так хотелось, что кроме траходрома думать ни о чем не могли. Только о траходроме и девках. Так вот, поместили, значит, возле нашей школы женскую общагу. И девок в той общаге было полным-полно. Но в общагу эту пацанов не пускали. Была у них комендантом одна старуха, из тех, кто при слове секс, встает в стойку и начинает лаять. У этой комендантши при виде мужиков, так кривило рожу, что страшно делалось. Особенно она не переваривала нас, спортсменов. При виде нас она просто зверела, и если, бывало, мы пытались взять общагу штурмом, то эта старая карга ОМОН вызывала на помощь. Небо в клетку многие из нас увидели впервые именно тогда — в нашей городской кутузке для суточников. Но это пустяки. Обидно было, что мы вынуждены хранить невинность, с которой давно пришла пора расстаться, а девки в это время кувыркаются и бьют рекорды в сексе с другими. И понятное дело, терпения у нас оставалось мало, и долго так продолжаться не могло. И вот однажды, когда казалось, что мы в поллюциях вот-вот истратим весь свой запас спермы, один из нас придумал план. Гениальный, можно сказать, план! И как все гениальное тот план был прост. Если гора не идет к Магомету, то пусть девки валят к нам. У нас на четвертом этаже была каптерка, где хранились маты. Полная каптерка матов, а в принципе конкретный траходром. В воскресенье, когда преподов и тренеров в школе не осталось, мы заслали к девкам гонца, мол, если кому хочется реального секса с реальными пацанами — со штангистами и гиревиками — милости просим к нам. Время назначили на семь, когда уже стемнеет, а сами после занятий спрятались в подсобке и дождались закрытия школы. И вот когда вахтер совершил обход, гремя ключами, прошелся по всем этажам, и после этого спустился в свою каморку под лестницей и умер там перед телевизором, мы выбрались из укрытия и, прихватив канат, вышли на балкон. На улице уже стемнело, а фонарь мы загодя разбили. Но даже в этом кромешном мраке мы легко разглядели огромную, просто устрашающих размеров бабу. Пара ее глаз таращилась снизу на наш балкон и ждала от нас сигнала. Баба эта, которую мы сразу прозвали бегемотом, была внизу одна. Видно, больше никто из девок не пожелал реального секса с реальными пацанами. Но мы не сильно расстроились. Тогда нам было без разницы с кем, лишь бы было. Проблема заключалась в другом: как поднять эту бегемотиху к нам на балкон, с помощью каната? А именно в этом заключалась техническая сторона нашего плана: спустить канат и поднять девок, как на лифте. В силах своих мы не сомневались — все-таки все мы были спортсменами. Но когда увидели бегемотиху, уверенности у нас резко поубавилось. Мы спустили канат, и каждый сделал по подходу. Но никто кроме Кантемира не справился с весом. Хотя старались на совесть и, в принципе, никто не шланговал, но никому не удалось даже оторвать бегемотиху от земли. Представьте, такая была огромная, просто невероятных размеров баба. Кантемир, когда очередь дошла до него, не предпринял ничего нового в плане техники. Так же, как и мы перекинул конец каната через шею и заработал с переборами. Но у него дело пошло. Его сила оказалась сильнее силы земного притяжения. Бегемотиха оторвалась от земли и заболталась на канате в воздухе. Пока Кантемир тянул ее до окна первого этажа, бегемотиха молчала. После этого из ее глотки вырвался писк. После второго этажа, там, где балкон был зарешечен, писк ее сделался пронзительней и стал нарастать с каждым перебором. Когда она одолела перекрытие третьего этажа, и нам стало видно ее перепуганную рожу, один из нас крикнул ей: «Только вниз не смотри, чувырла!» Она естественно посмотрела. И тогда писк ее наконец-то оборвался, и она разразилась ревом. Завелась, как пожарная сирена. Не знаю, так ли ревут настоящие бегемоты, но ее рев точно бы распугал всех обитателей саванны (ведь в саванне живут на воле бегемоты?). «Не реви, дура! — зашипели на нее наши пацаны. — Заткнись!» Но она и не думала затыкаться — глазела вниз и выла. Пацаны перегнулись через перила и застучали ей по голове: «Заткнись, заткнись». Напрасно — она завыла еще громче. Чтобы быстрей затащить это голосистое чудище на балкон, я предложил помочь Кантемиру. Мы вцепились в свободный конец каната и рванули. Кантемиру тут же обожгло шею, и он как гаркнул на нас, что мы сразу отстали. Кантемир сам, в одиночку дотянул гиппопотамиху до нашего балкона, до финиша, так сказать. Когда ее лицо показалось из-за перил, мы подскочили к ней, вцепились в нее и общими усилиями кувыркнули ее через поручень. Она рухнула на пол, как подстреленная слониха. Клянусь, так грохнулась, что я испугался и подумал, что вот сейчас балкон рухнет, и мы толпой сорвемся вниз. Слава богу, не сорвались. Глянули на нее — а она-то спеклась. В том смысле, что в прелюдии, которую так любят бабы, она уже не нуждалась. Прикиньте, какой калейдоскоп эмоций она пережила, пока дотянула до финиша. Она была готова к сексу, как ни одна баба никогда ни была готова. Мы затащили ее в комнату, повалили на маты, и тогда каждый из нас впервые испытал, что такое секс. И оказалось, что ничего особенного. Я лично был разочарован. Только это на самом деле было не важно. Главное, что в тот день мы, наконец, расстались с девственностью. Каждый из нас сделал по подходу, а когда очередь дошла до Кантемира (он был последним, потому что ему надо было отдышаться), Кантемир сказал нам, чтобы мы держали свечи. «А где их взять?» — спросили мы. Свечей и вправду не было. «Доставайте зажигалки», — решил Кантемир. Но никто из нас не курил. «У тебя есть?» — спросил он у слонихи. Она вытащила из сумки зажигалку. Кантемир вырвал у нее сумку, порылся в ней и достал флакон духов. Полил из флакона на две ее косички и поджег. Когда он трахал, мы держали горящие косички. Вышло, типа, канделябра — посередине ее голова, а по бокам косы типа свечек. Девка визжала, как наверно никто не визжал во время секса. Вышло эффектно. Про такое светооформление я ни разу не слышал. Такое могло прийти в голову только Кантемиру. Кстати, именно после этого ему дали прозвище «Огнепоклонник». Он умел подойти к делу с огоньком, как никто другой. Так выпьем за его здоровье.
Как Кантемир женился (записано со слов любовницы)
В день свадьбы он вырядился, как клоун. Отпадное было зрелище. Представь себе бегемота в смокинге и в жабо, и тебе тоже захочется смеяться. Я, к примеру, хохотала до упада, никак не могла остановиться. В общем, молодожен из пупса получился смехотворный… Но гулянка удалась.
Без балды, все было устроено на высшем уровне. Пупсик снял самый шикарный ресторан. Пригласил всех авторитетов Сочи с женами и любовницами. Прилетели гости даже из Москвы и Питера. И все прикинутые, навороченные. Глядя на них можно было подумать, что это слет педиков и лесбиянок, где-то в Куршевиле. У мужиков на каждом пальце болт с брюликом, а на шее цепь с полкило. А бабы сверкали, будто новогодние елки. Если бы снять с них все шмотье и сдать в бутики, то на «бентли» бы верняк хватило.
Но круче всех я была. Пупсик мне до свадьбы пресс такой не хилый дал. «Купи себе все, что хочешь, — сказал, — деньги не считай». Я и не считала, и одного пресса не хватило. Зато упаковалась так, что до сих пор мурашки по коже, вау! Это был конкретный шопинг! Когда я зарисовалась в новом прикиде, мужичье от меня глаз оторвать не могло, а бабы так, просто, сходили с ума от зависти. Да, я была просто секси! Я… как это… завораживала. Что там говорить, я сама от себя шизела. В общем, пупсик расщедрился в тот день.
Пупс, вообще, не такой плохой, каким кажется, и не такой уж страшный, если разобраться. Если ему на мозги не капать, и не доставать по мелочам, то он вполне нормальный, не хуже и даже лучше других. К тому же он смешной, прикольный, когда в ударе. В тот день как взялся смешить меня с утра, так и понеслось до поздней ночи. И я ему признательна за это. Этот день оказался самым лучшим в моей жизни. Я была в центре внимания, я производила фурор… Что ты на меня так смотришь? Это я сейчас такая, а раньше… Вот, если бы ты видел меня прежде, хотя бы пару лет назад, то не стал бы ухмыляться. Раньше я была просто секси! Иначе, как бы Кантемир на меня запал… В общем, хватит щериться, слушай дальше. Проводы холостятские, одним словом, пупсик устроил шикарные. Музыкантов их целую толпу согнал. Я еще удивилась тогда, зачем ему эта хренова куча? Но я наезжать не стала. Подумала, захотелось мужику целиком филармонию, и хрен с ним. Тем более что прикольно, в общем, получилось. Самыми прикольными были скрипачи и виолончелистка. Квартет такой — трое мужиков во фраках и баба в длиннющем черном платье. Пупс их в холле поместил. Мужиков полукругом поставил, а посередине бабу посадил на стул. Ноги у неё в раскоряк, а между ног ее большая скрипка. Прикинь, выходишь после шумихи в холл, чтобы покурить, а там эти чудики наяривают, и так тихо-тихо. И тоскливо так, что, просто, балдеешь. И еще слышно, как листы с нотами шелестят, когда их музыканты переворачивают. Приколистика, короче. Классика, сам понимаешь, не халам-балам.
Черкесы его тоже смешными оказались. Все в мохнатых папахах, в длиннющих халатах с газырями и с кинжалами на пузе. Одни дудели, другие колотили в бубны, и все скакали, как ошпаренные, и визжали, словно им подрезали яйца. Джигиты, короче, не хухры-мухры.
Потом был один ансамбль, в стиле восьмидесятых. Эти пели про Полесье, про Вологду, про дельтаплан, в общем, про такую хренотень, что если не напиться сразу, то лучше повеситься. Дискотека восьмидесятых, одним словом. Это тебе не Тимати и не Стас Пьеха.
Хотя был и Тимати, и еще куча всяких мелких звезд. Прямо скажу, я эту шантрапу на дух не переношу. Ни голоса у них, ни слуха… ни кожи, ни рожи. И шланги все, равных нет! Тимати, к примеру, спел какую-то свою лабуду и сразу слинял. И правильно сделал, а то я этого татуированного потца больше других не перевариваю.
Еще выступали файеры или, как их там, в общем, те, кто играет с огнем. Крутили огненные обручи, выдували пламя изо рта, запускали фейерверки. Зрелище, в общем, было яркое. Всем понравилось. Но больше всех, конечно, пупсу моему. Он натурально обалдел. Он же Огнепоклонник.
А потом он уехал в ЗАГС, отметиться у себя на свадьбе. А вечером попоздней назад вернулся, и мы рванули в Абхазию. Это я такое условие поставила, сказала, если хочешь свадьбу без истерик, дай мне что-нибудь. Он мне ответил: проси чего хочешь. А я ему: я бои без правил никогда не видела. Пупс только ухмыльнулся, если тебя кто обидел, говорит, укажи на него пальцем. Я в ответ: таких идиотов в Сочи нет, а вот если рвануть куда-нибудь подальше, где Огнепоклонника никто не знает… Вот мы и рванули в Абхазию. И не в Гагры, не в Пицунду. Рванули за Гудауту, куда-то в горы. Забрались в самый глухой аул и в тамошней забегаловке нашли то, что искали.
На Кантемира и его телохов никто не обратил внимание, а на меня, как глянули, так сразу обо всем забыли. Нет, правда, я тогда отпадно выглядела.
Абхазы в отличие от Кантемировских дружков церемонии разводить не стали. Взяли меня в круг, выложили бабки на стойку и предложили сделать такое, о чем я не стану говорить. У пупса от их прямоты челюсть отвисла. В себя он пришел только тогда, когда самый шустрый из них залез ко мне под юбку. Пупсик выхватил пушку у телоха и без лишних слов прострелил шустрому абхазу тыкву. Вот тогда-то и началось. Абхазы похватали свои пушки (у них в Абхазии что-то типа военной демократии, все поголовно при оружии), пупсовские телохи выставили свои стволы, и начался реальный трам-тара-рам. Пошла такая трескотня, что лучше было бы сразу сдохнуть.
Меня повалили на пол. Один из телохов придавил меня сверху пузом, да так, что я, как ни старалась, больше ничего не смогла увидеть. Только треск и грохот закладывал мне уши.
А потом вдруг, разом все умолкло. Телох поднялся, поставил меня на ноги, и я увидела, что абхазы все до единого в ящик сыграли. Трупов была куча, а забегаловку не узнать, в хлам ее разворотили!
Напоследок облили то место бензином и подожгли. Сразу ярко стало. Так ярко, что даже горы нарисовались в темноте. Нет, такого шоу я еще не видела. Обалдела. Глаз не могла оторвать. Хотя по сути это было не шоу, а кремация — запахло противно горелым.
Мы рванули оттуда, сломя голову. А я все смотрела, смотрела в заднее стекло. И обалдевала. Да, надо признать, умеет Огнепоклонник устраивать поджоги.
В начале славных дел (записано со слов бывшего заложника)
В плен я попал в мае. А освободился только в декабре. Все это время меня держали в спортзале. И били. Днем и ночью, изо дня в день, без остановки. Когда не били меня, били других, но на моих глазах, а, значит, били по самому больному месту — по кончикам нервов, на краешке которых трепетала запуганная, униженная совесть. Били в назидание, били просто так, отрабатывая приемы, били для удовольствия, не отрабатывая ничего. Я знаком был с жестокостью с детства, но хлебнул ее через край только там. Я представлял, что такое жестокость на Кавказе, но всю ее бесноватую прыть ощутил только в том спортзале.
Мой дед в Великую Отечественную побывал в немецком плену и потом много рассказывал о концлагерях. Рассказывал о том, как его два раза сажали в карцер, после двух попыток к бегству. Рассказывал о том, как он работал на разгрузке вагонов, и о том, как их плохо кормили. О том, как работалось у литовцев на хуторах, о танцах и романе с некой Ингрет. О том, как он откармливался литовским салом, прежде чем решиться на третий побег. О том, как литовская полиция выловила его в лесу, когда он пробирался к фронту, а немцы переправили его в Европу для работы на угольном карьере. Как он сдружился с нарядчиком — штатским немцем, — и тот, бывало, угощал его шнапсом и картошкой. Как один пьяный гауптман заехал ему сапогом по мягкому месту, когда дед попробовал симулировать геморрой. О том, как его перевели в Германию, и как он там работал на сахарном заводе. О том, как они торговали сахаром, или выменивали на шнапс, картофель и мясо. О дискриминации русских, которых содержали в бараках в закрытой зоне, в то время как другим военнопленным — полякам, французам и англичанам позволялось жить в городе на съемных квартирах, и никто не охранял их. О последней его военной любви: о полячке, которая работала на том же заводе и вечерами частенько пробиралась к нему, и как сладко им спалось на мешках с сахаром.
Его рассказы совсем не походили на книги о концлагерях, но деду я верил больше. И вот теперь, вспоминая его рассказы о плене, я задаюсь вопросом: если методы немцев принято считать жестокими и бесчеловечными, а их самих именовать фашистами, то тогда как называть те зверства, которые я испытал в спортзале, и как называть моих истязателей — моих земляков?
Мои земляки не фашисты. Они нормальные люди. Во всяком случае, по меркам Кавказа. Фашизм — европейское понятие. Этим словом европейцы определяют патологическое отклонение от принципов изобретенного ими же гуманизма. А на Кавказе гуманизм никто не изобретал. На Кавказе норма жизни есть жестокость. Здесь действует первобытный закон: у кого зубы острее, тот и вправе. Зубастые волки терзают беззубое стадо, а псы, у которых клыки короче охраняют стадо от волков.
Так что, сравнивая фашистов и моих нормальных земляков, я прихожу к выводу: уж лучше бы я три года провел в немецком плену, чем три месяца у Кантемира в спортзале.
Но мне жаловаться не к лицу. Я родился на Кавказе и впитал его законы с молоком матери. Я жил по законам гор и знал те привилегии, которые они дают и то, как жестоко по ним карают. Разница определяется тем, кто ты. Я мнил, что я в волчьей стае. Что я терзаю стадо. И я терзал, пока фартило. Я был вполне доволен нашим кровожадным законом. Но вот я встал на чужую охотничью тропу, и оказалось, что волк я никакой: зубы не те. Псом я оказался против истинных волков. Самое большее, на что я годился — стадо охранять. А вот кто был истинным волком, так это Кантемир. Матерый волк. На его охотничьей тропе мы и столкнулись.
Каким образом я столкнулся с Кантемиром, и чего ради меня занесло в Кабарду? Объясню… У меня был друг, старинный друг — я знал его еще тогда, когда я жил в Пицунде. А он жил и сейчас живет в Тбилиси, и зовут его Вахтанг. Он вор. Правда говорят, что в Тбилиси воров, как собак нерезаных, и каждый второй из них в законе. Но Вахтанг, на самом деле, был авторитетный вор, и коронован был законно. В то время, о котором я хочу рассказать, он занимался тем, что гнал в Россию грузинское вино — подделку под наши известные марки. Заниматься этим начал еще в те годы, когда Грузию по старой советской памяти уважали и любили в России. Поначалу дела у Вахтанга шли прекрасно, но потом все испортилось. Россияне закрыли границу и запретили ввоз грузинских вин. Обвинили наших в том, что они производят фальсификат. А кто спорит? Вахтанг и его товарищи, к которым позже примкнул и я, гнали примитивную бурду. Я, например, такую гадость даже под дулом пистолета пить не стану. Но с другой стороны, зачем в России хорошие вина? Кто отличит Саперави от Хванчкары, к примеру? Там никто ничего не смыслит в винах. Предложи русскому по-настоящему благородный напиток, так он выплюнет и скажет «кислятина». А подсунь «компот», лишь бы слаще был, проглотит за милую душу. Так что, Вахтанг, предлагал россиянам то, чего они сами желали. Но его не поняли.
В общем, когда началась эта таможенная история с нашими винами, Вахтанг позвонил ко мне в Сочи (я перебрался сюда еще в первую абхазскую) и попросил подыскать место для винного завода в Кабарде или в Черкесии. Почему меня? Да потому что я долгие годы прожил в Нальчике, и у меня там остались связи. И Вахтанг об этом знал. А почему в Кабарде и Черкесии? Да потому что эти две республики освобождены от акцизного налога. Представь, водка в Кабарде в магазинах стоит сорок рублей, а с рук ее можно купить за двадцать.
Замысел у Вахтанга был такой. Мы гоним вино, черкесы прикрывают нас, русские пьют, и все довольны. Но мы просчитались. Просчитались главным образом с черкесами. Не учли их аппетит. Только к нам потекли серьезные деньги, как наши черкесские друзья потребовали поднять их долю. Мы уступили и тем самым совершили вторую ошибку, потому что уступка на Кавказе, особенно на Северном, означает слабость. Черкесы стали требовать с нас половину. Мы согласились и на это, решив, что и половина от прибыли тоже неплохо. А дальше — больше. И тогда мы решили обратиться к ваххабитам.
Тогда их в Кабарде развелось черти сколько, а в горах они целыми аулами селились. Эти ваххабиты поначалу сидели тихо: читали Коран, молились и отращивали бороды. Потом, отпустив бороды до нужной длины, стали создавать в горах тренировочные центры и обучаться там рукопашному бою и стрельбе из автомата. Еще позже спустились в долину и начали учить народ праведной жизни и устанавливать у них свои порядки. И тогда люди почувствовали, что появилась новая сила. Раньше дела в Кабарде вершили воры и спортсмены, теперь появились ваххобы.
И вот к этим самым ваххобам мы с Вахтангом и обратились. Решили привлечь эту новую силу на свою сторону. Те сразу уловили, чего мы от них ждем. Они навестили спортсменов в их спортзале и потребовали, чтобы те забыли о нас, сказали, что мы с Вахтангом переходим под их крышу. Ваххобов было там только трое, а спортсменов приличная толпа. Но у ваххобов было оружие, и, главное, их боялись. Так что пахан спортсменов, как-то сразу пошел на попятную. Попробовал порядиться, выторговать себе отступные, или хотя бы мину приличную сохранить. Но ваххобы слушать не стали. Пальнули из автоматов в потолок и сказали: «Вы воюете за деньги. А мы за веру. Нам все или ничего. Мы смерти не боимся». И вот тут, когда все молча смотрели, как штукатурка сыплется с потолка, заговорил Кантемир. «А деньги вам зачем?» Кантемир тогда был еще в молодых, и голос его почти ничего не значил, и ему не следовало встревать в разговор без приглашенья. Но он встрял. «Ведь деньги по вашему — зло, — сказал он, — а вы ведете праведную жизнь. Ведь праведную?» — «Деньги нужны мусульманину, — ответили ему, — для благих начинаний. Но, вообще, это не твоего ума дело. Так что закрой пасть и не тявкай!» «Знаю я ваши благие начинания, — не унимался Кантемир. — На девок хотите потратиться? Зря. Нормальные девки с вами бородатыми и за миллион не лягут, а дешевок деньгами баловать не стоит. Так что лучше оставить все по-старому — возвращайтесь к козам и ослицам». После таких слов ваххобы, конечно, бросились в драку. Но драка закончилась, не успев начаться. Кантемир уложил трех ваххобов ровно за три секунды. А вечером того же дня с дружками наведался к бородатым в горы. Застал ваххобов в дыму, обкуренными в хлам, и устроил им жестокий облом. Избил до полусмерти, покрушил все, высадил двери и окна, и напоследок поотрезал нашакурам бороды.
Когда пахан спортсменов узнал об этом, он сильно испугался. Позвонил к ваххобам и сказал, что к Кантемировским выходкам не имеет никакого отношения. В подтверждение своих слов выгнал Кантемира из спортзала. Последнее означало то, что Кантемир отныне сам по себе и лишен поддержки. И тогда Кантемир принялся сколачивать собственную банду: собрал вокруг себя самых отмороженных беспредельщиков. Ничем хорошим это кончиться могло.
И вот из Дагестана прибыли главари ваххабитов. На стрелке они сделали Кантемиру совершенно неожиданное предложение: они попросили (вот именно, попросили, а не потребовали) принести извинения, указав на то, что в священные дни рамазана подобное предписывается всем правоверным мусульманам. Но что еще удивительней, Кантемир отказался удовлетворить эту, в общем-то, пустячную просьбу. Он сказал: «Мне не зазорно признать вину, когда я совершил ошибку. Я мусульманин по рождению и чту законы ислама. Но дело в том, что мне не в чем каяться. Ваши братья получили по заслугам. Для вас могу повторить отдельно: все ваххобы козотрахали, занимайтесь козами и не приставайте к людям. Короче, уматывайте отсюда побыстрее». — «Ты пожалеешь о сказанном, — пригрозили главари ваххабитов. — Длинный язык простителен бабам, а мужчинам он укорачивает жизнь». Сказали и уехали. Видимо, за тем, чтобы собрать силы. Только им это не удалось. Кантемир пустился за ними вдогонку и настиг на перевале. Ваххобов поколотили, бесчувственные тела затолкали в автомобили, последние облили бензином, подожгли и спустили с горы. А место то, надо заметить, было хорошо известно в Кабарде, можно сказать, легендарное то было место. Здесь когда-то давным-давно, еще до русских черкесы держали оборону против турок. Когда их силы иссякли, они пустили в бой последний свой резерв, последнее, что у них имелось — стада своих баранов. Они облили их черным «абескунским маслом» и подожгли. Стадо обезумевших животных пустилось по склону вниз. Вид живьем сгорающих баранов, которые огненной лавиной скатывались с горы, стук их копыт и истошное блеянье, привели турок сначала в смятение, а потом и в ужас. Они отступили от перевала и покинули Кавказ, и надолго забыли сюда дорогу. Именно тогда турки дали черкесам их гордое имя — «отсекающие путь». А перевал был назван «Огненным спуском».
И вот через много веков на том же месте Кантемир повторил подвиг своих предков. Спуск, как и был, так и остался «Огненным», но Кантемир превратился в совершенно иную фигуру. Люди дали ему прозвище «Огнепоклонник». Те, кто осуждал его накануне, или безучастно наблюдали за ним, после того случая поспешили к нему с заверениями в преданности. Группа его разрослась. Он занял спортзал, из которого не так давно был изгнан. А его прежний пахан куда-то исчез. Возможно не без помощи Огнепоклонника. Но это уже никого не интересовало. А потом Кантемир взялся за нас.
У нас было время, чтобы спастись. Мы могли бросить все и вернуться домой. Но мы остались. Мы решили, что раз не получилось договориться с прежним паханом, может получится договориться с новым. Говорю же, не волки мы оказались, а псы. И даже хуже псов, потому что не смогли уберечь свое стадо.
На что еще мы тогда рассчитывали? Возможно, на то, что статус «вора в законе», которым обладал Вахтанг спасет нас от расправы. Но мы просчитались. Многие тогда сказали, что Кантемир перегибает палку, действует «не по поняткам». Но я-то теперь знаю, что Кантемир тогда действовал по тонкому расчету. Он просчитал каждый свой шаг. Он четко представлял кому выгодно ослабление ваххобов, кому он сыграет на руку, изгнав «бородатых» из Кабарды. И не ошибся в своих расчетах. Как только он устроил огненную феерию на перевале, к нему сразу прилетел на вертолете генерал в тельняшке — Малышев, он тогда десантниками на Кавказе командовал, — примчался, значит, и говорит: «Если и дальше будешь бородатых стричь, можешь рассчитывать на мою поддержку». А сразу за генералом заявились люди из ФСБ. И напрямую, без недомолвок выложили: если он очистит от «вовчиков» свой район, то они устранят его конкурентов. И чем обширней будет территория свободная от вовчиков, тем шире будет сфера влияния Кантемира. Ему может принадлежать и весь Кавказ, если он весь Кавказ очистит от ваххабитов. В общем, под гэбистской крышей оказался Кантемир. Вору это западло, но Кантемир-то был спортсменом. В конце концов, к Кантемиру с заверениями в дружбе приехал сам дед Хасан. Вот тогда-то Кантемир и вправду оборзел.
Я просидел в его спортзале три месяца и насмотрелся всякого. Никогда я так не мучился. Били меня, не давали спать, морили голодом, издевались по-всякому. Я возненавидел Кавказ за те зверства, которые пережил у Кантемира в спортзале. Я проникся нежными чувствами, почти любовью к русским людям, потому что весь тот черный произвол, который я испытывал, как «черный» появляясь в России, все наскоки скинхедов и ночные драки с качками в клубах были детскими забавами по сравнению с пытками у Кантемира.
Но мне было еще не так плохо. Муки моего друга Вахтанга были куда страшнее. Когда его прекращали пытать кантемировские садисты, он сам принимался за пытки. Мне жутко и больно было смотреть на это. Вахтанг изводил себя раскаянием до полного изнеможения. Нет, не о деньгах он жалел, не о загубленном деле, не о потерянной свободе. Он жестоко страдал из-за утраты того, что единственно дорого было ему.
Да, вору, каким был Вахтанг, нельзя иметь привязанности. У Вахтанга не было семьи, не было детей. Он жил холостяком. Но у него была сестра. Васо ее звали. Ею-то он и дорожил так сильно. Именно из-за нее он ввязался в эту черкесскую историю. Хотел заработать побольше денег, чтобы обеспечить ее будущее. Он мечтал отправить ее на учебу в Лондон, или на худой конец в Америку. Он мечтал, что, отучившись, она останется в Европе. Он рассчитывал, что там, в Лондоне она научится жить так, как живут европейцы, отучившись от наших кавказских законов. Что дети, которые у нее пойдут от рождения не будут знать жестокости. Именно ради всего этого он и сунулся в Кабарду. Сунулся в Кабарду и угодил в спортзал к Огнепоклоннику. И все бы ничего, если бы однажды не заявилась Васо. Я-то надеялся, что она выкуп привезла. Да только зря надеялся. «Что ты хочешь за брата?» — спросила Васо у Кантемира. А он вопросом на вопрос, как жид: «Ты о деньгах?» — «Нет», — ответила она. «Соображаешь, денег у меня хватает. Что предлагаешь?» — «Ты знаешь, о чем я». И они сговорились. Нас с Вахтангом через пару дней отпустили, а Васо осталась у Кантемира.
Вот так все вышло. Хотел Вахтанг отправить сестру в Европу, а затянул ее в самый ад. Тбилиси по сравнению с Кабардой не то что Лондон, а рай земной. Жила бы себе спокойно дома, закончила бы, как мы с Вахтангом, наш универ, вышла бы замуж за какого-никакого грузина или армянина. Родила бы детей, племянников Вахтангу. А что вышло на деле: она живет с ублюдком из ублюдков, которого зовут Огнепоклонник.
Вот такие вот муки обрушились на моего друга Вахтанга. Кстати, если кто-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь прикончит Кантемира, то пусть он впишет в эпитафию пару строк и от Вахтанга: «Я душу его имел. Я маму его имел. Я имел всю его родню!»
Со слов Деда Хасана
Грант, Робсон, Вартан-жулик — все они ходят под Кантемиром. И даже Слепой Ингуш Назранский и Бешенный Мага из Хасавюрта по кличке Робин Гуд на сходняках держат его за основного. Так что у меня нет сомнений, кому оставить свое место, когда подойдет время отходить на покой. Огнепоклонник присмотрит за Кавказом лучше, чем кто-нибудь другой. В этом плане я спокоен. Хотя он не вор. Но бог с ним.
Со слов охранника ночного клуба
Контингент у нас здесь неспокойный, что ни ночь, то драка, так что я всякого повидал. Но как дерется Огнепоклонник — это сказка. Хук с лева у него смертельный, апперкот — зубодробилка, а прямой в челюсть конкретно выключает. Я бы с ним махаться не решился. Монстр.
Со слов спившегося учителя гимназии
Огнепоклонник, безусловно, зверь, персонаж фильма ужасов. А еще точнее — персонифицированный ужас. Тот, о ком слагают страшилки. Знаете ли, есть такая особенность примитивного мировосприятия: все негативное, вызывающее страх и тревогу, помещать в конкретный образ, так сказать, создавать профиль эмоций. Рассказы об Огнепоклоннике напоминают мне предания с островов Меланезии, кровавые легенды каннибалов о каннибалах. Огнепоклонник наш кавказский каннибал, а сам Кавказ — наши Фиджи и Танга.
Омон Хатамов. Литературные наброски к сценарию без названия
Он вел своего коня по узкой горной тропе.
В теснине сжимало грудь, так что больно было вздохнуть, и он задыхался.
Когда вышел к реке в том месте, где та давала крутой изгиб и, вспениваясь белыми гребешками волн, возвышала голос, к нему навстречу вывели толпу людей. Черных, чумазых оборванцев, глазастых, как таджики. Они испуганно глядели на усталого воина и сиротливо жались друг к другу.
Сутки воин провел в седле, натер седалище, и боль в покалеченном колене не давала покоя. Очень хотелось спуститься на землю и размять затекшие члены. Но он не мог позволить себе такое, пока на него таращились выродки, поедающие себе подобных. Дать им узреть свою колченогую стать? Разве он мог допустить такое?
— Кто вы и откуда? — крикнул воин, оставаясь в седле.
Самый старший в толпе оборванцев ответил:
— Мы проклятье Господа, — этот горлопан был, пожалуй, древнее библейских старцев. — Мы из Мазандерана.
— Как вы могли решиться на такое злодеяние?
Старик пожаловался:
— Все от голода, господин. Мы умирали. Нам нечем было кормиться.
Воин воззвал к их совести:
— Но вы же мусульмане!
На что старик сказал:
— Нет, мы верим в Ахура Мазду.
— Подлые еретики! Язычники…
Воин готов был разразиться гневом. Но как можно разразиться тем, чего нет. Было отвращение, была усталость, и сил хватило только на то, чтобы выразить брезгливость.
— Как земля вас носит? И как Господь выносит ваш позор?
Они с минуту глядели друг на друга: один с усталостью и тоской во взоре, другие со страхом и надеждой. «Милосердный боже, — воззвал воин к силе небесной, — до чего же омерзительны они в своей подлости. Никогда не видел такого отвратительного ужаса в глазах». Но самым отвратительным было то, что они выглядели сытыми! У них были сытые, упитанные лица! И бока, проглядывающие в прорехах их лохмотьев, лоснились от жира.
— Вы хуже шакалов! — простонал в бессильной злобе воин. — Те питаются падалью, а вы — мясом себе подобных! Я не стану пачкать вашей кровью чистые клинки своих мечей.
Он хотел сказать им что-то еще… что-то, чтобы вызвать раскаяние в их душах. Но он не вытерпел и только крикнул:
— Сжечь!
Его нукеры только и ждали команды. Как цепные псы сорвались с места и набросились на несчастных оборванцев.
Когда из толпы вырвали передних, взору усталого воина предстала молодая женщина, нет, не женщина, совсем еще девчонка. Она была такая же грязная и в таких же отрепьях, как все. И такая же сытая! Но она выделялась из этой толпы неожиданной статью и неуместным в ее состоянии совершенством.
Девчонка была высокая, выше всех своих сородичей. Ее отличала стать. И у нее были длинные волосы с каштановым отливом. Тонкими струями растекаясь по плечам, они покрывалом ложились на груди, пряча от взора темные соски, проглядывающие в прорехах. В этих же прорехах отсвечивал золотом пушок на ее золотистой коже.
Что могло воина, испытанного в вере, подкупить в этой подлой еретичке неизвестно. Да только он взмахнул рукой и повелел вдруг осипшим голосом:
— Молодуху оставить!
Нукеры отпустили смазливую оборванку, только вырвав ее из толпы. Воин посмотрел в ее лицо, и ему показалось, что губы девчонки скривились. То ли она усмехалась, то ли со страха перекосило рожу. Он заглянул в ее глаза и обнаружил в них звериный ужас, такой невыразимый, какой не видел в глазах ни у одного из своих поверженных врагов. В ее распахнутых глазах, в двух бездонных зеленых глубинах застыл первородный страх.
— Ее отмыть! — распорядился воин и развернул коня. — А остальных в пекло!
Он спустился к реке совершить омовение, а его нукеры наверху продолжили начатое. Вопли ужаса, огласившие ущелье, не в силах был заглушить даже рокот горного потока.
Когда заполыхал костер, и потянуло дымом, воин обернулся, глянул наверх и увидел, как воины потянули из толпы мальчишку. Тот истошно визжал, вцепившись в девчонку, а она испуганно отмахивалась от него. И когда блеснул клинок, смазливая девка испугалась еще больше, отпихнула от себя мальчишку и шарахнулась в сторону. Рассекая воздух, клинок просвистел перед ее лицом и отточенным добела лезвием полоснул по запястью визгливого мальчишки. Отсеченная пятерня клешней повисла на подоле ее платье, а из обрубка фонтаном брызнула кровь. Девчонка вскрикнула и рухнула без чувств.
* * *
Она родилась в пещере и не знала другого крова, чем каменный свод. Она с малолетства кормилась человеческой плотью и не видела иной пищи. Мясо добывали ее старшие братья, дядья и деды. Но кто такие были люди, чьим мясом они питались? Люди, что звери, так учили старшие. От них таилась ее семья под каменным сводом пещеры, вход в которую был сокрыт от посторонних глаз стремниной горного потока. Она молилась Ахура Мазде, чтоб охота была удачной, и гнев людской обходил стороной. А кому молились люди, коль скоро бог отказывался беречь их жизни? Выходит, дьяволу.
Ее звали Васико. Это имя досталось ей от бабки, которую крестили в храме распятого бога, когда ее предков заставили молиться на крест. Она не знала о мире ничего другого, кроме того, что окружало с детства: семья, пещера, охота и враги, коих тьма. И твердо знала то, что надо беречься, что надо быть хитрой, ловкой и сильной, чтобы не попасться врагу.
В то роковое утро ее брат Вахтанг, которого прочили ей в мужья, ловкий, сильный и быстрый, как снежный барс, примчавшись с дозора, сообщил возбужденным голосом:
— Они идут. Их семеро. Я их увидел на дне ущелья. Только ни доспехами, ни оружием они не походят на ордынцев.
— А кто сказал, что они должны быть похожи на ордынцев?
Этот вопрос задал Бану. Он был самым старшим из всех и разговаривал с родней, так словно перед ним стояли несмышленые дети. Он остался последним из тех первых, кто поселился в этой пещере.
— Вам было сказано, что те, кого мы ждем, походят на ордынцев нравом, что они молятся одному богу, что у них один язык и общий предок. Перестань сопеть, как загнанный горожанин и лучше скажи, сколько у каждого лошадей в заводе?
— Три, — сообщил Вахтанг, уняв насколько мог, возбуждение.
— С этого бы и начал, — попрекнул старик. — Это они. Никто не может позволить себе столько коней, кроме воинов его блистательного войска.
Они услышали о страшном пришельце неделю назад. А еще за неделю до того пошла большая добыча. Дорогу, которую прежде нельзя было назвать оживленной, запрудили люди. Они уходили из города, и никто не возвращался назад. Сначала стайками: утром стайка, в полдень стайка, вечером еще. А потом люди пошли косяком: в тесноте, наступая на пятки друг другу, повозка за повозкой, наскакивая копытами лошадей на запятки. И пыль поднялась черным облаком, повисла над дорогой, и не опускалась несколько дней.
Добыча пошла такая обильная, что они перестали делать припасы. Утром и вечером, каждый день у них было свежее мясо. К исходу недели они стали вырывать добычу, почти не таясь. Накидывали аркан на того, кто заходил на обочину помочиться или за иной надобностью, и утягивали беднягу в кусты. И никто из людей не думал спасать несчастных товарищей, никто не пускался в погоню. Все спешили покинуть город, умчаться прочь, словно мор захватил его, словно дикий зверь бежит по следу. А на девятый день исхода в руки ее дядьям и братьям попался тот, кто сказал:
— Вы все умрете!
Над ним был занесен нож. В очаге стараниями женщин полыхал огонь. А он грозился.
— Вы умрете страшной смертью! Она будет страшнее моей! Сюда идет хромой воин, тот, кто сделан из стали. Имя его Асак Темир! И с ним идет его несметное войско! Нет силы против его стремительной конницы. От его мечей и копий нет спасения, а стальные доспехи его воинов непробиваемы. В жестокости его войску нет равных в мире, его нукеры повадками напоминают ордынцев и говорят на их собачьем языке, но превосходят их своею мощью. Бог войны Сульде скачет в седле заводного коня хромого Тимура! Так что горе вам нечестивцам, полыхать вам в аду! Хозяин преисподней пришел по ваши души!
Это было семь дней назад. После этого дорога опустела. Они остались без добычи. И уже минуло трое суток, как они доели последние припасы.
— Что будем делать, старый Бану? — спросил Самхерт, ее дядя. — Может, устроить засаду на этих семерых, кто бы они ни были? Если так, то мы, пожалуй, выйдем, пока они не скрылись.
Бану промолчал.
— Отец, — сказал дядя Дариуш, — если мы сегодня не добудем мяса, то многие из нас заболеют. У самых маленьких уже вздулись животы. Что скажешь?
Бану ничего не сказал.
— Думай быстрее, старик, — потребовала Нилюфар — старшая из женщин. — А если у тебя недостает ума или не осталось воли, то передай старшинство другому. Мужчины справятся и без тебя!
Тут старый Бану ожил.
— Скудоумные овцы, у вас нет ни крупицы здравого смысла! — воскликнул он. — Вы собираетесь ставить засаду, а не ведаете того, что сами угодите в когти к зверю! Вы собираетесь добыть себе и детям пропитание, а не знаете того, что это вам уготовано стать добычей! И вы еще надеетесь, что я — наделенный опытом! — передам старшинство кому-то из вас — несведущим в жизни!
Вахтанг, самый молодой из мужчин, снова пришел в возбуждение и сказал нетерпеливо:
— Однако, Бану! Их только семеро, а нас намного больше! У них кони, мечи, стрелы и копья, но у нас арканы и камни! Мы будем невидимы для них, а они будут у нас, как на ладони. Мы перебьем их без усилий! Семь людей и еще их кони — этого нам хватит на несколько дней!
— Несчастные! — простонал Бану. — Вас Ормузд лишил рассудка! Вы разучились думать! Это не те ленивые горожане, которых вы выдергивали из кустов. Это не черкесы, бегущие от собственной тени. Не ордынцы, которых вам иногда удавалось перехитрить. Это тот от кого содрогнулся мир! Вы разве не слышали? Он сделан из стали! Его воинов не разрубают мечи! Нам нужна нежная плоть, а не железо! Вы поняли? Нам надо запастись терпением, раз у нас в запасе не осталось пищи. Враг уйдет, и, может быть, кто-нибудь из нас сумеет выжить. Ослушаетесь — погибнем все!
Ослушались. Мужчины, все от мала до велика, вышли на охоту. Остался, лишь, старый Бану. Женщины, ободренные решимостью мужчин, принялись готовить угли в предвкушении трапезы.
Первым вернулся дядя Самхерт. Ободранный и весь в крови.
— Где остальные? — спросила Нилюфар.
— Пропали! Все пропали! — дядя Самхерт разрыдался. — Ахура Мазда покарал нас за наши грехи! Он наслал на нас демонов! Это не люди, они хитрее и коварней людей. В то время, как семеро шли у нас на виду, остальные таясь пробирались по скалам. Мы ставили засаду, и сами угодили в западню! Мы погибли! Мы все погибли!
Следующим в пещеру пробрался дядя Дариуш. За ним Вахтанг и еще трое охотников.
Дариуш пихнул Самхерта.
— Молчи! Железные люди рыщут по скалам. Твои вопли могут услышать.
Старый Бану подкрался к входу и выглянул наружу.
— Теперь уже поздно, — сказал старый Бану молодым. — Железные люди скоро будут здесь.
— С чего ты взял? — удивился Вахтанг. — Никто не знает о тайне пещеры. Его вход сокрыт стремниной.
Бану указал на бурлящий поток.
— Кушак, который ты обронил, зацепился за камень. Его рукав укажет врагу дорогу.
Старый Бану оказался прав. Железные воины заметили кушак и отыскали по его подсказке вход в пещеру.
Старый Бану был тысячу раз прав. Он был в тысячу раз разумней безмозглых дядьев и братьев. Все случилось, как он предсказал — все погибли. Вся семья. Все кроме нее — нежной, юной Васико, чье имя досталось ей от христолюбивых предков.
И вот она в огромном шатре хромого воина сделанного из стали. Сидит на подстилке и ждет повелителя.
Подстилка под ней теплая и мягкая, ворсистая. Застилает весь пол шатра. В глубине за прозрачным пологом ложе, составленное из перин и тюфяков. Рядом доска на ножках в восемь граней, украшенная резьбой и костью. А на доске в золотых и серебряных чашах душистые фрукты и сласти, каких она никогда не ела. Она сорвала с тугой кисти продолговатую ягоду янтарного цвета, сквозь тонкую кожицу которой просвечивались маленькие зерна. Поднесла ко рту, принюхалась. Пахло вкусно, заманчиво. Надкусила, и в нёбо брызнула сладкая струя. Язык обволокло терпким, колючим соком, и от этого она испытала пьянящее блаженство. «Пища людей, — подумала она, — сладкая и хмельная. Оттого и мясо у них сладкое на вкус».
Она потянулась за второй ягодой, но не успела сорвать. За спиной раздался голос:
— Это виноград.
Васико обернулась. У порога стоял хромец.
— Его привезли из Азербайджана. Понравилось?
Васико не поняла его слов. Тогда воин пояснил:
— Виноград Азербайджана хорош для вина, но не годится, чтобы употреблять его в пищу. Но что поделаешь, здесь другого нет.
Васико не отрывала от него глаз. Не понимая свистящий и рубящий язык ордынцев, на котором изъяснялся воин, она пыталась по выражению его лица и жестам понять, что он от нее хочет.
— Сдается мне, что ты, по привычке, с большей охотой отобедала бы мной.
Воин был не молод и не стар, в тех же годах, что ее дядя Самхерт. Он был сухой и высокий — выше всех людей, каких она видела, — острый кончик его стального шлема упирался в свод.
Он распоясался, повесил меч на жердь. Снял шлем и бросил на пол. У него оказались вьющиеся волосы цвета высохшей полыни, с проседью. А лицо было плоское, как у ордынцев, но не круглое, а вытянутое, с прямым костистым носом.
Когда он шагнул от порога, Васико увидела, что он сильно припадает на левую ногу. Она была заметно короче другой и не сгибалась в колене. Васико уже видела колченогих — ее братья поймали одного такого на дороге. Тот был попрошайкой, и жалобно ныл, когда братья готовились его зарезать. Он вопил и грозился перед самой смертью, что аллах покарает нечестивцев за пролитую кровь аллаяра.
Представить, как этот железный хромец молит о пощаде, было трудно. Попрошайка был жалкий, само ничтожество, а этот — преисполнен силы и достоинства. Этот привык повелевать, а не просить. Пронзать, как стрелами, свистящими словами и рубить ими так, как меч с лязгом крушит доспехи.
Он скинул одежду, указал Васико на ложе, и она безропотно поднялась с подстилки и прошла за полог. Разоблачившись, она легла, раскинула ноги и решила, во что бы то ни стало, понравиться хромому.
Ее тетя Науруз учила: чтобы дать и самой испытать истинное блаженство, надо смотреть в глаза. Не в переносицу, как делают трусливые, не в рот, как жеманные, не в чресла, как похотливые, и не в себя, закрыв глаза, как глупые и стыдливые. А в самые глаза мужчины, в зеницы ока, вцепившись в них и не выпуская до самого конца!
Васико очень хотелось понравиться воину. Но если ей это не удастся, решила Васико, она перегрызет стальное горло, доберется клыками до главной жилы и, что бы ни текло по ней — кровь или что-то другое, Васико высосет жизнь воина без остатка, всю до последней капли.
Она вцепилась в маленькие, пронзительные, как булавки глаза и поразилась их желтому, огненно-желтому цвету. «Так, должно быть, полыхает огонь в преисподней», — подумалось ей. И она пожелала, чтобы это пламя ожгло ее сильнее.
Вначале пронзила боль. И ее внутренности сжало в холодный кулак. Она едва удержалась, чтобы не отвести взгляд от желтых, безжалостных глаз безжалостного воина. А потом тонкой, тягучей струйкой, будто масло побежало по ее телу тепло. И боль сделалась желанной. Совсем, как во время пытки.
Когда Нилюфар хлестала ее прутком по пяткам и приговаривала при этом поучения, Васико, также, не отрываясь, смотрела в глаза своей тетки, и каждое ее слово врезалось с каждым ударом в память. И боль переставала казаться страшной. Она делалась сладкой и наполняла тело жгучим теплом.
Стальной клинок воина пронзал ее вновь и вновь. И с каждым ударом клинка ее тело наполнялось жгуче-сладкой истомой. И в самом конце, когда боль подступила к горлу, и показалось, что сейчас она захлебнется ею, Васико не выдержала и закричала. И, что удивительно: закричал и он. Вскинул голову, изогнулся полумесяцем и взвыл раненным зверем. А, выплеснув вопль, рухнул на нее всем телом и засопел, уткнувшись в ее плечо. И зашептал жаркими губами, зашептал ласковые и добрые слова, щекоча и обжигая дыханием кожу.
Его слова заглаживали, зализывали нанесенные им раны.
Вот как усмиряются стальные воины, подумалось ей, вот в каком огне расплавляется их крепкая воля и стальная упругость.
— Теперь я женщина, — спросила Васико, — я больше не девица?
Шепот воина оборвался. Стальной клинок, утратив в ее огне прежнюю твердость и былую силу, выскользнул из нее наружу. И обессиленный воин завалился на бок.
— Ты говоришь на фарси, — выразил он удивление, уставившись в свод шатра. — Ну, конечно же, ведь ты из Мазандерана.
За пологом шатра гулко ударили в щит. Васико вздрогнула.
— Это отсчет восхождений страсти, — объяснил ей воин на ее родном языке. — Сегодня щит прогремит еще не раз, — пообещал он, повернувшись к ней.
— Ты меня сожжешь? — спросила Васико.
Воин навалился на нее.
— Лучше испепели меня страстью. Делай это каждую ночь. Я не хочу на костер.
Щит в эту ночь прогремел одиннадцать раз, совершив священный круговорот. Одиннадцать раз Васико погружалась в желтое пламя и не выпускала его полыхающих глаз до самого конца. Одиннадцать раз ее пронзал стальной клинок и расплавлялся в ней, теряя упругость и силу. И одиннадцать раз их крики сплетались узлом обоюдной страсти.
Одиннадцать — священное число лунного круговорота. За одиннадцать солнечных месяцев Луна совершает годовой обход. Одиннадцать домов Зодиака открывают двери, а с двенадцатого начинается новый обход.
Если страсть одиннадцать раз восходит на вершину и оттуда рушится в пропасть, она совершает полный круг. И тогда исток страсти смыкается с устьем, и страсть поглощает самое себя и тем освобождает душу. И та воспаряет в небо. И нет душе после того дела до бренного своего вместилища? Воспарившая душа не велит карать и запрещает молить о пощаде.
— Ты умеешь плавать? — спросил воин, освободив свою душу от страсти.
— Я плаваю, как рыба, — похвалилась Васико.
— Тогда тебя скинут в реку. Если в твоем грешном теле осталась хоть малая частица Бога, ангелы Господни спасут тебя.
Он не послал ее на костер, а она не перегрызла его стальное горло. Она не узнала, какого цвета его кровь, но сполна напоилась его жизнью, одиннадцать раз приняв горячие извержения чревом. В ней жизнь воина соприкоснулась с ее жизнью, и зародилась новая. «Кровь Тимура», — произнесла она. И повторила на языке ордынцев: «Кан Темир».
Омон Хатамов «Меня звали Тимур»
— Откуда ты знаешь про брата Вахтанга? — спросила Васико.
Этот вопрос волновал ее больше всего.
— Тебе, кто-то сболтнул?
Что я мог сказать? Что ходил и собирал по городу сплетни?
— Я здесь никого не знаю. И ни с кем не общаюсь. Я два дня сидел взаперти, пока ты пропадала у Кантемира? Лучше скажи, понравилось тебе или нет? Я про писанину.
— Писанина понравилась, — призналась Васико, — Только зря ты девушку моим именем назвал. И непонятно зачем ты сделал ее людоедкой? Странно.
Стало ясно, мои опусы не произвели впечатления. И от этого сделалось грустно. Я испытал сильное разочарование. Более сильное, чем, если бы выяснилось, что я Васико абсолютно безразличен.
Интересная игра эмоций наблюдалась. Получалось, что я готов спустить ей шашни на стороне, но не могу смириться с ее равнодушием к продукту моей графоманской страсти. Я готов примириться с тем, что провожу ночи в одиночестве, но с непониманием моего таланта примириться не готов. И получалось, что несколько испачканных чернилами листов для меня значат больше, чем ко мне отношение любимой девушки.
Два дня трудов были подобны акту творения. Бог за считанные дни создал мир, а я накропал свой на бумаге и заселил его рожденными в моей голове образами. Я создал свой мир в потугах, в муках, подобных родовым. Пусть то, что я выдал, полная галиматья, но мать любит и рожденного ею уродца. И всякая мать любит свое дитя больше, чем самоё себя. Можно обидеть ее, но нельзя покушаться на ее чадо. Я бы простил Васико все: и шашни, и измену, что угодно, если бы она восхитилась моим ребенком, если бы у нее нашлась хоть пара лестных слов о моей работе. Но ни восторгов, ни лестных слов не прозвучало. Я был унижен и оскорблен.
У Кантемира я сидел надутый, как индюк. Он только глянул на меня и заподозрил:
— Что за кисляк? Не написал ни чего?
Васико передала ему то, что с утра набрала на компьютере с моего рукописного текста.
— А что так мало? — Кантемир взвесил в руке плод моих трудов.
— Две главы. Как договаривались, — напомнил я.
— Главы, значит, маленькие, — Кантемир перелистал страницы.
— Двенадцатым шрифтом.
— Ну, ладно, — сказал он примирительно и поинтересовался у Васико. — И как?
— Нормально, — ответила она.
Кантемир с сомнением еще раз прошелестел листами. Бросил бумаги на стол.
— Ну, нормально, так нормально, — согласился он. — Вечером покажу специалисту. Он разберется.
— А сами? — удивился я. — Не будете читать?
— А зачем? — в свою очередь удивился Кантемир. — Я в этом ничего не смыслю. Я не писатель. А специалист он в газете работает — редактор — много всякого перечитал, сам пишет. Вот он глянет на твое «писсэ» и расскажет мне, что ты за писатель.
— А аванс?
Кантемир всплеснул руками.
— Ты вымогатель! Ты как нохчи! — он воззрился на меня с искренним недоумением. — Сколько? — спросил у Васико.
— Ну, хотя бы тысяч сто.
— Сто? — Кантемир аж на ноги вскочил от ее нахальства. — Хотя бы? Да у меня мастера спорта столько не получают! Ты что, Васо, совсем рехнулась?
Он отсчитал и всучил мне тридцать тысяч и замахал на меня руками.
— Давай, иди. Пиши, работай, нохчи… не мозоль глаза!
Я покинул дом Кантемира переполненный негодованием. Тридцать тысяч в кармане жгли мне ляжку, как тридцать серебряников жгли душу Искариота.
А Васико осталась.
Добравшись до квартиры Васико, я еще терзаться гневом, ревностью и разочарованием. Но я уже знал, что надо делать, когда на душе скребут кошки. Я сел за стол. Взял ручку, положил перед собой бумагу. И сердобольная муза снизошла ко мне.
В тот вечер я написал о том, как, спасая самое ценное, теряют то, что не имеет цены. Я написал о том, как в смертельном бою Эмир Тимур Тарагай спас свою славу, но потерял нечто большее — жизнь своего возлюбленного сына.
Омон Хатамов. Литературные наброски к сценарию без названия
Ее вынесло на берег на равнине, там, где Терек из горного ручья превращался в раздольную реку. Девушка была совершенно растерзана. Новое платье, в которое ее облачили накануне, изодралось в клочья. На теле ее не осталось ни одного живого места. От макушки до пят сплошь в ссадинах и ранах. Каждый мускул ее ныл от нестерпимой боли. А в животе выла голодная волчица и рвала внутренности на части. Если не считать одной виноградной ягоды, она провела без пищи уже четыре дня.
Что ее спасло? Всевышний, каким бы именем его не называли? Случай, который служит мячом в состязании бога и дьявола? Или ее ловкость вкупе с ее физической силой?
Ее носило по перекатам, било в бурлящем потоке, бросало на скалы. А берег, до которого было рукой подать, оставался недосягаемым. Стремительное течение несло ее, как щепку. И когда казалось ни сил, ни воли цепляться за жизнь не осталось, взбесившаяся река вдруг угомонилась и вышла на равнину.
Первое, что Васико поразило, это открывшийся простор. Взгляд, не находя преград, уносился в самую даль, туда, где земля смыкалась с небом. Для размашистых саженок у нее не осталось сил, поэтому она доплыла до берега по-лягушачьи. Коснувшись разодранными коленями илистого дна, она на четвереньках выбралась на сушу и там огляделась.
Теснина гор остались позади, и по обоим берегам растелилась раздольная степь: плоская, как тарелка и голая, как колено. «Здесь негде укрыться», — пронеслось у нее в голове. И негде ставить засаду, как учили ее братья, чтобы добыть себе пищу. А пища требовалась: кусок сочного мяса, насекомое, съедобный корень, что угодно. Ее выворачивало наизнанку от голода.
Она поползла к чахлому кусту ракиты, который на пустынном пляже единственно мог послужить укрытием. Добралась до деревца и под ним забылась.
Проснулась оттого, что затряслась под ней затряслась и загудела. Еще во сне она услышала отдаленный грохот, который все нарастал и нарастал и в конце стал напоминать обвал в горах, или то, как в половодье вспухшая река, неся в тесном русле бурливые воды, сокрушает скалы на своем пути.
В грохоте, накрывшем равнину, различались удары великого множества копыт, скрип тысяч колес, ржание многотысячных табунов и окрики великого множества табунщиков. И над всем этим многоголосым хором, слышалось ритмичное дыхание. Вдох и выдох, как удары в бубен. Вдох и выдох из пасти тысяч животных и человеческих глоток, слившихся в единое дыхание. Это работали легкие многотысячного войска!
Васико продрала глаза и увидела гигантское облако пыли. Оно накрывало все пространство степи от края и до края. В его мглистой толще проступил силуэт двуколки. Следом она увидела то, как скрученный войлочный шатер свисающим краем трется об вращающийся обод. Дуновением ветра развеяло мглу, и на минуту показались люди и животные: суконные воинские кафтаны в один цвет, лошадиные хвосты и гривы одной масти, трепещущие кисти башлыков, подскоки стрел в колчанах за спиной у воинов; в небе — колыхание бунчуков, а у земли — перебор копыт.
А в другом месте увиделись черные от загара и грязи лица сотника и конных лучников. Сотник выкрикивал команду, а подчиненные хором вторили ему. На стальных доспехах и щитах вспыхивали блики от лучей случайно пробившегося солнца.
И всюду в серой пелене трепетали хоругви, удерживающие под собой хазары всадников. Это бурливое, шумное море заполнялось потоками, стекающими с гор.
Васико хорошо видела, как по склонам стройными колоннами спускаются верховые воины и съезжают одна за другой обозные двуколки. Она хорошо различала цвета их кафтанов и масти их коней. Видела, как вооружены воины и жмурилась от блеска их стальных доспехов, когда в них отражалось солнце. И по этому самому слепящему блеску Васико вдруг поняла, что за войско спускается с гор. Блистательное войско! По неисчислимому множеству хоругвей догадалась, что за море наполнило степь — это стальное воинство хромого Тимура! Это те, кто покарал ее сестер и братьев. Это бесчисленные отряды беспощадных нукеров Железного Хромца.
Отряды шли десятками и сотнями, не перемешиваясь — под своими бунчуками и хоругвями. Десятки и сотни одного цвета, собранные в тысячные колонны. Тысяча черных кафтанов, тысяча красных, тысяча цвета неба. И в каждой тысяче лошади в масть: белые, саврасые, рыжие. И все это разноцветье в едином блеске стальных шлемов, щитов и нагрудников.
Из ближайшей колонны, которая уже спустилась на равнину и головой входила в пелену, вырвался воин. Он был в красном кафтане и на белой кобыле. Лихо, перемахивая через валуны и расщелины, он направил лошадь к реке, к одинокой раките, под которой затаилась Васико.
Поздно было прятаться и некуда бежать. Васико допустила оплошность, досадную и непростительную. Беспечно позволила себе забыться сном и пренебрегла главной заповедью, которую ей внушали с детства — оставаться невидимой! Оставаясь невидимой всегда и везде, не спускать глаз с врага! Враг вездесущ и неумолим, он изо дня в день, из года в год, всю жизнь ведет на нее охоту.
Враг мчался во весь опор. Он был уже близко. Васико могла различить его лицо: круглое, скуластое, с колючими глазами и глумливым, щербатым ртом. Он скакал, спустив поводья — кожаный ремешок уздечки бился о шею его коня. Глумливый воин удерживался в седле тем, что крепко сжимал коленями бока кобылы. Шагов за сто он начал сбрасывать одежду. Сперва отстегнул перевязь меча и повесил на высокую луку седла. Потом стянул кафтан и затолкал в переметную сумку. И уже, спрыгивая на полном скаку с лошади, снял шлем и уронил на землю.
Васико поступила так, как научилась в шатре у хромого Тимура — встретила врага на спине. Задрала подол платья и раскинула ноги. Глаза оставила открытыми.
И увидела, что враг опешил.
Этот воин привык быть прытким и резвым. Он привык быть первым там, где делят добычу. Ему очень нравилось брать то, что ему никогда бы не досталось, не поступи он в Блистательное Воинство Тимура. Брать и не бояться, что ему, как вору отрубят руку, ибо нет воров в войске у Сокрушителя Вселенной. Есть воины ислама, которым дозволено все! Он привык грабить и насиловать. Он научился делать это проворно. Но за три года походов бесстрашный воин ислама не научился брать то, что дается в руки само. Такого не было.
Лошадь без всадника промчалась мимо, а воин, неуклюже перебирая кривыми ногами, наскочил на Васико. Навалился сверху и затрясся над ней всем телом. Трясся и рычал по-звериному. И пока зверь в нем утолял звериную похоть, он кротким агнцем глядел в ее распахнутые глаза. А, закончив, задрал по-волчьи голову и завыл в небо. Изрыгнув в крике из себя зверя, он агнцем припал к ее лону. И захотелось ему остаться подле нее навечно, чтобы вымаливать у нее прощение до скончания времен. Забыть, что он воин и искать ласки и утешения в ее материнском лоне день изо дня, пока не повзрослеет. Но он этого не сделал. Вскочил на ноги, быстро натянул штаны, устыдившись наготы чресл, и засеменил косолапо прочь от нее, без оглядки, только забурчал, ворчливо под нос: «Что она лопочет на своем подлом таджикском? Сейчас, как хвачу ее мечом, так вмиг замолкнет… шлюха… потаскуха… дрянь…»
Запрыгнув на лошадь, он увидел, что девка тычет пальцем в разинутый рот. Он натянул кафтан, вынув его из переметной сумки, пристегнул меч и потом достал из хурджуна узелок с куртом и кулек толокна. Воин пятками врезал в бока лошади. Та, хрипнув, встала на дыбы. Воин отставил одну пятку, но другой продолжил давить, и лошадь, подчиняясь команде, развернулась в ту сторону, с которой давила пятка. Развернулась и скакнула на куст ракиты. В шаге от Васико, всадник вжал в бок лошади другую пятку, и та вильнула в другую сторону перед самым носом у испуганной девушки. А воин увернулся от ее жалобного взгляда. Куль толокна и узелок с куртом упали к ногам Васико. На прощанье лошадь хвостом обмахнула лицо девушки и с места взяла в карьер, а воин, перегнувшись в седле, успел подобрать с земли оброненный шлем. Через минуту всадник и его кобыла скрылись в серой пелене.
Тысяча, от которой оторвался воин, уже сошла с горы, и теперь следом за ней спускались по склону обозные бригады: повозки, вьючные лошади и огромные верблюды-нар.
Доедая добытый обед, Васико уже знала, как заработать на ужин. Она нашла способ, как выжить в мире людей без помощи сестер и братьев, без поддержки родных, которых она потеряла. Она смогла найти для себя надежное укрытие: за разверзшимся чревом не будет видно ее лица, не будет видно ее глаз, страха, навечно поселившегося в них. А когда враг видит чрево, а в ее щель не видит страха, тогда рука секущая становится рукой подающей. И голод уже не страшен.
Васико поднялась и уверенно пошла наперерез каравану, который, сойдя на равнину, начал головой входить в непроглядное облако. Когда и она оказалась в этой удушливой пелене, то подумала: «Вот я уже в войске. Теперь я не одна. Я буду идти за людьми, и кто-нибудь из них меня накормит».
Было плохо видно, глаза еще не приучились смотреть сквозь толщу пыли. Поэтому она не увидела хлыста, который просвистел над ней. Но почувствовала, как он обжигающей змейкой лег на ее спину.
— Прочь с дороги, оборванка! — раздался окрик.
Голос был дребезжащий, сварливый, как у рыночных торговцев. Васико обернулась, пригляделась и увидела, как из-за горба верблюда, вышагивающего прямо перед ней, смотрит на нее чумазый мужчина. Верблюд прошествовал и ее взору предстал всадник на долговязой кляче. Он был не то воин, не то маркитант. Вместо шлема на его голове красовался мятый колпак, схваченный жидкими витками грязной чалмы. Маркитант ли, воин ли взирал на нее со своей облезлой клячи с таким заносчивым и чванливым видом, будто под ним был породистый рысак. Еще один верблюд прошествовал мимо и заслонил своим горбом лицо чванливого всадника. Снова просвистел хлыст, но на этот раз лег на верблюда. И Васико догадалась, что всадник этот не маркитант и не воин, а погонщик.
Погонщик взмахнул хлыстом в третий раз и тем подбодрил другого верблюда.
Потянулись еще животные, и за ними их погонщики. Снова просвистел кнут. Но в этот раз не коснулся Васико, только напугал.
— Бесстыдница! — услышала она. — Если тебе нечем прикрыть срамоту, исчезни, чтобы не смущать взор правоверных!
На этот раз ее обругали не на ордынском, а на родном ее фарси. Васико обрадовалась.
— Мы не ангелы, мы все-таки мужчины! — прокричал ей безусый, безбородый мальчишка.
Как и у первого погонщика, его голова также не знала шлема. Висел меч на поясе, но ни щит, ни кольчуга не обременяли его тщедушное тело. Он был верхом, как все в этом войске, и подгонял трех навьюченных верблюдов.
Васико побежала за ним.
— Чего тебе? — удивился мальчишка.
Васико замычала, будто утратила дар речи.
Он скинул с плеч халат и бросил ей.
— Получи, несчастная!
Васико подобрала оброненную одежду и побежала дальше, продолжая мычать.
— Чего еще? — спросил мальчишка. И повторил вопрос на ордынском.
Васико догнала лошадь и вцепилась в стремя.
— Ты хочешь в седло? Со мной?
Васико закивала головой.
Мальчишка ободрился. Протянул руку, схватил ее за запястье и попытался закинуть на спину коня. Но не справился с ношей — он был слишком слаб для такого дела. Более того, он сам чуть не слетел с седла. Его товарищи, идущие следом, разразились смехом.
Мальчишка выпустил девушку и выругался. Васико не удержалась на ногах, сделала неверный шаг и рухнула на землю.
— Распутница! — крикнул мальчишка, уносясь вперед, и хлестнул ее кнутом напоследок.
Удар пришелся по лицу. Васико рассекло скулу и щеку. Хлынула кровь. Ей стало больно и снова страшно.
Она раздвинула ноги и заревела:
— Эй вы! Не оставляйте меня! Заберите с собой, хоть кто-нибудь!
Караван проходил мимо, и погонщики один за другим глядели на ее раздвинутые ноги, а она глядела на них и высматривала тех, кто покрепче и помужественней.
Один из погонщиков посмотрел на нее с большим любопытством, чем другие. Она поймала его похотливый взгляд. Мужчина был в годах, но все еще в силе.
— Не оставляй меня! — крикнула Васико. Поднялась и побежала за ним — Возьми с тобой!
— Тебя? А кто ты? — поинтересовался мужчина.
— Я Васико! — ответила она на бегу.
— Причудливое имя. Откуда ты?
— Из Мазандерана!
Погонщик усмехнулся.
— А я-то думаю, где девка выучилась фарси! Ты правоверная?
— Правоверная, правоверная!
— Или последовательница Али?
Васико различила в голосе погонщика осуждение и поспешила отречься от неведомого ей Али.
— Я не последовательница Али, — воскликнула она. — Вовеки веков будь проклят этот Али!
— Зачем же так, — пожурил ее мужчина. — Все-таки хазрет Али четвертый халиф и заслуживает почтение.
— Я больше почитаю нашего пророка, — со всей искренностью пролепетала Васико.
— А вот это похвально.
Она бежала у стремени погонщика до разлома, где войско, наводя мосты, остановилось. И он не гнал ее.
— Мы из славного города Самарканда, — сообщил погонщик на привале. — Ты, конечно, слышала про столицу Вселенной?
Васико ничего не знала ни про Самарканд, ни о вселенной, которая несколькими днями раньше вмещалась в тесноту пещеры. Но догадалась, что от нее не требуются правдивые ответы. Надо только во всем выражать согласие.
Она кивнула головой.
— О, Самарканд, — пропел погонщик, — это жемчужина мироздания! Это город прекраснее, которого не было и нет. И не будет до скончания дней!
Его взор затуманился, а голос заструился сладчайшими перекатами.
— В нашем прекрасном городе люди живут так, как праведники живут в раю после смерти. Жители нашего города все до единого настолько богаты, что по сравнению с ними даже купцы, шейхи и беки в других столицах просто голодранцы, отрепье и нищий сброд! У нас все горожане живут во дворцах, и даже рабы имеют свое жилище. А в каждом саду Самарканда поют райские птички, и гуляют павлины, услаждая взор своим великолепием. Ты видела павлинов, девочка?
Васико мотнула головой.
— Бедное дитя, — выразил сочувствие погонщик. — Где тебе было видеть? А у нас павлины гуляют даже на площадях, в каждом переулке, как в других городах гуляют куры или утки. Представляешь?
Величие выдуманной им картины поразило его самого.
— Наши жители не знают другой одежды кроме, как из парчи и шелка. А самые знатные из горожан одеваются в атлас. А еще у нас ткут сорт шелковой ткани, называемый «Хан». Эта ткань хан среди атласов! Это лучшее, что могли придумать люди в ткацком деле. Вот так вот! — заявил хвастливый погонщик. — А что касается яств и напитков, то есть всего того, что призвано не только насыщать, но и ублажать утробу, то я тебе скажу, что нигде в мире я не встречал такого разнообразия всяческих блюд, фруктов, сластей и напитков, подобных божественному нектару. Даже обычные рыночные харчевни у нас по богатству достархана и изысканности блюд могут спорить с пиршественными столами правителей иных городов. А наши рынки и торжища просто утопают в изобилии всяческой снеди. Вечером, когда торговцы спешат домой, то отдают непроданный товар не то что за бесценок, а даром.
— Если в вашем городе так хорошо, — удивилась Васико, — зачем же вы его покинули?
Погонщик глянул на нее со снисходительной улыбкой.
— Ты, в сущности, еще ребенок, — сказал он ей. — Кроме наслаждений праведный муж должен помнить еще о долге. Я пришел сюда не по собственной прихоти, а по приказу моего предводителя — блистательного принца Мухаммада Джахангира! Он повел нас в поход, чтобы в этих глухих горах мы прочистили уши невежественным язычникам, и чтобы слово Всевышнего, наконец, проникло в их мрачный разум! Оттого я и покинул на время наш славный Самарканд — столицу всех столиц, жемчужину Вселенной!
Мужчина отвернулся от нее и показал на вершину кургана, туда, где стоял строй всадников в красных кафтанах на вороных жеребцах.
— Вон там стоянка нашего предводителя. Но отсюда ты не сможешь его разглядеть — он в окружении своих «тигров Аллаха». Это его личная хазара. Все они, как и я — самаркандцы, и преданы нашему предводителю беззаветно. Все мы самаркандцы обожаем гургана Мухаммада Джахангира. Он так прекрасен и великолепен, что одного взгляда, брошенного в его сторону, достаточно, чтобы глаза не привычные к блеску его величия тут же ослепли.
Нарушая благолепие момента, когда погонщик без надежды быть услышанным своим предводителем, выражал свои верноподданнические чувства, Васико снова встряла с неуместным вопросом:
— А разве ваш предводитель не хромой Тимур? Почему вы говорите про какого-то гургана?
Невинное выражение лица и искреннее недоумение в голосе не могли служить девчонке оправданием.
— Дура! — проревел погонщик. — Да как у тебя язык не отсох! Как ты сама не провалилась сквозь землю! У Великого Тимура нет увечий! Своеобразие его поступи — отметина Аллаха! Всевышнему угодно было, чтобы непобедимый Сахибкиран в дни молодости получил ранение в колено, а сделал он это для того, чтобы поступь Сахибкирана была неторопливой. Чтобы мир, который при иных обстоятельствах покорился бы ему в срок невыразимо краткий, подпадал под его власть частями, и не спеша. Разве разумно за один раз вырезать все стадо? Правильно ли объестся единожды и в последующие дни не видеть мяса? Своеобразие поступи Сахибкирана — это залог продолжительности войн и залог благоденствия Блистательного Воинства. Понятно?
Васико часто закивала головой.
— Ничего тебе не понятно! — попрекнул ее погонщик. — Да будет тебе известно, что по священному закону Яссы всё, что добыто в походе делится на три равные части. Одна часть идет Верховному Повелителю, вторая часть — предводителям туменов, а третья — войску! Таков закон Яссы, доставшийся нам от Чингисхана.
Васико изобразила на лице изумление и снова затрясла головой. Ей очень хотелось успокоить возмущенного ее глупостью погонщика. А тот, глянув на ее старание, скривил лицо и продолжил:
— Если бы наш Повелитель завоевал всю Вселенную за краткий срок, это было бы подобно тому, когда в один день вырезается все стадо. Войско его насытилось бы на время, но в последующем познало бы голод. А это недопустимо! Блистательное Воинство должно кормиться из года в год. И потомки нынешних воинов тоже должны кормиться сытно. Оттого Всевышним было устроено так, чтобы Сахибкиран имел только одну здоровую ногу, чтобы здоровой пятой мог попрать только одну половину мира, а другую оставил для своих потомков, чтобы и им было, что покорять. Ведь для истинно правоверных и для тех, кто чтит священные законы Яссы война первейшая кормилица. Теперь-то понятно?
— Теперь понятно, — заверила Васико.
— Что тебе понятно?
Васико ответила:
— Нельзя резать все стадо целиком, надо кое-что оставить на завтра.
Мужчина досадливо покачал головой.
— До чего же невежественный народец эти горцы, — он посмотрел на Васико с укором. — Ты хоть из Мазандерана, а видно, в этих диких краях совсем растеряла разум.
— Мне не у кого было набраться его, — сказала Васико в свое оправдание. — Но теперь рядом с вами я обязательно исправлюсь.
— Исправится она, — проворчал погонщик. — Даже в этих диких горах можно было уберечься от невежества, если ежедневно обращаться к Аллаху. Ты, верно, недостаточно часто читала молитвы?
Васико пообещала:
— Я буду часто читать молитвы. Раньше я была маленькой. Я и сейчас не вполне созрела. Но я исправлюсь.
— Не вполне созрела она, — повторил за ней погонщик и оглядел ее с ног до головы. — Ты больно хитрая. Да только меня не проведешь. И вот, что я тебе скажу. Перво-наперво заруби на своем горбатом носу: никогда, ни при каких обстоятельствах, не произноси имя нашего Повелителя всуе. Лучше молчи! Ты женщина, твое дело слушать.
— Я буду слушать.
— Вот и слушай! Слушай и запоминай, чтобы знать, что к чему. Наш верховный повелитель — Сахибкиран Эмир Тимур Тарагай. Он повелевает всем войском и всем народом. А туменами его войска и городами в его державе повелевают его найоны. Самаркандом — столицей его империи — повелевает сын Повелителя, его наследник — принц Мухаммад Джахангир. Он носит титул «гурган», что означает, что в его гареме произрастает цветок от семени Великого Чингисхана! Мы жители Самарканда вассалы гургана Мухаммада Джахангира. По его приказу мы уходим в поход туда, куда он укажет, а ему — его отец. Войско Самарканда первое по величию и блеску после личного тумена Сахибкирана. В нашем войске воюют самые сильные батыры Мавераннахра, самые меткие стрелки из лука, самые ловкие и быстрые наездники. А я хоть и служу в обозе Его Высочества, и в должности невеликой, но лучше быть простым погонщиком у Мухаммада Джахангира, чем первым джигитом в отряде какого-нибудь тахаристанского бека или вашего неотесанного мазандеранского эмира. Мы цвет и соль воинства Сокрушителя Вселенной! Мы его мощь и опора! Так что ты должна понимать, куда ты попала. И ценить это! Ведь даже шлюха в обозе Мухаммада Джахангира это больше, чем первая хотун в гареме у вашего мазандеранского эмира. Верно, я говорю?
Васико кивнула головой.
— То-то… И знай, если будешь ценить меня, как следует, — посулил погонщик, — я, может быть, сделаю тебя своей женой. У пророка их было пятнадцать, а у меня пока только две. Вернемся в Самарканд после похода с полными хурджунами добычи, и кто знает, как все повернется. Очень даже возможно, что Аллаху будет угодно, чтобы ты вошла в мой гарем законной супругой.
На этом их разговор оборвался. Саперы навели мосты. Войско перешло рубеж и за разломом развернулось широким фронтом, растянув его во всю ширь степи. Оно двинулось на север. И шло весь остаток дня до глубоких сумерек и остановилось там, где река в низменности разлилась вширь и обмелела. Там у разлива войско встало на ночлег. И вся степь от берега и до края зажглась огнями костров.
— Нет величественней зрелища, — проговорил пожилой погонщик, помешивая в котле болтушку из толокна, — чем панорама ночной стоянки войска Сокрушителя Вселенной, — он окинул восторженным взглядом равнину и продолжил. — Когда я вижу эти бесчисленные огни, озарившие черное небо Дешти Кипчака, мое сердце наполняется восторгом и трепетом. Когда-нибудь в преклонных годах, если я доживу до седых бровей, я соберу вокруг себя внуков, которые у меня к тому времени народятся, и поведаю им историю о войнах Великого Тимура. Я расскажу им о том, как в ночь перед великой битвой на Тереке под черным небом Великой степи вспыхнули разом тьмы и тьмы костров и затмили своим светом сияние звезд! О том, что от ржания боевых коней и храпа уставших воинов сотрясались земля и небо, и совы, охотящиеся в ночи на сусликов и тушканов, и летучие мыши, пожиратели мотыльков и бабочек, теряли рассудок и падали замертво на землю, а суслики и сурки выскакивали из нор и убегали прочь. Я расскажу, но никто мне не поверит. Сочтут, что я старый брехливый пес, на склоне лет, выживший из ума. А боевых товарищей, которые могли бы подтвердить правдивость моих слов, рядом не будет. А ты смотри, смотри кругом, девочка, — посоветовал старый болтун. — Смотри и запоминай. Потому что это особая ночь. Это ночь перед Великой Битвой, в которой Властитель Счастливых Созвездий сокрушит трусливые полчища кипчаков и примкнувших к ним подлых черкесских разбойников!
Васико, огляделась вокруг. Прошлась внимательным взглядом от берега реки до горизонта и с удивлением обнаружила, что костры под котлами почему-то гаснут, а вместо них степь засверкала сигнальными огнями, и еще то, что по всему войску помчались верховые.
— Что за дьявол? — удивился погонщик, тоже заметивший перемену. — Почему костры гаснут? — он ткнул пальцем в сторону от реки. — Смотри! К Его Высочеству скачет гонец в черном кафтане на рыжей кобыле! Так одеваются и ездят на таких конях только «Львы Аллаха» джигиты из личного тумена Повелителя!
Он вскочил и засуетился. Начал тушить костер.
— Беда! Видно, не удастся нам сегодня поужинать, — запричитал старик. — А болтушка только начала доходить. Ну, чего сидишь? — набросился он на Васико. — Собирай вещи! — и снова заныл. — Так и язву можно заработать. Воину во всякий день необходима горячая пища, и после этого непременно сон. О, Господи, когда же закончится этот проклятый поход? Как мне это надоело…
Погонщик угадал. Толокняной болтушке не суждено было дозреть этой ночью. Войско снялось со стоянки и спешно двинулось дальше на север. Основная его часть продолжила движение по правому берегу. А тумен Мухаммада Джахангира — отряд в десять тысяч отборных воинов, краса и гордость Самарканда, конные лучники, копейщики и ратоборцы, сменив седельных на заводных, держась за хвосты и гривы лошадей, вплавь одолели реку и далее вниз по течению двинулись левым берегом.
С отрядом Мухаммада Джахангира в ночной рейд ушел и обоз с запасом стрел и дротиков.
Причина внезапного выдвижения и такого небывалого маневра, как ночная переправа через реку, открылась воинам только в пути. Лазутчики, которых у Сокрушителя Вселенной было с малое войско, которые, как псы-следопыты, опережая армию, рыскали повсюду, накануне, в сумерках на взмыленных лошадях примчались с низовий ряженными камскими купцами к костру своего повелителя и донесли, что в половине дневного перехода вниз по реке кипчакский хан наводит переправу. К утру все войско врага должно перебраться на левый берег и оттуда двинуться на юг и на заход солнца на соединение с крымчаками. Там за стенами франкских торговых городов хан Каганбек надеется укрыться в случае поражения. Франкские купцы готовы переправить его на своих кораблях хоть к мамлюкскому султану, хоть к Баязету Молниеносному — властителю Блистательной Порты.
Отряду Мухаммада Джахангира было наказано к утру выйти по левому берегу к месту переправы и дать неприятелю бой. Если же кипчаки к его подходу успеют оставить берег и удалиться в степь, преследовать врага и не дать возможности рассеяться на бескрайних просторах. А в том случае, если удастся застать врага на правом берегу, запереть переправу и стеречь до подхода основных сил.
Сам же Сахибкиран повел войско правым берегом. Во главе своего личного тумена он бросился вперед, чтобы успеть захватить мосты и на хвосте у удирающего врага переправиться через реку.
Скакали всю ночь. В кромешной тьме. Направление определяли по шуму реки.
Вьючные лошади, груженные и не столь резвые, как скакуны боевых сотен двигались медленно, и их обходили.
— Не жалеть коней! — крикнул сотник лучников на обгоне. — Вам на ваших одрах в бой не врубаться! Всыпьте им горячих, как следует!
Сотник с отрядом ушел вперед, и из темноты донесся его окрик:
— Моим джигитам потребуются стрелы! Поторапливайтесь, болваны!
Но обоз отстал. Безнадежно отстал. Вначале обозные еще слышали стук копыт удаляющихся боевых отрядов. Но потом только шум реки, сонные окрики погонщиков и сап неторопливых обозных кляч нарушали тишину ночи.
Когда боевые сотни уходили на обгоне, Васико почувствовала в животе щекотание. Не от голода — они успели перекусить на скаку куртом и сухим толокном. Защекотало от предвкушения охоты. Это было знакомое чувство — азарт. Васико раз уже испытывала такое, когда дядья и братья взяли ее в засаду. Она была девушкой, и в засаде ей было не место, но она так долго и нудно просилась, что старый Бану не выдержал и закричал: «Да, возьмите ее! Она все равно не женщина, недоразумение одно. Нормальной жены из нее, как ни крути не выйдет!» И это было правдой. Васико не умела готовить, не любила выскребывать кожу, плохо стирала. Но она бегала по скалам, как козочка, лазила по деревьям, как рысь, плавала, как рыба. Могла продержаться под водой дольше, чем кто-либо из мужчин в семье. Она метко кидала камни и ловко набрасывала аркан. И еще она знала несколько секретных ударов, которым ее обучил брат Вахтанг. А Вахтанг хоть и был годами моложе других, но в семье не было поединщика сильнее и коварней его.
Накануне, когда пожилой погонщик позволил ей занять место в седле его заводного коня, Васико сразу уловила, как надо управляться с этим животным. Еще бегая у стремени и оглядываясь на всадников, проносящихся мимо, она поняла, что ногу в стремени надо держать цепко, но грузить полувесом. На седло не наседать, порхать над ним легким перышком. Держать лошадь бедрами, а если закобенится — взнуздать, чтобы ремешками оттянулись губы, и лошадь почувствовала боль.
Васико быстро догадалась, что лошадь тварь брыкливая и с норовом, и наездника не любит. Скалит зубы и сверлит глазами. И к тому же лошадь во стократ сильнее наездника. Без труда скинет его с седла и затопчет копытами. Только есть у лошади слабое место — душа у нее нежная, тонкая, и она до жути боится боли.
Уже несколько позже, когда Васико перестала быть девкой и стала воином, она узнала, как она была права. Лошадь угадывает желания наездника, предвосхищает его команды, только по одной, но очень веской причине: чтобы избежать боли. Она поворачивает, куда надо до того, как узда оттянет губы, трогается с места прежде, чем пятки врежутся в пах. И не приведи боже, чтобы нетерпеливый наездник ошпарил ее хлыстом по крупу.
Так что, как только ей было дозволено занять место в седле, она, вскочив на спину лошади, тут же крепко бедрами сдавила ее бока. Чтобы показать животному свою решимость и силу, одной рукой взяла уздечку, а второй вцепилась в гриву и резко потянула на себя. Конь хрипнул, вскинул голову и сверкнул глазом. Васико встретила его взгляд с дерзкой ухмылкой.
— Ты чего? Ошалела? — удивился погонщик.
Васико спросила с невинным видом:
— Что-то не так?
— Сразу видно, что вы горцы лошадей не знаете. Что женщины, что мужчины в седле точно полоумные дурни. Ни навыка у вас, ни понятия. Не мучь лошадь! — крикнул погонщик. — Она поумнее тебя будет!
Васико отпустила гриву.
Погонщик, конечно, был дурак, но конь-то понял, с кем теперь имеет дело.
И вот в ночи, когда вьючные лошади, как бы их ни хлестали, еле переставляли копыта, а весь отряд мчался уже далеко впереди, азарт, который таился в животе под печенкой, вдруг закипел и взошел паром, сначала к легким, а из них отчаянным, жарким воплем вырвался глоткой на волю.
— Точно не в себе! — воскликнул погонщик. — Что с тобой, дурында?
Он с трудом удержал лошадь под собой, когда та, шарахнувшись от крика Васико, заюлила задом.
— Ты прекращай дурить! Я такого не потерплю! Слышишь меня, дикарка?
Васико ударила пятками в бока своего коня, и тот рванул с места. Но конь был обозный, тяжелый одр, взял мелкой рысью. И Васико ожгла его кнутом. Одр хрипнул и полетел пущенной стрелой. За спиной Васико услышала недоумевающий окрик погонщика:
— Ты куда? Вернись!
Обоз остался позади. Но боевые сотни она, как ни старалась, не догнала.
Уже на заре, когда сумерки только-только отступили, она вышла к переправе. Челны, связанные в ряд, перерезали реку. На их борта были настелены деревянные щиты. По ним спешившиеся конники переводили лошадей с берега на берег, и большая часть орды была уже на левом.
Васико издали легко отличила одно войско от другого. Если отряды гургана были форменными: на одномастных конях и в одинаковых кафтанах, то конники Каганбека были, кто на чем и в чем попало. Лошади у них были разномастные, а сами они облачены, кто в кожаный панцирь, кто в кольчугу, а кто просто в волчий или овчинный тулуп мехом наружу (позже поняла, чтобы удар меча соскальзывал по густой и гладкой шерсти и стрелы вязли в ней на излете).
Еще на подскоке, издалека Васико увидела, как «тигры Аллаха» изготовились и, ощетинившись копьями, тесным строем двинулись на рассыпавшиеся по берегу разрозненные отряды кипчаков. Копейщики гургана спускались под гору и быстро набирали скорость.
Скатившись, они вихрем понеслись по равнине и на берегу взяли на копья столпившихся кипчаков. Местами взрыхлили их тесную гурьбу, местами пронзили насквозь.
Выйдя из стычки, проскакали по берегу еще с десятую долю фарсанга, развернулись и, перестраиваясь на скаку, помчались обратно и вторично врезались в толпу.
Второго удара кипчаки не выдержали и рассыпалась.
Тысяча гургана вышла из столкновения, не потеряв ни одного копейщика. Все было проделано стремительно, на порыве.
«Тигры Аллаха» по косой уходили от берега, забирая в гору. Промчались по склону широким полукругом и, вновь съехав с горы, зашли на марь — болотистую гладь, поросшую осокой.
В это время с верховий реки подошли первые сотни лучников. На скаку, сменив лошадей, они скатились к берегу и оттуда пустили стрелы в самую гущу врага, с тем, чтобы или рассеять его, не давая выстроиться, или наоборот теснее сбить в кучу, чтобы из толпы не образовалась лава.
Конные лучники волнами пронеслись вдоль линии противника, не входя с ним в соприкосновение, и на скаку без остановки пускали стрелы. Каждый лучник за один вдох и выдох делал выстрел. В левой руке он держал лук, правой из-за спины вытягивал стрелу, накладывал оперенным концом на тетиву, натягивал ее до уха и выпускал стрелу в полет. Такие стрелы, пущенные от уха, пробивали и кожаный панцирь, и кольчугу, и стальные латы.
Лучники, опустошив колчаны, повернули назад. Новые подоспевшие сотни двинулись им навстречу. Стрелы пускались настильно, метясь в передние ряды, и навесом, чтобы поразить врага, прятавшегося в гуще. И эти сотни, отстрелявшись, пошли обратно в гору, а им навстречу уже спускались сотни с полными колчанами.
В это время «тигры Аллаха», выстроившись на мари, широким фронтом понеслись к берегу в лобовую атаку.
В гуще врага заметались. Раздались ураны — родовые боевые кличи. Затрепетали конскими хвостами бунчуки, собирая под себя сотни. Но не успели кипчаки собраться. «Тигры Аллаха» ударили в самый решающий момент.
Кипчаки, застигнутые врасплох, дрогнули и, не оказав сопротивления, разбежались. Первыми удрали предводители. Рванули от берега на степной простор, чтобы там боевыми уранами и колыханием бунчуков собрать своих подчиненных.
Тут с пригорка слетела новая тысяча копейщиков. На свежих лошадях она прошлась вдоль берега и оттеснила разрозненные толпы конных кипчаков подальше от переправы. Враг бежал уже без оглядки туда, где созывали их командиры.
Копейщики, оставив преследование, уступили поле боя лучникам и мечникам, которые частью погнались за удирающим врагом, а частью ринулись к мостам и заперли переправу.
Теперь, когда поручение Повелителя было на половину выполнено, и с верховий подошли последние сотни, Мухаммад Джахангир стал собираться свои хазары в горловине между двумя холмами.
С последними командами лучников подоспела и Васико. Лучники торопились вниз к войску, и Васико пристроилась им хвост.
— Ты кто такая? — накинулся на нее сотник, пересаживаясь с взмыленной лошади на свежую.
Она его сразу узнала: тот самый, кто ночью во тьме обозвал обозных «болванами».
— Я с погонщиками, — напомнила Васико.
— Тебя я виду, а где погонщики? Где стрелы? — крикнул он.
Васико показала вдаль.
— Прочь отсюда, девка!
Сотник с отрядом сбежал с пригорка, а Васико осталась на вершине.
Между тем отряд Мухаммада Джахангира завершил построение. «Тигры Аллаха» заняли расширение горловины там, где холмы расходились, и начиналась ложбина. Рядом встали шеренги второй тысячи копейщиков. Впереди сотенными колоннами выстроились сабельщики. А на самом острие образовавшегося клина и по флангам — конные лучники.
Выстраиваясь в боевые порядки, войско Мухаммада Джахангира обходилось без его команд. Голоса гургана не было слышно, от него к тысячникам не мчались вестовые. Казалось, что воины делают все по собственной прихоти, по своим представлениям. Но на самом деле каждое движение каждого бойца соразмерялось с действиями их командиров, а воля командиров питалась волей гургана.
Над строем взвились расчесанные бунчуки и затрепетали освобожденные от чехлов хоругви. Протрубили горнисты. Это означало, что войско готово к бою.
Васико наблюдала за этим зрелищем с вершины пригорка. Обозная лошадь под ней тяжело сопел и едва держалась на ногах. Даже если бы ее пустили в строй, воевать на полудохлой кляче, означало бы самоубийство. А между тем по берегу бродили прекрасные боевые кони, в недавней схватке потерявшие наездников.
Она спустилась с пригорка и огляделась. Присмотрела себе широкогрудого саврасого жеребца, тонконогого, лобастого, с огненными глазами навыкате.
У Васико не было ни копья, ни меча, ни лука, но у нее имелся аркан — орудие всякого погонщика. С ним она и подобралась к жеребцу, который, пощипывая траву, часто вскидывал голову и тревожно озирался.
Брошенный ею аркан просвистел в воздухе, разматываясь витками, и петлей завис над головой животного. Остальное было делом техники и состязанием в силе и ловкости.
Конь, шарахнувшись, крепко затянул петлю на шее, и веревка, скользнув в ладонях Васико, ожгла ей кожу.
Конь, конечно, был сильнее Васико, но зато упорства у нее оказалось больше. Состязание длилось с четверть часа, и лошадь в конце концов сдалась.
Вначале, правда, показала характер, скакнула, да так, что вырвала Васино из седла (в сущности, наездницей она была никакой). Потом поносилась по берегу и на аркане таскала за собой Васико. В конце, дико хрипнула — петля глубоко впилась в горло — и встала на дыбы. Васико, чтобы удержать аркан, пришлось крепко упереться ногами в землю. Она прорыла пятками две борозды, но заставила лошадь опуститься обратно на четыре копыта.
Лошадь захрипела, тряхнула головой и зло просверлила Васико одним глазом. В два перебора аркана Васико подобралась к лошади и хлестнула ей мотком веревки между глаз. Захватила узду и потянула в бок. Губы лошади оттянулись, и несчастное животное жалобно фыркнуло. Тогда Васико подула в морду лошади. Ее дыхание легкой струей прошлось по ошпаренному месту. Рукой Васико осторожно коснулась шеи и погладила. Конь, почувствовав ласку и заботу, перестал выкатывать глаза, забыл хрипеть и, наконец, смирился.
И только после этого Васико скинула петлю и запрыгнула в седло. Она пустила лошадь по берегу, примеряясь к ее шагу.
О, это была не обозная кляча. Это был скакун. Резвый, игривый, стремительный. Саврасой масти. С коротким хвостом и подстриженной гривой. Двухлетка, стригун — как называют таких ордынцы!
Объездив саврасого, Васико остановила его, спрыгнула на землю и среди тел павших и раненных принялась подыскивать себе снаряжение. Когда она вошла в густую траву, кто-то вцепился ей в ногу и прохрипел что-то на ордынском. Васико не поняла его. Вырвала ногу и пошла от раненного прочь. Сняла меч с убитого, рукоять которого была обмотана кожаным ремешком. Заодно добыла круглый щит и изогнутый роговой лук. Щит нацепила на левый локоть, а лук, испытав, выбросила — тугая черевная тетива содрала ей кожу на подушечках пальцев. После этого огляделась и заметила, что часть воинов, оставленных стеречь переправу, рыщет по берегу и опустошает колчаны павших. «Мой сотник спрашивал про стрелы, — припомнила Васико. — Добуду-ка я ему немного, раз уж обоз отстал».
Васико набила стрелами две седельные сумки на спине обозной клячи и поспешила к горловине, к сотнику.
— Вот! — со счастливой улыбкой заявила она, указав на сумки со стрелами. И покрасовалась заодно в добытом снаряжении.
Воины глянули на нее и все разом загоготали. В дранном платье, подпоясанном широким кожаным ремнем она, должно быть, выглядела потешно, поэтому Васико не обидел смех лучников. Ее больше огорчила реакция сотника. Он не смеялся и, вообще, оставил ее позерство без внимания.
— Обоз пришел? — только и спросил он.
— Нет. Я там собрала, — Васико указала на берег.
— А что так мало? — сотник нахмурился и рявкнул. — Скачи обратно и собери еще! До чего же безмозглые эти обозные шлюхи, — добавил он, когда Васико повернулась и с косогора затрусила назад, к берегу.
Воины в сотне снова загоготали. От этого лицо Васико залилось краской, но она сказала себе: «Это ничего, что мой сотник грубый. Главное, что он дал мне задание. А значит я уже в деле. Значит я для них своя».
Когда она набивала четвертый хурджун, раздались первые призывы горнов. Васико вскинула голову и посмотрела туда, откуда доносились звуки. Ордынское войско плотными рядами двинулось от мари к горловине.
В начале сражения, когда кипчаки метались по берегу, численность их войска сложно было определить. Но сейчас, когда оно собралось под бунчуками, стало отчетливо видно, что оно числом значительно превосходит отряд гургана. Даже без хазар брошенных на другом берегу ордынским конников было раза в три больше, чем воинов Мухаммада Джахангира.
Васико наблюдала за выдвижением ордынцев с берега, а с другого конца равнины за выступлением своих подданных наблюдал хан Каганбек. С высокого места на пригорке, где он стоял в окружении своих есаулов, численное превосходство его войска виделось еще отчетливей, но это его почему-то не радовало. Он хранил печальный вид.
«Да, людей у меня хватает, но это мало что решает. Молодой гурган очень удачно расположил свои отряды. Чтобы достать его, надо войти в узкую горловину меж двух холмов, и там я буду лишен возможности маневра. Бесспорно, юноша смышлен, что-то перепало ему от отцовских талантов».
Хан Каганбек направил свое войско в горловину и теперь с печальным видом наблюдал за его движением. Да, ловок, смышлен сынок у хромого Тимура. Сколько славных кипчакских воинов погибнут, прежде чем отряды Каганбека пробьются сквозь ряды мечников. Сколько удальцов насадятся на пики копейщиков, поставленных гурганом позади мечников. Кроме того, сынок Тимура посадил на склонах холмов отряды лучников. Сколько всадников снимут их стрелы с седел, прежде, чем удастся достигнуть цели. И удастся ли? Да, молодой гурган, совсем еще мальчишка, но принудил старого, опытного воина, коим был хан Каганбек к действиям, не сулившим выгод.
Правда, оставался один выход, и вполне надежный. Хан Каганбек мог уклониться от боя. Уйти по мари, выйти в степь и раствориться в его бескрайних просторах. Что было бы плачевно для гургана — он бы не выполнил отцовский наказ.
Но, слишком уж велик был соблазн разбить наследника хромого Тимура. Пока тот стоит малым числом, смять его отряды, захватить мальчишку в плен и вытребовать у Тимура выкуп за жизнь возлюбленного сына: вернуть отторгнутый от его улуса Хорезм; вытребовать отказ в протекции Тохтамышу, которого хромоногий злодей настойчиво продвигает на трон Белой Орды в обход его, Каганбека, законных наследных прав; и добиться прощения за дерзкий набег на Азербайджан, где находились любимые пастбища Тимура, из-за которого, в сущности, и разразилась эта неудачная война.
Каганбек начал атаку всей своей мощью, оставив в резерве только пол тумена. Большего и не требовалось. Скрыть резервы он не мог: он строился на виду у противника, на плоской равнине, и был весь, как на ладони. Держать большой резерв, чтобы поддержать основное направление удара, тоже не имело смысла, так как направление было только одно — через горловину, а атаки по склонам, которые он предпринял, всего лишь дефиле, призванные отвлечь на себя силы врага.
Да, спору нет, двинувшись широким фронтом по склонам и спустившись с перевала, можно было разом охватить всю ложбину. Тогда бы молодому гургану не оставалось бы ничего другого, как вскинуть руки и молить о пощаде. Но мальчишка посадил на вершинах лучников. И каких лучников!
Если бы он воевал, скажем, с Баязетом или с урусами или с франками, закованными в броню, он бы именно так и поступил. Его отчаянные барсы на резвых скакунах взлетели бы на вершины без особых помех и очень скоро сокрушили бы врага. Пусть тысяча его воинов полегла бы при этом, но это была бы недорогая плата. Однако, сегодня, против него стояли лучники Мавераннахра — степняки, такие же, как он. Это были воины, которые с малолетства учились держать лук. Они целились с руки и били без промаха. Они использовали роговые луки, обладающие несравнимой ни с чем упругостью, и тетиву из овечьих черев, не боящуюся влаги и небывалой прочности. Стрела, выпущенная из такого лука, пробивает кожаный панцирь с пятисот шагов и стальную броню — с трехсот. Это были несравненные конные лучники, такие же, как лучники его войска.
Все они были наследниками боевых традиций Чингисхана. Того, кто оставил им закон Яссы и огромную империю, включающую в себя бесчисленное количество завоеванных стран. Двести лет его наследники сохраняют империю и расширяют ее пределы. Но воюют воины степей все больше между собой. Почему? Да, потому что нет на поле брани ратников могущественнее, чем наследники Чингисхана, нет врага достойнее, чем они — воины степей!
Так что всерьез атаковать по склонам, по меньшей мере, глупо. Такие лучники с удобных позиций на вершине положат половину войска, пока оно будет карабкаться по склонам, а половину изранят. И что он будет делать с этим увечным бойцами? Как ему потом воевать гургана с ополовиненным войском? У того в ложбине верховые ратоборцы, все батыры, как на подбор, которые рубят с плеча и в седле сидят так прочно, словно проросли в него корнями. Это степные наездники равных, которым нет в мире. Их лошади управляются без команд, улавливая самое малейшее движение наездника. Они в бою топчут врага копытами, кусают за гривы чужих коней, сшибают грудью. А о копьеносной коннице гургана лучше не вспоминать. В атаке она подобна тарану, в обороне, если ее строй встанет неподвижно, ощетинившись копьями — стене, не опрокинуть ее израненным, ополовиненным войском, нечего и мечтать.
Так что единственно верный путь: пока войско цело и полно сил, навалиться всей мощью в центре и постараться пробиться через горловину. В конце концов, и они, и мы сделаны из одного теста, и чья возьмет, только Аллаху известно.
Как задумал хан Каганбек, так и поступил. Двумя туменами ударил в центре, по три тысячи пустил по склонам с двух сторон от горловины, и пол тумена оставил в резерве.
Лобовые кавалерийские сшибки — это небывалая редкость на войне. Ее допускают только неумелые полководцы по невежеству или из малодушия — бросают своих воинов в рубку, чтобы в их крови утопить свою растерянность и неверие в победу. Или в тех случаях, когда нет иных тактических решений. Так что это сражение в самом своем зародыше стало особенным и редкостным.
Отряды Каганбека в центре атаковали лавой. При таком строе бойцы двигаются на значительном расстоянии друг от друга. В сравнении с атакой сплоченным строем, такая теряет в жесткости, и не рассчитана на то, чтобы опрокинуть ряды противника. При атаке «лавой» главная ставка делается на единоборцев. При столкновении целостность строя атакующих распадается, и бойцы каждый сам по себе просачиваются в гущу противника. Казаган выбрал этот прием с тем, чтобы в полной мере использовать свой численный перевес. Если бы он согласился на жесткую атаку, то против его бойцов в передней линии было бы ровно столько же бойцов в передней линии противника. А в случае с проникающим нападением, когда рубка происходит в свалке, на одного гургановского воина придется три его джигита. Именно в таких боях богатыри добывают славу. О них потом слагают песни, на них потом равняется молодежь. В сече вокруг богатырей собираются ратники попроще. Они служат им тылом, они защищают их с флангов. А богатыри прорубаются все дальше в гущу.
Впереди Каганбек пустил черкесов, отчаянных головорезов, не знающих стойкости — их Каганбеку было не жалко. Его джигиты двинулись за ними. Пока сближались, пускали стрелы. А стрелы врага принимали черкесы.
Черкесам некуда было деваться, только идти вперед. Отступить они не могли — на них давили сзади. Ускользнуть в сторону тоже не имелось возможности — фланги стерегли мечники Каганбека. И чтобы спастись от стрел гургана, они должны были мчаться вперед с тем, чтобы как можно быстрее сократить расстояние, отделяющее их от врага, до длины вытянутой руки и меча в захвате.
И вот, наконец-то, сшибка. Войско Каганбека с отчаянным воплем врезалось в строй сабельщиков гургана. Началась рубка. Самые прославленные батыры продвинулись вперед. Они должны были проткнуть тело врага и вцепиться в мясо.
Пока сближались, выкрикивали ураны. Когда столкнулись, завопили «Ур!». А как только сеча завязалась, призывы смолкли. Заговорили сабли. Поле боя заполнилось лязгом и звоном стали.
Его богатыри вгрызлись в плотный строй противника. Сначала ручьями просочились в него, а потом распались на горстки и стали расширять вокруг себя пространство. Вот уже почти половина войска протолкнулась в гущу врага. Другая пока не вступила в дело. Но не давила на передних, чтобы не теснить их. Проявляя терпение. А терпение, как известно, суть мужества.
Но все-таки медленно. Медленно продвигалось войско. Невыразимо медленно.
В верховой рубке наступает момент, когда все теряет смысл. Когда сеча разом превращается в бессмысленное побоище. Когда рубят, давят, топчут без разбора и своих, и чужих. Подобное наступает в тот момент, когда иссякает терпение. Нет, не у его воинов. В своих джигитах он был уверен. И не у воинов гургана. Человек, под каким бы знаменем он ни бился, в какую бы кровавую сечу не ввязался, пока он в рассудке, всегда различит своих от чужих. Он держится за своих, чтобы с ними одолеть врага, и тем защитить свою жизнь. Свою и своих товарищей. И товарищи, сокрушая врага, защищают не только себя, но и его. Это первая заповедь на войне: убивай, чтобы тебя не убили. И вторая: выручай товарища, чтобы он выручил тебя. У человека даже в самой страшной сече достает терпения и мужества не терять рассудок и блюсти два этих основных закона. Но у лошадей такой меры терпения нет.
Лошадь прекраснейшее из творений Аллаха. Ее отличает благородство и утонченность натуры. Но благородство и утонченность, по сути, есть опровержение терпения. В тесноте боя, надышавшись запахом крови и человеческого пота, ошалев от лязга металла, лошадь вдруг разом выходит из повиновения. Ни страх перед болью, ни азарт схватки, уже не могут удержать ее в строю. Ей нестерпимо хочется одного: как можно быстрее вырваться на волю, из тесноты на простор, из толчеи в свободное пространство. И вот тут она начинает давить, кусать, топтать всех без разбора. И такую лошадь не в силах усмирить даже самый искусный наездник. Есть правило боя: рубить лошадь первой утратившую терпение, под седлом ли она товарища или врага — без различия. Но после первой лошади сходит с ума вторая, третья и так далее. Тогда-то сеча и превращается в свалку.
Исходя именно из этого недостойного лошадиного свойства, разумные полководцы всегда избегают кавалерийской сшибки. Конные отряды могут только касаться друг друга и расходиться по сторонам. Этот маневр за время боя можно повторять сколько угодно раз. Зайти с фланга, потрепать и отойти. Обогнуть врага, ударить в тыл и ошеломить. Но для этих маневров нужен простор, широкое поле. А они сейчас в теснине, в узкой горловине между двух холмов.
Главное достоинство кавалерии во внезапном и стремительном маневре. В способности совершать молниеносные переходы. Появляться там, где тебя не ждут. Обнаруживать врага, когда он пребывает в беспечности. А лобовые атаки с вязким противостоянием — это удел пехоты.
У уйгуров, как пишут в древних книгах, был обычай добираться до поля боя верхами, а в сражение вступать, спешившись, оставляя ненадежных животных коноводам. Может быть, и ему следовало спешить своих бойцов, как это делали древние уйгуры? Но кто такие были уйгуры? Они, если разобраться толком, и не могли считаться степняками, хоть и пасли свои стада в степи. Они скорее, что-то среднее между его предками и китайцами, которых степняки побивали всякий раз, как придет охота. А он Каганбек и его джигиты истинные дети степей. Они прирожденные наездники. Покинув седло, они теряют кураж. Они родились в седле. Их нянчили, кормили грудью матери, которые и сами не слезали с коней. Нет, таким воинам воевать в пешем строю не с руки. Они родились и умрут в седле. Таково их предназначение.
Но только слишком медленно все продвигалось. Томительно, бесконечно, мучительно долго. В любой момент лошадиному терпению мог прийти конец, уступив лошадиной трусости.
Не было сил смотреть на это, невыносимо было видеть, как в рубке, которая возможно в сию минуту превратится в свалку, погибают его лучшие батыры. Нестерпимо хотелось выкрикнуть уран и ринуться в драку. Но он должен терпеть. И ждать, когда его войско завязнет полностью, когда в дело вступят копейщики гургана. Вот тогда в решающий миг он бросится в прорыв, во главе своего резерва, опрокинет врага и принудит пуститься в бегство. И тогда дело останется за малым: преследовать трусов и рубить, рубить, пока не онемеют мышцы. А пока, как бы ни чесались руки, надо терпеливо ждать. Терпение самое достойное качество воина. Оно суть мужества. А мужество, как известно, залог победы.
Когда только Васико услышала призывы горнов и увидела то, как ордынцы, набирая скорость, движутся от мари к горловине, она оставила порученное дело, закинула на спину одра то, что успела собрать и помчалась к своим. Саврасый жеребец под ней был резвый, его подгонять не требовалось. А вот на одра она не пожалела ударов. Только под ношей четырех хурджунов тот все равно двигался до обидного медленно, во всяком случае, не так резво, как хотелось бы ей. Она боялась, что дело, которое началось без нее, и закончится тоже без ее участия. Если этот тихоход так и будет плестись, то она никогда не попадет в это большое дело, похожее на охоту, которое люди называют — войной. Тот, кто побывал на такой охоте, уже не охотник, а — воин!
Когда Васико, наконец, пригнала замученного одра к горловине, там ее постигло новое разочарование. Сотня стояла на фланге, не вступая в дело, чего-то выжидала. Напрасно Васико так торопилась.
— Эй, обозная! Чего стоишь? — крикнул сотник, когда воины расхватали доставленные ею стрелы. — Дожидаешься, когда я всыплю тебе горячих? Живо возвращайся назад!
«Все-таки мой сотник слишком строгий. Мог бы хоть слово сказать в благодарность. Но ничего, ничего, — успокоила себя Васико, — строгость это не страшно. Главное, настоящая охота еще не началась. У меня еще осталось время». С этими мыслями она снова затрусила с косогора вниз, за стрелами.
Во вторую ходку Васико пришлось собирать оброненные стрелы, так как колчаны уже разграбили. Это заняло больше времени и потребовало больше труда. Прежде чем терпение иссякло, ей все-таки удалось набить стрелами четыре хурджуна. «Хватит!» — сказала она и, оставив обозного коня, нагрузила добычу на своего саврасого. Он донес ее от берега до подножия холма, как ветер.
Место на фланге, где она оставила своих, пустовало. Его только-только начала занимать другая сотня, спустившаяся к подножью с вершины.
— А где мои? — спросила Васико, растерявшись. Осмотрелась по сторонам, глянула вверх и увидела, как ее сотня на рысях поднимается в гору.
— Эй, горбоносая! — окликнул ее воин из чужой сотни. — Чего глаза вылупила? Сгружай!
Воин был потный, разгоряченный, только из схватки. Колчан за его спиной был пуст, так же как у всех его товарищей.
— Я не вам собирала, — сказала Васико. — Это для моей сотни. Вон для них! — Васико указала на склон холма.
Потный воин подвел к ней коня, без слов отвесил ей затрещину и, когда она полетела с седла, скинул на землю ее хурджуны. А потом от души огрел саврасого по заду, и тот выпущенной стрелой пустился прочь.
— Догоняй, — посоветовал забияка, — конь хороший.
Васико не оставалось ничего другого, как помчатся за своим саврасым.
«Дело уже началось, а я вынуждена, как полоумная гоняться за лошадью. И, видимо, мне опять придется собирать стрелы. А потому мне следует поторопиться».
В третий заход ей пришлось извлекать стрелы из тел убитых. Потрошить трупы было делом привычным, но больно хлопотным. Наконечник стрелы цепляется за плоть, и поэтому надо кромсать и резать. Чтобы унять нетерпение, она старалась не думать. Не думать о том, что «свои» давно уже в деле, а она по-бабьи потрошит трупы. Вот и потрошила. Просто кромсала и добывала стрелы. Набрала два хурджуна. И когда нетерпеливая и воодушевленная вернулась к подножию холма, то оказалось, что колчаны у воинов опять пусты. Все лучники, что были в отряде гургана, отстрелялись до последней стрелы. А погонщики так и не подошли.
«У гургана закончились стрелы! Милостивый Аллах! — воскликнул хан Каганбек. — Есть луки, есть воины, обученные стрельбе, но нет стрел! Нет предела твоему милосердию, всемилостивый боже! Поистине, все в воле твоей, на тебя и уповаем! Как отблагодарить за проявленную милость, за этот бесценный дар? Целое стадо забить, оросить землю жертвенной кровью. Но позже! А сейчас вперед, — решил хан Каганбек. — В атаку!» И пожалел, что оставил в резерве только полтумена. Надо было оставить целый, а еще лучше два тумена! С двумя он сокрушил бы нерадивого гургана, как пить дать. Бросил бы по одному тумену на каждый холм, скинул бы лучников с вершин, по обратным склонам спустился бы в низину и ударил по гургану с тыла. Но ничего не поделаешь, придется действовать с тем, что есть — с полутуменом. Но бог милостив!
— Урус-огландар, олга! — выкрикнул хан Каганбек, наследник Чингисхана. — Аллаху агбар! — и с обнаженным мечом ринулся вперед.
Конница, застоявшаяся в ожидании атаки, в радостном порыве бросилась за своим предводителем. Вопль пяти тысяч глоток пронесся над равниной. Победоносное «ур» должно было вдохновить тех, кто рубился в горловине.
Гурган отреагировал немедленно. Две ошибки подряд не допустимы — отец не простит, и он будет опозорен. Его мечники пока еще удерживали проход между холмами, лучникам по вершинам, израсходовав весь запас стрел, схватились за мечи и из последних сил отбивали настойчивые атаки кипчаков. Положение было отчаянным и там, и здесь. Мухаммад Джахангир не знал, на что решиться.
Решение подсказал неприятель. Когда гурган увидел, как хан Каганбек впереди своего резерва мчится к подножью левого холма, он оставил сомнения и вывел из горловины тигров Аллаха. Обе хазары развернул к холму и направил вверх по склону.
Конные копейщики были главной ударной силой гургана. Став во главе их, он намеревался встретить атаку хана Каганбека встречным ударом. Скатиться лавиной с вершины, когда тот подойдет к подножью, и взять его на копья. Если ему удастся осуществить намеченное, он опрокинет резерв Каганбека, и после этого у него появится возможность ударить в тыл неприятельских войск, теснивших его мечников в горловине. Тем самым он исправит допущенную ошибку, избежит позора и выполнит поставленную отцом задачу.
Однако планам гургана не суждено было осуществится. Подвели лучники. Мухаммад Джахангир со своими копейщиками успел одолеть подъем только на половину, когда лучники, не выдержав усилий жестокой схватки, отступили и сдали вершину врагу. Пришлось гургану направить свои копья против них.
На пересеченной местности, а тем более на подъеме копьеносная конница, чтобы не потерять строй, всегда идет на мелкой рыси. Так и гурган шел в гору на рысях. Медленное движение его тысяч не могло обеспечить необходимый натиск. Его копейщики не опрокинули, как им положено, не продырявили строй кипчаков, они завязли в нем, и сабельщики врага пробились внутрь его рядов. Пришлось бросить копья и обнажить мечи.
Рубка длилась недолго, но когда Мухаммад Джахангир освободил вершину, Каганбек со своим полутуменом уже поднимался по склону. Дистанция была недостаточной, чтобы копейщики гургана могли взять необходимый разгон и нанести сокрушающий удар. И копья подбирать было поздно. Гурган пошел под склон на мечах. Произошла вторая сшибка. Воистину это сражение было укором всем уложениям и боевым уставам. Оно было опровержением всяческих истин. И чем это должно закончиться известно одному Аллаху. Да, помогут потерявшим терпение его небесные ангелы!
Васико нашла «своих» на вершине холма. Побросав луки, они бились на мечах.
— Я принесла стрелы! — крикнула Васико. — Это последние, больше не осталось!
На нее никто не обратил внимание. Ее просто не услышали.
Васико спрыгнула с коня, подобрала брошенный лук и попробовала выстрелить сама. Стрела, не пролетев и двух локтей, ткнулась в землю. И опять ей резануло пальцы.
Тогда Васико бросила лук, запрыгнула обратно в седло и схватилась за меч. Звон, с которым клинок вышел из ножен, укрепил ее решимость. Она метнулась в гущу своих и стала выискивать врага. С ее стороны это была грубейшая ошибка. Всякий опытный воин твердо знает, что прежде, чем ринуться в атаку, надо отыскать противника. Нацелиться на него глазами прежде, чем нацелиться мечом. Найти его слабое место, самый короткий путь клинка до незащищенной плоти. И тогда уже разить.
Ее меч вознесся над головой. Она крепче сжала рукоять, чтобы удар получился сильнее. Но подлый саврасый шарахнулся. И тут откуда-то сбоку вынырнул вражеский клинок и острием ужалил в ляжку. Конь отпрянул, и Васико, не удержавшись, вывалилась из седла.
Грохнулась об землю и почувствовала, как ножны врезались в печенку. Кувыркнулась в траве и покатилась кубарем под склон. Десять раз, наверно, кувыркнулась прежде, чем остановилась. А как остановилась, села, задрала подол платья и увидела на ляжке огромную резаную рану.
Ни боли, ни страха она не ощущала. Просто хлопала глазами и смотрела на то, как кровь, пузырясь, выходит из раны и лужей собирается на траве. И вдруг озарило: а ведь с каждой каплей крови из нее вытекает жизнь! Эта простая мысль повергла в ужас.
И тогда она заскулила. Она хотела закричать, но не хватило воздуха. Попробовала вдохнуть полной грудью, но грудь словно обручем стянуло. Вот и заскулила.
На вершине свои бились с врагами, а она сидела на спуске и не могла сдвинуться с места. Сверху доносился лязг клинков, гул бьющихся щитов, скрежет затупившихся лезвий. Было слышно, как фыркают и огрызаются кони, как хрипят и стонут люди, как земля гулким эхом отбивает удары копыт. А она в эту мешанину звуков подпустила еще немного писка.
Пищала до тех пор, пока не ощутила мягким местом, как затряслась земля. Испуганно, тревожно. Вскочила, обернулась и увидела, как тесными рядами поднимается многотысячный отряд. Всадники в красных кафтанах, кони вороной масти, и длинные копья наперевес. И вся эта грозная масса движется прямо на нее. Укрыться или увильнуть в сторону было невозможно — отряд шел широким фронтом. Чтобы спастись, оставался один путь — вверх, туда, откуда она скатилась.
Васико припустила в гору. Бежала во всю прыть, едва не задохнулась. А как добралась до вершины, глядь, а своих-то уже почти и нет. Недавно вроде бы здесь было тесно от густоты людей, а теперь раздолье. Бродят кони, потерявшие всадников, мечутся ордынцы, добивая раненных бойцов, и кое-где, сбившись в кучи, отбиваются последние лучники гургана. Все, кто бились, полегли. Вся вершина устлана телами. Вон отсеченная голова смотрит в небо. А вон безглавое туловище плечами уткнулось в песок. А вон ее сотник. Лежит в потоптанной траве и, выпучив глаза, сучил ногами. А над ним скалой нависает огромный ордынец. На ордынце лисий малахай и овчинная шуба мехом наружу. Длинными ручищами он сдавливает горло сотника и сопит от нешуточных усилий. Ордынец настолько огромный, что сотник под ним смотрится цыпленком. И нет у него шанса на спасение. Как бы он ни тужился, ни выворачивался, как бы ни сучил ногами, ни брыкался, силясь спихнуть врага, все напрасно. Яснее ясного, что еще немного, еще несколько мгновений и шейные хрящи хрустнут, и тогда бедняга сотник испустит дух.
Так бы и случилось, если бы Васико не сделала то, чему ее научил брат Вахтанг. Она запрыгнула ордынцу на спину, обхватила руками его огромную голову и, собрав всю свою силу в кончиках пальцев, вогнала их в глазницы. Ордынец взвыл. А Васико закончила начатое: согнула передние фаланги и рванула яблочки на себя.
Глаза ордынца вывалились из глазниц, крик его хрипом застрял в разинутой пасти, а сам он замертво рухнул на землю.
В этот момент наскочили копейщики гургана. Они очистили вершину от неприятеля, после чего зачем-то побросали копья, схватились за мечи и ушли под гору.
Просто удивительно, как Васико и ее сотнику удалось уцелеть, как их не затоптали. Возможно, Ахура Мазда спас.
— Как тебя зовут? — спросил у испуганной девушки сотник.
Она ответила:
— Васико.
— Вставай, — приказал он, поднялся сам и протянул ей руку. — Я у тебя в долгу. Как-нибудь сочтемся.
Он пошел туда, где были свалены копья, подобрал одно и, выставив наперевес, заковылял в гущу схватки. Васико последовала за ним.
В этом бою Васико и ее сотник доказали, что и приверженцы законов Яссы могут сражаться в пеших порядках. Что пеший воин с длинным копьем это серьезная сила против сабельной конницы. Если кто не спесив, и не находит зазорным смотреть снизу-вверх на всадников, если у кого есть мужество не отступить перед брыкливым конем и терпение без устали колоть копьем, то он добудет славу на поле брани.
Кое-кто из, потерявших седло, последовал примеру Васико и ее командира. Подобрали копья и встали рядом с зачинателями нового боя.
Им дано было обнаружить еще одно преимущество пешего строя: стоя на ногах, на твердой земле, не надо бороться со строптивым конем, с его непредсказуемой волей; внимание свободно, и его целиком можно направить на противника, который в это время разбирается со своей лошадью.
«Вот, если бы все слезли с коней, — думала Васико. — Отпустили бы их на волю и взялись за копья». Но все, кроме малой горстки, увлеченно бились верхами. Били врага и погибали сами. До тех пор, пока у лошадей не вышло терпение. Пока не началась свалка.
Когда хан Каганбек, используя численный перевес, обогнул фланги, вышел в тыл, когда он взял войско гургана в кольцо и стянул его, вот тогда в образовавшейся тесноте у лошадей закончилось их лошадиное терпение. И началась свалка, кровавая рубка, побоище.
А Васико в этом бою испытала невыразимый восторг. В кровавой толкотне, в смертельном месиве она испытала такое возвышенное чувство, что ей показалось, будто душа ее воспарила ввысь. Вырвалась из оков страдающего тела, поднялась над жутью безостановочного убийства, и ее свободную, невесомую вознесло за облака, туда, где обитают Бог и его ангелы, и откуда Всевышний управляет своим небесным воинством.
Тело ее страдало, нанося и получая раны, а душа ликовала, пребывая рядом с богом. Ее тело отчаянно хваталось за жизнь, обрывая чужие жизни, а душа трудилась в воинстве Ахура Мазды, пела гимны, вдохновляя тело на подвиг. Она испытала то, что должен испытать каждый охотник, чтобы потом его назвали воином. Она испытала восторг трудной работы — спасать свою жизнь. Спасать и убивать, когда твоя душа пребывает вблизи Бога!
Сокрушитель Вселенной появился тогда, когда душа Васико ликовала в заоблачных высях.
Тумен кипчаков на правом берегу, только завидев его бунчуки, бросился бежать. Сахибкиран даже не подумал о погоне. Он оставил две хазары для охраны переправы, а сам во главе «львов Аллаха» спешно двинулся по хлипкому мосту на выручку сыну.
Он увидел два пульсирующих людских сгустка: один в теснине между подножий двух холмов, а второй на вершине. По столпотворению, которое творилось там, по жуткой, невозможной мешанине, он догадался: дело плохо.
— Где мой сын? — крикнул он лучникам, охраняющим левый берег. — Где гурган Мухаммад Джахангир?
Ему указали на вершину холма. И тогда Сахибкиран приказал:
— Стройся в три колонны! Копейщики вперед!
Три тысячи всадников встали в атакующих порядках. Взяли копья наперевес.
— Зорю! — скомандовал Повелитель.
Горнисты в задних шеренгах расчехлили боевые двухметровые трубы. Уронили широкими раструбами на плечи впередистоящих. И выдули первый зловещий рык: «Уу-ааа». Лошади встрепенулись, воины взбодрились.
— Аллаху агбар! — крикнул Сахибкиран и вскинул меч. — Олга!
Войско отозвалось:
— У-ур!
Карнаи взвыли:
— У-ааа!
Конница ринулась в атаку. И по степи пронесся победный клич Сахибкирана — вопли воинов, слившиеся с ревом карнаев:
— Уур-уаа! Уур-ааа! Ура-а-а!
Сахибкиран хотел воплями и ревом оповестить врага о своем появлении. Внести смятение в его ряды, посеять страх и обратить в бегство. Его не смущало, сможет ли он потом настигнуть ненавистного Каганбека. Сможет ли отмстить за поруганный Азербайджан, сможет ли смыть кровью врага позор нанесенного ему оскорбления. В эту минуту ему было важно одно: развеять туман угрозы, сгустившийся над головой его сына.
Он эту угрозу почувствовал сердцем. Под утро, когда во главе своих отрядов на рысях продвигался по правому берегу. Пронзительно, как стрелой кольнуло в сердце, и в тот же миг он увидел лицо сына. Прекрасный лик его наследника, солнцеподобного Мухаммада Джахангира! И черную тучу, нависшую над ним. Он погнал лошадей. Загубил седельных, пересел на заводных. И вот он здесь. А его сын, его наследник в немыслимой мешанине, которую невозможно назвать сражением. Где-то в толчее бессмысленно рубящихся людей, в толкотне обезумевших животных, в скрежете, грохоте, лязге металла! Где он? Ни бунчуков, ни хоругвей, развевающихся над схваткой, ни одного знака, чтобы указать его место. Уже можно различить лица, кровь на них, струи пота, прорезающие борозды на грязных щеках. Но лица сына не видно. Где оно? Где его блистательный венец? Пусть сверкнут в толпе серебряные зубцы его короны!
У подножия холма он отпустил часть сабельщиков на помощь бьющимся в горловине, а сам помчался в гору. Он не испытал и тени сомнения, врезаясь в толпу. Было неважно, кто насаживается на его копья: свои или враги. Важно было распороть этот человеческий, беснующийся клубок, разорвать в клочья, разметать и высвободить из удушливых, смертельных объятий толпы сына, бесподобного Мухаммада Джахангира. Только бы не зацепить его — этим было поглощено все внимание — только бы сына не затоптали кони!
Он пропорол этот сгусток дважды — вдоль и поперек — но не нашел принца Джахангира.
Толпа рассыпалась, враги пустились бежать, его нукеры бросились в погоню. И вот тогда, когда вершину освободили живые, под грудой мертвых он обнаружил сына. Сначала блеснули серебряные зубцы короны, а потом он увидел его бездыханное, окровавленное, обезображенное конскими копытами тело.
Его гвардейцы бились насмерть, подумалось Тимуру. Они защищали своего предводителя, пока не пали. Их тела вокруг гургана верное тому доказательство. Подумалось, и объяло ужасом. Сковало сердце.
Ему только сорок лет. Он могуч. Он в зените славы. Но как жить дальше? Изо дня в день, из ночи в ночь, пересиливая ночь наступающим утром. Как прожить каждый день и каждую ночь в отдельности, как прожить хотя бы один день и одну ночь, зная, что бесконечность подстерегает за порогом суток? Как прожить не день, а хоть одну минуту, когда в голове гремят барабаны, ревут карнаи! И все о том, что его сын мертв! Солнцеподобный, блистательный гурган Мухаммад Джахангир — мертв! Как жить теперь? И на кого возложить корону, кому оставить трон?
Пленных в этот день не брали. Сахибкиран унимал грохот барабанов и вой карнаев в больной голове видом проливаемой крови. Пленные — воины, их жены и дети, и всякое отрепье из обоза, все взошли на плаху. Труп Каганбека бросили к ногам Повелителя. Его казну доставили, и счетоводы пересчитали сокровища.
Сахибкирана не интересовало, какой будет его доля. Он раздаст паи войску и предводителям туменов. А на свой остаток построит усыпальницу в Самарканде, которым правил его сын. Мухаммад Джахангир был гурганом — его вдова принцесса из дома Чингисхана — а значит носить усыпальнице, в которой упокоится тело принца, название Гур-Эмир!
Когда был казнен последний из орды Каганбека, подошел на свою беду обоз с запасом стрел. Палачи к тому времени уже изрядно притомились, но пришлось им потрудиться еще. Погонщики все до единого поплатились жизнью за медлительность своих лошадей.
При дележе добычи досталась доля и Васико. Она получила золотые и серебряные монеты, медную лохань, ткани и платья из сундуков гарема кипчакских беков.
— Что ты еще хочешь? — спросил ее сотник.
— Я хочу, чтобы ты принял меня в свой отряд, — попросилась Васико.
— Зачем? — сотник не на шутку удивился. — Забудь, что ты была обозной шлюхой. В бою ты показала себя молодцом и спасла мне жизнь, а значит я тебе обязан. В благодарность я возьму тебя в жены. У меня их две, но третья мне не помешает. Когда вернемся в Самарканд, на долю с добычи построю тебе предел. Будешь рожать, растить моих детей, следить за хозяйством.
Васико мотнула головой.
— Мне не нужен предел. И я не хочу в гарем. Я хочу стать воином в твоем отряде.
— Ты что? — возмутился сотник. — Последние крупицы разума растеряла в бою? Или хочешь сделать из меня посмешище? Посмотри на себя — ты носишь юбку!
Васико отшвырнула от себя ворох платьев. Поднялась и ушла. Вернулась уже в штанах, которые стянула с убитого ордынца.
— Все, я больше не в юбке! — заявила она.
Сотник оторопел. Воины тоже.
— Ты женщина по естеству. Пойми! — взмолился сотник. — Дело женщины рожать и воспитывать детей. И еще ублажать мужа. А война — это удел мужчин, причем не всех. Ратный труд выбирает только самых достойных.
— Я спасла тебе жизнь, — напомнила Васико. — В бою не подвела. Значит, я достойна. И еще: забудь, что я женщина. Я мужчина. А то, что у меня дырка между ног, так это ничего не значит. Можешь входить в нее, когда захочется, но только ночью. А днем я буду воином в твоем отряде. И про долг не забывай. Верни, если ты мужчина.
Воины загоготали. Васико задрала ногу и ударила ближайшего пяткой в висок. Она проделала это молниеносно так, как учил брат Вахтанг. Насмешник рухнул. Гогот оборвался. А командир ее только сокрушенно покачал головой.
Войско тронулось утром. Пошло на восток.
За Итилем оно свернет на юг. По Сырдарье поднимется к Ташкенту. И там в два дневных перехода доберется до сердца империи — до славного Самарканда! Надо будет выбрать нового правителя столицы, заложить усыпальницу, вынести траур, а потом устроить курултай и обсудить планы будущих войн.
О своем пребывании на берегах Терека Сахибкиран оставил памятник. Рядом с двумя холмами, где погибло войско гургана, вырос третий холм. Его собрали из черепов казненных кипчаков. Место то стало запретным. Страшный курган обходили стороной. А имя хромого Тимура в тех местах произносили теперь только шепотом.
Омон Хатамов «Меня звали Тимур»
Я писал весь вечер предыдущего дня и время с полуночи до рассвета. А звонок от нее раздался только утром.
— Ты опять не спал? — спросила она и посоветовала. — Позавтракай. Поройся в холодильнике, что-нибудь найдется. Не стесняйся.
— Тебе приготовить?
— Нет, спасибо. Я буду позже.
— Когда?
Она успела повесить трубку.
Позавтракал сам. Нашел фаршированные баклажаны, разогрел в микроволновке и съел за милую душу.
После этого уже не отвлекался. Писал дотемна. До поздней ночи. Но Васико так и не дождался. После полуночи собрался и ушел. Тридцать серебряников оставил на столе. Во всей их символической целостности.
Я вернулся в свою съемную квартиру. В фанерной хибаре с душем и отхожим местом в конце двора было неуютно. Дурацкие мысли крутились в голове, и кошки когтями скребли печенку. чтобы спастись от надоедливых мыслей и от боли, сидел и писал. Уже без первого графоманского восторга. Теперь, вообще, не понимал, зачем я это делаю. Но писал, чтобы за вымышленными образами придуманной мной жизни спрятаться от образов реальной.
Писал натужно, упрямо, не отвлекаясь. С малыми перерывами для сна, еды и туалета. Мозг плавился, мысли тягучим потоком изливались на бумагу. А когда, исписываясь, вставал из-за стола, чтобы дать отдых себе и своим героям, реальные герои, как сонмы кровопийц, влетающих в открытое окно, набрасывались на меня.
«Уеду, — обещал я сам себе. — Выполню первый же заказ, получу гонорар и уеду. Ноги моей здесь больше не будет! И как меня только занесло в этот паршивый городишко? На этот паршивый курорт, в эти пародийные тропики!»
Для Васико находил более радикальные выражения. Настолько радикальные, что их нельзя излагать на бумаге. Позже, когда накал в черепной коробке немного спал, высказывания в адрес Васико так же несколько утратили в красочности и выразительности. Однако и их произносить вслух непозволительно. И только дня через три, когда половина истории о смерти внука Амира Тимура — принца Мухаммад-Султана — была написана, я нашел в своем словаре приличествующие выражения и для Васико. «Шлюха! Проститутка! Подлая тварь! Чтоб ей провалиться!» И далее по убывающей, по мере того, как убывали дни, и остывали страсти. «Подстилка, содержанка. Знать ее не хочу!» «Коварная, двуличная вертихвостка. Она еще пожалеет!» «Мне ее жалко. Глупая, бестолковая и самонадеянная дура. И что она возомнила о себе?» «Что она обо мне возомнила? За кого она меня принимает? Думает, я ее прощу?» «А с чего бы ей со мной церемонится? Поморочила голову и бросила. Все правильно». «Я тупица, я бестолочь. Я полное ничтожество! Надо скорее бежать, просить прощения!» «Лучше повеситься: мне ничего не светит. Повеситься духу не хватит, поэтому бежать. Собрать манатки и деру отсюда. Уносить ноги с этого пародийного курорта, пока не свихнулся в этих карликовых субтропиках».
К моменту финальных откровений я вконец испекся, и до конца написал о Тимуре, который, покоряя мир, покорно приносил своей удаче жертвы: жизни самых дорогих ему людей. Тимуру в ближайшем будущем предстояло разбить Золотую Орду — венец его ратных свершений — и потерять в битве, в низовьях Волги своего наследника, горячо любимого внука солнцеподобного гургана Мухаммад-Султана.
Исписанные листки вложил в газету и пошел к Васико. Добрался до ее дома, с карликовой пальмой у входа. Поднялся по лестнице до ее дверей и оставил на коврике у порога свое творение. Потом спустился вниз и спрятался в скверике через дорогу.
Она появилась через час. Выскочила из подъезда и замерла на крыльце. Жутко соблазнительная в шортах и коротком топе. В руках ее была газетка с моими опусами. Она беспокойно озиралась по сторонам. Но меня не обнаружила. Потом прошлась по улице: туда и обратно, а посмотреть через дорогу не додумалась. Да и что это была за дорога — две полосы — и я был виден, как на ладони. Глупышка. Она вернулась в дом, а я вернулся в свою хибару.
Второй раз увидел Васико, когда выбрался за сигаретами. Она слонялась по перекрестку, там, где однажды высадила меня, и устало высматривала меня среди прохожих. «Вот, — подумал я, — уже жалеет. Но поздно».
Потом сам ее искал. Дважды. Первый раз ждал на пляже, не дождался. Во второй раз повстречал ее на набережной. Она сидела на скамейке, и выглядела скверно — поникшая, осунувшаяся, с запавшими глазами. Теперь я уже не злорадствовал. Просто, кольнуло в сердце и сдавило в горле. А вечером, исписавшись, ошалев от своей галиматьи, решил: хватит, достаточно подурачились, пора мириться. Подумал: вот, подчищу то, что успел насочинять и вперед. С букетом цветов, если у меня хватит денег.
А денег, кстати, оставалось в обрез. И мне срочно, в пожарном порядке требовался заказ. Я решил, что, даже помирившись с Васико, я к грязным серебряникам не притронусь. Так что нужен был заказ.
И вот через два дня, когда я подсчитывал остаток денег, прикидывая, насколько паршивые сигареты мне сегодня придется курить, прозвучал звонок. Васико звонить не могла — она не знала номер моего телефона — значит мой агент, потому что ни с кем другим на этом карликовом курорте я не общался. Так и есть — агент! Наконец-то пришел заказ.
Причем хороший заказ — гонорар солидный, мне редко, когда столько сулили. Видимо, клиент попался жирный, из новых русских, вернее из новых армян, так как дело было на Армянской Ривьере.
Надо было снять на долгую память пассию нового армянина, которую он отправлял в отставку. Фотосессия в стиле ню и видео с игрушками. Представьте, некоторые индивиды из числа моих клиентов очень трепетно относятся к своим шалостям. И их не мало. Я с этого кормился последние два года. Нет слов, я выбрал не самое достойное занятие, но, когда я подвязался на этом поприще, особого выбора у меня и не было. Я остался без копейки денег, в чужой стране, терпел крушение. И один мой знакомый пражанин — поляк, владелец студии, снимающей фильмы для взрослых — бросил мне спасательный круг. Я и уцепился. И до сих пор держался за него. Более того, считал свое занятие вполне приемлемым для человека с моим образом мыслей и моим укладом жизни.
Я холостяк, без семьи, без друзей, потерявший связь с родными и родиной. Мне некого и нечего стыдиться. А преимуществ было немало: работа не пыльная, хорошо оплачиваемая, и в некотором роде не лишена приятности, ну, если не слишком привередничать. А мне привередничать особенно не приходилось. До последнего времени.
Но теперь, после того, как я познакомился с Васико, конечно все менялось. Признаться Васико, каким делом мне приходится заниматься, было невозможно, а значит, надо было менять занятие. Я тогда твердо решил: последний заказ и умываю руки. Чем займусь потом, представлял смутно, и до поры до времени решил не думать об этом.
Для съемок был снят номер в гостинице. Я пришел загодя, чтобы расставить оборудование и настроить свет. Когда закончил с приготовлениями, развалился в кресле и закурил. Принял жесткое решение: если доморощенная модель начнет приставать, я вполне корректно, не унижая ни ее, ни своего достоинства, дам понять, что у меня есть принципы. Собственно говоря, это решение далось мне без особого труда.
Я в последнее время не испытывал влечения ни к одной из женщин. Без преувеличений, если бы передо мной выстроили всех самых выдающихся красавиц мира, на меня бы это не произвело никакого впечатления. Как хотите, но рядом с Васико все остальные женщины смотрелись бледно.
Когда пришла модель, я докуривал вторую сигарету. Щелкнул ключ в замке, бесшумно открылась дверь, и донеся голос портье:
— Проходите, вас ждут.
Я встал с кресла и направился к мини бару.
У меня было правило: начинать фотосессию с выпивки. Под коньяк или виски, ведя непринужденную беседу, удается снять смущение и освободить начинающую модель от притворного стыда или наоборот сбить излишний кураж. Удается внушить, что ее и мое пребывание здесь не подразумевает ни подвига, ни унижения, что это всего лишь работа для меня и легкое приключение для нее.
Дверь захлопнулась. Раздались шаги в прихожей.
Из всего богатства мина бара я выбрал виски. «Все эти девицы предпочитают шотландское пойло».
Девица остановилась у входа в комнату. С бутылкой «чиваса» в руках я обернулся к гостье.
— Проходите, не стесняйтесь… — сказал я и обомлел.
В дверях стояла Васико. Тоненькая, стройная, длинноногая, в отвратительном наряде.
Бутылка выскользнула из рук и мягко ударилась об пол, застеленный толстым, ворсистым ковром. Глумливая улыбка эротического фотографа медленно сползла с моего лица.
А Васико удрала.
Была надежда, что она появилась здесь случайно. Она могла выследить меня. Но ее наряд… короткая расклешенная юбка, блузка без рукавов с глубоким вырезом и туфли на высокой платформе с тонким каблуком — лабутены, так их, кажется, называют. Ее наряд не оставлял сомнений. Я схватился за голову.
Коллапс! Полный коллапс! Наступил полный коллапс моей жизни. Мысли окаменели, взгляд застыл, уши забило пробками. Дышал, наверно, по привычке.
Я не сразу заметил, как она вернулась. Не услышал. Вижу, кто-то сидит напротив, нога на ногу. Длиннющие мослы, как у цапли. Пушок на бедрах. Руки, как плети, и не догадаешься, сколько в них силы. Грудь ходит ходуном, девушке тяжело дышать. Глаза пустые, даже страха в них не осталось. А губы… губы исчезли, от них остались только две кривые черточки. Потом слышу, говорит:
— Ладно. Хватит трагедию ломать, — а губы не шевелятся, цедит сквозь зубы, в тонюсенькую щель. — Все нормально.
И смотрит на меня пустыми глазами.
— Вставай. Делай то, что собирался сделать.
Я встал. И занялся делом.
В тот день мы сняли, наверно, самое грязное видео в мире. Полное самых отвратительных сцен и откровений. До меня, возможно, никто такого не снимал. Возможно, мы выдали своего рода шедевр. Возможно, на фестивале грязного кино нам присудили бы порнографический «оскар».
Мы сняли на одном дыхании, упиваясь. Было упоение жутью самого низкого падения. Битва в грязи. Была такая на заре воинской карьеры у Тимура. В той битве никто не победил. Вывалились только все, как поросята и разошлись.
Я, видимо, был совсем плох. Не скажу, что мои страдания оказались мучительней, чем страдания Васико. Скорее, сам я оказался слабее. Не привык держать удар. Раскис.
Васико забрала меня к себе. Церемониться не стала. Уложила в постель, и ее съемочное соло, мы повторили дуэтом.
Наверняка, опять выдали шедевр. И опять битва в грязи? Нет. Нечто внушительней — рождение из грязи. Творец развел вонючую жижу, перепачкал руки, но вылепил два существа и вдохнул в них часть своей сути. Уродцы вышли отъявленные. С дурными наклонностями, подленькие, лживые, корыстолюбивые. И разит от них за версту. Но что с них взять — их вылепили из грязи.
— Только писать для Кантемира не буду, — заявил я, лежа в ее постели.
Она согласилась.
— Завтра же верну аванс.
— Не торопись.
— Да?
Она разрешила закурить. Принесла пепельницу, открыла дверь на балкон. Задуло холодком — было-то под утро.
— А как быть с видео?
— Не знаю.
— Выкинуть?
— Сделай так, как делал прежде. Отдай и получи расчет. Сколько ты получишь?
Я назвал сумму.
— Нормально. Пригодятся, — голос ее звучал устало. Она смотрела на нарастающий столбик пепла на кончике тлеющей сигареты. — Давно хотела спросить: зачем ты куришь?
Я пожал плечами.
— Ведь это вредно.
— А что себя беречь?
Она тяжело вздохнула. Ее дыханием сбило пепел с кончика сигареты мне на грудь. Она сдула его на простыни.
— Вот так травишься, травишься, — проговорила она, — и не замечаешь, что уже всё, пора на свалку.
— Думаешь, пора?
— Нам обоим пора, а ты, как думал?
— Если ты будешь со мной, я как-нибудь поправлюсь.
— А со мной сложнее, — призналась она. — Ты меня не знаешь. Но если сумеешь вытерпеть меня, то и я, наверное, как-нибудь поправлюсь.
Помолчали. Потом она добавила:
— Я научусь готовить.
— Замечательно.
— Куплю поваренную книгу. Буду готовить все, что ты любишь. Как ты думаешь, у меня получится?
— Думаю, получится. Это не сложно, — я потянулся и поставил пепельницу на тумбочку. — Есть задача потруднее. Кое-кто должен отучиться трусить.
— Ты обо мне?
— Я о себе.
— А мне надо отучиться врать
— Мне тоже.
— Получится?
— Я постараюсь.
— Я тоже.
Мне захотелось закурить еще, но я сдержался. Натянул одеяло на грудь, а Васико поднялась и закрыла дверь.
— О чем ты думаешь? — спросила она, когда вернулась в постель.
— Так. О грустном.
— О грустном?
— Я думаю, чем мне заняться теперь. А грустно, потому что ничего не приходит в голову.
— Мы с тобой ни на что не годны, — согласилась Васико. — Если займемся чем-нибудь то, наверняка, новым идиотским делом. И тогда точно окажемся на свалке. Нам надо улизнуть отсюда. Куда-нибудь подальше. Где нас не знают. Где, вообще, никто никого не знает. И зажить там потихонечку. Но куда мы уедем без денег?
— Без денег никуда.
— Достать бы денег.
— Знаешь, где?
Васико отмахнулась.
— Поговорим об этом завтра. А сейчас — спать.
— Я не засну.
— Тогда притворись.
Я не согласился.
— Глупости. Выкладывай, что у тебя на уме?
— Тебе не понравится.
— Рассказывай.
— Все просто, — проговорила она. — В этом городе я знаю только одного человека, у которого есть деньги…
После долгой паузы я сказал:
— …Кажется, я догадываюсь о ком ты.
— Вот, — она зевнула, — говорила же, тебе не понравится.
План, который изложила Васико, оказался крайне авантюрный и опасный. Но при всех своих недостатках он в случае успеха давал возможность решить все проблемы сразу.
Вечером мы появились у Кантемира. И он сразу набросился на меня.
— Ты нохчи, совсем рехнулся? Совсем слетел с катушек?
Ударил по голове свернутыми в трубочку листками бумаги и вонзился в меня взглядом. Мне сделалось не по себе. Из головы вылетело все, что мы с Васико отрепетировали дома, и все мысли свелись к поиску ответа на вопрос: удастся ли выбраться отсюда невредимым в этот раз? Так что инициативу пришлось взять Васико.
— А что случилось? — поинтересовалась она.
Кантемир повернулся к ней.
— Что случилось? Да, ничего не случилось. Просто, сегодня утром мой специалист вернул мне это, — он сунул ей под нос смятые в кулаке листы бумаги, а потом еще раз ударил ими мне по голове. — Вернул и спросил, читал ли я эту галиматью? Я ответил: нет. А он мне: так прочти, — Кантемир ударил в третий раз.
— Может, хватит! — предложила Васико. — А то совсем истрепал бумагу. Ну, попросили тебе прочитать несколько страниц, что с того? Что тебе не понравилось?
— Да этот гаденыш такое насочинял! Мне специалист сказал, что если кто узнает, что здесь написано, — Кантемир взмахнул кулаком с зажатыми к нем листами бумаги, — надо мной в этом городе каждый фуцин смеяться будет. Ты понимаешь, что этот гад мне новое погоняло сварганил?
— Какое?
— Людоед!
Васико развела руками.
— «Людоед». Ну и что? Чем оно тебя не устраивает?
— Ты издеваешься?
— Нет, не издеваюсь. Я на самом деле считаю, что «Людоед» нормальная кличка. Для тебя в самый раз. Брутальная кличка, внушительная. Но если ты против, то про людоедов можно убрать. Можно, вообще, весь сценарий похерить. И все кино. У нас есть кое-что поинтересней, — Васико развернулась ко мне. — Моня, ты что в рот воды набрал? Выкладывай давай.
«Что б ей провалиться».
— Собственно говоря, я не уверен, — начал я, едва ворочая одеревеневшим языком, — насколько это может показаться интересным. В том смысле, что вам это может показаться… Может быть, вначале все-таки обсудим сценарий? Действительно, можно переписать все с самого начала…
— Моня! — прикрикнула на меня Васико, — Не тяни. Выкладывай про свою пещеру.
— Про какую пещеру? — удивился Кантемир.
— Ну, дело в том… — проговорил я и тяжело вздохнул. — Не знаю, как лучше вам сказать…
— Говори, как есть!
— Дело в том, что история, которую я положил в основу сценария, это, конечно, литературный вымысел… но не во всем. Есть там и доля правды. А точнее, эта история совсем не вымысел. Дело в том, что описанное мной семейство людоедов действительно жило здесь во времена Тимура. Оно жило в пещере…
— Ну и что? — Кантемир недовольно покосился на Васико. — Зачем он мне это рассказывает?
— Ты слушай, не перебивай. Моня, продолжай, — подбодрила меня Васико.
— Дело в том… — продолжил я с обреченным видом, — дело в том, что о жизни Тимура на Кавказе мало, что написано. Этот фрагмент его жизни остался, так сказать, за рамками научного поиска. Я возможно единственный, кто всерьез занимается историей его кавказских войн. На самом деле достоверных сведений о кавказских походах Тимура не так уж много, а лучше сказать, всего ничего. И по этой причине каждый новый документ, каждый артефакт, проливающий свет на темные пятна истории, это поистине…
— Короче.
— Я как-то наткнулся на документ, который косвенно указывал на наличие кавказской ветви тимуридов. И еще в ней смутно говорилось о людоедах и о пещере. Меня очень заинтересовала эта информация. И вот спустя много лет, очутившись, так сказать, на месте исторических событий я нашел эту самую пещеру…
— Я сказал, короче!
— Пещера сама по себе не представляет ценность…
— Но в ней есть надписи! — вставила Васико.
— И что с того?
— Надписи сделаны рукой Тимура!
Кантемир обратился ко мне с немым вопросом.
— Предположительно.
Интерес, который пробудился было у Кантемира, снова пропал.
— Однако результаты графической экспертизы определенно указывают на авторство Тимура.
— Ты что мозги мне пудришь? Так «предположительно» или «определенно»?
— Определенно, — заверил я Кантемира. — Просто не все формальности еще соблюдены. Но это наш академический бюрократизм. Пустяки. А в том, что касается текста надписей, наверно, надо сказать, что большая его часть повреждена…
Кантемир нахмурился.
— Но сохранились фрагменты доступные прочтению.
— И что там написано?
— Хороший вопрос. Там написано: «В этой пещере родился мой сын от горской девицы. Нарекаю его именем «Кантемир». Как вам уже известно, эта девица была зороастрийской веры, поэтому Тимур не мог взять ее в гарем и ограничился тем, что оставил надпись.
Кантемир почесал за ухом.
— И где эта пещера?
— Здесь неподалеку. В горах. Мы можем наведаться туда.
— Что-то я не слышал о такой пещере.
— Неудивительно. О ней даже специалисты еще не знают. Только я. Я единственный человек, который к настоящему времени располагает полной информацией о пещере и может указать ее точное местонахождение!
Кантемир покосился на Васико:
— Вместе сочинили?
— У меня бы ума на это не хватило, — голос Васико прозвучал весьма убедительно. — Это не выдумки, это правда.
— Мне понятно ваше недоверие. Непросто вдруг оказаться в роли свидетеля научного открытия. Открытие пещеры и настенных надписей, сделанных рукой Тимура — это событие мирового масштаба, которое имеет неоценимое значение. И не только научное, но и культурное. Для науки и культуры мое открытие почти также значимо, как обнаружение Орхонских надписей в степях Монголии. О моей пещере можно снять документальный фильм. Эта лента, уверен, произведет фурор.
— Документальный фильм? О пещере?
— Да, я полагаю, что жанр документального кино в большей мере соответствует целям, которые вы поставили перед собой, решив снять фильм о Тимуре. Я не отрицаю достоинств художественного фильма, но, поверьте мне, жизнь Тимура, поданная в документальном жанре, будет выглядеть монументальней, историчней что ли. Я за документальный фильм.
Кантемир, как я это отметил при первой встрече, был натуральный кулачок. Его крестьянская сущность, не позволяла ему верить людям на слово.
— Значит, событие мирового масштаба, говоришь, — проговорил он, криво усмехнувшись. — Что же ты тогда не растрезвонил о своем открытие?
— А что бы мне это дало?
— Известность. Глядишь, академиком назначили бы.
— Благодарю покорно. Мне это не нужно.
— А что тебе нужно?
— Кое-что посущественней.
Кантемир снова усмехнулся, хитро посмотрел сквозь прищур и погрозил мне толстым, как сарделька пальцем.
— А ведь я верно угадал твою натуру. Ты нохчи! В тебе течет их разбойничья кровь! Я эту кровь за километр чую.
Я пожал плечами, мол, нохчи так нохчи.
Кантемир поближе придвинулся ко мне.
— Это не так. Но это и не важно.
— Вот что я скажу. Я нохчей не очень-то люблю, но, как ни крути, вас есть, за что уважать! Вы знаете, чего хотите, и умеете добиваться своего. И я давно понял, что с вами лучше дружить, чем враждовать. И потом мне нравится, что вы не виляете задом. Так что и ты не виляй, выкладывай начистоту, как у вас положено. Сколько?
— Что сколько?
— Сколько просишь за свою пещеру! — Кантемир посмотрел на меня с угрозой. — Ведь ты пришел продать ее, а не со мной чирикать.
Я не сразу ответил.
— Так вы готовы заплатить?
— Называй цену, болтун! — лицо Кантемира приняло людоедское выражение, так что я сразу подрастерял кураж.
— Если вы интересуетесь из любопытства…
— Говори! У меня терпения мало.
Я перевел дух.
— Пятьдесят миллионов.
— Что?!
— Рублей, — поспешил я внести ясность. — Не долларов, не евро…
— Ты кого привела? — Кантемир зло глянул на Васико. — Откуда ты откопала этого чеканутого нохчи?
— Это не так уж много, — попытался я обосновать свои запросы. — Если учесть, что сулит это приобретение вам в будущем, то моя цена — это сущий пустяк. Поймите, когда я пренебрежительно отозвался о славе, то имел в виду только себя. А вы благодаря пещере, если правильно обставить дело, можете стать мировой знаменитостью. По сравнению с фильмом, который вы собираетесь снять, открытие пещеры несоизмеримо резонансней. И экономически пещерный проект предпочтительней киношного. Сами посудите, бюджет картины минимум полмиллиарда, а за пещеру я прошу в десять раз меньше. Подумайте об этом.
Только я договорил, как мне на голову опустился чугунный кулак Кантемира.
Очнулся я в машине, которая ехала в сторону Имеретинской низменности, проезжая Веселое. В низине у моря бесшумно работали бульдозеры, расчищая площадку под строительство олимпийского порта. Я лежал на заднем сиденье, Васико сидела за рулем, Кантемир — в штурманском кресле.
— Очнулся, — сообщил Людоед Васико, увидев, как я приоткрыл глаза. — И вроде бы вменяем.
Он для проверки провел у меня перед лицом ладонью.
— Не тошнит?
Я мотнул головой.
— Догадываешься, куда мы едем? — Кантемир посмотрел на меня с презрением. — Дурак ты, что бабам доверяешь. Раз уж решил меня облапошить, надо было держать язык за зубами, а не трепаться.
Презрение на его лице сменилось подобием сочувствия.
— Ты парень вроде бы не глупый, а ведешь себя, как идиот. Послушать тебя — грамотный человек, а посмотреть на твои дела — сплошная лажа. Ты должен научиться самым обычным вещам. У тебя не хватает… как бы это сказать… мужского начала. Ты какой-то недоделанный, понятно? Вон, для начала хоть с Васо бери пример. Она хоть и баба, но за себя постоять умеет. И главное знает меру. Ты с меня полста лимонов запросил, а она согласилась разумную цену.
Васико бросила на меня взгляд через зеркало.
— Ты, нохчи, если поумнеешь, тоже в накладе не останешься, получишь свое за научный поиск, — Кантемир протянул мне бутылку с чачей. — Выпей, — проследил, как я сделал пару глотков и продолжил. — Все-таки вы нохчи ненормальные. Такое только вам могло прийти в голову. Чтобы меня, Кантемира, Людоеда — лохануть? И где — в Сочи! Где я царь и бог. Нет, вы точно безумный народец! — он отобрал у меня бутылку, глотнул сам и пустился в назидание. — Надо быть скромнее, реально смотреть на вещи, не задаваться. И главное понятия иметь, соображаешь? Нет бы, прийти ко мне по-хорошему, растолковать все как следует, мол, Кантемир, братан, дело такое, помощь твоя нужна, одному не потянуть. И что: я не помог бы? Если бы ты обратился ко мне по-братски, без хитростей, я бы, мамой клянусь, дал бы тебе полную поддержку. И все остались бы довольны. Вон, ведь, с Васо мы договорились. И с тобой бы договорились, если б поумнее был, — он снова протянул мне чачу. — Пей, не стесняйся, подлечи головку. Она еще потребуется.
За Веселым и Казачьим рынком въехали на пограничный пост. Жизнерадостный, толстобрюхий Пантагрюэль в офицерской форме, издали узнав «лэнд крузер» Кантемира, поспешил поднять шлагбаум. Когда мы проезжали мимо него, он взял под козырек и приветствовал по-турецки, как принято у сочинских армян:
— Сох ол!
Кантемир ответил ему снисходительным кивком.
— Все-таки армян на военную службу пускать нельзя. Армянин в погонах, я считаю, все равно, что беременный мужик. Какое хочешь пузо отрасти, но если ты не баба, хрен родишь.
— А Баграмян? — напомнила Васико. — Тоже беременный мужик?
— Один генерал на всю толпу, — Кантемир отмахнулся.
— Так и среди ваших, генералов мало.
Кантемир и на это нашел, что ответить:
— А наши не служили в тех местах, где погоны носят. Среди наших были турецкие паши и мамлюкские султаны. И вообще, если хочешь знать, черкесы и кабардинцы, наверно, самый воинственный народ. Если один на один, нам никто не страшен. Нас, просто, всегда мало было, а врагов — полно. Вон, у историка нашего спроси, он не даст соврать.
На абхазской стороне нам уделили минимум внимания. Пограничник курил в тенечке, шлагбаумом был поднят, и мы беспрепятственно въехали в страну мандаринов.
— Вот, скажи, брат, — снова пустился в демагогию Кантемир, — правда, что мы черкесы всегда были воинственным народом?
Я кивнул головой.
— Ведь наши тридцать лет с русскими воевали. Потом с теми же русскими у турок. Про башибузуков слышал?
Я еще раз качнул головой.
— А вот скажи. Тимур против наших воевал. Как он их оценивал? Как относился к ним?
Я пожал плечами.
— Ты не изображай рыбу. Скажи по-человечески.
Я сказал:
— Тимур не сталкивался с черкесами непосредственно. Тимур воевал с Ордой, а черкесы служили ордынцам.
— Ну да, как сейчас русским, — Кантемир высказал свою догадку. — Я так мыслю, если Тимур взял себе в жены черкешенку… Ведь та людоедка из пещеры черкешенкой была?
— Черкешенкой.
— Так вот, если жена у него была черкешенке, значит, он к черкесам неплохо относился. Так?
— Так.
Кантемир удовлетворенно хмыкнул.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.