
Бесплатный фрагмент - Совок. Жизнь в преддверии коммунизма
Часть I.
От сотворения Мира до 1941 года
Начало Великого Эксперимента. Восстановление границ
Российской империи.
Арест и освобождение отца.
Ленинградское детство

Вступление
Это не научный труд, это повествование, которое сопровождается размышлениями одного конкретного человека — повествователя, который призывает и читателей поразмышлять.
Повествование начну с себя. В студенческие годы отец рассказывал мне про родителей, родственников и про родословную. Я все это слушал, но проявлял к этому интерес только сиюминутный.
Помню, на первом курсе учебы в институте едем в Харькове по Пушкинской в трамвае на задней площадке с таким же балбесом, как я, и громко, чтобы и другие слышали наши умные речи, рассуждаем о том, что все, что было до конкретного человека — это не его заслуга. О том, что будет после него, — он не узнает. Человек существует от рождения до смерти. Ни до, ни после нет этого человека. Похоронные ритуалы, могилы это все пережитки дикости. Надо заботиться о живом, а уж когда умер, то труп надо или сжечь, или закопать в месте отведенном, как свалка для трупов.
Отца я слушал внимательно, мне чрезвычайно интересно было что-то узнать о предках, но мои воззрения не изменялись. И только сейчас моя мировоззренческая позиция немного изменилась — я понял, что о прошлом человеку полезно помнить, и хорошо бы знать хотя бы одну могилу далекого предка, и чем древнее, тем интереснее. Да и прощание со скончавшимся и поминки имеют глубокий смысл на данном этапе человеческих воззрений в осмысливании своей собственной жизни.
Однако была и другая причина моего нежелания что-то из прошлого запоминать, потому что в начальный период Великого Эксперимента отношение к человеку во многом определялось его классовым происхождением. Отец моей жены — ветеран футбола рассказывает, что в краевой спартакиаде 1931-го года аннулировали победу одной из команд только потому, что команда состояла в основном из служащих, а физическую культуру надо прививать рабочим и крестьянам. Команду расформировали за то, что «при формировании команды «не соблюдали Классового!!! Подхода».
Официально в анкетах я писал, что моя мама, когда мне было 2—3 года, разошлась с отцом и я о нем ничего не знаю. По рассказам матери я только знаю, что он был крестьянином, а вот мама, мол, была дочерью слесаря. Анкеты я начал писать с 44-го года, когда поступал в техникум. Прошлое было таково, что его надо было скрывать.
Это прошлое надо было вытравить из памяти потомков, чтобы они с чистой совестью могли писать, что они из благородной среды рабочих и крестьян. Потому что мне самому каждый раз, заполняя очередную анкету при допуске к очередной страшно секретной работе, а продолжалось это до выхода на пенсию, было неприятно писать неправду о том, что об отце я ничего не знаю и, что дедушка был до революции слесарем.
Не боязнь того, что мне не поверят (проверялась идентичность написания предыдущих и последующих анкет), а неловкость от писания неправды стране, искренним патриотом которой я был. Чтобы не запутаться, один экземпляр анкеты я сохранил. Из-за необходимости говорить неправду, я не вступил в партию. Потому что одно дело писать неправду какому-то ведомству и совсем другое дело — говорить неправду, смотря в глаза товарищей.
Мама об отцовской родне или не знала, или не помнила, или не хотела говорить. О своем происхождении тоже ничего не говорила. Еще живущие ее сестры и брат о прошлом предпочитали молчать, помня о том, что родословная могла, в недалеком прошлом, быть причиной больших неприятностей.
Может быть, они мудрее нас, но я решил все, что узнал или помню, оставить потомкам. Лежа перед засыпанием у папы, во время моих приездов к нему в студенческие годы и позже, я слушал его рассказы, а позже дополнил своим восприятием мира.
История началась не с Великого эксперимента, она началась с небытия, когда происходили химические процессы, приведшие к появлению на земле жизни, а затем и человека.
Предки всех людей стали собственно людьми — <человеком разумным> примерно в одно время, т. е. за несколько десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов лет до нас. Все мы оттуда — из глубины тысячелетий. Поэтому и начну от сотворения мира, ведь где-то там, еще на доклеточном уровне, появился первый мой предок. Многие доклеточные и одноклеточные исчезли с лица земли, а мой — выжил. Миллионы лет в жестокой борьбе за существование он выходил победителем, иначе нас бы не было.
Здесь все, что мне о них удалось выяснить.
Гея в расцвете лет — в масштабе одной стомиллионной ей лет сорок пять минуло.
Гея в зените славы на прошлое зрело взглянула:
Что было в жизни? Чем оно славно — прошедшее?
Что еще в жизни будет? Что, невозвратно ушедшее?
Детства она не помнит, то ли из пыли родилась,
То ли огненным вихрем в солнечном сгустке носилась.
Тела силы могучие кору земную двигали —
Людей тогда еще не было, люди это не видели.
В возрасте том, что положено, стала земля плодородной —
Атомы в гены сплотились на Гее доселе бесплодной.
Бактерии, плесень, хвощи, динозавры ели друг друга, друг друга сменяя.
Земля вокруг солнца носилась, к плоскости ось наклоняя.
Прошло незаметно для Геи событие
На прошлой неделе совсем обычное:
Одно из животных старого вида немного развилось
И в Гомо Сапиенс вид превратилось.
Это и был наш уже многоклеточный предок.
Если у человека и обезьяны был общий предок (обезьяноподобный для человека, и человекоподобный для обезьяны), то после разделения ветвей обезьяны приобрели меховую шубу и научились лазить по деревьям. Обладая такими достоинствами, у них уже не было необходимости совершенствоваться, а предок человека, после разделения ветвей эволюции, меховой одежды не приобрел (или потерял), и бегать на четырех конечностях не научился (или разучился). Возможно, эти ущербности предка человека побудили его к труду, превратившему предка в человека. Человек молотом отковал серп и перестал зерна срывать руками и молоть зубами. Именно в это время Творец одухотворил этот объект своего творчества и, в награду за труд, подарил ему бессмертную душу, доносящую потомкам память о предках. Однако, и дьявол не дремал, и заразил души людей завистью, рождающую соперничество. Люди стали стремиться превзойти друг друга, и по проискам дьявола они перестали быть равными.
Люди, владеющие серпом и молотом, являются корпусом Ноева ковчега, на котором по волнам истории человечество стремится к будущему. Люди, владеющие серпом и молотом, обеспечивают существование президента и его наемной гвардии, банкиров и бандитов, писателей и мошенников, артистов и духовников, которые расположились в надстройке ковчега.
Корпуса Ноевых ковчегов разных народов останутся на плаву и без надстроек, хотя зерна там будут рвать руками и молоть зубами, а вот надстройка без корпуса существовать не может. Поэтому, считают коммунисты — приверженцы социализма, надстройка в борьбе за существование всеми силами должна старательно обеспечивать лучшие, чем на соседних кораблях, условия для производительного труда своих инженеров и рабочих, агрономов и землепашцев, зоотехников и доярок, врачей и педагогов — тех, кто составляет корпуса ковчегов.
А либералы — приверженцы капитализма, считают, что отсутствие меха и способности к стремительному бегу заставили нашего предка задуматься: как же выжить среди этого клыкастого и когтистого зверья, и те, кто посмышленее, научили своих сородичей отковать серп молотом, а затем и пользоваться мобильным телефоном с игровыми схемами.
Так что задача тех, кто машет серпом и молотом, кормить и лелеять тех, кто указует им путь.
Этот предмет спора — прекрасное поле деятельности для ученых философов в поисках истины. Чтобы решить дилемму: кто кого должен «лелеять», сама История поставила Великий эксперимент. Жребий пал на Россию.
Так появился Союз Советских Социалистических Республик.
Вся писаная история человечества сопровождается борьбой «за справедливость», все религии мира пронизаны мыслью о необходимости справедливости. Можно с уверенностью прогнозировать, что и в последующие тысячелетия будут находиться отчаянные головы, которые, жертвуя собой, к этой борьбе будут призывать. К религиозному представлению о справедливости непосредственно примыкает Коммунизм, где идея справедливости и равенства основана, как и в религиях всего мира, на том, что наличие большого ума, силы и таланта это не заслуга человека — это божий дар природы, который принадлежит всем, а не только их обладателям. Поэтому умные, сильные и талантливые должны делиться дарами природы с теми, кто этими дарами обделен, ибо сказано Спасителем: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мат. 19. 24.)». Вознаграждение человек вправе получать только за труд, «Кто не работает, тот не ест». Кампанелла, чтобы достичь справедливости по-христиански, призывал человечество построить коммунистический «Город солнца». Фурье осилил только постройку коммунистического дома — жить в этом доме хотели, есть хотели, а работать не хотели, но идея не умерла (кстати, и никогда не умрет). Шекспир стенал:
«Измучась всем я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И, как шутя, живется богачу».
На этой почве в России взошло уникальное, не виданное в других странах среди образованных людей древо интеллигенции. Российские интеллигенты как бы стеснялись «Божьим даром» своего интеллектуального и духовного превосходства, и считали своей задачей, и даже считали своей обязанностью, подтягивание народа до своего, или хотя бы близкого своему по просвещенности и по духовному совершенству уровня. Они «шли в народ», выступали среди народа с лекциями, издавали в мягких обложках, на серой бумаге доступные по цене соответствующие литературные и просветительские произведения. Были среди образованных людей и противники «якшанья» с народом. Философ Соловьев считал вредным «народопоклонство», но верх брала религиозная идея доброты и справедливости. Поборники этой идеи своей деятельностью удобряли почву, на которой всходили уже революционные, обращенные к народу, призывы, не дожидаясь милостей от господ, революционным путем бороться за установление в России, и даже в мире, общества «свободы, равенства и братства».
Маркс развил идею до экономического учения утверждающего, что коммунистические отношения вызовут небывалый подъем трудолюбия. Маркса не остановил опыт Оуэна. Оуэн купил в Америке земли на целое графство, обустроил коммунистический труд, но коммунары стремились не к тому, чтобы сделать больше других, а к тому, чтобы не сделать больше других. И на маленьком коммунистическом острове, среди океана капиталистического мира, опять, как и у Фурье, затея провалилась. А развитое Марксом учение было столь стройно и многообещающе, что он не мог отказаться от идеи осчастливить человечество; возможно, он учел опыт Оуэна и пришел к выводу, что коммунизм надо строить во всем мире — Ленин, искренне уверовав в коммунизм, взялся за осуществление этой идеи, посвятив этому всю свою жизнь.
Повествуя о нашей жизни, я не гадаю о том, что и как могло быть, например, если бы Ленин не разогнал Учредительное собрание, или если бы к власти пришел не Сталин, а Троцкий. Я пытаюсь понять, как было развернуто, начатое Лениным в 1917 году и продолжено, возможно, искренне партийной бюрократией до 1991 года, как первый шаг в мировой пролетарской революции, строительство в Российской империи, которая в этот исторический период называлась СССР, социализма. Это строительство мировая общественность того времени назвала Великим экспериментом. Что из этого получилось — вы видите, а как это было — почитайте.
Это не учебник истории, а то, какое ощущения у современника оставили события последних 100 лет в соответствии с его положением, потому что «Бытие определяет сознание».
Без сомнения, многие будут со мной не согласны, но если все одинаково, то нет движения, и Гомо Сапиенс в процессе эволюции освоил речь не только для того, чтобы просить и приказывать, но и для того, чтобы делиться — мыслями!
В этой связи, я вспоминаю стих восточной мудрости.
«Поспорили как-то Ботал и Али, и вот за советом к соседу пришли.
Внимательно выслушав, он им сказал: И ты прав Али, и ты прав Ботал.
Из кухни раздался тут голос жены: Не могут быть правыми две стороны.
Внимательно выслушав эти слова, сказал он спокойно: Ты тоже права».
Так что, уважаемые читатели, если Вы окажетесь не согласными со мной, ради бога, не отказывайтесь от своих мыслей — Вы тоже правы, в соответствии со своим бытием.
Родители
Папа.
Телесфор Францевич Камоцкий.
Ему хотелось высказаться, оставить у меня память о своем славном и трагичном для него прошлом. Он мне старался передать эстафету своей памяти.

Я был плохим слушателем, эстафетная палочка упала и вот только сейчас я стараюсь её поднять из пыли забвения. Теперь это характеризует эпоху Великого Эксперимента.
Разговор не мог не коснуться происхождения его имени. Папа сказал, что это имя из католических святок.
Белорусы, считая себя белорусами, тем не менее, православные по вере отождествляют себя с русскими, а католики с поляками. И, соответственно, в Логойске, где был папин дом, есть польское и русское кладбища, а белорусского, как такового, нет. Кладбища рядом. Церкви разные, а народ один.
Недавно (в январе 2002 года) мой двоюродный брат Павел прислал мне из Минска вырезку из газеты с заметкой, взывающей к патриотам на день «Дзяды» — день поминовения предков, прийти на кладбище «Кальварийское» с инструментом и поработать на благоустройстве. В присланной заметке есть такие строчки (в моем переводе): «Кальварийское кладбище основалось не позднее 1800 года, как аристократическое католическое кладбище. Здесь нашли вечный покой люди, которые принадлежали к некоторым дворянским белорусским родам, — это элита белорусского народа: Вайниловичи, Валицкие, Ваньковичи, Витковичи, Даруйские-Вариги, Кабылинские, Камоцкие, Луцкевичи, Неслухойские, Патоцкие, Пишчалы, Храптовичи, Чачоты, Эйсманты, Янушкевичи.»
Как я узнал из интернета, Камоцкие — известный дворянский род. Первая запись о роде Камоцких находится в конце XVII в., а именно — 11.04.1685 г. Именно этим числом датирована Привилегия короля польского Яна III Собесского, выданная предку Камоцких на деревню Молявки в Минском воеводстве. В XIX в. Род Камоцких утвержден в дворянстве Указом Герольдии Правительствующего Сената №980 от 27.01.1843 г. и внесен в VI часть Дворянской Родословной Книги Минской губернии.
Не смотря на то, что заслуги предков не являются достоинством потомков, меня это приятно пощекотало.
В 2010 году моя двоюродная племянница Оля, разбирая бумаги матери, нашла документы, которые Олина бабушка — жена папиного брата Кароля Францевича — Адель Адольфовна привезла из иммиграции. (Для облегчения чтения на последней странице книги я привожу родственные связи тех, кто упомянут в повествовании).
Во время революции Кароль Францевич с женой перебрался в Варшаву, в 1939 году он умер, а жена с дочерью после войны вернулась из иммиграции в Беларусь, в Малявки и остановилась в деревне Гребельки, где жила её сестра. Одна бумага, которую привезла Адель Адольфовна, это «Вводный лист» о введении в собственность Францу Камоцкому по наследству от дворянина Николая Степановича Камоцкого земельного участка, из которого следует, что мой прадед был дворянином и его звали Николай Степанович, а деда Франц Николаевич.
Другая бумага, это план владений мужа Адель Адольфовны, т. е. моего дяди — Карла Францевича Камоцкого у деревень Молявки и Гребельки.
Хранил Кароль Францевич бумаги, может быть, как память, ни на что не надеясь, а может, и надеясь — кто знает… Документы на русском языке, поэтому Кароль это Карл, а Камоцкий через «о». У многих это О сохранилось, и в Интернете полно Комоцких И в интернете Молявки через «о», а на плане через «а».

Сын Николая Степановича — Франц Николаевич женился на француженке Жанне Олимпии Шарпё — потомке крестьян, которых захватила с собой с родины жена Павла I. Из-за женитьбы на крестьянке, дети Франца лишились потомственного дворянства, и мой отец — Телесфор Францевич записан был как сын дворянина.
Редкое для Белой Руси и, тем более, для Московской Руси имя Телесфор, взятое из святок, для меня — русского, как я себя считаю, человека, было как некоторое клеймо.
Как-то, в начале третьего тысячелетия разговорился я по дороге с очередных поминок по скончавшемуся сослуживцу с таким же, как я, соболезнующим. По 150 уже выпито, сытным обедом уже усопшего помянули, и пошел разговор «за жизнь», и при разговоре он спросил, как меня зовут. Услышав «Эдуард Телесфорович» он сочувственно вздохнул: «И у меня тоже, дед из татар».
Клеймо это по каким-то соображениям нанес на потомков мой прапрадед. Николай Степанович Камоцкий, который дал своему сыну имя Франц, Франц Николаевич назвал своего сына, возможно под влиянием жены — француженки, латинским именем Телесфор. Телесфору для своего сына надо было выбрать что-либо не диссонирующее, и он дал мне имя Эдуард. Я стал выбираться на свою колею и назвал своего сына Егор, а Егор назвал своего сына Захар — выбрались.
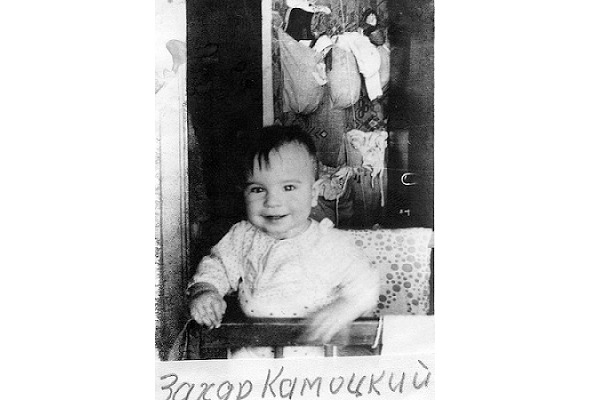
У Оли сохранились дореволюционные фотографии: фото моего отца, и фото папиной сестры — тети Собины (сидит) с женой Карла Францевича — Адель Адольфовной урожденной Литвинской — Олиной бабушкой (стоит). На коленях тети Собины будущий полковник Красной армии — Модест. В годы послереволюционных лихолетий его отца — мужа тети Собины — Ивана Корзюка отправили строить Беломорско-Балтийский канал. Тетя Собина была мужественной и решительной женщиной. Она поехала в Москву и добилась освобождения Мужа, убедив власти, что он оклеветан. Их сын Модест стал военным, и из своего командирского жалования посылал матери деньги, так что она могла помогать своему сосланному брату Петру — моему дяде. Кроме того тетя Собина взяла на воспитание троих детей погибшей в ссылке сестры Эмили.
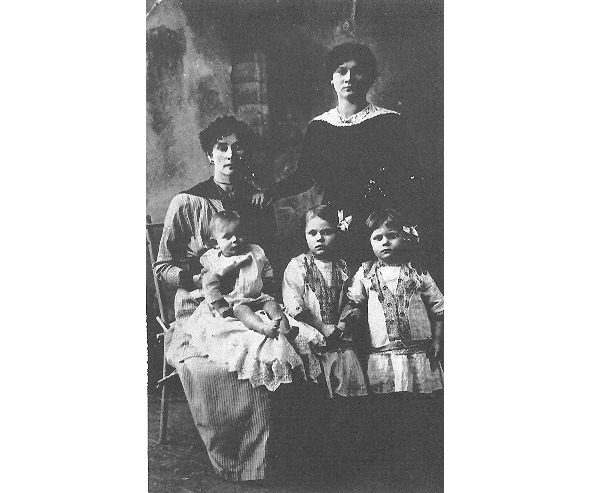
Такие, вот, замысловатые цветные узелки завязывались в это непредсказуемое черно-белое время.
Папин отец Франц Николаевич умер рано, и отец еще до революции стал хозяйствовать самостоятельно.
Хозяйствовал он умело, и владение постепенно приумножал, еще и еще прикупая землицу.
Как он говорил в ответ на мои рассказы о работе: «Эдик, вот мы работали! Целый день вот этими руками ворочаешь вилами навоз — ни грамма навоза не пропадало, а вечером запряжешь в дрожки рысака, а у меня красивые были лошади, и к соседям на фольварк» (хутор).

Из дворян только 1% владели большими поместьями (более 1000 душ) и ещё 2%приличными (более 500 душ), а 60% дворян должны были зарабатывать на жизнь только своим трудом, то ли крестьянским, то ли ремесленным, то ли чиновничьим, то ли военным (В. В. Познанский, 1973).
Гарин Михайловский описывает, как он, занимаясь сельским хозяйством в Поволжье, заставлял соседних крестьян, ссылаясь на опыт немцев, вывозить навоз с крестьянского двора на своё же крестьянское поле. «Так, то немцы», «А зачем?» «Бог даст — будет урожай, а супротив бога не попрёшь». Когда он пригрозил, что не даст им пользоваться принадлежащим ему пастбищем, так вывезут навоз за околицу и ссыпят в овраг. Лень возиться. А вот Г. И. Успенский описывает, с каким вниманием относились знакомые ему крестьяне к навозу (зёму), оценивая сравнительные достоинства конского, коровьего, куриного.
Соседних землевладельцев папа на красивой лошади навещал не в опорках. Была у нас фотография, где отец верхом и сам одет щеголевато — хромовые сапоги, галифе, отороченная каракулем тужурка, каракулевая папаха. Фотография была в тюке, который украли, когда мы во время войны ехали из Сибири на Кавказ. Как шутку я привожу свою фотографию верхом и фотографию папиного правнука, из которого еще неизвестно что получится.
Юность папы пришлась на переломную эпоху в истории человечества. Научные и технические достижения породили представление о могуществе и самодостаточности человека, и в развитие религиозной мечты о воплощении на Земле Божественного Рая пришло материалистическое учение о коммунистической организации самоуправления, где, как в Раю, каждому по потребности.
На смену религиозным фанатикам, каждый из которых по-своему представляя божественный рай, был готов положить свою и чужую жизнь ради именно своего представления о правилах почитания божественного, пришли яростные враги религии — фанатики революции, объявившие почитание бестелесного мракобесием, и готовые положить свои и чужие жизни ради воплощения своей идеи материалистического рая свободы равенства и братства, но не на небесах, а на земле.
Папа был бесконечно далек от этих фанатиков. Он растил хлеб, который ели фанатики и солдаты, которых фанатики поставили под ружьё. Папа кормил царя, а его немецкий товарищ кормил кайзера, который с царем ни как не могли поделить между собой земли и воды планеты, на которой должно размещаться всё человечество. А вопрос кто, где должен размещаться в то время решался только силой. Никаких голосований, референдумов и самоопределения тогда еще не было.
С тех пор, как турки превратили Константинополь в будущий Стамбул, у Русских Православных правителей появилась идея «фикс» о Москве, как о Третьем Риме, и о естественном предначертании Москве быть освободителем и восстановителем поруганного Святого Православного града. И если вначале это носило чисто амбициозный религиозный смысл, то с превращением России в полноценную империю, после того, как она к середине XIX века захватила Среднюю Азию, Северный Кавказ и все северное побережье Черного Моря, включая и покорение Крыма, появилось реальное желание прихватить еще и черноморские проливы. Царское правительство, стремясь использовать религию, как приводной ремень механизма принуждения к повиновению присоединяемых мусульманских народов, построило в Петербурге красивейшую, небесного лазоревого цвета мечеть, по праву являющейся украшением невского берега Петербурга, утверждая этим, что Петербург столица не только российских православных, но и российских мусульман.
Опьяненное успехом царское правительство с вожделением посматривало на Персию и особенно активизировало свои колониальные поползновения на Дальнем Востоке в отношении Кореи, Японии и Китая.
В середине XIX века в Японский порт с дружеским визитом зашли паровое судно и новейший, недавно построенный деревянный парусный военный фрегат «Паллада», а японцы на лодочках сновали около него, чтобы посмотреть его устройство. Гончаров пишет, что наши галантные морские офицеры поразились обычаю, приглашенных в гости на корабль японских чиновников, есть руками.
Но прошло 50 лет после визита «Паллады», и японцы, построив современный бронированный морской флот и модернизировав армию, в 1905 году разгромили нас на суше и на море, а от пленных российских офицеров, чтобы они не перенимали передовой японский опыт, скрывалось, что нижние чины в японской армии по утрам чистят зубы.
Николай, мне кажется, это воспринимал, как личный позор, и когда начала завариваться каша «окончательного» раздела колониального мира между колониальными хищниками в начинающейся мировой войне, он решил броситься в этот кипящий котел, как Иванушка в «Коньке Горбунке», надеясь выпрыгнуть из него отмытым от позора и помолодевшим за счет новых приобретений.
Колюшка так размечтался, что даже торжество победы над Германской коалицией собирался отметить маршем не где-нибудь, а в Константинополе, это можно было бы принять, как шутку, если бы он не нашил торжественных шлемов, ставших «Буденовками» и парадные шинели, в которые мы одели Красную Армию.
Англии и Франция были, вне всякого сомнения, рады участию в войне России на их стороне, но о каких-либо территориальных приобретениях России не могло быть и речи. Россия всё, что граничило с ней, уже захватила, а при дальнейшем продвижении уже вступала в соприкосновение с не менее, а еще более алчными хищниками. В предыдущей Русско-Турецкой войне, когда Русская армия подошла к Константинополю на расстояние видимости, Англия и Франция погрозили ей кулаком. И теперь, Англия и Франция, чтобы предотвратить захват проливов русскими (своими союзниками), сами направили туда эскадру, но затея провалилась. (Эхо Москвы, октябрь 2013 года). Между тем война затягивалась, Русская армия несла большие потери, и тогда Антанта, только чтобы удержать Россию в войне, сказала в отношении проливов: «Ладно, ладно, возражать не будем». Николай, приняв участие в этой войне, совершил сразу несколько стратегических ошибок.
Во-первых, продемонстрировал свою дремучесть, пытаясь реанимировать давно отвергнутые христианским миром религиозные войны (как атавизм древности еще тлеет Северная Ирландия).
Во-вторых, сделал врагом традиционно дружественный нам народ Болгарии. Болгары были рады нашей помощи в освобождении их из-под власти Турции, но менять «шило, на мыло», становясь подданными России, желания не имели. В результате православная Болгария выступила в войне вместе с Турцией против России на стороне Германии.
Ну, и, в-третьих, Николай II, ввязавшись в войну, вверг Россию в преступную по своей сути империалистическую бойню, которая явилась одной из главных причин революции, уничтожившей и его, и наследственное самодержавие. Этой войной Николай сам вложил власть в руки большевиков, и они не растерялись, и руки сомкнули.
От армии во время этой преступной Первой Мировой, папа откупился: «Едешь на комиссию — кабанчика везешь». С патриотическим восторгом войну против германца приняли только купечество, приказчики, студенты и часть интеллигенции. Это, похоже, была такая же публика, как отмеченная Репиным на картине «18 октября 1905 года» (стр. 36). Только, на картине она ликует по случаю освобождения от гнета Царя, а в 1914 году прославляя его за объявление войны с балкона Зимнего дворца. Эта публика верноподданнически приветствует его, полагая, что война приведет к «очищению» России, считая, очевидно, допустимым «очищение» за счет гибели на войне миллионов рабочих и крестьян, для которых война была страшным, ненавистным бедствием.
Революционные вихри папу миновали, сумел не примыкать ни к белым, ни к красным и после революции стал зажиточным «культурным хозяином». Для работы покупал машины с конным приводом (полный набор — молотилка, веялка, универсальная косилка — жатка самосброска) и нанимал работников (батраков). Миновали военные лихолетья. Объявили НЭП, у людей появилась надежда. Казалось после разрухи, страна вернулась к нормальной жизни. Успех захватывал, было сладостно богатеть. Не знал папа, что волю дали временно, только чтобы отдышаться. Не подозревал папа, что он классовый враг новой власти.
Женился.
Женился на Валентине Ксаверьевне Фастович. Отец мамы Ксаверий Иосифович был одним из сыновей помещика Иосифа Фастовича. Поместье было в Загорье рядом с Логойском. Пока были живы старожилы, это место до недавнего времени звалось «Фастовщина». Иосиф Фастович арендовал землю у графа Тышкевича.
Сохранилась фотография, где братья: Ксаверий, Казимир и Петр, с какими-то молодыми людьми с велосипедами. На земле чиновник и два помещика!

Крайний слева в котелке лежит — это мой дедушка в молодости. Дедушка — городской служащий, братья — земледельцы. Их отец Иосиф Фастович скончался в 1901-году на 64-м году жизни и похоронен на католическом кладбище в Логойске.
Сохранился металлический крест на могиле прапрапрадедушки моих внуков — Захара, Жени и Вали. В той же ограде похоронен и Петр Иосифович с женой (памятник с двумя портретами), которые скончались в 1920 году. Опеку над их детьми взял на себя Казимир.

Лет через 10—15 после написания этих строк, в 2006 году мне с внуком Захаром довелось побывать в Минске. Мы посетили могилу Иосифа Фастовича, а потом старший сын моего двоюродного брата Павла — Саша, пользуясь картой и расспросами, довез нас до Загорья.
Ну, что тут скажешь — прямо промысел Божий, мы остановились спросить о дороге рядом с женщиной, которая, опираясь на палку, везла на тележке воду от колонки к дому. Именно в это время ей надо было выйти из дома, именно к ней мы обратились, а она как будто жила и ждала, кому передать эстафетную палочку памяти о Фастовичах. «Вот это место, за тем крайним домом, — Фастовщина. Там стоял дом, сад, еще недавно было дерево, теперь уж все пропало. Очень добрая была пани. Вот здесь жил, который за свиньями ухаживал, вот здесь, который за лошадьми смотрел». Очевидно, в детстве ей рассказывали, а она до нас донесла эти свидетельства жизни наших предков. «Когда дочь работника выходила замуж, ей хозяин в приданное дал лошадь и горшок для варки. А ее в дом мужа не приняли, потому как они по любви, а не по сговору родителей, и сын пошел служить к хозяину. Очень добрая была пани. Вы не знаете, как ее звали? Помянуть бы ее, да и я не знаю».
Далеко осталось то время и только чуть слышен затухающий в десятилетиях звон прощания с уходящим временем. Саша сказал, что я ему (и самому себе) подарок сделал, наведя его на Фастовщину, где жили перед замужеством наши с Павлом мамы. Где они гуляли по саду, ходили в гости.
Сохранилась фотография молодых людей их круга. Среди которых, их двоюродный брат — Мечислав Петрович (стоит крайний слева) Рядом брат его будущей жены — Петр Протасовский. Мечислав в Минске учился в строительном техникуме, и работал. Когда началась коллективизация, молодежь с хуторов извлекали, обвиняя во вредительстве, и ссылали, а родного брата Мечислава, моего двоюродного дядю, — Юзефа Петровича расстреляли.

Отбыв заключение, Мечислав поселился в Новосибирске, где завершил образование в строительном институте. Этот же институт окончила и работала проектировщиком его дочь — Стэлия, моя троюродная сестра (на фото семья Мечислава в 1959 году). Узнать и рассказать о типичной судьбе хуторской молодежи позволил мне мой троюродный брат Валентин Иванович Фастович, который узнал обо мне, наткнувшись в Москве на первое издание этой книги. Рассказал он и о себе. Его отец — Иван Петрович вместе с опекуном — Казимиром был выслан в Котлас, а с 36 года после освобождения, в качестве спецпереселенца работал плотником в поселке Конвейер на одном из островов Архангельска.
В 42 г. его взяли в армию и в том же году он погиб. Его имя высечено на Пискаревском кладбище Ленинграда. После его гибели с него и с семьи сняли кровью смытое клеймо спецпереселенцев. Валентину тогда было всего 2 года, его мама (Софья Яковлевна, в девичестве — Дятлова) работала на станке в швейном цехе. Во время разгрома хуторских хозяйств ее родителей вместе с семьей вывезли из Белоруссии в снега Вологодчины и поместили в холодные бараки на лесоповале. Отец с матерью и атлетического сложения её брат — Алексей со своей женой от холода, голода и изнурительного труда все четверо погибли, ей удалось перебраться в Архангельск, а сына брата — дошкольника Гену забрали в детский дом. С детского дома он ушел на войну. Валентин Иванович вспоминает, как был горд подаренной ему Геннадием Алексеевичем после войны кожаной командирской сумкой, с которой Валентин летом на лодке, зимой по льду ходил в город в школу. Выучился, стал инженером и живет в Москве.

Жена Ксаверия (моя бабушка) — Жозефина Иосифовна, урожденная Ходасевич, тоже из Загорья. Как я сейчас пытаюсь восстановить по памяти и по записям, ее отец Иосиф Ходасевич был участником сражения на Шипке. Осталась легенда, что в какой-то из ситуаций под Плевной он спас провалившегося под лед генерала. Генерал обратился к императору с просьбой отметить своего спасителя. Царь благоволил распорядиться принять дочь Иосифа Петровича Ходасевича в Смольный Институт Благородных девиц.

Но Плевна была за десять лет до рождения бабушки. Что скрывается за этой легендой, я не знаю. Возможно, шаткая человеческая память связала с известной Плевной какую-либо другую, малоизвестную, ситуацию. Бабушка вспоминала, как в 16 лет в Смольном институте она попала на свой первый бал и от волнения покрылась краской, что выдавало её, как девицу, которой не было с детства привито чувство принадлежности к избранным, быть хозяевами жизни, — она оказалась «не в своей тарелке». Я не знаю, окончила ли бабушка Смольный, но лет пятьдесят спустя (уже после Великой Отечественной), в ответ на бабушкину реплику зятю (директору совхоза):
— Что уж Вы так расшаркиваетесь перед заезжим трестовским начальством.
Макар Семенович отшутился:
— И Вы в Смольном ноги царице мыли.
Бабушка уточнила:
— Мы не мыли, мы только присутствовали.
Так ли, иначе ли, но Жозефина получила приличное образование и знала не только белорусский, русский и польский. После учебы она до замужества работала домашним учителем, для чего требовалось не только образование, но и воспитание.
В институте она увлеклась социалистическими идеями Плеханова, и какое-то время ходила на сходки, где они пели революционные песни, а дворники (со слов бабушки) по голосам пытались определить: кто поет и где поют. На этом её революционное прошлое и кончилось.
Позже Иосиф Ходасевич служил на казенной службе инкассатором и был, судя по рассказам, отменной силы. Однажды на него напали грабители, так он их обратил в бегство, орудуя мешком с монетами, как дубиной. Ещё из загорских рассказов запомнился рассказ о том, как кто-то из предков, то ли Фастовичей, то ли Ходасевичей ехал зимой на розвальнях откуда-то куда-то, лошадь дорогу знает и он, развалившись, думая о чем-то своём, рассеянно смотрел вслед уходящей дороге, как вдруг, из-за лесочка появилась стая волков и погналась за санями. Конечно, стая догнала сани. Впереди бежала волчица. Волчица запрыгнула на сани, помочилась на нашего предка и спрыгнула. За ней все волки из стаи по очереди запрыгивали на розвальни, брызгали на возницу и спрыгивали. После чего вся стая побежала за волчицей. Это была не волчья охота. В это время волки справляли свадьбы и стая «гуляла» — резвилась, шалила, а предок от страха чуть богу душу не отдал.
Как дедушка нашел бабушку, я не знаю, но моя мама родилась в мае 1905 года в Петербурге, где дедушка в это время служил на Варшавской железной дороге старшим счетоводом. В январе 1905 года в кровавое воскресение любопытная бабушка, которая была на четвертом месяце беременности, пошла, посмотреть: что это там происходит на Невском, и получила по шляпке казацкой нагайкой.
Из рассказов о детстве мамы один случай запомнился. Члены семьи служащего железной дороги имели право бесплатного проезда пригородными поездами. Однажды моя мама (его старшая дочь) и тетя Люся (вторая дочь) ехали поздно с дачи, где-то в районе Павловска, а свои удостоверения на бесплатный проезд забыли взять с собой. Кондуктор их высадил ночью на глухом лесном полустанке. Дедушка пожаловался, и кондуктора уволили за то, что ночью с поезда ссадил детей. Это было до революции, т. е. маме было меньше двенадцати, а тете Люсе меньше десяти.
Семья чиновника жила на казённой квартире в Митрофановских Флигелях д.143, кв.6, в двухкомнатной квартире. Когда их стало 8 человек: моя мама — Валентина (1905), Людмила (1907), Чеслава (1909), Вячеслав (1911), Евгения (1913), Янина (1916), то, по воспоминаниям тёти Гени, они спали и на стульях, и на столе — меняясь по очереди местами.
После революции дедушка сориентировался и стал работать слесарем на Варшавской железной дороге. Слесарь из него получился хороший, и ему присвоили седьмой разряд — это разряд высшей квалификации. Видно, помещик Иосиф Фастович из своих детей не растил белоручек. Как хорошему работнику, дедушке дали талон на покупку пианино. Вероятно, по дешевке распродавали реквизированное имущество. Деньги на покупку пианино бабушка прятала под скатертью на большом столе т. к. дедушка чрезмерно увлекся бильярдом и проигрывал ощутимо. Так, или иначе, но пианино купили.
В какое время мама получила навыки игры на фортепьяно, я не знаю, но это позволило ей впоследствии подрабатывать по вечерам игрой сопровождения немых фильмов.
В детстве мама неплохо рисовала. Сохранились два рисунка мамы: на одном роза, а на втором рисунок по ботанике. На обратной стороне этого рисунка написано: Валентины Фастович 1 кл. II ступени. Я думаю, школами второй ступени, чтобы стереть некоторый налет сословности, в годы революции назвали бывшие гимназии и реальные училища, в первый класс которых принимают после четырехгодичного обучения в начальной школе первой ступени. Рисунок, в таком случае был сделан в революционную зиму 1917—1918 года (!!!), т. е. занятия не прерывались.

Когда в Питере стало голодно, а тут, вроде, в деревне послабление, военный коммунизм кончился, безземельным дают землю, появились «культурные хозяйства», дедушка с семьей, а к этому времени у него уже было шестеро детей, бросил казенную квартиру и уехал в Белоруссию. Немаловажную роль при этом сыграло и его чрезмерное увлечение бильярдом. Так сказать от соблазна подальше.
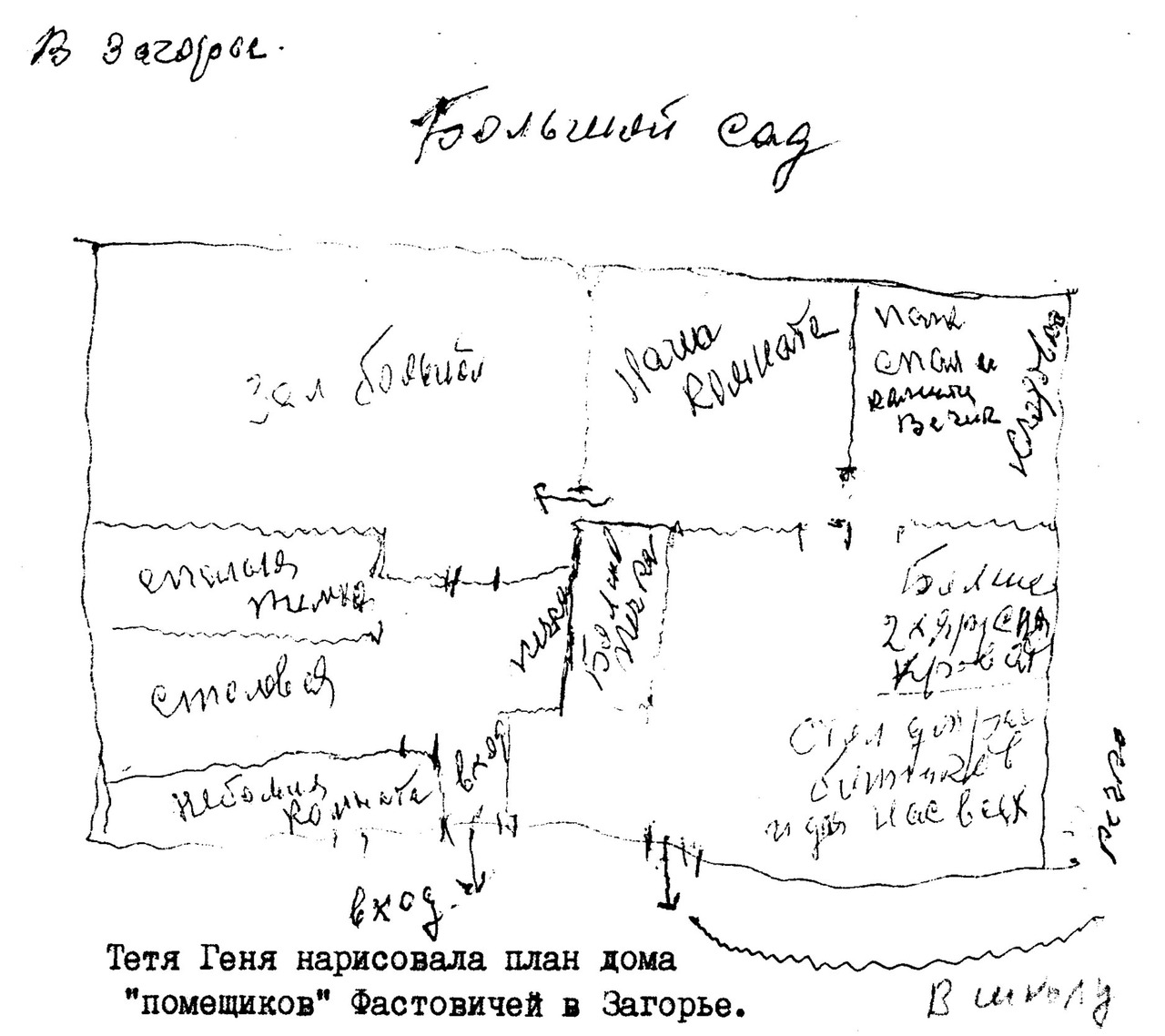
С двери снял дедушка толстую медную табличку (примерно 15х20 см), на которой было выгравировано:
Фастович
Ксаверий Иосифович.
Дедушка хранил эту медную дощечку всю жизнь. Ему так было приятно вспоминать, что у него была «своя» квартира, и на двери была медная пластина с его именем, хоть и спали в ней дети на стульях и на столе. После Отечественной войны мамин брат нашел могилу дедушки, поставил новый крестик из крошки и прикрутил к нему эту пластинку проволочкой. Когда сам состарился, уход за могилкой был недостаточным, и могилка пропала. Кладбище на Лахте, где мы жили после возвращения из Белоруссии, старое и еще до войны, я помню, новые могилы оказывались на месте старых, заброшенных после революции могил. А может быть, и более ранних — Лахта, пожалуй, не моложе Петербурга, а кладбище все одно и то же — в небольшой березовой рощице.
Переезжал дедушка из Питера основательно — с мебелью. Предполагал, вероятно, навсегда. Приехал он в родное поместье к брату (Казимиру). Дом был большой — большой зал, хозяйская столовая, в большой кухне стол и двух ярусные нары для работников. Четыре комнаты, но и народа стало несчетно. Выделили дедушкиной семье комнатку и что-то вроде кладовки, приспособленной под спальню дедушке и сыну — Вячеславу. Дочери опять спали по очереди на двух кроватях и на стульях, и на том же питерском столе.
О том, что Иосиф Фастович был помещиком, и где было его поместье, рассказала племянница дедушки — Юлия Петровна (в замужестве Васильева), а наши ни дедушка, ни бабушка, ни их дети о прошлом не говорят, таков был страх. Ведь, им удалось уехать из этой Белоруссии и спастись, а некоторые погибли в ссылках.
Только сейчас тетя Геня (ей в 2003 году будет 90 лет) стала делиться воспоминаниями.
Когда мы вернулись из Белоруссии в Питер, и поселились на Лахте, от соседей скрывалась наша связь с Белоруссией. По документам все было ясно: ну мало ли кто, откуда приехал. Вся страна переехала, в основном из деревни в город. Но если какой-нибудь мерзавец, или просто «бдительный гражданин» обратил бы внимание соответствующих органов, то тогда те должны были бы «принять меры», чтобы их самих не обвинили в «пособничестве» — термины в кавычках тогда были очень распространены. Бабушка следила, чтобы в общий туалет не попал, в качестве использованной туалетной бумаги, конверт с белорусским адресом — а вдруг! Ведь кто-то мог поднять и прочесть….
Тетя Геня пишет, что на Лахте бабушка следила, чтобы в семье не говорили по-польски. Все дети бабушки родились в Петербурге, где разговорным языком был, естественно, русский, в семье Фастовичей в Загорье говорили по-польски, а в поселке говорили по-белорусски, так что и русский, и польский, и белорусский были для них родными языками, но предков и родословную надо было забыть.
А предки-то были трудягами. И среди помещиков, таких тунеядцев, как Ноздрев или Манилов, было мало. Процветали Собакевичи, Кирсановы, Левины. Беззаботно и достойно жить могли только отставные чиновники достаточно высокого ранга и отставные военные в высоком чине.
Примерно через год после отъезда дедушки из Питера, благодаря НЭПу голод в Питере прекратился, а вернуться уже было некуда. Квартира была потеряна, служба на железной дороге потеряна. Старшие дочери очень переживали — их, родившихся в городе, совсем не прельщала судьба стать деревенскими, да еще крестьянскими. Но до начала коллективизации и сопутствующих ей репрессий девушки из усадьбы Фастовичей еще котировались, как дочери из знатной семьи и женитьба на них была еще по тем представлениям почетной, к тому же еще, как видно из фото, бог красотой их не обидел.
На фото в темных платьях стоит Людмила, а сидит Чеслава, на другом фото стоит Валентина.

Трех дочек дедушка в Белоруссии выдал замуж: тетю Чесю за инженера Робуша, тетю Люсю за землеустроителя Бича, а маму за зажиточного землевладельца.
Маме — городской девушке, пришлось нелегко. Отец, который целый день «вот этими руками» ворочал навоз, полагал, что и остальные, чтобы ездить в дрожках, запряженных красивыми рысаками, должны и попотеть.
Сохранилась мамина открытка родителям:
«Мама и папа! Если вы не приедете за мной, то я окончу иначе, Приезжайте до воскресения или после.1926 год зима».
Не знаю, где мама всё же освоила крестьянский труд — в Загорье или в Логойске, но в войну, в эвакуации в Сибири, на вязке снопов за жаткой самосброской она от колхозниц не отставала.
Раннее детство
Это всё для меня была предыстория, а теперь начинается моя история.
Родился я в Минске, т. е. рожать папа отвез маму в город, там был дом дяди Пети.
Мы жили в Логойске за селом через овраг. Юлия Петровна сказала мне, что это место среди старых людей так и называется: «Камотчина» и рассказала, как можно найти наш дом, который сохранился до сих пор.
Логойск живописное село по обе стороны небольшой тихой речки Гайна, берега которой заросли камышом. Обе части села соединены через речку мостом. На высоких берегах, напротив друг друга до войны были католическая и православная храмы. Во время войны католическая церковь пропала, а после войны на ее месте построили торговый центр.
Летом 88-го года, после путешествия по Прибалтике, мы с Ритой (женой) заехали в Минск к Павлу Бичу — моему двоюродному брату, сыну тети Люси. Втроем: я, Рита и Павел съездили в Логойск. План, который нарисовала Юлия Петровна, я забыл дома и мы пошли по ее плану в моей памяти. По памяти я немного напутал — я с главной улицы свернул направо через овраг не с площади, а перед площадью, если идти от автостанции. Т. е. пошли по другой улице, перешли овраг и я чувствую, что что-то не то. Спросил у пожилой, но не старой женщины, не скажет ли она где тут место, которое называлось «Камотчина».
Место это она знает, и объяснила, как туда идти. В свою очередь спросила: кто мы, и в ее взгляде проявился интерес, когда узнала, что я сын Камоцкого, и она это выразила какими-то словами. Идем дальше. Долго идем. Проходя мимо большого машинного двора, я спросил дорогу у сторожа, и он подсказал, как дальше идти.
Идем, вот здесь, по описанию всех, где-то должно быть. Смотрим, женщина выходит из огорода, дождь моросит, прохладно, а она босиком идет не спеша. Спрашиваем, где здесь дом Камоцкого, она говорит: «Да вот, только что прошли». Узнав, что я сын Камоцкого, она слегка взмахнула руками: «Вали Камоцкой сын?…» Уж такого я никак не ожидал, даже предположить не мог — помнит маму! Как будто на днях уехали. А ведь более полувека прошло с тех пор, как мама здесь жила. Спросила, живы ли родители, сказал, что помёрли. Она сказала, что жива еще папина батрачка — пошли, показались и поклонились. «У, хваткий был». Было видать так, что у отца не разгуляешься.
Дом (Смолевическая 22) продолговатый, бревенчатый (по детскому впечатлению Юлии Петровны: «дом большой, потолки высокие»); его перегородили надвое и теперь там живут две семьи. Видать добротный т. к. все вокруг новые, а он стоит. Сейчас он производит впечатление как бы сдвоенного обычного бревенчатого дома. Цел колодец Камоцких, из которого меня в детстве поили, но теперь провели по этой улице водопровод, колодцем перестали пользоваться и он умирает. (Канули в лету Камотчина, Фастовщина).

Подошла полюбопытствовать средних лет женщина, узнав, кто мы, рассказала, что сад у Камоцких был хороший, в детстве они туда за яблоками пробирались. Мы посмотрели на нее — сколько же ей лет, а она смеется: «Да сад пока был, то так и назывался сад Камоцких», как и дом, как и колодец, называются сейчас. Рассказала, что некоторые ссыльные возвращаются. Возвращаются эти бывшие ссыльные на машинах, дома покупают. Т. е. кто-то и в ссылке сумел не упасть, не стал на колени, не опустил руки, а приложил их к труду — были они «трудягами». Видно, и с обстоятельствами повезло.
Из Логойска, вместе со справкой о реабилитации, мне прислали компенсацию за незаконно реквизированный дом в размере 1000 000 рублей. Павел по моей доверенности положил их в сбербанк, и сообщил, что на эти деньги можно приобрести или полрулона рубероида, или половину оконной рамы.
Сразу за домом начинались поля Камоцкого.
Мне папа запомнился на этом поле на жатке самосброске. Запомнился потому что, когда он проходил полосу в нескольких метрах от дома, мама доверила мне тарелку с яичницей, чтобы я отнес ее папе прямо на полосу. Когда я потом как-то сказал папе, что я, вот, помню такой случай, то он мне сказал, что яичницу мы съели вместе, т. е. у него тоже в памяти остался этот забавный эпизод. В это же время произошло событие, память о котором, и влияние которого, остались на мне на всю жизнь.
Как-то отец вез к дому воз травы. Сам он сидел на возу, а я у него на коленях. Подъехали к сараю, отец слез с воза открыть ворота, а я остался на возу и встал. Когда открылись ворота, лошадь сразу тронулась, а я не удержавшись, с разворотом лицом к концу воза упал, а в траву лезвием вверх была воткнута коса, и я коленкой упал на эту косу. До сих пор стоит в глазах развал раскрытой раны пухлой детской коленки, рассеченной до кости. Половину чашечки отсекло. Ни воза, ни травы я не помню, помню только коленку.
Ноге этой не везло. Еще раньше, только научившись ходить, я с кружкой для чая подошел к кипящему самовару, который стоял на полу, а его кран был на уровне моего пупка, и прежде, чем подставить кружку, открыл кран. Струя крутого кипятка упала на подъемы ступней. Круглые отметины на обеих ступнях остались до сих пор. Правда сейчас, когда кожа отмирает, и вся превращается в пергамент, эти пятнышки стали малозаметными. Потом, когда я научился не только ходить, но и лазить, я залез на табуретку, свалился с нее и сломал ногу выше коленки. Перелом был прямой, и кости срослись со смещением прямо над коленкой. Каково было родителям — ожег, перелом, и теперь вот такая рана и всё за каких-то полтора года.
После падения на косу коленку мне зашили, но началось гниение. Отвезли меня в Минск к знаменитому профессору. Про него ходили байки, что, когда пришли национализировать его больницу, он заявил: «Дайте мне сарай и инструмент и туда ко мне пойдут люди». Кто пойдет? У кого есть, чем заплатить? А у кого нет? Мы поступили по-другому. Мы оставили его профессором в его же больнице и посадили на твердый оклад, а лечение сделали бесплатным.
Мой двоюродный брат, сын тети Люси — Анатолий Макарович Бич, прочитав эти строки, спросил: «Кто, это — мы?»
Везде, где я пишу «Мы», я себя отождествляю со своей родиной — Россией, Беларусью, Советским Союзом.
В больнице я лежал и со стороны в сторону крутил головой со словами: «Ой, больно, ой больно». Мама рассказывала, что волосы на затылке вытерлись до лысины. Чтобы выпустить гной из ноги, надрез сделали на икре, т. е. загнила уже вся нога. След от разреза на икре остался до сих пор. Как рассказывала мама, гной ударил струей на халат хирурга. Как гангрены не случилось? Ведь, антибиотиков тогда не было, не было и сульфамидов. Да так и на войнах в те времена не все раненые погибали, и ампутации тогда делали. Потом нога так и болела долго (еще и на Лахте). На ноге долго был свищ — не один год. В результате эта нога у меня немного короче и тоньше.

Наверное, в это время, еще до ранения, стоя на стуле, вспоминала мама, я декламировал:
Каменщик, каменщик, что же ты строишь?
Что же ты строишь, кому?
Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим, мы строим тюрьму.
Стихи оказались пророческими. В 30-м году отца арестовали — «забрали». Я в 1994-м году, по моему запросу, получил из Минска извещение о том, что мой отец, осужденный в 30-м году на 5 лет лагерей — реабилитирован. Как я понял, статья была политическая — его не раскулачили и не сослали, а посадили.
Революция
А тогда, видно, я и сам понял, что что-то случилось, т. к. в памяти остался тюремный двор, окруженный белым зданием с лестницей, идущей по стене ломаной линией на верхние этажи. А может быть, и запомнилась мне эта лестница, как нечто доселе невиданное, но у меня осталось в памяти, что вроде бы и отец был на этой лестнице, а сейчас мне это кажется невероятным. Впрочем, сейчас тех уму непостижимых ситуаций не реконструируешь.
Сообразно ли целям, поставленным перед страной (собой) стоящим в данный момент у власти правительством, было раскулачивание (по инициативе Сталина), или следовало идти другим путем (предлагаемым Бухариным)? История сослагательного наклонения не терпит, но любой человек может попытаться понять: зачем политики, то или иное сделали. И я пытаюсь понять. Вероятно, это для кого-то будет смешным, а для кого-то предосудительным — какое, мол, я — дилетант, на это имею право. Имею.
Это, ведь, не учебник истории, это как бы беседа с самим собою и с читателем. Оценка истории СССР историками, с оценками которых читатели ознакомятся из учебников и научных трудов, смещается то влево, то вправо в зависимости от конъюнктуры и личных пристрастий историка, а я знакомлю с событиями, и оценкой их современником и свидетелем Великого эксперимента и его краха. Давайте вместе подумаем о нашей истории.
Беседуя друг с другом, мы не всегда друг с другом согласны, и редко бывает, чтобы кто-то кого-то переубедил, так и в этом случае, если Вы будете не согласны со мной — оставайтесь при своем мнении, потому что Вы тоже правы согласно своему бытию.
На всем продолжении истории человечества привычным состоянием была война. За 13 лет царствования Александра III без войны — его прозвали «миротворцем». В такой обстановке надо было стать в ряды сильнейших.
Крымская война 1854 года, Русско-японская война в 1904—1905 году и Первая Мировая война продемонстрировали техническую отсталость и военную слабость России. Громадная Россия выплавляла стали в три раза меньше, чем Германия. Маленькая Япония — запятая на Тихом океане, разгромила нас на суше и на море. Высокотехничные изделия — авиация, автомобили в основном были иностранными. В Первую Мировую не хватало даже патронов и снарядов — их выменивали на наших солдат, которых отвозили воевать во Францию. Создали громадный самолет «Илья Муромец», но моторов своих не было — поставили иностранные. Позже Сикорский — конструктор «Муромца», уехав в Америку, успешно создавал там передовые по совершенству самолеты и вертолеты. Русский заводчик Путилов в фантастически короткий срок — за 18 дней организовал прокатное производство рельсов. Были в России таланты — не было рационального государственного устройства. Поэтому так единодушно все слои населения, все командующие фронтами приняли, совершенную в Феврале буржуазией,
Великую Русскую революцию и свержение царизма, хотя разные слои населения преследовали разные цели.
Высшие слои добивались рационального государственного устройства, а низшие «справедливости». Не Ленин сверг царя, Ленин уловил настроение масс, и, встав во главе, направил массы по нужному, в его представлении, пути.
Россия пробудилась, когда в других странах уже давно было уничтожено крепостное рабство, когда в других странах, в том числе и в монархических, государственные вопросы уже решались парламентами.
Могла ли избежать гражданской войны Россия, где еще жили старики, рожденные крепостными рабами, которых хозяин мог продать, как пеньку. Где на смену крепостничеству пришел неограниченный экономический произвол «хозяев»?
Может быть, демократическими переменами еще до Февральской революции?
Возможность была очень маленькая, но и она была неосуществима при таком Царе. Николай II был неадекватен своему положению.
Так, еще в 1896 году во время своей коронации, когда на Хадынском поле погибло более 1300 человек, и еще больше было изувечено, ранено и сошло с ума, он не только не объявил всенародного траура хотя бы в Москве и Питере, но еще и танцевал на устроенных в честь коронации балах, за что и получил прозвище «Николай кровавый».
Будучи добрым семьянином, безмерно любящим своих детей, что похвально для отца, но не достаточно для главы государства, Царь в своем дневнике оставлял записи для потомков и историков о том, как он в тот или иной день позавтракал, и сколько ворон застрелил во время прогулки по парку. Не знаю, в какой мере он отразил в дневнике Японскую авантюру, где погибших было более 30 000, но угрозу надвигающейся смуты в новом столетии, он не способен был оценить.
В декабре 1904 года царь во время обсуждения своего Указа от 12.12.1904, обратился к Витте за советом по поводу внесения в Указ пункта о необходимости привлечения общественных деятелей в законодательное учреждение того времени, коим был Государственный совет. Витте сказал, что этот пункт составлен под его непосредственным руководством и сказал далее, что:
«Привлечение представителей общества, особливо в выборной форме, в законодательные учреждения есть первый шаг к тому, к чему стихийно стремятся все культурные страны света, т. е. к представительному образу правления, к конституции; … если его величество искренне, бесповоротно пришел к заключению, что невозможно идти против всемирного исторического течения, то этот пункт в указе должен остаться; но если его величество… со своей стороны находит, что такой образ правления не допустим, что он его лично никогда не допустит, то, конечно, с этой точки зрения осторожнее было бы пункт этот не помещать».
Если бы Николай прислушался к советам высших руководителей России, то, может быть, не пришлось бы России стать объектом «Великого эксперимента».
Но Николай ответил:
Да, я никогда, ни в коем случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне богом народа…
И после этого наступило 9 января 1905 года.
Вот запись поэта Максимильяна Волошина: «… я разглядел, что во всех санях, которые проезжали мимо меня, находились не живые люди, а трупы. Извозчичьи сани слишком малы, чтобы можно было уложить тело: поэтому убитые были привязаны. В одних санях я увидел близко рабочего: черная густая жидкость вытекла у него из глаза и застыла в бороде; рядом с ним другой, в окровавленной шубе, с отрезанной кистью, еще живой он сидел прямо, а потом тяжело привалился к спинке. В следующих санях везли труп женщины, с запрокинутой назад, и болтающейся головой: у нее прострелен череп. Дальше труп красиво одетой девочки, лет десяти».
Осталась бесценная запись Айседоры Дункан:
«Я увидела издали длинное печальное черное шествие. Вереницей шли люди, сгорбленные под тяжкой ношей гробов. Извозчик перевел лошадь на шаг, склонил голову и перекрестился. В неясном свете утра я в ужасе смотрела на шествие и спросила извозчика, что это такое. Хотя я не знала русского языка, я поняла, что это были рабочие, убитые перед Зимним дворцом накануне, в роковой день 9-го января 1905 года, за то, что пришли, безоружные, просить царя помочь им в беде, накормить их жен и детей. Я приказала извозчику остановиться. Слезы катились у меня по лицу, замерзая на щеках, пока бесконечное печальное шествие проходило мимо. Но почему хоронят на заре? Потому, что похороны днем могли бы вызвать новую революцию. Зрелище было не для проснувшегося города. Рыдания остановились у меня в горле.… Тут, перед этой нескончаемой процессией, перед этой трагедией я поклялась отдать себя и все свои силы на служение народу и униженным вообще».
Кто-то из сановников сказал: «Этим расстрелом (9 января) Николай расстрелял самодержавие и себя».
«Царь испугался, издал манифест»… Репин на своей картине «18 октября 1905 года» засвидетельствовал, кто радовался дарованной «свободе», а народу был нужен 8-ми часовой рабочий день, прекращение штрафов, раздел помещичьей земли между крестьянами. Царское правительство (приписывают Столыпину) ответило расстрелами и виселицами.

Стрельба по народу, который 9-го января 1905-го года шел к нему с иконами, как к защитнику от произвола хозяев, слепое следование советам царицы: показать народу, «кто в России хозяин», разгон Государственной думы, которая позволила себе что-то требовать, и сведение на нет избирательного права показали, что Николай и после 1905 года не был готов, даже к конституционной монархии, а тут еще и Мировая война, сделали его нетерпимым.
Критически мыслящая общественность констатировала:
«Русские успехи, вроде Брусиловского прорыва, покупались большой кровью, и нередко большие массы солдат в плотных цепях бросались в атаку после далеко не достаточной артиллерийской подготовки, особенно в первые годы войны».
28 членов Государственной Думы и Государственного Совета в начале 1917 г. подали императору Николаю II записку, где, в частности, говорилось: «в армии прочно привился взгляд, что при слабости наших технических сил мы должны пробивать себе путь к победе преимущественно ценой человеческой крови» и предлагалось военачальникам заботиться о сокращении боевых потерь, поскольку «легкое расходование людской жизни… недопустимо, потому что человеческий запас у нас далеко не неистощим». Однако в ответе, составленном генералом Гурко и одобренном царем 4 февраля 1917г. (ст. ст.), указывалось, что «какое-либо давление на начальников в этом чрезвычайно деликатном вопросе, несомненно, повлекло бы к угашению в них предприимчивости и наступательного порыва». (Грани, 1997 г, №183).
В этой преступной войне, как лавочник, который совком черпает из ларя горох и бросает его на чашу весов, чтобы уравновесить гири, Царь черпал, как из ларя, из народной массы молодых ребят, одевал их в солдатские шинели и бросал на чашу военных весов, чтобы уравновесить техническую отсталость и недостаточность военной техники. Озабоченностью частью Государственной думы о чрезмерном расходовании людских (ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ!!!) ресурсов, он пренебрег. Пренебрегло этой озабоченностью и Февральское правительство.
Февральское правительство по своему содержанию (составу), по своему интеллекту, не могло постичь той истины, что стремление народа к немедленному миру — требование неотлагательное. Французский посол в России Палеолог с возмущением пишет о «солдатне», которая не хочет идти воевать. Прочитав это пренебрежительное слово «солдатня», одно только определение возникло у меня по отношению к Палеологу — мразь, для него солдаты не люди, не отцы, не сыновья, для него солдаты это полки, дивизии, которых можно бросить в бой. Что ж Палеолога можно понять — он действовал в интересах Франции. Февральское правительство пыталось гнать солдат в наступление, а солдаты жадно слушали тех, кто разъяснял, что война идет в интересах помещиков, капиталистов и всемирной буржуазии, вот пусть они сами и воюют. Для рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели, война была невыносимым бедствием, несшим им только смерть. В результате к власти пришли люди, зазывными лозунгами которых были лозунги мира и справедливости.
Начался Второй этап Великой русской революции.
Гром корабельной пушки крейсера «Аврора» оповестил мир о том, что свергнуто буржуазно-демократическое правительство и к власти пришла диктатура. Большевики переворот назвали «Великой Октябрьской революцией».
Ставилась задача построения Коммунизма и замены у всего народа естественных животных инстинктов стремления к власти и к приобретению корма — богатства, на стремление к бескорыстному труду. Для этого требовалось перестроить психологию всего человечества. Большевики считали это возможным. Это был Великий эксперимент.
Нет, конечно, это был не эксперимент, это потом его, глядя на то, что у нас происходит, в окружающем мире назвали экспериментом. Революционеры не экспериментировали, они целенаправленно шли к победе Мировой Пролетарской революции, на которую их воодушевил Карл Маркс.
Современные СМИ говорят, что Ленин приехал в Россию из Швейцарии с «чемоданом» денег. Даже если это так, то, что же в результате получилось? Ленин начинал Всемирную Пролетарскую революцию. Для её начала благоприятная обстановка сложилась в России — где-то надо было начинать. Доведенный губительной войной до крайности, народ в Феврале смел Царское правительство и в нем еще не утих революционный запал. Продолжающаяся война была бочкой с порохом, и Ленин поднес к этой бочке фитиль. Ударная волна от взрыва вызвала революционные волны, которые прокатились и по Германии, и по её союзникам и, как и в России, смели с престолов монархии и в Германии, и в Австро-Венгрии и в Османской империи. Если и были у Ленина деньги, то это были деньги Мировой Пролетарской революции, он этими деньгами сломал политический строй всей Европы. Если бы не он, сколько времени еще длилась бы Мировая война.
И Германский капитал, и Русский капитал собирались воевать «до победы». Революции у себя они назвали «ударом себе в спину», они планировали атаки, в которые посылали — кого (?) — рабочих и крестьян, а получили от них «удар в спину». При подписании перемирия (капитуляции!) Германское командование заявило, что заставили Германию прекратить войну не союзники, а «Удар в спину» от своих революционеров.
9 ноября 1918 года — восстание в Берлине и падение правительства.
10 ноября — бегство Вильгельма II и крушение Германской монархии.
11 ноября — капитуляция Германии — миллионы спасенных жизней «солдатни» — рабочих и крестьян принесли эти революции.
Осуждать революционеров, равносильно осуждению Александра Македонского, или Чингисхана, или Европейцев, завоевавших Америку, время было такое, и мораль соответствовала времени. Их время было временем колониальных войн. В новое время история ставила новые задачи, на рубеже XIX, XX веков в жестокой борьбе происходила окончательная отладка политических и экономических механизмов капиталистического строя, и мораль соответствовала времени. Это было время социальных революций. Великие мыслители, самоотверженные (самоотверженные!) борцы за свободу и справедливость поднимали народы на революции и гражданские войны. Неисчислимые бедствия принесли эти великие мыслители и самоотверженные революционеры, эти революции и гражданские войны народам, ради счастья которых и велась эта жестокая борьба, но она была предначертана историей, а в результате появилось понятие о социальном государстве.
Не Плеханов и Ульянов начинали революцию. Революция, освобождающая трудящихся от эксплуатации, начиналась Парижской Коммуной, чтобы создать общество самоуправления без хозяев и батраков. Это так заманчиво и прелестно: «Свобода, равенство и братство» — сам себе хозяин и вокруг товарищи. Первый всплеск оказался неудачным. Последующие революционеры причиной поражения сочли недостаточную решительность своих предшественников в подавлении контрреволюции. Хозяева, со своей стороны увидели реальную угрозу потери своей собственности и начали ожесточенную борьбу против этой угрозы. Бисмарк принимает специальный закон против социалистов. Так что, борьба предстояла жестокая. И в Америке, и в Европе кипела борьба между трудом и капиталом. Общество еще не пришло к осознанию необходимости легализовать эту борьбу, ещё грядут мировой кризис и фашизм.
Ленин, как фанатик идеи освобождения труда, не представлял возможным перед судом истории, перед судом всего человечества не воспользоваться благоприятной обстановкой и не поднять рабочий класс на новою святую борьбу. Он начинал Мировую революцию, чтобы избавить человечество от мировых кризисов, порождаемых стихией рынка, и от мировых воин, порождаемых национальными интересами, потому что существуют только две национальности — эксплуататоры и эксплуатируемые.
Ленин не мог отказаться от попытки и действовал решительно: «рабочие и крестьяне… должны мобилизовать батальоны для рытья окопов… в эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся расстреливать» (21.02.1918).
Борьба выплескивалась на улицы. Бабушка рассказывает, что на «их» Варшавском вокзале из поезда вышел жандармский генерал, который приехал с двумя дочерями, чтобы отдать себя в распоряжение новой власти. Какой-то молодой, буквально мальчишка, тут же на перроне при дочерях застрелил «золотопогонника». А уж тех золотопогонников, которые на фронте гнали «солдатню» под немецкие пулеметы, а теперь встали на защиту царя, помещиков и буржуев, расстреливали пачками огульно, даже без видимости какого бы не было правосудия, а по решению «двойки» или «тройки». Число жертв с обеих сторон не шло ни в какое сравнение с числом жертв на Ходынском поле, но это была гражданская война, которую вёл сам народ.
Революция срослась и с праведным бунтом, и с бандитизмом, и с анархизмом.
С целями октябрьского переворота, на которое подняли жаждущих справедливости, не все согласились. Фабриканты, помещики, банкиры не хотели лишаться богатств. К ним примкнули из разных слоев населения, и те, кто не согласился с Февральской революцией, и оставались в душе поклонниками «Святой матушки России» во главе с «Божьим помазанником Царем батюшкой». Не видело необходимости перемен и значительная часть казачества, у которой изначально была фермерская система землепользования. Число противников большевиков возросло за счет образованной части населения после преступного разгона, впервые в России избранного всеобщим тайным голосованием Учредительного собрания, где большинство получили эсеры. Ленину было ясно, что власть большевикам они не отдадут, а в результате парламентских торгов главой правительства назначат какого-либо «керенского», а то и «сильную руку», вроде Краснова. И хотя на этой первой сессии Учредительного собрания было принято обращение «товарищи», а не «господа», Ленин, понимая, что в этой ситуации об идее «Мировой пролетарской революции» придется забыть, заявил, что на Втором съезде Советов к власти пришла Диктатура пролетариата, которая принимает во внимание только голоса пролетариев, «Учредиловка» же избрана с участием буржуазных и мелкобуржуазных элементов и их слуг, поэтому рабоче-крестьянское правительство её не признает. А шли большевики к власти под лозунгом обеспечения созыва Учредительного собрания. Многие поняли, что лозунги и обещания ничего не стоят. Правление от имени одного меньшинства (буржуазии) заменялось правлением от имени другого меньшинства (пролетариата).
Между тем, эсеры, т. е. социалисты, получили 51,7% голосов и вместе с большевиками и меньшевиками они получили подавляющее большинство (83,9%) голосов, которые были поданы против царя, помещиков и капиталистов, и, вообще, против господ. За кадетов (буржуазию) вместе с монархистами проголосовало всего 4,7%. Так что нашлись у большевиков «простые» аргументы, которыми они повели за собой большинство, — это были лозунги «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим». Началась жесткая и кровавая гражданская война. В попытке задушить народившегося младенца в его колыбели, в гражданской войне приняли участие и бывшие союзники России, которые не на шутку испугались и у себя дома «экспроприации экспроприированного». Мировой капитал снабдил Юденича, Деникина, Колчака, Врангеля оружием и они со всех сторон поползли на Россию. Так что новое «справедливое» государственное устройство рождалось в муках белого и красного террора.
Что несла Белая армия, народ знал: опять «Господа», «Ваше Благородие», «Ваше превосходительство», помещиков и фабрикантов и виселицы для «бунтовщиков». А большевики обещали землю и волю, и никаких господ, а вокруг только товарищи.
Современные «господа» говорят, что благородная белая армия сражалась против будущего Сталинизма. Нет, господа хорошие, до коллективизации еще было 10 лет, до 37 года еще было 20 лет, знать об этом они не могли. Они сражались за свою собственность, за свое положение в обществе против взбунтовавшегося народа (НАРОДА), в том числе и против «Учредиловки», где большинство получили Социалисты революционеры (Эсеры). Колчак расстреливал и вешал не только вооруженных противников, но и пассивно сопротивлявшихся демократов — противников большевиков. Джавахарлал Неру в своих письмах дочери цитирует слова генерала Гревса, командующего войсками Соединенных Штатов Америки, находящимися в то время на нашем Дальнем Востоке. Гревс свидетельствует: «Совершались чудовищные убийства, но их совершали не большевики, как думает мир. Я нисколько не погрешу против истины, заявив, что на каждого убитого большевиками приходилось в Восточной Сибири сто человек убитых противниками большевиков».
В результате взбунтовалась вся Сибирь, в Колчаке они увидели царского генерала, стремящегося навести в вольной Сибири порядок, от которого они ушли. Против офицерских батальонов сибиряки (бывшие нижние чины) вышли и с охотничьими ружьями, и даже с деревянными «пушками» сделанными из бревен, стянутых железными обручами, и труп Колчака сбросили в прорубь. Сибиряки, казачество, поддержали большевиков не ради земли — земли у них было достаточно, они поддержали большевиков в борьбе против господ (любых господ). Карла Маркса они не читали, и о том, что частная собственность, особенно на землю, порочна, они не ведали — они с победой ожидали свободы — от господ, естественно. Потом многие об этом пожалели.
Общество разделилось, люди поверили в возможность создания общества «Свободы равенства и братства», тысячи офицеров и специалистов встали на защиту революции, и революционеры победили.
Белая армия, объединившись с союзниками, оказалась в роли оккупанта на родной земле и ее, уничтожая, вытеснили за пределы России. За пределами России оказались и мобилизованные «их благородиями» в белую армию «нижние чины» — рядовые матросы и солдаты, которых революционеры отнесли к предателям «трудового народа», поскольку они не взбунтовались, а под командованием золотопогонников воевали на стороне фабрикантов и помещиков.
А кто были «контрреволюционеры»? Как соотнести с этим то, что Колчак возложил цветы на могилу расстрелянного царем революционера лейтенанта Шмидта, а Керенский на эту могилу возложил Георгиевский Крест? Не знаю как Колчак, а социалист Керенский считал контрреволюционером Ленина, свергшего порожденное Великой русской революцией революционное Временное правительство, но по Ленину — буржуазное, и, следовательно, не то, что было нужно для победы Мировой пролетарской революции.
Поражает святая и искренняя вера Ленина и первых апологетов коммунизма в возможность коммунистических отношений в целой стране и, даже, в целом мире. Ради справедливости, ради гармонии труда, ради свободы «для народа», ради счастья трудящихся они сквозь тюрьмы и ссылки шли, к светлому коммунистическому обществу самоуправления без полиции и жандармов. К обществу, где, в конечном счете, не будет политических правителей, а останутся только руководители экономики, без которых паровоза не сделаешь. Революционеры отменили формирование армии по призыву, и призвали рабочих и крестьян вступать в Рабоче-крестьянскую армию для защиты свободы, добровольно. Святые идеалисты сразу вместо полиции и жандармерии буржуев создали свою рабочую милицию, чтобы не было ни какой отличной от народа вооруженной силы, способной творить насилие по отношению к народу, но способной неограниченным насилием подавить сопротивление чуждого класса эксплуататоров. Впрочем, в дореволюционных мечтах, еще не окунувшись в суровую правду революции, они полагали, что в результате революции само собой отомрет как таковая смертная казнь. Кто расстреливал и вешал рабочих и крестьян — Столыпин. А теперь рабочие и крестьяне сами придут к власти, и расстреливать их будет некому. Им в голову не могло прийти, что они сами будут кого-то расстреливать.
Эксплуататоров лишили собственности и «отдали» средства производства в руки рабочих и крестьян. На землях бывших поместий организовали коммуны с питанием за общим столом, ожидая невиданного ранее трудового энтузиазма. А коммунары в первую очередь стали смотреть, у кого в тарелке щи гуще, а бессознательные рабочие требовали хлеба.
И среди крестьян и среди рабочих были семьи обеспеченные. Достаточно вспомнить, что Ленин в Разливе скрывался на даче рабочего, который Ленина выдавал за нанятого для работ на даче чухонца. Сносно жили и промышленные рабочие Урала. Естественно, что во время войны на них, как и на всех, обрушились военные тяготы. Все они ожидали, что тяготы уменьшатся, когда будет сметено правление затеявших войну «буржуев», но ожидания не сбылись, и тяготы не только не уменьшились, а разруха гражданской войны сделала их нетерпимыми. По стране прокатились восстания. И тамбовские крестьяне, и ижевские рабочие выступили под красными знаменами, за установление настоящей власти советов рабочих и крестьян без коммунистов. Не отмерла «смертная казнь», восстания были жестоко подавлены.
Это был провал теории Маркса, утверждающей естественность коммунизма. Ленин понял, что коммунизм надо строить исходя из реальной психологии и помыслов людей.
Началось строительство государства далекого от коммунистической теории, предрекающей всеобщую сознательность трудящихся. Началось строительство нового государственного устройства, основанного только на ДИКТАТОРСКОЙ ВОЛЕ и РАЗУМЕ руководителей. Это была директивная плановая экономика, полностью отвергающая стихию. Вновь пришлось отказаться от всеобщего избирательного права и такой химеры как «парламент» с непременной оппозицией, которая могла помешать воплощению мечты, — оппозиция в принципе не допускалась, а для борьбы с контрреволюцией в дополнение к милиции (аналогу полиции) была создана Чрезвычайная комиссия — ЧК (аналог жандармерии). Для сохранения очага Всемирной Пролетарской революции, пришлось вернуться к формированию армии по призыву, правда, на первых порах по территориальному принципу.
Реализация коммунистической мечты об отмирании государства с переходом к обществу самоуправления откладывалась.
«По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу) …ко всем видам деятельности меньшевиков, с.-р. и т.п.; найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией в ее борьбе с нами (подкуп печати и агентов, подготовка войны т.п.)». Указывал Вождь пролетариата 15.05.22.
Начало Великого Эксперимента
Гражданская война закончилась. Началось обустройство страны. Страна победившего пролетариата не могла оставаться Империей, бывшие колонии автоматически становились свободными, и перед руководителями революции встал вопрос, как обратиться с бывшими колониями, где Красной Армией к руководству были приведены местные большевики, чтобы сохранить единство. В дискуссии победило предложение Ленина организовать Союз этих колоний с Россией, как Союз Социалистических республик, а поскольку руководители этих республик были членами единой Большевистской партии, то единство было обеспечено. Теперь разрешалось по всей империи на основе плановой экономики преодолевать вековую отсталость любыми путями, убирая с дороги мусор, который мог помешать движению. Целый пароход нагрузили философами, творчество которых не служило делу пролетарской революции, и вывезли их, как мусор, за границу. Сейчас тот период истории современная именитая интеллигенция воспринимает с лютой ненавистью. Я бы сказал: «классовой».
Недавно мне попались у Гиппиус в стихах времен революции строчки со словами о «вонючих» солдатах. «Ах, ты паразитка, подумал я, — ты же питаешься хлебом, который вырастил этот крестьянин и плещешься в ванне, которая сделана этим рабочим». Вот таких вонючих гнид, действительно, надо вычёсывать густым гребешком — для таких, как Гиппиус место было в эмиграции. Оценивая революцию, она думала о своем рухнувшем благополучии. Отвратно, когда ПОЭТ думает не о благополучии народа, а о благополучии своем. Одной строчкой она зачеркнула все свои стихи. Ну, зачем она это сделала, оставалась бы на нейтральной полоске лирики. «А на нейтральной полосе цветы — необычайной красоты».
И вспомнился мне из фильма «Дни Турбиных» романс, где про душистые гроздья акаций, соловьев и про то «какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда». Этот романс мне безмерно нравится, я прямо физически чувствую это обаяние молодости и беззаботности, и вдруг голод, продовольственные карточки, холод, буржуйки и трудовая повинность («сопротивляющихся расстреливать»). Неприятие было естественным, но это были обыкновенные люди из прослойки между теми, ради кого творилась революция, и теми, против кого творилась революция. Их жизнь определяли будни, и они не способны были встать над этими буднями, а это были будни, когда перемалывалась вся Россия, и они попали между жерновами. Мне те молодые люди близки, как родные. Они — это мы, только мы уже не прослойка. Поэту же ниспослан дар божий, он является каналом — проводником духовности в народ, он не имеет права опускаться до уровня оценки процессов творчества народа по своим мимолетным будням.
В то время стоящие у власти революционеры, состояние наступившего мира рассматривали только как мирную передышку. Пролетарская революция Марксом прогнозировалась только как Мировая. Еще свежи были начертанные на красных полотнищах лозунги: «Даешь Берлин», «Даешь Варшаву», когда гражданскую войну вознамерились превратить в Мировую революцию. Ленин настолько был наивен в своем представлении о том, что мировой пролетариат готов подняться на мировую революцию и только и ждет прихода «братьев по классу» из России, что войска, устремившиеся к Варшаве, нацеливал на дальнейшее продвижение в сторону Италии!! Не получилось. В Польше, только что оторвавшейся от России, на защиту независимости поднялись бывшие соратники в революции — социал-демократы, которые в отличие от теории не бросились творить Мировую революцию, потому что в тот исторический период это предполагало вновь объединение с Россией. Нас не ждали, и объединятся с нами не хотели, а силы для захвата не было. Стать сильной страна могла только в результате мгновенной индустриализации.
Мгновенной она могла стать только благодаря оснащению промышленности орудиями производства, поступившими извне, не дожидаясь собственного их производства. Кредитов для ее покупки нам дать не могли, т. к. мы уже отказались выплачивать долги только потому, что они были взяты другим правительством.
Платить надо было наличными. Для торговли мы могли, сжав страну в кулаке, выдавить из страны только хлеб, лес и пушнину. А покупали мы только средства производства, на покупку средств потребления денег не тратили. Страна не покупала «рыбу», а покупала «удочки».
Опыт НЭПа показал, что, несмотря на бурное и почти мгновенное развитие внутреннего рынка, хлеба для внешней торговли при отсутствии крупных землевладельцев не было — все шло на внутреннее потребление: до достижения сытости в основном в самом сельском хозяйстве. До революции крупные землевладельцы на хлебных биржах торговали хлебом там, где он был дороже. Хлеб шел на экспорт, в то время как малоземельным крестьянам, хлеба порой не хватало даже на пропитание. До революции Россия, оставаясь полуголодной, кормила Европу.
В 27 году хлеба вырастили почти как в 13 году (95%), а товарного зерна получили почти в два раза меньше, чем в 13 году, потому что земли помещиков поделили между крестьянами, и хлеб «съели» сами крестьяне. То есть в 13 году крестьяне из-за нехватки земли вырастили почти в два раза меньше зерна, чем им было нужно для собственного потребления. За что Столыпина прозвали: «Вешателем»? За то, что он вешал тех, кто хотел получить землю, а Столыпин малоземельных сгонял с земли, превращая их в батраков и городских рабочих, или переселяя в Поволжье и Сибирь, чтобы организовать на «освободившихся» землях фермерские хозяйства с товарным производством, и развивать промышленность.
В 27 году, когда началась мгновенная индустриализация, чтобы обеспечить экспортные поставки, в городах пришлось вводить карточную систему. Обеспечить зерном и внутренний, и внешний рынок могло только существенное повышение на тех же пахотных землях урожайности. В стране стало бурно развиваться промышленное производство удобрений, но применять удобрения могли только хорошо организованные крупные хозяйства.
Таким образом, для получения товарного зерна, партия должна была выбрать один из двух путей: или организовать крупные хозяйства, но видоизменив форму отчуждения земли и урожая, или дать простор фермерским (кулацким) хозяйствам, согнав малоземельных с земли и превратив их в батраков. Второй путь был отвергнут, потому что, во-первых, это было неприемлемо с классовых позиций, т. к. противоречило целям революции — ликвидировать деление народа на батраков и хозяев, а во-вторых, на такие преобразования нужны были долгие годы мирного времени.
Сталин повел партию по первому пути на основе коллективных и государственных сельских хозяйств. При этом была учтена психология толпы, ненавидящей индивидуалистов выскочек — кулаков, и стремящейся к общине, где свои неудачи было удобнее спрятать за общей спиной. Руководители новых крупных хозяйств (председатели колхозов, директора совхозов) не были помещиками, они не могли, как помещики устраивать балы для соседних помещиков, развлекаться псовыми охотами и жить в барских домах — дворцах. Председатели и директора были такими же крестьянами и жили в таких же крестьянских жилищах. При успехе в работе и получении богатого урожая, они не становились богаче — их награждали почетными грамотами, медалями и званием депутата какого-нибудь Совета. Превосходство их жизни по отношению к их работникам было в пределах «разумного»: по полям они не пешком ходили, а ездили на дрожках (а иногда и на телегах) и щи у них всегда (?) были с мясом, а яичница на сале. Крестьяне завидовали «начальникам», но у них не было чувства ненависти — «начальники» были такими же «трудягами», но более удачливыми. Назначенные «сверху» они были беспрекословно послушны власти; лишенные должности они, в лучшем случае, вновь становились крестьянами.
На бумаге и в декларациях коллективизация выглядела красиво и обосновано, а в реальности это обернулось для колхозников новым крепостным правом. В этом новом крепостничестве колхозник не был собственностью председателя колхоза, он был «государевым» и колхоз покинуть без причины колхозник не мог, т. к. у него не было паспорта.
Между тем, удобрения пошли на экспорт, урожаи в колхозах не росли так, как это требовалось для всё увеличивающихся нужд экспорта, и для получения товарного зерна, зерно стали вывозить не только по плану, но и сверх плана, оставляя для оплаты трудовых усилий колхозника только определенный «начальством» минимум — иногда всего 100 грамм. Фактически вернулись к «продразверстке», но зерно брали не у крестьянина, который мог отказаться зерно производить, а у коллектива, где каждый должен был отработать заданный минимум трудодней, как при барщине при крепостном праве.
На землях крупных поместий организовали Совхозы. Крестьяне, работающие в совхозах, считались рабочими, и получали за работу денежную зарплату, это было лучше, чем горсть зерна, хотя зарплата совхозного рабочего была существенно ниже зарплаты заводских рабочих.
При коллективизации встал вопрос о том, что делать с успешными «культурными» хозяевами — кулаками? Они могли стать как прекрасными председателями колхозов, так и активными противниками коллективизации. Сталин решил не рисковать, и бросил их (по линии мамы — Фастовичей, по линии папы — Камоцких) в жертву батракам, беднякам, заодно припугнув середняков, при этом собственность «кулаков» стала основой для колхозного хозяйства, а в их домах разместились правления.
Весь комплекс вопросов решался одним ударом при «ликвидации кулачества как класса». Немаловажное значение имела и идеологическая сторона вопроса. Революционеры, провозгласившие целью своей деятельности уничтожение частной собственности, не могли смириться с бурным ее развитием в период НЭПа. Все эти кустари одиночки, культурные хозяйства и акционеры были только временным отступлением на магистральном пути развития революции. Чтобы ликвидировать эту бурно развившуюся поросль, надо было изолировать активную часть народа и задавить страхом остальных.
Проще всего это можно было сделать, натравив жаждущих справедливости бедных на богатых, а при любом предпринимательстве (даже не вполне свободном) всегда будет деление на бедных и богатых. Понятие о неприкосновенности человек осознает только тогда, когда дело доходит до его собственности. Чужая собственность не только прикосновенна, но и вожделенна.
Сослуживица Женя Бельская (в замужестве Николаева) рассказывала, что среди ее предков был купец Первой гильдии. В период НЭПа один из его наследников организовал в Бежецке производство и разлив бутылочного кваса. Когда НЭП прекращали, производство у него реквизировали, а дома сделали обыск в поисках припрятанных денег и золотишка. Золота не нашли, но обратили внимание на его хороший костюм и велели его снять — пусть и пролетарий какой-либо походит в хорошем костюме, не всё же «Нэпманам» в таких щеголять. И это не была прихоть какого-то местного Сов служащего, это был взгляд на жизнь. Так было и в Молдавии, когда там на 10 лет позже, т. е. в 40 году мы устанавливали Советскую власть. Не все «бедные» это одобряли. Керсновская в «Наскальной живописи» рассказывает, что крестьянская семья, которой отдали её сапоги — сапоги «помещицы», не могла принять такой дар, и ночью подложила сапоги к палатке, где ночевала лишенная дома хозяйка. Однако в атмосфере дележа все видели, что выслать могли не только кулака, но осудить и «подкулачника»; т. е. любого за любое супротивное слово. Проведя раскулачивание, правительство достигло сразу двух целей:
1) Загнало деревню в колхозы и лишило крестьян права распоряжаться своим товаром. Правительство получило весь хлеб, и в 32-м году, когда случилась засуха, охватившая Украину, Черноземье России и Поволжье, выполняя обязательства по внешней торговле, даже для еды не оставило в деревне хлеба, а свои огороды из-за засухи тоже погибли, и с голоду люди умирали.
Охотников тоже свели в артели, и организовали натуральный обмен пушнины на еду и боеприпасы.
2) Часть репрессированных превратили в рабов для осуществления лесозаготовок.
Хлеб, лес и пушнина пошли за границу, а в обмен пошли станки и заводы. Началась стремительная индустриализация страны — цель оправдывала средства. Однако эти средства превратили миллионы «жаждущих справедливости» в беспаспортных «свободных» крепостных. Между прочим, родственника Жени Бельской не репрессировали, а даже направили на курсы подучиться и назначили, как «спеца», руководителем производства. Но осталось на нем клеймо «лишенца» (нэпмана, лишенного в период НЭПа избирательных прав), и когда на производстве нарушился процесс (закисла брага??), он покончил с собой. Велик был нагнанный страх.
И не только страх, но и ненависть. Когда в засуху 32 года крестьяне увидели, что вывозят весь хлеб, были случаи поджога скирд со сжатым хлебом: «Ни нам, ни вам», еще больше усугубляя положение (это я в литературе видел, думаю, автор писал это не безосновательно).
Европа к этому времени перестала быть очагом революции, зачинающийся огонь в Германии и Венгрии был потушен.
Наши пылкие «Левые» революционеры (Троцкий), еще мыслили категориями «Мировой Пролетарской» («Перманентной»), когда Сталин понял, что с «Мировой» следует повременить до подходящей ситуации, и все силы были брошены на творение устойчивости и военного могущества пылающего очага. Был поднят на щит тезис о том, что в условиях неравномерного развития государств, победа коммунизма возможна и в одной отдельно взятой стране.
Все вопросы, в том числе и хозяйственные, решались как продолжение Гражданской войны. Любой провал в хозяйственной деятельности рассматривался как результат деятельности скрытых и явных врагов, а с врагами, чтобы не повторился печальный опыт Парижской Коммуны, поступали решительно.
На объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) 17 — 21.XII 1930 г., в связи с постановлением XVI съезда партии «через год иметь возможность обеспечить полностью снабжение мясом», объединенный пленум принимает резолюцию:
«Заслушав отчетный доклад Наркомснаба о снабжении мясом и овощами, объединенный пленум считает работу Наркомснаба по линии Союзмяса и Союзплодоовоща неудовлетворительной. ЦК и ЦКК считают, что аппарат Союзмяса и Союзплодоовоща оказался засоренным чуждыми враждебными и вредительскими элементами (48 расстрелянных вредителей Союзмяса и Союзплодоовоща). Коммунисты, непосредственно руководящие этим делом, не изучили по существу мясного и плодоовощного дела, ограничиваясь бюрократическими циркулярами и „общими“ директивами».
Когда капиталистический мир захлебывался в трясине мирового экономического кризиса, по всему Союзу «от Москвы до самых до окраин» шло строительство гигантских индустриальных, научных и образовательных центров.
Революция, как скребком сняла со страны налет образованных талантливых собственников земли, недр, заводов, все помыслы которых сводились к получению прибыли, увеличивающей их личное состояние. Их не могла интересовать страна, как объект главной и единственной заботы, — таков закон стихийного рынка. Частная собственность, как кисеёй, отодвигает на задний план интересы государства.
На освободившейся ниве взошли новые талантливые руководители, все помыслы которых сводились к выполнению плана превращения страны из сельскохозяйственной сырьевой в индустриальную. Они шли в революцию убежденные в том, что только на основе общенародной (государственной) собственности можно построить общество всеобщего благоденствия, поэтому у них в принципе не могла появиться мысль о приобретении своей частной собственности, со стремлением получения от неё прибыли для себя. Революционеры, созидая могучую державу, под лозунгом: «Догнать и перегнать», себе богатств не наживали, своим детям никакого наследства они не оставили. Ими руководила только идея.
Идея захватила не только революционеров, но и инженеров, ученых, специалистов всех отраслей народного хозяйства (теперь уже «народного»), в том числе и экономистов. Одно дело, когда ты работаешь на бельгийской шахте, или на Обухова, или на Путилова, и другое дело, когда тебе самому доверили преобразовать страну, хотя платить тебе стали сравнимо с квалифицированным рабочим (в 2, 3 раза больше) и стал ты не «господином управляющим», а «товарищем директором».
Для разработки планов восстановления экономики после войны и разрухи требовались знания и умения всех этих специалистов — революционного порыва для этой работы было недостаточно, хотя и революционный порыв играл не последнюю роль. Такие революционеры, как, например, Киров, стали выдающимися руководителями, способными удачно схватывать из предложений специалистов те направления приложения сил, которые давали наибольший эффект. А речь шла не только о восстановлении, но и о грандиозном развитии науки и техники на пути индустриализации. Еще шла гражданская война, а уже разрабатывался план электрификации страны (ГОЭРЛО). Шло колоссальное строительство нового могущественного государства. Необразованные, или «необразованные» (?), пришедшие к власти Революционеры, чтобы превратить «отсталую царскую Россию» в индустриальную державу, превосходящую страны «умирающего капиталистического мира», нутром чувствовали потребность науки. Еще шла гражданская война, а в 18 году был организован институт им. Иоффе, ставший кузницей кадров для будущих атомных разработок; в 31 году организовались группы изучения реактивного движения (ГИРД), подготовивших научные основы баллистических и космических ракет. В 18 году был организован знаменитый ЦАГИ, а в 30 году ЦИАМ, разработки которых легли в основу авиационной промышленности. В 20 году автотракторный институт, начал разработки, в том числе, и бронетанкового вооружения.
Выполнение плана, с использованием всех ресурсов, стало руководящим принципом действий новых руководителей. Надо было спешить, неизвестно даст ли история 13 лет мира, как дала Александру III, к тому же капиталистический мир содрогался в кризисе и могла возникнуть ситуация способствующая развитию Мировой пролетарской революции. Буржуи всего мира (Черчилль) скрипели зубами от ненависти к коммунизму, который лишал их «святой» частной собственности.
К ресурсам, естественно, были отнесены и трудовые ресурсы. Посмотрите на картину Иогансона «Рабфак идет (вузовцы)», как не похожи эти вузовцы на «господ студентов» дореволюционной России или на студентов Кембриджа, но именно эти вузовцы вознесли Россию до космических высот. Все: от министра до уборщицы должны были с максимальной эффективностью использоваться для выполнения плана любой ценой. Любой ценой!
Какое-то время, после одержанной победы, восторг революционеров был велик, и, по свидетельству Берберовой, оставившей за рубежом интересные мемуары, они не помышляли о каких-то для себя привилегиях в трудный послереволюционный период. Были публикации, что нарком продовольствия Радек упал в голодном обмороке и для служащих правительства организовали столовую.

Американский миллионер Арманд Хаммер рассказывает, что во время посещения России в 21-м году, ему дали возможность питаться со служащими правительства, но он не стал есть той бурды (из турнепса — по Берберовой), которую они ели.
Я склонен верить Берберовой и Хаммеру.
Теперь появились публикации, что затем самое высшее руководство бытовые ограничения для себя отменило. Но, разумеется, как не обжирайся, богатств не наживешь.
В 1974 году, прославляя сердечные отношения в семье Ульяновых, было опубликовано письмо сестры Ленина Анны Ильиничны Елизаровой от 9 февраля 1923 года (уже реализуется НЭП), в котором она сообщала, что выслала 100 000 000 рублей жившей в Самаре тяжело больной сестре мужа Александре Тимофеевне. (Пуд ржаной муки в Москве в то время стоил 140 000 р.). В пересчете на нынешние цены 100 миллионов это очень большая сумма. Кроме того, было дано какое-то указание народному комиссару продовольствия Брюханову, относительно снабжения продовольственным пайком Александры Тимофеевны Елизаровой. Непонятно, зачем было к такому несметному богатству добавлять нищенский поёк, и, все же, интересно — откуда у Ленина такие деньги.
Я изложил свое мнение о революции. Оно не полно, потому что, вероятно, идеологи коммунизма искренне считали, что колхозы убедят крестьян в преимуществах коллективного труда, воспитают в массе бескорыстие, убив стремление к мелкобуржуазному стяжательству. Мнение любого историка ошибочно с точки зрения другого историка. Безошибочны только документы, но грамотно подбирая их, можно доказать справедливость противоположных точек зрения. А я и не историк, даже, так что, дорогие потомки, — думайте сами, никому не верьте, сомневайтесь, но если вы будете всегда сомневаться, то вас никогда не постигнет бремя успеха.
Бегство из родительских поместий
Юлия Петровна рассказывает, что после решения «тройки» об осуждении отца, в одну из ночей начальник Логойской милиции послал милиционера предупредить маму, что завтра ее будут высылать, как жену осужденного. Пожалел он меня и маму, а ведь дознайся об этом его начальство — быть бы и ему у края могилы. И милиционер на него не донес — тоже рисковал. Люди, в большинстве своем, по возможности остаются людьми.
Мама взяла меня на руки и той же ночью ушла из дома в Логойск к добрым людям, на которых не могло пасть подозрение, что она у них прячется, а затем добрые люди переправили ее инкогнито в Минск. Из Минска она уехала на родину в Ленинград, где было, у кого остановиться.
Я не помню, как мы ехали, я не знаю, у кого мы остановились (а ведь мог спросить у мамы), в глазах стоит только серый, очень высокий и очень неширокий — очень небольшой ленинградский двор, откуда был вход в дом. Сколько мы в нем жили, я не знаю. Из всего написанного я помню только: яичницу, лошадь, которая идет по кругу и приводит какой-то механизм за стеной, как папа передает в больницу через окошко яблоко для меня, тюремный двор и вот кусок ленинградского двора. Все остальное написано, как воспоминания рассказов взрослых.
В Ленинграде мама устроилась на работу, и жить мы стали на Лахте. Себя я начал помнить только в Ленинграде на Лахте. Лахта в то время была пригородным поселком.
Дальше начинаются мои личные воспоминания, разумеется, с добавлениями рассказов взрослых.
Двор на Лахте, где мы с мамой поселились, был общим для трех или четырех домов. Не исключено, что принадлежали они одному хозяину, потому что двухэтажный деревянный и один или два одноэтажных состояли из отдельных комнат, т. е. предназначались, вероятно, для работников и на сдачу небогатым дачникам, а один одноэтажный был большой квартирой, в которой, в моем представлении, жил хозяин.
Вначале мы жили в двухэтажном на втором этаже, и я спал в сундуке. Потом в одноэтажном, и я спал на сундуке. А двухэтажный вскоре сгорел. Испуга у меня от пожара не было — я ещё не понимал такой опасности — ну горит и горит.
Уже при нас, вероятно, дораскулачивали хозяина. Я помню, как выводили корову. Наверно дома барачного типа были ещё до нас национализированы. Во всяком случае сцена с коровой на нашей жизни, по крайней мере в моём восприятии, не отразилась; мы как жили на этом дворе, так и остались там жить, пока не получили новое жильё; т. е. жильё уже не снималось, а распределялось бесплатно с мизерной квартплатой. Остался ли хозяин в доме, или его выслали — я не знаю, я его не помню, сейчас вижу только, как выводят корову, да и был ли хозяин, я не знаю, возможно, сейчас домысливаю. Во всяком случае, через улицу от этого двора был крепкий финский двор с собакой и коровой, который сохранился до войны. Скорее всего, хозяин того двора стал членом рыболовецкой артели. На Лахте образовали рыболовецкую артель и совхоз.
В совхозе были кирпичные скотные дворы, каменная силосная башня, сад, теплицы и поля. Правление занимало несколько домов, где сидели клерки, и один на Лахтинском шоссе — белый чуть ли не с колонами и балконом, где размещалась дирекция, т. е. это было бывшее крупное пригородное хозяйство.
Будучи постарше, занимаясь во вторую смену, я, развивая в себе смелость, из школы в темноте ходил через совхозный сад, а чтобы не было страшно во всю глотку орал песни.
Большинство лахтинских жителей работало в городе.
Мама пошла на фабрику «Красный Треугольник» рабочей — из тончайших лепестков резины изготавливали цветы роз, а вечерами она ещё подрабатывала тем, что играла на рояле в лахтинском кинотеатре. Фильмы тогда были немые. Не далеко от экрана стоял рояль; ноты подсвечивались закрытой от зрителей и пианиста лампочкой. Играла ли мама на свой вкус, или тема была как-то оговорена, я не знаю и, уже будучи взрослым, не поинтересовался. Мне запомнились кадры, где герой бежит по шпалам, а за ним гонится поезд. Мне было очень смешно — больше ничего не помню.
Потом появились звуковые фильмы — сначала только с музыкой. Мама была, вероятно, ещё вхожа в зал, и из далекого детства врезалась в память картина: домик в лесу, зима, метель, вроде бы даже где-то медведь и музыка. Мне кажется, что с этих кадров я полюбил симфоническую музыку, эта музыка звучала мне. Да не полюбил я её, не звучала она мне — она была во мне, она звучала изнутри меня, только тогда, на этом фильме, я это обнаружил — и именно такая музыка: зима метель, Бетховен, Чайковский, но никак не Шостакович. И это осталось во мне навсегда.
Я не помню, кто за мной присматривал, когда мы жили с мамой одни, — ведь мне 3—4 года, мама на работе. Я помню только, что нас пугали «Черным Вороном», чтобы мы — детвора не задерживались на улице допоздна и к сумеркам приходили домой. Нам говорили, что ловят беспризорников, и если мы задержимся до темноты, то нас заберут. Нам это было очень интересно, и мы выглядывали из-за угла дома на шоссе — это был небольшой милицейский фургончик.
В этом возрасте я совершил поступок никогда более мною не повторенный — я ударом кулака сбил с ног человека! Я бежал по дорожке к маме в кино, а мне, расставив руки, преградил дорогу такой же, как я, шпингалет. Я выставил руку и удар моего кулака пришелся ему в грудь, а так как я бежал, то удар оказался настолько сильным, что мальчик опрокинулся.

Через год или два уехал из Загорья и дедушка. В Питере он устроился слесарем на кондитерской фабрике.
Обстановка в Белоруссии для дедушки сложилась такая, что надо было удирать немедленно.
После смерти Иосифа Фастовича, как мне помнится по рассказам Юлии Петровны, поместье наследовал Казимир. Ксаверий из Питера приезжал к брату, в деревне он не разжился, собственником не стал, а был как бы работником у брата. Когда поместье разгромили и хозяев выслали, дедушку не тронули — он же был «питерским пролетарием» и дедушка продолжал работать, но не на «помещика», а в совхозе.
Дедушка понял, что из Загорья надо уезжать как можно скорее — раньше или позже, но вспомнят что он «сын помещика».
Через некоторое время, после приезда дедушки, под приезд бабушки с детьми нам дали комнату около 20-ти метров в бывшем доме богатого колбасника. Разместили в этом доме 13 семей. Одно окно в нашей комнате было большое нормальное, а другое длинное, как щель под потолком. Это была бывшая кухня в загородном доме колбасника. Похоже, та часть кухни, где делались заготовки — полуфабрикаты для хозяйского стола, а громадная плита метра полтора на метр с шестью большими конфорками находилась через стену в довольно большой собственно кухне, у которой было три двери: одна в нашу комнату, другая на «черное» крыльцо и третья в парадный холл дома. Мы ходили через черное крыльцо этой кухни, т. е. у нас был отдельный вход. Общей плитой другие жильцы пользовались мало, так что эта кухня была, как бы, наша, варили мы или на большой плите, или на керосинке, или на примусе. Ночью в кухне стояло ведро для туалета, чтобы не бегать в темноте в дворовый туалет. Когда мы въехали, то электричества в доме еще не было, не было и уличного, и дворового освещения. У других жильцов были свои кухни с небольшими плитами на две конфорки и свои туалетные вёдра, но и большой плитой, как мне помнится, некоторые жильцы изредка пользовались. Кухня была холодная, зимой у нас там стоял бочонок с квашеной капустой, были еще кое-какие вещички, в том числе не только наши. То есть дом под заселение трудящимися переделали капитально. Когда он был барским, то отапливался голландками и в доме был туалет.
Бабушка, дядя Вячик, тётя Яня и тётя Геня приехали не сразу все, тётя Геня попозже — она в Минске, кончила курсы старших кормилиц свинооткормочного производства и работала в совхозе «по специальности» не прерывая по вечерам учебу в школе. В Ленинграде она тоже стала работать и учиться на рабфаке.
Вернулась с ними и мебель: небольшой платяной шкаф, большой буфет, большой стол, большой двуспальный матрас, стулья резные дубовые и пианино — то самое.
До меня только сейчас дошло, что всё это путешествовало из Ленинграда в Загорье, где был дом Фастовичей, а потом обратно из Белоруссии в Ленинград на Лахту. В Беларусь где-то между 20-м и 24-м годами и обратно около 32-го года. И никаких контейнеров. На задней стенке пианино пишут номер, и пианино бережно грузят и перевозят, на стульях снизу пишут номера и всё — больше ничего; на задней стенке буфета, с резными застеклёнными дверками пишут номер, и буфет бережно доставляют из Ленинграда в Загорье и из Загорья на Лахту без всякой упаковки. А только в 22-м кончилась гражданская война. Пересылка вещей багажом была дешёвой — общедоступной.
Когда нас стало семь человек, нам ещё выделили, переделанный в комнату бывший барский туалет, где ночевал дядя Вячик. Канализация в доме была сразу ликвидирована, и все пользовались общей уборной, которая была во дворе вдали от дома. В бывшей ванной комнате поселили другую семью.
Мы — мальчишки, разбивали под домом стыки чугунных труб канализации и добывали для биток свинец, которым были уплотнены стыки.
Ну, раз была канализация, туалет и ванная, то, очевидно, был и какой-то централизованный подвод воды. Мне даже помнится, что на чердаке был большой бак для воды, но, как и откуда туда подавалась вода, я уже не мог знать и разговоров на эту тему не помню.
Наш дом и соседние дома, в том числе и близлежащие дома на Лахтинском шоссе, пользовались колодцем, до которого от нас было метров 150. Колодец был глубокий с воротом. Зимой он так обмерзал, что ведро еле-еле проходило.
Я доносил сначала не полное, а потом и полное ведро с двумя — тремя остановками.
Рядом, в сторону города, еще три двухэтажных дома, а дальше одноэтажные. В одном из двухэтажных барачного типа жили совхозные рабочие, в двух других квартирной планировки жили, как говорили, эстонцы и евреи. От домов до взморья метров 150 — это было небольшое совхозное поле.
Справа от нашего дома поле простиралось до самого ольгинского леса, который был метрах в пятистах от нас. Через поле, метрах в пятидесяти от нас, от Лахтинского шоссе к роскошному лахтинскому пляжу проходит берёзовая аллея, изображенная на дореволюционных открытках. В начале аллеи у шоссе стоит высокая красивая деревянная церковь с двумя зелёными шатрами.
Наш высокий белый двухэтажный дом с мансардой на третьем этаже под высокой крышей, стоял на сплошном фундаменте из гранитных параллелепипедов, наподобие теперешних бетонных. Над крышей была еще смотровая башня — площадка. Смотровая площадка была окружена перилами, и на неё вела лестница с чердака — т. е. чердак был вполне благоустроенным, чтобы по нему к лестнице на крышу могли пройти господа с дамами в длинных платьях.

На фотографии дом уже без башенки.
Я еще успел побывать на этой башенке. С неё открывался вид на пляж, на Финский залив, на леса вокруг и на Питер, который виден был, как на ладони с его Петропавловским и Исаакиевским соборами, впрочем, соборы и так были видны, как показал я на своём рисунке (я в детстве любил рисовать). Со смотровой башни была видна и дорога из города, так что, посланный на башню, человек мог предупредить хозяина или повара, если ждали хозяина, что из Старой Деревни показались пролётки с гостями или хозяином и пора жаркое готовить к подаче на стол. За этой смотровой башней нужен был уход, чтобы дожди не заливали чердак. В наше время башня была уже никому не нужна, и её убрали, а крышу заделали.
Кроме гранитного фундамента, дом был весь деревянный оштукатуренный. С широкого парадного крыльца гости и хозяева попадали в большой холл, из холла на второй этаж вела широкая лестница с широкими полированными перилами. Дорогу к дому не успели замостить, и весной и осенью хозяева могли добраться до дома только в экипаже, ну а остальные, как придется. Двор дома со стороны взморья и со стороны берёзовой аллеи ограничивался канавами и деревьями. На фотографии у качелей видна эта канава. Под столиком в буденовке сидит сын уборщицы, жившей от нас через стенку в бывшей ванной.


Сеть канав, проложенная по всему посёлку, собирала и отводила в залив дождевые и талые воды. Канавы были глубиной от полуметра до двух метров там, где они пересекали какой-нибудь бугор.
На берегу, кроме нашего единственного в своем роде на Лахте дома, в километре от нас напротив Ольгино, был ещё двух или трех этажный дом — дворец. Он стоял в вековой дубраве, которая от пляжа отделяется гранитным парапетом. На доме были отметки с датами наводнений, которые были гораздо выше парапета. Прямо напротив этого дворца на берегу одним краем в воде лежит громадный валун диаметром метра три, который предназначался для пьедестала какого-то памятника, но, вероятно, баржу во время наводнения ветром выбросило на берег. При нас из-под валуна торчали остатки брёвен этой баржи.
Когда мы учились в школе, был предмет и учебник по знакомству с родным краем. Еще не отказались от коммунистической фантазии о самоуправлении, армия еще была территориальной, чтобы в своих не стреляла, и изучению родного края уделяли внимание. Так, в том учебнике была фотография валуна, уже расколотого надвое. Валун грузили на баржу в XVIII или в ХIХ веке, а потом, видно пытаясь ещё как-то использовать этот дар природы, его раскололи, засверлив углубления и заложив в них динамит. В школьном возрасте, когда взморье летом было для нас постоянным местом обитания, мы по этому валуну карабкались как «альпинисты».
Можно вообразить и такую версию. Между дворцом и валуном есть насыпной холм. На этот холм владельцы дворца собирались затащить половину валуна и на нем установить композицию с Петром, который в штормовой волне наводнения спасает своих подданных. Именно в этой ситуации, в холодной воде здесь на Лахте Петр смертельно и простудился.
Наш дом заселили бывшими служащими, ставшими рабочими, бежавшими из деревни крестьянами, ставшими рабочими, какое-то время в доме жил, как говорили, инженер, по крайней мере, он ходил в шляпе — он был в этой среде чужеродным телом.
Я не знаю происхождения всех 13 семей (мы-то своё скрывали), но вот такие, какие я перечислил, были. Возможно, были и изначально рабочие, переселившиеся из бывших трущоб в барские покои, ставшие трущобами по мере взросления детей.
На фото жильцы нашего дома: самый высокий дядя Вася, рядом семья Сухоруковых в центре Лебедев с женой, на земле наша компания. Справа внизу в белом платье тетя Яня.
Мужчины, в свободное время забивали козла, развлекались подкидным и играли в рюхи (городки), но играть в рюхи мешали остатки бывшей коновязи, это были два столба диаметром примерно по тридцать сантиметров, которые были почти заподлицо с землей. Эта проблема считалась не разрешимой, т. к. столбы были врыты в землю почти на полтора метра, но дедушка взялся их вытащить, мужики скинулись на трешницу, дедушка проявил изобретательность и вытащил столбы с помощью двух ломов.

Взрослые во время игры разговаривали. Мы не слушали, но слышали, о чем они говорят. О том, почем до революции был фунт ситного (такой сорт хлеба). О том, как дела на работе, как обмануть мастера, как они — кто-то из них или видел, или участвовал в этом, разыграли инженера: «шутник» при каком-то технологическом процессе незаметно вылил в ванну, где должен идти процесс, кружку солёной воды и инженер никак не может понять, почему нарушилась технология.
По нашим теперешним представлениям за это могли расстрелять, как за вредительство. Не знаю, но я это слышал! А такие объяснения мне малышу не могли прийти тогда в голову.
Между прочим, болтали, что в буфете Финляндского вокзала кто-то что-то сравнил с селедкой, и его забрали. Подробности, разумеется, у меня в памяти не отложились, но что в рассказе фигурировали буфет Финляндского вокзала и селедка, это я помню, и что человека забрали, тоже помню — для такого финала это все и рассказывалось.
Не исключено, что это все была выдумка, но на близкую в те времена к действительности тему. Еще один сюжет: в трамвае красный командир хочет купить билет — значит шпион, раз «гад» не знает, что у нас военные ездят в трамваях бесплатно.
Разговоры взрослых о работе, о вредителях, о дореволюционных ценах я, конечно, слышал в старшем возрасте — уже, вероятно, школьником не первого и не второго класса.
Забивали ли старшие козла, играли ли кто помоложе в рюхи, взрослые во всеуслышание не матерились. Мат мы, конечно, слыхивали и мат знали, но если кто-либо при нас или при женщине матюгнется, то другие на него цыкали: «Ты, осторожней: рядом дети», или «тише, женщина».
Власти со своей стороны не забывали о нашем быте и способом прямым, как луч света в темном царстве, внедряли в народ культуру.
За домом, повесив простыню, изображающую сцену, и поставив для взрослых зрителей несколько стульев, девушка с детьми постарше ставила пьесу о неряхе. В финале пьесы у неряхи со стола сдергивали скатерть с грязной посудой.
По домам ходила комиссия и проверяла жильцов — домохозяек (кто был дома) на вшивость. Помню, как плакала бабушка, униженная этим осмотром. Дома мы были одни с бабушкой.
Двери театров раскрылись для фабричных. Чтобы приобщить их к культуре, для них устраивали культпоходы. Билеты были дешевые. Артистов приравняли к трудящимся. Те артисты, которые не хотели довольствоваться зарплатой трудящихся, как Шаляпин, который до этого в шикарных ресторанах перед господами пел, стоя на столе среди раздвинутых тарелок с изысканными закусками: «Эх, дубинушка, ухнем… на царя, на господ…», убежали из страны.
Сохранилась мамина записная книжка, где она записывала свои посещения театров, филармонии, консерватории. В Ленинграде до войны (за 10 лет) были сделаны 63 записи посещений театров, концертных залов, филармонии, кроме кино.
Дядя Вечик сначала был безработным, а потом на трамвайной остановке он кому-то из Ленфильма приглянулся, и его пригласили на массовку. Дядя Вечик и там приглянулся, и его оставили осветителем, очень скоро он стал оператором. Все фотографии у нашего дома делал дядя Вечик. Какое-то время у него на студии была должность осветитель-фотограф (правильно: «Вячик», родители и сестры так и звали, а я звал Вечик, и меня не поправляли). А кинофильмы тогда были тоже высокохудожественные: «Веселые ребята», «Огни большого города», «Чапаев», «Большой вальс» и т. п. Ни в одном фильме молодых людей не учили бить ногами упавшего.
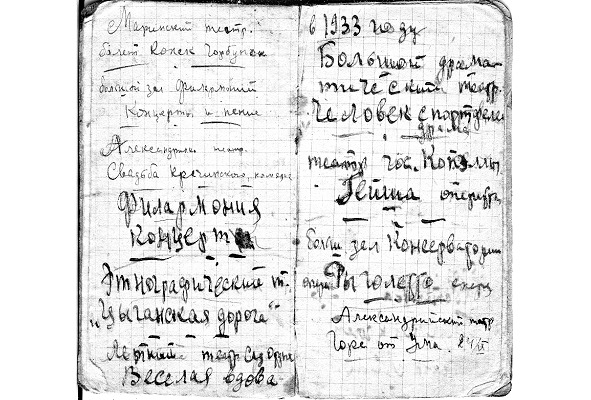
Тетя Яня и тетя Геня стали студентками института, В нашем доме студентами были только они.
Мама окончила курсы и стала счетоводом, а потом и бухгалтером в жилищной конторе (в Жакте).
Из самого раннего детства осталось в памяти, как меня на руках держит мама (на Старой улице в общей кухне), думая, что я сплю, а мне так приятно и не хочется просыпаться. Когда разговор заходил об отце, я говорил: «Мой папа кулак» и показывал кулачок.
Для родителей мамы я был помехой маминого «счастья»: одно дело красивая молодая женщина, и другое дело — «женщина с ребёнком». Я помню вырвавшиеся при тихом разговоре с дедушкой слова бабушки: «Камоцкое отродье», но ни разу в жизни ни бабушка, ни дедушка меня не наказывали и не кричали на меня. И вообще, в нашей большой семье, жившей в одной комнате, я ни разу не слышал громкого или обидного слова по отношению друг к другу, только постоянная забота у всех обо всех. Всё же, из этого возраста я помню, что часто, ложась спать, мне хотелось заснуть и не просыпаться.
Чего мне не хватало? Меня не наказывали, я был сыт и одет.
Возможно, я был излишне впечатлительным, переживал незначительные нюансы отношений. Был безответным (ни разу в жизни сам не затевал драки) и в засыпании видел выход из какого-то положения, вполне вероятно пустяшного. Правда, осталось впечатление мелких обид от бабушки, которые она наносила непреднамеренно, а так уж в силу сложившихся семейных обстоятельств.
Как-то к нам приехали Бичи, вероятно, оставить на лето у бабушки с дедушкой кого-то из детей. За обеденным столом сидели только приехавшие, и мне, по мнению бабушки, там делать было нечего, но мне показалось это обидным, и я на бабушкиной лежанке затаился за шкафом. Старший сын, капризничая за столом, выковыривал из твердой сырокопчёной колбасы «противный» жир, а у меня, от обиды на невнимание ко мне, капали из глаз слёзы. Макар Семенович заметил мое отсутствие, и я был посажен за стол. Это единственная обида, которую я запомнил, т. е. обиды были мелочные, и о них я, кроме этой одной, и не помню. Да и случай-то был исключительный — Макар Семенович приехал к родителям жены, отсюда и «Московская». У них дома в Любани, где я как-то проводил часть каникул, обеды были обычные, и никаких капризов не было.
Дядя Марк на протяжении всей жизни не допускал по отношению ко мне никакой дискриминации. Меня любили и тети и дядя и дедушка. Все они старались сделать мне приятное.
Кому-то из детей нашего двора отец сделал из дощечек модель водного трамвайчика сантиметров 20 длиной. Мне запомнилось дверь в каюту — боковая дощечка была распилена у одной стороны двери и почти распилена с другой, но так, что выпиленный кусочек, изображающий из себя дверь, висел на нескольких волокнах дерева, и эту дверь можно было открыть и закрыть. Наверное, несколько раз всего, но для нас и этого эффекта было достаточно (чтобы я запомнил на всю жизнь). Дедушка тоже стал делать мне какой-то корабль из фанеры с уплотнением стыков суриком (запомнил я и сурик!).

Сейчас я наблюдаю Захара и он, когда ему было лет девять, как-то, после какой-то обиды, со слезами на глазах сказал, что он хочет или заснуть и не проснуться или натворить что-либо такое, чтобы его посадили — т. е. от всех отгородиться хотя бы тюремной решеткой. Тогда же он мне сказал, что и Юля из их класса, у которой отец с матерью разошлись, тоже хочет заснуть «насовсем». Я понял, что это для детей простейший способ избавиться от каких-либо проблем хоть в учебе, хоть во взаимоотношениях с родителями, во взаимоотношениях со сверстниками. Простейший для тех детей, у которых есть проблемы, и они их остро воспринимают. Поэтому так важно дать почувствовать ребенку, что его любят, приласкать его, пока он маленький и приемлет ласку.
Ведь дети и в самом деле иногда совершают поступки, последствия которых непоправимы. Потом об этом напишут в газетах, но это в назидание другим, а сделанного порой не исправишь. Недавно писали, что отличница, из-за неудачи на экзаменах бросилась со скалы над берегом Волги.
В дошкольном возрасте какое-то время я ходил в детский сад. Однажды упал с кровати, няни всполошились, стали за мной ухаживать. Мне это понравилось, и я ещё раза два упал, пока не понял, что няням это не нравится.
У живших в нашем доме Майоровых, родители жили в деревне под Лугой; в один из приездов на Лахту они привезли мешок яблок и, видно, видели, как я был поражен этим мешком. Гости предложили вместе со своим внуком — Витей взять и меня на время в деревню. Не знаю, где работали хозяева — в колхозе или в совхозе.
Я не помню, чтобы в детстве я ел яблоки (Логойск не в счет — я его не помнил), а в саду у Майоровых под деревьями все было устлано уже спелой падалицей. Когда меня в день приезда сразу привели в сад, я упал на землю, и стал подгребать эту падалицу под себя — это было что-то потрясшее меня. Взрослые по-доброму смеялись. Поразил меня вид веток со спелыми сливами, свешивающихся через заборы на деревенской улице. Мы с Витькой влились в деревенскую ватагу сверстников и вели вольную деревенскую жизнь в деревне и её окрестностях. Остался в памяти забеленный молоком картофельный суп с брюквой, это был каждодневный обед — до сих пор люблю, но брюквы сейчас нет, и я иногда делаю для себя молочный суп с морковкой.
Примерно в эти же годы, до школы, мама на лето поехала работать кладовщицей или продавщицей на полевое отделение Тосненского совхоза, в котором дядя Марк был главным агрономом. В совхозе меня поили молоком — вероятно, меня поправляли после очередного воспаления легких. На отделении были дети, с которыми я мог играть. Осталось в памяти, как местные мальчишки промышляли ловлей кротов. Они на лугах в кротовые ходы, отыскиваемые по кучкам земли, ставили капканы. Считается, что шубы из кротовых шкурок очень прочные. Это сколько же надо кротов поймать, чтобы шубу сшить — шкурка-то величиной с ладошку.

Так как я был городским, взрослые, желая доставить мне удовольствие, подвели меня к лошади, чтобы посадить на нее верхом, а лошадь, переступая ногами, наступила мне на босую ногу. Но, или ножка вмялась в сырую землю, или лошадь отдернула ногу, когда я, вероятно, вскрикнул, или просто сама почувствовала мою ногу, но ножка осталась целой и невредимой — совершенно без последствий.
Освобождение отца из заключения
Когда отца освободили из заключения, мама отнесла в Торгсин (торговый синдикат, созданный чтобы выкупить у населения золото для покупки за рубежом заводов, станков, пароходов) чьё-то обручальное кольцо (мамино до сих пор сохранилось), может быть, бабушкино, или дедушкино, и мы с мамой отправились в Архангельск, где жил освобожденный отец. Работал он в морге санитаром.

Морг был патологоанатомическим отделением при институтской кафедре; размещался он в одноэтажном доме, одна сторона которого выходила в сад, а другая во двор. Весь двор морга до забора был покрыт деревянным полом из хорошо пригнанных друг к другу досок, лежащих на поднятых над землей лагах. Ни бумажки, ни соринки — безупречная чистота. Во дворе холодильник — ледник, дровяной склад, туалет и мастерская гробовщика. В холодильник зимой набивался лед, чтобы летом при необходимости можно было сохранить тело. Такие холодильники — ледники в городах использовались еще в начале второй половины ХХ века для хранения на складах больших количеств продуктов — электрические холодильники в России были тогда еще большой редкостью. Лед для холодильников, в виде больших параллелепипедов (0,5 х 0,5 х 1 м) заготавливали на реках.
При морге кабинет профессора — заведующего кафедрой, ординаторская и лаборатория, где несколько лаборанток готовили микросрезы для занятий со студентами, для диагностики в сложных случаях и для диссертантов. Там же две аудитории, с классными досками и демонстрационными фонарями; на окнах были плотные черные шторы. На учебных столах, микроскопы и настольные лампы, чтобы можно было писать конспект в затемненной аудитории при демонстрации слайдов. При морге был патологоанатомический музей и собственно сама анатомичка — достаточно просторная, чтобы при вскрытии могли присутствовать студенты. В общем, кафедра института.
Вскрытие было обязательным независимо от того, где и почему умирал человек, — если дома, то по процедуре судебной экспертизы. Дома покойники не лежали. Сразу после смерти в морг, а из морга только на кладбище — за этим очень строго следили. Возможно, это было вызвано гигиеническими и антирелигиозными представлениями того времени.
Санитар был обязан выдать на катафалк тело, надлежащим образом убранное, уже в гробу. Никакой платы санитару, никаких вымогательств со стороны санитара в принципе быть не могло. Врач патологоанатом вообще к процедуре подготовки тела к захоронению не имел никакого отношения. Но, естественно, родственники умершего хотели как-то выразить благодарность санитару за одевание и прочие действия с телом близкого человека. Обычно благодарили, скромно положив в карман или в руку санитара трешницу, — а иногда и десятку за какие-либо особые услуги, например, за обработку формалином, если погребение задерживалось до приезда родственников.
Ставка (зарплата) санитара мизерная (рублей 130), но папа работал одновременно от больницы, от института, и ещё какие-то сверхурочные, так что набиралось прилично. До нашего приезда папа и ночевал в комнатке при морге, так что жил папа очень сытно, не зная меры и не соблюдая диеты, — на первых порах это можно было отнести как к высвобождению желаний после тюрьмы.
Теперь пришлось снять комнату.
К началу занятий в школе я опоздал. В те времена классы формировались в соответствии с развитием учеников. Самые подготовленных зачислялись в 1А. Меня привели к директору, проэкзаменовали по букварю и арифметике и зачислили в «А».
С началом морозов мы пошли в магазин «Меха», где отец для меня купил «пимы» — это комплект из прочных мягких сапожек с коротким жестким мехом наружу, на которые идет шкура оленьих ног, и пушистых меховых чулок из меха олененка мехом внутрь.
В Архангельске я впервые увидел папиного брата — дядю Петю, он был с дочкой. Лена примерно моего возраста. Где была ее мама, я не знаю, возможно, умерла в ссылке. Дядю Петю к этому времени или освободили и велели ехать куда-то в определенное место на поселение, или велели ехать из одного места заключения в другое — этого я не знаю, знаю только, что он был условно свободен, т. е. ехал без охраны, но маршрут был ему указан. Он или не знал, что его ждет на новом месте в отношении сытости, или, скорее всего, — знал. Карточек в это время уже не было, но хлеб в одни руки продавали с ограничением. В общем, мы все пошли в магазин и, подойдя к прилавку несколько раз, накупили дяде Пете целый мешок круглого черного подового хлеба.
Во дворе школы была большая снежная горка, залитая водой. На этой горке на переменках всегда катались на чем попало, а однажды, когда прибыли ненцы на оленях и забили одного оленя на питание детям, то катались на нартах, которые они оставили у школы. На этих нартах, пока их не сломали, мы катались «куча мала». К сожалению, на одном из обедов мне с мясом попал олений волос, и меня вырвало.
От школьной самодеятельности на районном смотре в большом зале я читал стихотворение. В зале, кроме таких артистов, как я, никого не было, т. е. зрителей — артистов было человек тридцать. Среди рабочих и крестьян искали таланты и находили: Лемешев, например. Конкурсы проводились ежегодно, и школа должна была ежегодно показывать, что в школе есть самодеятельность. Учитель взглядом окидывал класс и назначал участника конкурса. Сами конкурсанты относились к этому серьёзно и старались не забыть слова, хорошо спеть, хорошо станцевать, правильно сыграть.
На уроке труда, и продолжая дома, я делал лагерь Челюскинцев — из бумаги сугробы и палатки, из воска человечков и, разумеется, поставил мачту с красным флажком. Из самоделок на уроках труда и дома помню модель однокрылого тупоносого истребителя величиной с детскую ладошку. Остроносые мне казались менее совершенными.
После окончания учебного года, мы с мамой вернулись в Ленинград. Семейная жизнь у родителей не получилась.
На Лахте дедушка и дядя Вячик работали, тетя Яня и тетя Геня учились, мама стала работать в конторе на Лахте. Дядя Вячик на Ленфильме постепенно
становился специалистом. К очередному выпуску Ленфильмовской многотиражки из оператора Мартова выдавливали заметку, и он написал о дяде Вячике.

Политбюро обязывало трудовые коллективы, вузы и школы иметь стенгазеты или многотиражки, чтобы будить активность членов коллектива и направлять её должным образом. В этих самодельных газетах должны были отмечаться не только успехи, но и отдельные недостатки, как в работе администрации, так и членов трудового коллектива. Администрация и работники были обязаны реагировать на критику в свой адрес, и бороться со своими недостатками. Адской была работа редакторов по сбору материалов и выдавливанию заметок.
Мамины сестры
По-разному сложилась судьба трех сестер, которых в Белоруссии выдали замуж.
Моего отца посадили, и семья распалась.
Тётя Чеся с мужем поехала строить Сталинградский тракторный завод. Сохранилось письмо тёти Чеси на почтовой бумаге тех лет. На верхней части листа цветная картинка — рабочие и в красных косынках работницы идут учиться. Это было знамение времени — его священная часть: «Учиться, учиться и учиться».
Последние слова о знамении времени — это мои заключения о времени, с которого прошло 70 лет, возможно, ошибочные, а вот письмо тёти Чеси — это документ. Привожу его дословно, а в конце скажу, что меня в нем сейчас потрясло.
«Здравствуйте, дорогие Папочка, Мамочка, Валя, Вячик, Геня, Яня, (какие-то слова, тире) Эдинька, Гелечка. —
(Гелечка это или племянница бабушки, или дочь племянницы — девочка на несколько годочков старше меня, которая по какой-то причине, видно немаловажной, жила у нас несколько месяцев, а может быть, и год. Её я помню, а сколько она у нас жила не помню. Спать она могла только с тетей Геней и Яней, или на столе).
— Сегодня 6/VII, у нас с Ипполитом выходной день. Встали мы в 9 ч. т. е. я, а Ипполит в 10 ч. Это мы потому так, что вчера легли спать в два часа ночи. Были в цирке. К нам в Сталинград приехал Владимир Дуров. Кроме того, была японская труппа и ещё несколько выступлений других артистов. В общем, очень понравилось нам, и были довольны, что поехали. Поездка в цирк нам обошлась в 8 р. 10 к. Ну, ничего. Так, буду продолжать дальше. Встали мы сегодня и поехали в город на рынок. Приехали, я поубирала в комнате, потом обкатилась ведром холодной воды — немного стало легче, но через полчаса опять потеть стала. А сейчас 7 часов вечера, я вынесла столик во двор и пишу вам письмо. Иппа занял «ложу». Это вот что обозначает: рядом с двором находится стадион, огороженный высоким забором. Там часто играют в футбол. Приезжают из Москвы, Харькова, Саратова и так со всех городов, ну а нам и ходить не надо. Мы забираемся на крышу нашего сарая и так замечательно смотрим. Вот что мы и называем «ложа». Я, правда, особенно не люблю игру в футбол, но очень рада, что почти через день слышишь духовой оркестр. Так я люблю музыку, и вот повезло жить рядом со стадионом. Иногда, как заиграют то, что слышать приходилось на Лахте, так вспоминаю танцы по воскресеньям. Идешь с поезда и остановишься послушать. Дорогая Валя, напиши, часто ли бывают танцы, и была ли ты хоть раз после того, как были мы с тобой? Наверное, нет. У нас сейчас большой привоз на рынке яблок, груш и помидор. Ежедневно как пойдёшь, так и купишь на 2,5 на 3 р. яблок. Арбузы ещё дорогие. С мою голову, если вы её ещё помните, стоит 3 р. сейчас становятся подешевле. Помидоры крупные хорошие два рубля десяток. Представьте себе, что раньше я их не любила, а сейчас начинают нравиться. Иппа их очень любит. Яблоки по кулаку сладкие стоят 2 р. десяток, поменьше 1,5—1 р., а маленькие, как ранетки 80—90 и 70 коп. десяток. Денег у нас масса уходит, но мы не жалеем. Ведь так хочется яблочка, когда ходишь около возов. Сегодня мы с Ипполитом купили 2 кг. масла по 13 р. 50 к. мы думаем перетопить, сложить и поставить на зиму. Это теперь пока для всех продается по коммерческой цене (сливочное масло 1 сорт 16 р. кило, а П сорт 13 р. 50 к. Очереди безумные. Бывает, становятся с 3 ч. ночи).
— (Какие же были тогда зарплаты? Перед войной масло стоило 23 р. квалифицированный рабочий получал около 700 р. мама бухгалтер 350 р. уборщица 120 р. начальник цеха 1300 р., а раньше, когда писалось это письмо, мне кажется, дедушка получал 500 р).
Вообще питаемся мы хорошо… (две строчки на сгибе не разобрал) … В столовую ходим обедать.
Я-то расписалась о себе, а как Ваше всех здоровье. Как Папы нога, совсем хорошо или даёт себя чувствовать. Как Мамы палец? Так он беспокоит меня. Хотя бы не пришлось отрезать. Как все остальные чувствуют себя. Вячик и Яня никогда мне не напишут о себе. Правда, я сейчас не хочу, чтобы Вы писали часто. Жалко хорошего времени на это тратить. Уж лучше на зиму оставить».
На этом письмо обрывается, последнего листочка нет.

(ОДН — образование для народа).
Когда же это было? Совершенно не помню, чтобы тётя Чеся жила или хотя бы была на Лахте. То, что на писчей бумаге стоят годы 1931—1932, не значит, что письмо было послано раньше, но где-то в это время. Я подумал, что может быть по дате в выходной день можно определить год, но вспомнил, что это может быть и не воскресенье. После Октября, в ходе революционных преобразований, рабочий день сократили до семи часов и вместо семидневной недели ввели пятидневки, чтобы рабочим сократить продолжительность работы от выходного до выходного. При этом упрощался календарь, т. к. пятидневка кратна тридцати — числу дней в месяце. Если в месяце был 31 день, то добавлялся еще один выходной. Играла, вероятно, роль и антирелигиозная составляющая — из календаря исчезало «воскресенье». Перед войной, объясняя напряженной международной обстановкой, вернулись к семидневке и восьмичасовому рабочему дню. Выступить против этого уже было нельзя — любой протест уже рассматривался как контрреволюционное выступление.
Точной даты я не определил, да это и не важно — ценность письма от этого не уменьшилась. Это бесценная реликвия. Что меня поразило в этом письме — так это воспоминание о танцах. Это были еще совсем молодые женщины — почти девчонки, им не было ещё и тридцати. А танцевали до революции, танцевали во время революции, после революции, во время гражданской войны и во время строительства нового общества. Танцует возраст, а не «внутреннее и международное положение страны». Любопытно, что тетя Чеся пишет о танцах в «Воскресенье», когда воскресений в календаре не было, и танцы были по выходным. Возможно, люди по привычке, невзначай в разговоре выходной могли назвать воскресеньем — не знаю.. К сожалению, тётя Чеся в Сталинграде заболела брюшным тифом и умерла. Робуш до последнего времени переписывался с бабушкой, а потом с мамой.
Тётя Люся вышла замуж за землеустроителя Макара Семеновича Бича. Она ласково звала мужа на польский манер Марк — Марочек.
Макара Семеновича партия бросала по совхозам всей страны организовывать механизированный агрономический цикл.
Центральное руководство от имени народа направляло руководителей и специалистов туда, куда считало целесообразным для развития народного хозяйства (экономики). Как бы народ, как бы распоряжался своими специалистами, и никто из этих специалистов не спрашивал о жизненных условиях. Крыша над головой в ведомственной квартире и хлеб с маслом, в виде зарплаты в полтора, два раза выше, чем у рабочих, будет, а высшей наградой являлась интересная работа. Такая вот диктатура пролетариата по отношению к «спецам» — служащим, которые должны служить народу, да и к себе самим. Валик родился в Узбекистане в Андижане. Толик, наверное, под Ленинградом в Тосно, Гена под Ленинградом в Любани, Павел в Чечне в совхозе Алпатово. Из Белоруссии Макара Семёновича послали в Среднюю Азию поднимать окраины. Фото Макара Семёновича с тётей Люсей прислано из Андижана. Поработав в Средней Азии, дядя Марк просился в Россию, потому что климат и среднеазиатские обычаи непривычны. Хотелось в Россию, но не в Белоруссию, где и у него были репрессированные родственники, и с которой была связана его тревожная молодость. Когда немцы в 18 году заняли Белоруссию, в Минске получила власть антироссийская белорусская Рада, которую немцы, естественно, некоторое время поддерживали. Немцы для хозяйственных работ Бича мобилизовали, но ему удалось от них сбежать. Потом пришли красные и опять его мобилизовали, но положение было неустойчивым: белые, красные, Рада, махновцы все всех старались мобилизовать, и все от всех старались сбежать, и ему опять вместе с группой сослуживцев удалось из разваливавшейся части разойтись по домам. Заметая следы он сменил отчество Зиновьевич на Семенович. Получилось это случайно — пьяный писарь написал, как ему было привычней, и Макар Семенович не стал исправлять. А когда власть утвердилась, его опять мобилизовали и, как грамотного, определили в штаб, где он должен был, по иронии судьбы, выискивать дезертиров. Вот когда он страху натерпелся, но обошлось, а после армии Макар Семенович получил образование и был принят в партию.
Из рассказов о непривычных обычаях в Средней Азии мне запомнился только один. Женщина, которая носила Бичам молоко, однажды увидела, что тётя Люся это молоко процеживает через марлечку. Женщина подумала, что тётя Люся колдует, а это будет плохо для её коровы, и она перестала Бичам носить молоко. Пришлось искать другую молочницу.
Макара Семеновича перевели в Ленинградскую область. Я помню их приезд. Из купейного вагона они вышли со своими матрасами. В те времена были специальные багажные ремни, которыми стягивали свернутые в рулон матрасы.

Через несколько лет Министерство совхозов послало Макара Семёновича из-под Ленинграда на Кавказ, потому что он был знаком уже практически с хлопководством, а тогда пытались продвинуть хлопок из Средней Азии и Закавказья на Север.
Внедряли хлопок на Северном Кавказе и, даже, на Украине. Я помню, был художественный фильм о том, как героически спасали от заморозка хлопок в украинском совхозе.
Из-за постоянных переездов, дети Бичей часто жили в какие-то промежутки времени, пока шло обустройство на новом месте, у бабушки с дедушкой, а я как-то, возможно не раз, проводил, хотя бы часть каникул, у дяди Марка с тётей Люсей.
То Толика, то Гену, когда они гостили на Лахте, мне приходилось днем убаюкивать. Мы лежали рядом на диване и я «пел колыбельную». Я помнил только несколько слов из какой-то колыбельной:
Летели гуси / Сели на ворота / Червоны боты…,
А дальше я сочинял, кому эти боты принесли гуси. Конечно, тому, кого я убаюкивал.
Бабушка с дедушкой часто между собой говорили по-польски, думая, что мы с Валиком его не понимаем, так что польский я понимал и понимал, что червоны — это красные, но не догадывался, что «червоны боты» это поэтическая метафора — это у гусей ноги, а не подарок кому-то. Сейчас уж все позабыл. Говорить мы по-польски и тогда не могли, а теперь уж и не поймем и не прочитаем.
Разговоры бабушки с дедушкой по-польски мы с Валиком воспринимали, как их желание сохранить от нас свою тайну. Так же, как мы детвора изобретали свои тайные разговоры. Например: «Тыханцы зачёханцы сюдаханцы пришёханцы?». Наши семьи были русские, и мы были русские. Уже, будучи взрослым, я с удивлением узнал, что мама и папа у меня белорусы. Родители наши были культурными людьми и не навязывали нам родоплеменного мировоззрения. Нам позволяли быть детьми своего времени. Нам позволяли быть теми, кем мы себя чувствовали, а мы были, конечно, русскими.
С Валиком, когда мы были вместе, он относился ко мне, как к старшему, и следовал, как он сейчас вспоминает, за моими начинаниями и фантазиями, а в этом возрасте разница даже в один год много для детей значит. Я помню некоторые сценки из наших игр.
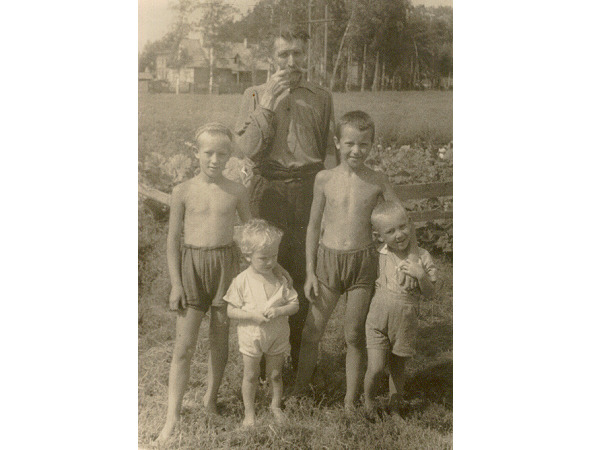
На свободном месте между домами рядом с нашим домом, уже при нас, вырыли пожарный пруд — были такие пруды между домами деревянной Лахты, пруды были старые с заросшими берегами, пиявками и жуками плавунцами. Наш пруд был ещё с голыми берегами. Зимой мы на нём катались на коньках — снегурочках. Снегурочки купили, а дедушка сделал на каблуках сапожек крепление — металлическую пластинку, куда входил штырек от коньков. Был наш пруд не глубоким — я однажды провалился по колено. Как-то летом, увидел я оставленную на пруду деревянную лохань для стирки белья, а у меня была примерно метровая палка с металлическим конусом на конце. Такие палки служили в магазинах основой для рулонов клеёнки. Я попросил у продавщицы освободившуюся, но ещё не нашёл для неё применения, а тут план созрел моментально: я посадил в лохань Валика и велел грести руками, изображая линкор, а сам пустил в линкор торпеду, но промазал и торпеда угодила Валику в бок. К счастью даже крови не было
В другой раз в Любани идём мы с ним по пустому загородному шоссе, а на шоссе сидит ворона. Я поднимаю камень и кидаю в ворону, но, разумеется, не попадаю и говорю Валику, что камень прямо рядом с вороной пролетел: «Вот выставь руку в сторону, я покажу». Валик выставляет руку, а я мажу в другую сторону и попадаю ему прямо в лоб. Броски у меня были настолько сильными, что опять ни крови, ни синяка не было.
В Любани главному агроному отводился домик с садиком. Домик пригородного типа, т. е. несколько комнат и кухня. В садике был маленький пожарный пруд, берега которого сплошь чем-то заросли и только маленькая тропинка вела к воде, чтобы можно было набрать воды для стирки или прополоскать бельё.
Во дворе рядом с прудом, на детской, так сказать, площадке, из кучи песка мы соорудили Американскую Горку — с её конусной вершины вокруг по спирали вниз сделали лоток с туннелями и пускали по нему с вершины стальной шарик. Когда шарик в одном из туннелей застрял, а мы, пытаясь его достать, обрушили туннель и потеряли шарик, было очень досадно — мы долго рылись в песке, но безуспешно.
Мальчик постарше подарил мне в Архангельске «пожарный насос», сделанный из примусного насоса, к которому он приделал самодельный кривошипно-шатунный механизм со всеми необходимыми составными частями. Мы по очереди один крутил за ручку маховик, а другой куда-нибудь направлял струю из брандспойта. Огорчало нас то, что брандспойт часто засорялся, и резиновая трубка от насоса к брандспойту лопалась, а мысль о том, чтобы приделать к водозабору фильтр в голову не приходила.
В то время нашими кумирами были летчики, полярники, инженеры; страна стремительно втискивалась в ряды промышленных гигантов. И игры наши вертелись вокруг техники, открытий. Дома в Любани, играли в хороший металлический конструктор Валика. Я, как старший, выдумывал и однажды, соорудив какую-то «электрическую линию», воткнул деталь конструктора в электрическую розетку. Мне повезло, вероятно, первым «проводом» я попал на нуль, а затем, когда я дотронулся конструктором до фазы, моментально перегорели пробки.
Дядя Марк всегда относился к нам очень терпимо, а в данном случае все были рады, что дело кончилось без смертельного исхода. Мы, конечно, никакого анализа не проводили и вели себя совершенно вольно.
За всё время детства, я помню только два случая, когда мама шлёпнула меня ремнём. Один раз на Лахте за то, что я ударил Вальку Лебедеву. Валька была заводная; заводила и часто дразнилась. Вот заведет, задразнит, а получит сдачи и бежит жаловаться.
А второй раз за то, что мы с Валиком явились в контору в кабинет к Макару Семёновичу разрисованные глиной под индейцев — глиняные чулки, на теле и на лицах татуировка.
Дяде Марку это не понравилось, а в это время в Любани была мама. Она кем-то работала в совхозе. Узнала она о нашем художестве ещё на работе, и, придя домой рассерженная, схватила ремень. Я от неё убегаю в угол, она меня догоняет и раза два или три шлёпает по попке.
Был я, очевидно, в Любани и зимой, потому что помню, как мальчишки постарше съезжали на лыжах с почти вертикального, как мне тогда казалось, берега к речушке.
У нас на Лахте никаких гор не было — идеальная равнина, только у расколотого валуна на берегу был холмик высотой метра три. Город стоял на совершенно ровном месте, и кустарник между Лахтой и городом был на совершенно ровном месте. И в деревне у Луги, где я гостил, и в Архангельске были только долины у рек на бескрайней равнине, и поезд в Архангельск шел по равнине. И для меня это было нормой. А на уроках географии рассказывают, а в кино показывают — горы! Как это так — земля треснула и вздыбилась, и показала свое нутро — это так интересно. В детстве мне очень хотелось увидеть настоящие горы, скалы. Это была моя мечта.
У дяди Вячика были лыжи, на которых он выступал на соревнованиях, на этих лыжах и я катался — очень маленький мальчик на очень больших двухметровых лыжах. Мы катались с этого холмика, а т. к. других гор не было, то этот холмик определял предел нашей тренированности по «спусканию» с гор. На пределе нашей тренированности мы и с этого холмика падали. Одно падение мне запомнилось — я упал на бок, и меня на горке крутануло, а длинные предлинные лыжи остались лежать и, хотя крепления были полужесткие — под любую обувь, в районе косточки было очень, пре очень больно. Вот запомнил же.
Школа
Ольгинская начальная школа, куда я пошел во второй класс, размещалась в небольшом двухэтажном домике с туалетом во дворе. Нашу учительницу — Валентину Ивановну мы очень любили и законопослушные ученики после уроков провожали её до дома, который был недалеко от школы. А были в классе и «хулиганы», так что, кажется классе в третьем, а это уже 11 лет, при очередном их непослушании или буйстве, я, кстати, не помню, что они натворили, Валентина Ивановна сказала, что вызвали милицию. Так они двое или трое спустились по водосточной трубе и убежали — вот это я помню.
Я был совершенно не буйный, но и меня два раза выгоняли из класса. Один раз меня послали за мамой по жалобе родителей школьного товарища, которому я капнул расплавленной резиной на шею — ну об этом ниже, а второй раз за «поведение».
Мы во время перемены в классе бесились и бегали по партам — в разгар веселья раздался звонок на урок, все моментально расселись по местам, и в класс входит учитель, а у девчонки разлиты чернила. Преподаватель начинает её ругать, спрашивает, кто разлил и девочка называет меня. Это был урок русского языка. Учитель спрашивает меня по заданному уроку, ставит мне пятёрку, а все правила я знал отлично, затем берёт меня за шиворот и выгоняет из класса. Тогда мне было очень обидно, по моему тогдашнему разумению бегали все, веселились все, а выгнали меня одного. Я стоял за дверью и тихонько плакал.
На Лахте после начальной школы дети учились в небольшом белом здании явно не предназначенном быть школой, а затем построили большое деревянное двухэтажное здание с широкими коридорами и спортивным залом. Это была школа стандартной постройки, такие школы в то время строили по всей стране — и в Архангельске, и на Лахте, и в большой деревне под Самарой, и в чеченском поселке над Тереком. Идёшь и видишь в селе единственное большое двухэтажное здание — значит школа. Не правление колхоза, не сельсовет, не милиция, а школа. Страна из безграмотной стала страной сплошной грамотности. Даже в самой маленькой деревушке, под школу отводилась изба, где в одной комнате у одной учительницы на родном языке, на котором говорили в этой деревушке, и который был родным и для учительницы, занимались одновременно ученики всех четырех классов. Все имели возможность учиться. Родители не имели права этому препятствовать, и обязаны были отдавать детей в школу.
Поездка к отцу в Архангельск
В детстве я часто болел воспалением легких, и даже крупозным. В конце концов, у меня на правом лёгком образовались каверны — скрытая, не заразная форма туберкулёза — и было решено отправить меня на поправку к отцу.
Меня посадили в вагон на вторую полку, дали круг Краковской колбасы, большой батон и литровую бутылку морса. Я не знаю, куда шёл поезд, а вагон был прямого сообщения. Его отцепляли от поезда, и он 11 часов стоял в Вологде, дожидаясь московского поезда, который шёл в Архангельск.
Во время стоянки я бродил по Вологде и забрел далеко. Не помню, каким образом я обратил на себя внимание, — то ли попросил, то ли спросил, но к вокзалу меня подвёз ехавший туда возница фургона с хлебом. Это была обычная телега без рессор на деревянных колёсах с железным ободом. Деревянный ящик — кузов, в котором лежал навалом хлеб, закрывался крышкой, чтобы не попал на хлеб дождь. Я сидел рядом с возницей, и на булыжной мостовой меня изрядно трясло.
Железнодорожный вокзал в Архангельске на левом берегу Двины, а город на правом и в город с железнодорожного вокзала люди переправлялись пароходиком. По дороге с вокзала, вернее с городской пристани, куда причаливал этот пароходик, я обратил внимание, что на каждой остановке трамвая стояли, и в каждом вагоне трамвая ехали, сменяя друг друга на остановках, милиционеры. Потом я узнал, что обилие милиции вызвано разгулом преступности, который наступил после освобождения большой группы заключенных. Рассказывали жуткие истории. Может быть, это были чьи-либо сочинения, но запомнился один такой.
В трамвае один из пассажиров видит, что к другому пассажиру лезет в карман вор. Обворованный замечает пропажу и поднимает крик: «Обворовали!», а тот, кто видел, говорит: «Да вот этот». Вор подскочил к говорившему: «Видел? Так больше не увидишь!» и резанул бритвой по глазам видевшего воровство. Вора скрутили, но…
Так что милиционеры на каждой остановке и в каждом вагоне должны были прекратить этот разгул уголовщины — и прекратили, и милиционеры исчезли. А вообще, чем мне нравился Архангельск — так это равным и достаточно высоким уровнем жизни. На улицах я не видел таких контрастов, как в том же Ленинграде. Может быть, я сочиняю сказку, но у меня осталось впечатление, скорей всего от разговоров взрослых, что средне — высокий уровень был обусловлен тем, что в значительной части семей мужчины были моряками, летчиками, полярниками, ну и на деревообрабатывающих комбинатах, поставляющих лес на экспорт, тоже, видно, платили сносно. Да и население в Архангельске в значительной мере состояло из ссыльных, бывших кулаков и надуманных политических, как папа — всего пять лет тюрьмы, т. е. из людей по уму и способностям не низкого уровня.
Нравилось мне и отношение ко мне папиных сослуживцев, и соседей по квартире.
На работе к папе относились с большим уважением, хотя он и не получил законченного образования т. к. ему пришлось вести хозяйство. В детстве он, как ребёнок из католической семьи, вероятно, получил какое-то образование на польском языке, потому что на русском он писал так, как слышал: «щастье, кажетца» и т. п. (Хрущев хотел такое правописание узаконить) и, всё же, из людей его общественного уровня он отличался какой-то интеллигентностью. Всегда аккуратно одет, выбрит, никаких пьянок, никакого мата. Видно было, что он из другого круга, чем тот, в который попал после освобождения.
Ума он был недюжинного, так что, будучи простым санитаром, он при необходимости делал вскрытие без врача — явление уникальное, и диктовал секретарю описание состояния организма по результатам вскрытия, свободно владея необходимой латинской терминологией. Было это, конечно, не часто, в каких-то исключительных случаях, вероятно, но я это сам видел. Медицинское «образование» он получил на колоссальном количестве вскрытий, слушая при вскрытии вместе со студентами несколько лет, по несколько раз одни и те же лекции, на разных примерах особенностей болезни с каждой группой студентов, и то, что слышал, не пропускал мимо ушей! Во время лекции он не отвлекался, не думал о чем-то своем — он слушал, понял связь между словами лектора и вскрытым организмом, понял и запомнил.
Уважению со стороны профессуры, врачей и лаборанток способствовали его вежливость при общении с окружающими, холёное лицо, золотозубая улыбка и, безусловно, понимание того, что Телесфор Францевич понял и усвоил лекции и, как следствие, уверенность в том, что его можно попросить сделать не только вскрытие без врача, но и провести со студентами занятие по технике вскрытия. Это ставило отца как бы на уровень специалистов, но при этом папа никогда не забывал «кто есть кто», а это ещё больше поднимало к нему уважение.
В Архангельске, папа приучил меня перед едой неукоснительно мыть руки. Ел и играл я в комнате, которая примыкала к помещению, где проводилось вскрытие. Всё было очень чисто, как в медицинском учреждении. После вскрытия отец в препарационной снимал перчатки, и, выйдя оттуда, мыл с мылом руки и протирал их спиртом. Если я садился за стол, не помыв с мылом рук, папа, ни слова не говоря, со всего маху стеганет меня по спине узким ремнем, которым он, как тогда было модно, подпоясывал косоворотку. Было очень больно, но я не плакал. Я вскакивал со стула и со словами: «Ой, папочка, забыл!» бежал к умывальнику. После нескольких «напоминаний» я хорошо усвоил урок.
Мои каверны заливались жиром. Нет, я не стал жирным или толстым, я остался нормальным, но питание было очень калорийным и, по тем временам, вкусным.
Борщ — это свёкольник (свёкла и картошка), сваренный с большим куском копченой грудинки или корейки, и заправленный большим количеством сметаны.
Яичница — это в небольшой кастрюльке с ручкой растопленный большой кусок сливочного масла, в масло положена Краковская колбаса и туда же разбиты два или три яйца. Всё это закипает, но так, что яйца остаются «глазуньей» затем туда кладется столовая ложка сметаны.
На ужин я брал с собой на квартиру французскую булочку и бутылку молока или кефира.
Чрезмерно жирные обеды привели к тому, что у меня развился катар желудка, но это стараниями профессуры незамедлительно вылечилось.
По нынешним взглядам это было неполноценное питание, — фрукты отсутствовали совершенно, но главная цель — поправить здоровье, была достигнута.
В те далёкие времена, ещё жива была память о ещё более далёких временах, когда главным стимулом деятельности для многих было достижение сытости. Папа рассказывал, как откармливали свиней зажиточные хозяева, когда он жил в Белоруссии.
Сначала кормили отрубями, потом, когда свинья пресытится, ей замешивали тесто, когда и тесто свинье надоедало, её ставили в клетку, где ей негде было двигаться, и кормили печёным хлебом. Сало было, он показывал рукой «Во» — на семь пальцев. Я вспоминаю, что по публикациям наших газет, главным трофеем и для немцев, когда они занимали Украину и Белоруссию и в Первую, и во Вторую Мировые войны, было сало! Может быть, мы свои идеалы приписывали немцам? Да нет, об этом же свидетельствует немецкая художественная литература первой половины XX века.
Во второй половине ХХ века жирную свинину покупали неохотно. При Хрущеве усилия свиноводов были направлены на то, чтобы производить «беконную» свинину. На рынке сало стало в два, в три раза дешевле свиного мяса или свинины «с прожилками».
Всё же, несмотря на сытую жизнь, на уважение окружающих, папа не мог примириться с советской властью. В Белоруссии он был самостоятельным хозяином — сам себе хозяин. Глава семьи, Хозяин дома, полей, красивых лошадей, новых механизмов. Выйдешь на крыльцо и видишь, как до дальнего леса колосится хлеб на твоем поле. В 88-м мне показали это поле.
А имя-то, какое ему дали родители — Телесфор!
Теле с Фор
Далеко и Впереди.
На этот раз, жили, вернее, ночевали мы с папой в доме, где папа снимал угол. Я всегда считал, что это был принадлежащий одной хозяйке частный дом, в одной из комнат которого мы и снимали угол. Но сейчас меня посетило сомнение, дом был двухэтажный и он был весь забит жильцами и ещё в придачу, в комнате, в которой жил папа, она сдавала два угла — папе и ещё одному жильцу. Скорее всего, раньше это был ее дом, потом дом реквизировали, а ей оставили маленькую спальню и комнату. Чтобы прожить, она сдавала в ней два угла.
Второй жилец этой комнаты занимался извозом, т. е. имел лошадь с телегой и у пристани или у базара подряжался кому-нибудь что-нибудь подвезти, он был частником — свободным предпринимателем. Последним из могикан. Вечерами этот жилец иногда доставал скрипку из футляра и играл трогательные мелодии. Кто знает, кем был раньше этот извозчик, играющий на скрипке и снимающий угол.
Один угол в этой комнате был забит иконами. Надо отдать должное культуре жильцов — все молились тихонько, и отец перед сном тихонько бормотал молитву.
Но иногда, когда хозяйка вечером молилась, я, читая Дон-Кихота, не мог удержаться от смеха, и хозяйка меня тихонько бранила: «У, чертёнок, бесовские книжки читаешь». Впрочем, её книги — Евангелие и житие многочисленных святых — я тоже прочитал, как обычные сказки. Если бы меня кто-либо всерьёз попытался убеждать, что можно воскресить мертвеца и что черти существуют на самом деле, я бы воспринял это, как аналог галлюцинаций Дон-Кихота, вызывающий добрый, но неудержимый смех, или снисходительную улыбку.
Я не помню детворы этого дома, но детвора была. Во дворе мы играли в малоподвижные игры, — двор был маленьким. Штабель досок во дворе был для нас то автомобилем, то пароходом.
Напротив дома была трамвайная остановка. Мы становились на подножку заднего вагона, двери трамвая, по крайней мере, летом не закрывались, трамвай трогался, разгонялся, и мы прыгали с трамвая на ходу, соревнуясь, кто дальше проедет и, следовательно, на большей скорости спрыгнет.
На втором этаже дома жила билетёрша из цирка. Я приходил к перерыву, и она давала мне контрамарку. Таким образом, я летом посетил все представления цирка.
Ещё в первый приезд к отцу с мамой, т. е. в первом классе, мы были один раз в цирке. Выступали дрессированные хищники. За прутьями, ограждавшими арену, на стороне зрителей стояли униформисты с большими револьверами в руках. Не знаю, были ли эти револьверы бутафорскими, но это для зрителей создавало атмосферу напряженности. На арене был и дрессировщик удава, через несколько лет прошел слух, что удав задушил дрессировщика.
Когда я был со своими детьми в цирке Шапито в Куйбышеве, то увидел, что за тридцать лет в цирке ничего не изменилось: тот же КИО — теперь другой, но женщину пилят по-прежнему. Стальные шары скатываются на загривки силачей, воздушные гимнасты, эквилибристы, канатоходцы и наездники демонстрируют свою ловкость. Тигры, львы, медведи, одноколёсные велосипеды, клоуны и дрессированные собачки восхищают и веселят. Т. е. еще в начале двадцатого века цирк достиг предела своих возможностей, но подрастают новые дети и для них цирк всегда новый.
Впрочем, раньше в цирке выступали борцы классического стиля, — Иван Поддубный выступал. Именно в цирке они разыгрывали первенства и устраивались поединки знаменитостей. Сейчас этого нет.
Сейчас, в начале ХХI века, по радио передают рекламу, что в цирке выступают дрессированные коровы. На мой взгляд, это отвратительное кощунство.
В любом деле надо знать меру. Человек покорил тигра и заставил его работать на арене цирка. Человек заставил собаку служить и выступать на арене цирка. Человек сам для себя выбрал себе профессию артиста цирка. Но корова не покоренный дикий зверь, не слуга и не человек, она кормилица человека. Она, как мать, выкармливает человека молоком. Не зря открытые природе индусы почитают корову священной.
Были мы с папой на авиационном празднике на Кегостове — это остров на Двине, где был знаменитый полярный аэродром. На остров мы приплыли на моторной лодке. В тридцатых годах появились на реках моторные лодки. Это были деревянные, как вёсельные, лодки, в центре которых устанавливался мотор. Были распространены моторы мощностью 3 или 5 лошадиных сил (Л-3 и Л-5 соответственно). Вал выводился за корму через киль. Моторы были низкооборотные с приводом винта напрямую с коленчатого вала без редуктора. Скорость таких лодок была около 10 км/час. Вёсельные лодки остались в спорте и служебные — у бакенщиков и на пароходах. Алюминиевые лодки с подвесными моторами появились у нас во второй половине века.
В Архангельске деревянные моторные лодки имели каюту — сказывался север. Каюта для сидения была на носу, до мотора. Рулевой сидел на корме. Мотор тук, тук и мы переплыли Двину.
Устроители праздника на аэродроме поставили трибуну, на которой были вывезенные из Испании дети, и произносили с трибуны речи.
По краям поля разместилось множество торговых точек, а на поле разместились такие же, как мы «гости». Аэродромы в те годы были грунтовые. Пили, пели, закусывали, а им (нам) показывали своё мастерство летчики и парашютисты, которые прыгали на поле и в воду.
Свободное от учебы время я большей частью проводил у папы на работе, или на улице с друзьями, которые жили в соседних с моргом домах. Летом, конечно, на реке Кузнечихе. Берега для купания там не было. Прямо у берега стояли плоты, и мы купались сразу на большой глубине между плотами. Я уже мог проплыть какое-то расстояние. Пытались мы и рыбачить. Из волос конских хвостов связывали лески, поплавки делали из птичьего пера, а крючки покупные.

Лето было жаркое, мы весь день повсюду бегали в трусах. Стою как-то в большой очереди в магазине за треской; жарко; побежал, искупался, и опять в очередь. Мимоходом видел на плотах свежего утопленника, у которого врач, чтобы узнать, есть ли надежда его откачать, ножницами надрезал кожу на руке — кровь не появилась, значит уже покойник. В городе была дизентерия. Папа считал, что от морса, — это подслащенный клюквенный негазированный напиток. Папа договорился с ближайшим пивным ларьком, что мне будут продавать пиво, а мне категорически запретил покупать морс — только пиво. Маленькими кружками по 250 мл. Когда начались занятия в школе, моя жизнь стала идти по очень строгому расписанию. После занятий обед у папы, потом игры или на улице с друзьями, или в непогоду у папы в морге, разумеется, один. Игрушками были мои фантазии, например, цоколь со стеклянным стерженьком от разбитой электрической лампочки, катушки и прочее в этом же духе. Все это воевало, ехало, стреляло, летало и плыло. Однажды папа чуть не купил мне настоящую игрушку. Это была действующая модель паровоза длиной сантиметров 17. На паровозе был медный котёл, в который заливалась вода и топка, в которую ставилась свечка. Роль золотника выполнял сам цилиндр, который качался вместе с шатуном. Поршень, скрепленный с шатуном, как одно целое, толкал через шарнир спицу колеса. Качаясь, цилиндр соединялся то с котлом, то с атмосферой через отверстия в плоскости, к которой он прилегал своей плоскостью, выполненной на наружном обводе цилиндра. Т. е. цилиндром цилиндр был только внутри, где ходил поршень. Пока мне и папе показывали игрушку, я успел понять, как этот паровоз работает.
Можно ли сейчас представить какую либо МАМУ, разрешившую играть дома в игрушку имеющую топку, в которой горит огонь, и паровой котел, в котором кипит вода? А вдруг!
Раньше при всех (почти) больших школах были спортивные площадки, на которых были «Гигантские шаги». Уже после войны где-то в СССР, движущуюся часть этого сооружения заело и погиб ученик, и нет теперь нигде этого спортивно-игрового снаряда. Растят теперь из детей «пай мальчиков» — как бы чего не случилось. Теперь мальчики и девочки читают книжки как совокупляются подростки, смотрят красивые эротические фильмы и бьют лежащего ногами — и мальчики и девочки. Мир изменился по законам развития общества — к лучшему? НЕ ЗНАЮ. Но в древнем Шумере (3000 лет до н. э.) на глиняных табличках писали, что молодежь пошла не та, и мир катится к пропасти, а он жив. Впрочем, Шумера и не стало. Подумайте — кто кому должен диктовать: молодежь старикам, или старики молодежи?
Когда в снабжении магазинов продуктами стали появляться нерегулярности, я обходил и объезжал хорошие магазины в поисках масла, корейки, уток, еще чего-то такого. Брал я помногу — не по 100 гр., а килограммами, утку целиком, гуся — сколько «давали» (обычно половину птицы). Кассирши скоро меня приметили и предупреждали о том, что они ожидают. Так что я приходил с добычей, хотя и приходилось стоять в очередях. Но при любых обстоятельствах в 5 часов вечера я должен был сесть за уроки.
Я заходил в аудиторию, зажигал настольную лампу с зелёным абажуром и занимался, часто при этом, замечая, что я смотрю в тёмное окно и фантазирую. Заметив это, вновь принимался за домашнюю работу. Плохо шёл русский письменный. Он всегда у меня плохо шёл — так и идёт. На вопрос: «Какой язык знаете?» я могу ответить только так: «Русский со словарём» и сейчас словарь передо мной на столе, но беда в том, что я не знаю, в написании какого слова я не уверен.
А тогда я брал мел и в этой же аудитории подходил к доске и писал мелом все слова, которые меня окружали. Все слова, которые видны были в окне и которые приходили в голову. Проверяла какая-либо лаборантка — все слова были написаны верно, но как только дело доходило до диктовки или до изложения — выше тройки я не поднимался.
Регулярные занятия принесли свои плоды. Я осмыслил то, что мы проходили в школе, и экзамены сдал на пятёрки (кроме русского, разумеется). С тех пор я так и продолжал учиться в школе, в техникуме и институте в основном на пятёрки и на четвёрки.
А сочинения? Помню своё первое сочинение. Это было, наверное, классе в третьем. Надо было дома написать сочинение о том, как мы провели летние каникулы. Я был очарован природой, и мне хотелось передать прелесть пения птиц, пытаясь буквами повторить те звуки, которые издают птицы. Не получилось. Я сам видел неудачу. В последующем, при том количестве ошибок, которое в моем сочинении обнаруживал преподаватель, я не выходил за пределы тройки независимо от содержания
Зимой ходил в кружок моделирования при морском клубе. Клеил корпус яхты. На Первомайском параде шёл в колоне юных моряков в первом ряду в качестве барабанщика. Папа стоял в толпе, вытянувшейся вдоль улицы, по которой шла колона. Приближалось время отъезда. Мне очень не хотелось уезжать от этой вольной жизни, даже не вольной, а как раз очень даже регламентированной, но вполне самостоятельной и, главное, достойной, не унижаемой жизни.
Со слезами убеждал отца, что я могу прожить на 5р. в неделю. Он предложил: «Попробуй». Что я ел, не помню, помню только, что купил камбалу и держал её в полулитровой банке со льдом.
Экзамены в школе сданы. Лето в разгаре. Написал домой, чтобы не встречали.
Приехал, разулся, разделся до трусов, и началось босоногое лахтинское лето.
Игры. Кинотеатры. Улицы. Электричество
Жизнь в пригороде накладывает своеобразный отпечаток на быт. В центре Лахты, в канаве вдоль шоссе можно было набрать горсть свинушек и я иногда на завтрак, сбегав за свинушками, сам себе и жарил их с картошкой. До сих пор люблю не отдельно сжаренные грибы, а грибы, сжаренные вместе с картошкой
«Гуляли» мы на «улице» в основном по-деревенски. Зимой санки, кувыркание в снегу в громадных сугробах вдоль снегозащитных щитов шоссе, коньки — снегурочки, лыжи (коньки и лыжи — у кого были). «Финские сани», роль которых выполняла согнутая толстая проволока. Обычные деревянные санки смастерил дедушка.
Летом с первого дня каникул и до школы босиком. Запомнились ленинградские грозы. Не долгие весенние или осенние с грязью, а короткие обильные без грязи.
Жаркий летний день. На голубом небе отдельные красивые белые облака. Но вот одно облако начинает расти вверх, его нижняя часть начинает темнеть, и разверзается проливным дождем с громами и молниями. Вылило облако на Лахту ушат воды и растаяло. Лужи, ручьи, но земля не успевает раскиснуть, и весело было нам в одних трусах под дождем и после дождя бегать по этим теплым летним лужам. В Итальянских рассказах Горького прочитал я о Пеппе, как он использовал брюки богача («если от многого взять немножко, то это не кража, а просто дележка»). Я взял старые маломерные брюки дяди Вячика и надел их штанинами на руки — мне очень понравилось в таком наряде бегать по лужам при после дождевой прохладе.
Наслушался я разговоров взрослых о белых ночах, и однажды в день летнего солнцестояния, завернувшись в одеяло, просидел всю «белую» ночь на крыльце. Еще засветло исчезли люди со двора, постепенно погасли огни в домах, ведь завтра людям утром на работу, хоть при белых, хоть при черных ночах. Небо на севере теряет розовый оттенок заката, который поглощается сумеречной синевой. На фоне этой сиреневости четко вырисовываются зубцы елей ольгинского леса. Пытаюсь читать, но у меня с одной стороны стена, а над головой крыша крыльца и читать не удается. Сиреневость над лесом светлеет, и вечерние сумерки перешли в утренний рассвет. Люди еще спят, пошел спать и я.
Ещё до начала купания, как сойдет снег, много времени проводили на взморье. Песчаное раздолье, никого нет — мы одни. Как-то в этом возрасте прибрежное совхозное поле засадили картошкой. Мы эту картошку из земли извлекали и пекли в костре. За все время, может, с десяток картошин извлекли — это было продолжением игры. Занятия и развлечения на холодном весеннем пляже разнообразны, но вот запомнилось, что жгли костер, в котором нагревали гранитные булыжники и затем их разбивали холодными камнями. Очень красивы свежие разломы гранита, да и удаль проявить нравилось — камень расколоть.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
