
Бесплатный фрагмент - Рассказы русской француженки – 2
Проза и публицистика
ПРОЗА

Будёновка как средство интеграции
Эссе с эмигрантскими интонациями
В нашем городе — втором по величине во Франции, недавно начали открываться русские магазины. Самый первый появился года два назад — его хозяин, маленький армянин с тёплым понимающим взглядом, при первом же посещении обсчитал меня евро на семь, поэтому я стала постоянно наведываться в другой русский магазинчик, принадлежащий семье азербайджанцев-беженцев. В один из дождливых весенних дней, закупив свой обязательный «русский ассортимент» — чёрный хлеб, палтус копчёный, семечки жареные, торт «Белочка», а также новый русский детектив полу-известного питерского автора, я вдруг увидела на полке с матрёшками-президентами будёновку с яркой пятиконечной звездой.
— Сколько стоит это? — показала я хозяину на неё.
— Что? Эта шапка? — торговатый бакинец тянул время, высчитывая, сколько можно запросить с меня — вежливой покупательницы в джинсах, хоть и латанных, но кажется, дорогих.
Почувствовав вдруг неимоверный груз ответственности, он решил спросить совета у своего партнёра-совладельца магазинчика и принялся названивать тому по телефону. От такой суеты вокруг простого вопроса, я уж начала серьёзно думать, что «шапка» — дикий раритет, чуть ли не с головы самого Будённого, ну или его зама — по крайней мере. И цены ей нет. А выставлена просто на счастливый случай какого-нибудь французского знатока русской истории.
После долгих переговоров, хозяин положил трубку и вытер лоб:
— 25 евро.
С облегчением заплатив, я решила тут же примерить будёновку и хозяин с почтением к капризу «богатой покупательницы» быстренько притащил из подсобки огромный осколок зеркала. Заглянув туда, я обомлела — на меня посмотрела совсем другая женщина. Будёновка вдруг открыла мой русский экстрим, постепенно затягивающийся здесь на Западе мелким слоем пресной буржуазной вежливости.
Сняв «шапку», я наткнулась на прежнее своё лицо, надев — опять увидела другую личность в отражении.
— Вы хотите в ней пойти? — неуверенно спросил хозяин, которому уже надоело держать тяжёлое зеркало.
— Да нет, пожалуй, я должна к ней немного привыкнуть.
Нужно ли рассказывать, что, вернувшись домой, я сразу же надела будёновку и вернулась к зеркалу, чтобы понять, что же во мне меняется, когда я надеваю эту «шапку». Ответ сегодня я знаю, но пришёл он не сразу, а через некоторое время — и он был простым и сложным одновременно. Но самое главное, этот ответ помог мне ответить на вопрос: «Зачем нам, поручик, чужая земля?»
Однажды в школе мы делали как-то спектакль на тему революционной романтики. Я читала под музыку стихотворение М. Светлова «Гренада» (успев закончить школу доперестроечных реформ, я не имела никакого опыта критического осмысления революционного пафоса, который появился уже позднее, в университете). Этот паренёк, который «хату покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать» меня доводил до слёз своей жертвенностью и чистотой помыслов. Я представляла его глаза, горящие мечтой, его пыльную будёновку, и мой голос срывался на строчках:
«Мёртвое тело наземь сползло,
Товарищ впервые оставил седло,
Прощайте, родные, прощайте, друзья!
Гренада, Гренада, Гренада моя!»
Русская революция, которой мы сегодня стыдимся, сродни французской революции, которой они гордятся. Былой революционный пыл санкюлотов (в переводе — «бесштанников») сегодня трансформировался в национальный сексуальный экстрим, хорошо эксплуатируемый рекламными режиссёрами, но, отдавая дань почтения лозунгу: «Свобода, равенство, братство!», многие французы всё же предпочитают уютный буржуазный мирок без особых потрясений.
Даже юноши здесь — во Франции и в Европейском Союзе — знают своё будущее на несколько лет вперёд, и никто из них — уж точно — не покинет «свою хату», чтоб где-то там кому-то там помочь с решением глобальных проблем. Хорошо это или плохо — не знаю. Но скучно — это точно.
Первый выход на люди
Итак, решено — сегодня или никогда. Собираясь в гости к одному старому французскому аристократу, с которым мы раз в неделю читаем вслух французские книги, я решительно надела будёновку, хотя погода стояла солнечная (для самоободрения, я даже напомнила себе о казахах, которые даже в жару носят войлочные шапки).

В метро пожилая арабская женщина с расписанными хной ладонями и в расшитом халате посмотрела на меня на всякий случай осуждающе и строго. Она почуяла во мне соперницу с моей непонятной остроконечной шапкой с красной звездой. Её религиозный шарм поблёк перед моим шармом — национально-историческим. Остальные пассажиры дремали, устало отведя глаза, как всегда, подальше от посторонних взглядов. Я сидела с вызовом, понимая, что самое лучшее в моём перфомансе — быть невозмутимой, как модель на подиуме, даже если на ней — одни кружевные стринги, хоть и украшенные бриллиантами. Не скрою, что меня интересовала реакция окружающих на мою будёновку, но признаваться в этом я не должна была никому. Даже себе самой.
Через несколько станций, немного привыкнув быть в будёновке на людях, я расслабилась и немного задумалась о своём. Как только это произошло и я перестала контролировать обстановку вокруг себя, сразу же взгляды всего вагона притянулись к моей персоне (французы никогда не позволят себе в открытую рассматривать человека, но стоит ему заснуть нечаянно в поезде, например, или впасть в глубокие раздумья — никто не откажет себе в удовольствии внимательно, с жадным любопытством быстро рассмотреть своего попутчика).
Мне удалось поймать незабываемые открытые взгляды, в которых сквозило даже что-то от ностальгии по романтическим временам, когда на земле носили вот такие шапки. Входили новые пассажиры и, попадая в струю всеобщего внимания, направленную в мою сторону, люди на мгновенье забывали о хороших манерах, засмотревшись на русскую шапку с красной революционной звездой.
Один отчаянный арабский парень, раскуривая гашиш на последнем сиденье, вдруг ни с того ни с чего предложил мне покурить вместе, приняв меня за хиппи.
Добравшись до уютного двухэтажного дома своего знакомого, я поняла, что совершенно не устала от всеобщего внимания. Как будто моя будёновка передала мне часть своего революционного равнодушия ко всяким буржуазным штучкам. В том числе к впечатлению, которое она сама производила на окружающих.
Открыв дверь, Боб присвистнул от восторга и, едва дождавшись, пока я войду в дом, попросил примерить будёновку возле огромного фамильного зеркала над камином.
Эта просьба «дай померить, пожалуйста» — стала неотъемлемой частью моей будёновки. Мало-мальски знакомые люди просят примерить и затем засматриваются в зеркала, пытаясь реализовать себя в невиданном облике.
«Наш ответ — Чемберлену»
Бутик Сони Рикель, расположенный на самой дорогой улице нашего города, приманил меня своими декадентскими витринами. В этих странных одёжках на пластиковых манекенах воплощёны были женственный протест против самодовольной буржуазности и свежие идеи. Но продавщица, с дежурной улыбкой предложившая свои услуги и бросившая оценивающий взгляд на мою одежду, была буржуазкой чистой воды.
Как мне надоели эти продавщицы, с их приклеенными улыбками и быстрыми взглядами, не хуже любого рентгена просвечивающими внутренность вашего бумажника и названия банковских карт.
Ах, так! — я достала из рюкзачка свою будёновку и, поправив перед зеркалом волосы, надела её на себя. Хотите — верьте, хотите — нет, всё изменилось. Изменилась обстановка, изменилась продавщица, потому что изменилась я сама. Из потенциального «бумажника» я стала личностью, которая высится над гранью простенькой и быстрой оценки. Я стала творческой женщиной, которая ищет чего-то невысказанного и небанального в жизни. И у опытной продавщицы хватило тонкости понять это. И отвязаться от меня. Она просто с человеческим интересом посматривала на меня из-за дальних вешалок, не мешая мне рассматривать, мерить, обдумывать. Но я, отвоевав пространство, не стала злорадствовать или слишком радоваться своей победе — да и зачем мне это. Я просто позволила себе забыть о её существовании.
Князь Голиков в будёновке
Немного опаздывая на интервью к потомку русских князей Голиковых, я нервничала — аристократ всё же. Но Александр Голиков оказался человеком смешливым, необидчивым и очень разговорчивым. Он показал мне фото своего деда, который был капитаном 1-го ранга, командиром броненосца «Потёмкин» и во время знаменитого матросского бунта в 1905 году был убит матросом Матюшенко. Потом мы пили чай и потомок русского княжеского рода рассказывал о жизни своей семьи в эмиграции во Франции, переходя с русского на французский или называя магазин лавочкой, а самолёт — аэропланом. Я попросила его сфотографироваться, а он после величественных снимков на фоне роскошных, но немного помпезных интерьеров своей квартиры попросил снять его в будёновке. Просто так — на память. Я полусерьёзно сказала, что снимок потомка капитана Голикова в будёновке может стать историческим событием и знаменовать собой прощение от потомков русских белоэмигрантов всем матросам и пролетариату России. Александр кивнул головой: «О``кей». Желание сняться в будёновке оказалось сильнее всех исторических обид…
Русская эгоцентричность — вещь тяжёлая
На ежегодный приём в одной крупной архитектурной фирме я пришла в нормальной одежде для раутов. Было достаточно однообразно — архитектурный народ, обессиленный постоянной работой на износ в условиях жестокой конкуренции, постепенно напивался, как вдруг в голову мне пришла сумасшедшая идея. Идея была на самом деле сумасшедшая! Потому что — скажем честно — мало у кого хватит куража надеть будёновку посреди ночного банкета-фуршета. Я достала из своей сумки случайно прихваченную будёновку — просто в одно время я не расставалась с ней, обвиняемая своими домашними чуть ли не в идолопоклонничестве, — и надела её перед публикой.
Люди отреагировали по-разному — самой частой реакцией было мрачное пьяное любопытство с попыткой познакомиться поближе, в этом кадре мой жизни я последний раз была в будёновке на людях. Потому что — как бы это сказать — слишком уж много эгоцентризма появилось в моём жесте: достать будёновку, и бац — я самая крутая.
Какими-то смещёнными персонажами становились окружающие, не зная, как реагировать на этот шапочный перфоманс. Вполне прочувствовав в тот раз свою эгоцентричность — обратную сторону эмигрантских комплексов, я как-то перестала нуждаться в будёновке — её было всё-таки слишком много уже, и теперь она мирно почиёт вместе с другими шляпами, шапками и шарфами в моём шкафу.
2012. Париж
Волчонок
В 1903 году в сибирской деревне Кружавихе, что неподалёку от знаменитого каторжного тракта, пропала молодая невестка c Кедровского подворья. Семья Кедровых была традиционно по-сибирски большой: все одиннадцать сыновей селились в одном подворье, разделяясь друг от друга невысокими заборами. Невестка Полинка, которую привёл из соседней деревни младший сын Кедровых Василий, ещё тайком поигрывала в тряпичные куклы, ей было всего 16 лет. Красивая тоненькая Полинка с сахарными белыми зубами, ласково и застенчиво тянувшая «тятя», «мама» при виде крепких ещё свёкра и свекровки, пришлась им к сердцу, как родная дочка, которой Бог им не дал.
Свадьбу сыграли в конце лета и жизнь новой семьи Василия и Полины Кедровых, потомственных крестьян Обволокского уезда, началась под тоскливый и пронзительный запах осенних дымов с огородов и пастбищ. Зиму молодые жили в родительском доме Василия, под присмотром свекрови, постепенно научавшей жену любимого младшего сына хозяйским секретам: как попышнее замесить тесто на хлебы, как прикрыть печь заслонкой в тот самый момент, когда остановятся скакать по углям синеватые сполохи угара и чистое тепло начнёт вылетать в трубу.
Полина всё это знала и умела, но свекровушкин опыт хватала на лету: Кедровиха была большуха, то есть, хозяйка толковая, цепкая и работящая. Из всех её одиннадцати детей ни один не умер и не болел тяжело в детстве. Кормила она их сытно, одевала чисто, знала целебные травы и умела лечить от пупочной грыжи горячим чугунком.
Звали её помогать и при родах, но Кедровиха отказывалась — боялась, что, как многие повитухи, останется без внуков. Откуда она придумала такую примету, сама себе объяснить бы не смогла: у бабки Манеши, повитухи из соседней Разухабихи, была полна изба толстопятых внуков. Засел в Кедровихе суеверный бабий страх за свою счастливую долю. Боялась, что завидуют их Кедровской справности люди и что придётся ей рано или поздно расплачиваться за то, что миновали её многие беды, выпавшие на долю соседок и даже родных сестёр.
Однажды, той первой замужней зимой Полинка, подоив корову и возвращаясь с подойником в дом, постояла почему-то на синих морозных сумерках во дворе, заглядевшись на бледную одутловатую луну, которая как лицо утопленницы из омута светилась с тёмного, глубокого неба. Мороз только прихватил землю, покрытую первым снежным настилом, негромко поскрипывающим под ногами. Звёзды холодно застыли в вышине. Вдруг недалеко в лесу враз, как сговорившись, со всех сторон завыли волки. Полинка испугалась, заторопилась домой и, заскользив ногой, пролила половину подойника.
Дома свекровь, два дня безмолвно мучавшаяся зубами, сорвала свои страдания на невестке, впервые обругав Полинку «коровой». Молодая украдкой расплакалась, спрятавшись за своей занавеской. Ей всё показалось таким постылым — и эта большая изба, и чужие, не больно ласковые люди, которых теперь придётся всю жизнь называть тятей и мамой.

Пасха выпала в тот год на конец марта. Прибрав в дому перед Лазаревой субботой, Полинка затосковала по своим — отцу, матери и младшим: брату и сёстрам. Она ходила как в воду опущенная, послушно выполняя наказы свекрови. Василий, чувствуя сердцем свою молодую жену, затосковал вместе с ней, испросив под конец у родителей разрешения отпустить Полинку в отчий дом погостить до Великой субботы.
Полинка сразу засветилась, засобирала гостинцы, припасённые ею для братика, сестричек — леденцы, орешки, платочки, картузик. Для маменьки, которую Полинка очень любила, была давно уже вышита панёва. Для тятеньки — сшита новая рубашка. Полинка собралась быстро и весело, застучав по деревянному полу босыми ногами. Василий довёз жену до развилки дороги в лесу, откуда ещё немного — и виднеются крыши её родной деревни Разухабихи. Всю дорогу, сидя на сене, Полинка принюхивалась к забродившим весенним запахам и гулким звукам мартовского леса. У неё было такое чувство, что она и не жила эту зиму, а была как бы замурованная.
С приступившей тоской перед недельной разлукой с молодой женой, Василий, крепко обнял её и поцеловал, засмущавшись сам перед собой. Он бы отвёз её до самого дома, но отец уже ждал лошадь, чтобы поехать за дровами.
Полина соскочила с телеги, чуть не уронив в талый грязный снег узелок с гостинцами, и быстро пошла по мокрой размякшей дороге, согреваемой солнцем. Василий посмотрел ей вслед, подождал немного, оглянется ли? Полинка торопилась: очень уж затосковала по родимым, прожив долгую зиму в чужой семье. Но перед самым поворотом оглянулась, махнула рукой, отчего у Василия смягчилось сердце, начавшее было закипать обидой.
• • •
Хватились Полинку на Пасху, когда её родители, поздоровавшись со сватьями на крыльце церкви перед всенощной, спросили про дочь. Искали её всем Кедровским родом в таёжном лесу, уже потёкшим талыми ручьями, но не нашли и следов. Только весной из лесной неглубокой речки дети выудили полинялый узелок с подгнившим тряпьём — бывшими гостинцами, собранными Полинкой для родителей. Заявили в уездный участок о пропаже крестьянки Полины Кедровой, года рождения 1887, два раза приезжал урядник, зачем-то обыскал избу и хлев стариков Кедровых и уехал без лишних разговоров.
Ходили слухи, что в марте как раз перед Пасхой с тракта бежали каторжные и соседи говорили, что не иначе как они и утащили Полинку и, надругавшись, убили и закопали её где-нибудь в лесу.
У Кедровых эти слухи не повторяли. Но Василий знал про них, сидел в одиночестве, когда выдавалась свободная от работы минутка, и темнел лицом, всё представляя себе, как Полинку хватают за поворотом беглые каторжники, затыкают ей рот, чтоб не вскрикнула, не позвала его, а он в это время разворачивает лошадь с телегой и уезжает.
Мать его — Кедровиха — томясь за сына, через два месяца после пропажи невестки ходила посоветоваться со священником. Он сказал, что нужно ещё подождать, прежде чем сватать Василию другую девку.
В октябре, когда уже начались холода, Полина нашлась. Пришла домой в ободранном тулупе и в разбитых онучах — в том же, в чём и ушла от Кедровых в тот мартовский солнечный день. Была она не человечески худая, с лицом, притемнённым ветром и солнцем, с не зажившими коростами от гнуса на коже, сильно ослабевшая. Постучав в окно родительского дома, молодая женщина упала. Все силы вложила она в этот громкий и резкий стук, прежде чем сползти без сил на землю. Мать её вылетела во двор в одну минуту и увидев Полинку, запричитала, согревая ладонями бессильные вялые руки и холодные щёки дочери.
Отпаивали Полину парным молоком, настоянном в печи на проросшем овсе, кормили с ложки похлёбкой на медвежьем нутряном жиру, сухую, как у стариков, кожу мазали облепихой и гусиным жиром. Полинкины родители были бедными, про таких говорили, что у них в избе свистит, и сами-то они таких вещей вовек не едали и не видали.
Всё для лечения жены — зерно, освежёванного барана, мёд и облепиху привёз Василий. Кедровиха была прижимиста, но тут она сама натаскала в телегу сына, когда он собирался к тестю, горшков и узелков, послав напоследок внучку от старшего сына в курятник за свежими яйцами. Видела Кедровиха, что любит её младший свою жену всем сердцем, знала о его бессонных тоскливых ночах без своей ладушки, видела его не выказываемую боль и потому только была готова не пощадить всё самое дорогое, только бы выздоровела и окрепла её младшая невестка.
Полина оказалась беременна, на сносях. Её не мучили распросами — бывали такие случаи — заплутав в тайге, иногда ходили по буреломам несчастные по три-четыре месяца, повреждаясь в уме или помирая с голоду. Случай с молодой невесткой Кедровых многим, конечно, показался диким — пропала она почти от самого дома и в такую пору, когда ни ягод, ни грибов, ни орехов в лесу было ещё не собрать. Где жила и что ела? И как продержалась в тайге почти семь месяцев — что и самим таёжным охотникам в одиночку не под силу?
Младшая сестра Полины однажды таки не утерпела, спросила, как и где она жила в лесу, где её плутало? Сёстры были в избе двое и старшая уже поднялась с постели, начав ходить без посторонней помощи. Полина стала, как бы через силу, вспоминать.
Когда Василий скрылся за поворотом, она немного свернула к лесу, хотела обойти большую лужу от подтаявшего снега на дороге. Откуда ни возьмись из лесу выскочили волчица с волком. Заигравшись, затанцевавшись на весенних полянах, празднуя свою свадьбу, звери, забыв осторожность, выскочили чуть ли не к деревне. Полина видела, как волчица — она была поменьше ростом — оперевшись на передние лапы и постояв так, затем вдруг прыгнула на волка. Волк пытаясь увернуться от острых зубов подруги, побежал, но упал. Волчица больно укусила его за загривок, потом бешено помчалась вдаль, описывая круги. Волк рванул за ней. Звери носились туда и сюда по весеннему лесу. Полина наблюдала эту дикую гонку, замерев на месте и боясь пошевелиться. Вдруг на бегу оба волка потеряли равновесие и, сцепившись, покатились по крутому склону. Неподалёку от Полины они разделились, вытряхнули лёд из шерсти и, тяжело дыша, встали мордой к морде. Самка поднялась на дыбы, буквально обняла самца передними лапами и начала прилизывать, как бы нацеловывая его своим длинным языком. Полина не могла отвести глаз от волков, и они вдруг, учуяв человеческий запах, остановили свои игры и волк вперил на неё свои жёлтые глаза. Он был так близко, что женщина могла увидеть каждую шерстину на его морде.
Полина вскрикнула, прижалась к стволу дерева, а волк вздыбился загривком и пошёл на своего извечного врага — человека, щеря огромные желтоватые клыки. Волчица в это время уходила в лес и волк не давал Полине посмотреть в ту строну, прикрывая уход подруги. Молодая женщина, похолодев, не смея даже сморгнуть, смотрела на волка, видела его клыки, клацающие совсем рядом, когда он рывками припадая к земле, то приближался к ней, неподвижно вжавшейся в ствол, странными танцующими кругами, то отскакивал в сторону, припадая на передние лапы. Сколь долго это продолжалось, она не помнит — может, час, а может — полдня. Замороченная, застывшая женщина, не смевшая от страха ни позвать на помощь, ни даже пальцем пошевелить, упала, когда в очередной раз волк сузил своё кольцо вокруг её берёзы. Последнее, что запомнила — серебряную ледовую купель, в которую она медленно повалилась, и прямо в лицо — острый звериный запах, страшное урчание.
Очнулась, замёрзшая, когда солнце уже село. Долго шла, как ей показалось, на деревню, а забрела уже к ночи в лесу на заброшенную охотничью зимовку. Закрыла дверь на щеколду, так и повалилась на лежанку, не сняв мокрую, заледеневшую одежду. Рано утром, совсем застыв, очнулась и осмотрелась: в зимовке было немного дров, маленькое стёртое огниво, а еды, как это бывает в избушках у охотников, не было нисколь. Женщина собиралась пойти домой, потому что дорога от этого места до своей деревни была ей, кажется, знакома. Но при мысли о том, что придётся идти лесом и встретить там волков, заставила её не выходить из полуобсевшей избушки дня два. Затем голод всё-таки выгнал её на улицу, где она быстро, оглядываясь по сторонам, набрала еловых иголок и опять юркнула в зимовку, закрылась. Она варила себе хвойную кашу в талом снеге и всё посматривала в щели, прорубленные в стене, ожидая прихода людей: Полина знала, что её будут искать и решила дожидаться прихода людей. Никак не могла она перебороть свой дикий страх перед волками и отправиться одной через тайгу. Как прошла весна, пришло лето, она и не помнит — дни бежали за днями, она кружила неподалёку от избушки, собирала ягоды и грибы, варила чай из листьев малины и смородины, как всегда делали во время сенокосов, чтобы пахучим дымом прогнать таёжного гнуса, и ждала людей. Надеялась, охотники придут в зимовку хотя бы к осени. Но никто так и не пришёл.
Когда началась осень и у неё начал расти живот, Полина стала голодать: ребёнок в ней днём и ночью просил есть. Похолодало, зарядили дожди по нескольку дней, тайга покраснела и разбухла от сырости. Страх перед волками, дошедший до сердца, заставлял Полину тянуть до того дня, когда все сухие грибы и ягоды были съедены ею до крошки. Одним утром она таки вышла из сторожки и, помолившись Божией матери, пошла с того места искать человеческое жильё.
Когда шла, всё прислушивалась к шуму лесного ветра, в котором ей, нет-нет, а чудился волчий вой. Отдыхала, опускаясь на мокрый холодный мох, а затем шла дальше. К вечеру вышла на знакомые места, а к ночи поднялась на пригорок к своей деревне.
• • •
Когда пришёл срок родов, Кедровиха уговорила сватов отпустить дочь к ним, Кедровым. Рожала Полинка тяжело, как сказала бабка Манеша, сил у неё нету, чтобы «выкряхтеть» ребёнка. Да и подзастужена была роженица ещё там, в тайге. Когда спустя двое суток тяжёлых схваток, наконец, показался на свет Божий младенец, бабка Манеша чуть не уронила его — ей почудилось в его крике волчье рычанье.
— На голове-то у него не волосы, а серая шёрстка. И тельце всё какое-то, мохнатое… Сколь повитушничаю, вовек такого и не видывала, — рассказывала Манеша бабам у колодца.
По деревням пошли слухи: молодая Кедровиха родила волчонка. Когда Полинка пропала весной в лесу, то украл её огромный волчище, утащил её в своё логово и миловался с ней, как с волчицею. Ела она дикое сырое мясо, что приносил ей сударик в пасти с лесной охоты, спала в волчьем логовище, каталась с ним безлунными ночами по лесам, голая, и научил он её выть на луну — всё равно как петь по-волчьи. Все поверили. Даже мужики с любопытством заворачивали свои тяжёлые крестьянские головы, когда шли мимо Кедровского подворья.
Кедровых не очень любили за прижимистость, но уважали за ладность уклада. Слухи о том, что молодая Кедрова нагуляла волчонка, давали выход этим сложно сплетённым чувствам. Вроде не виноваты Кедровы в том, что сноху волк обрюхатил, а если по-другому посмотреть, то так им и нужно. Потому что сами живут как волки — без доброты и мягкости к тем, кто победнее. Сами Кедровы, узнав про слухи, что их внук — волчонок, на людях посмеивались. Были они людьми ушлыми, и знали, как вести себя на миру. А уж о чём говорили промеж собой, закрывшись за своими высокими заборами — кто же узнает.
• • •
Василий не узнавал жену… Не было у ней прежнего сладко-малинового запаха. Высохла она душой и телом, стала неулыбчива и молчалива. Раньше Василий, входя в избу, всегда слышал её шаги, голос, проворный перестук ухвата по чугункам. Теперь Полина затихла и с утра подвязав, платок, тихо работала в доме или в поле. Если её окликали, по лицу её пробегала такая мука, что, дескать, зачем лишний раз её потревожили, задели. Сына она смотрела хорошо, был он всегда накормлен, обшит, обстиран. Но не умела его приласкать, пощекотать, посмешить. И мальчишечка тянулся к отцу.

Когда Пашка подрос и стал выходить играть к другим детям, они его задразнивали до слёз: Волчонок да Волчонок. Не одиножды плакал горькими слезами обиды, когда убегали от него соседские ребята с криками:
— Волчонок вышел! Ату его!
Мальчик характером пошёл в Полинкину родню: простоватый и доверчивый. Не мог бы он перебороть свои обиды и страх, что вот-вот опять его задразнят. Так и шёл с этим страхом на лице к детям. А им ведь только этого и нужно:
— Волчонок пришёл! Ату его, ату!
И двоюродные его тоже кричали. Вместе со всеми.
Так и рос одиночкой. Жалела его бабушка по матери. И тётки. А ведь тоже как бы брезговали. За что — и сами не знали.
Один раз во время сенокоса Пашка помогал отцу — было ему уже лет шесть. Двоюродные братья, — их отцы косили рядом, пошли искупаться на неглубокую лесную речку. Пашка увязался с ними. Там ему и рассказали братья- подростки, что он не человек, а волк. Что мать нагуляла его в весеннем лесу с огромадным волчарой. И что приходит каждую зиму этот волчара к подворью и воет ночами и просит отдать ему сына Пашу. Ночью мальчик проснулся в шалаше, рядом храпел отец, матери на покосах не было. Смотрел на звёздное небо в шалашных просветах, кривую луну, и слышал, как в поле шуршит, разметывает свежие стожки по всему полю его родной тятька — волк, сильнее которого нет на свете.
Через несколько дней, когда ребятишки набросились на Пашу дразнить волчонком, он не заплакал, а зарычал и пошёл на детей, скалясь. Бросился на одного парнишку и укусил его за лицо до крови. Дома его прибил за это отец, но Пашка кричал ему сквозь плач:
— А я всё своему тятьке расскажу, он тебя раздерёт на кусочки, вот заплачешь тогда, ирод!
Василий чуть не задохся от услышанного:
— Да что ты мелешь-то, бестолковый! Я — твой отец! Я!
Пашка, не слушая его, кричал, задыхаясь от плача, растирая рукавом по лицу слёзы и сопли:
— Тятька мой — волк! Он меня от вас защитит! Он лучше вас!
На крики прибежала бабка Кедровиха и добавила внуку от души, отстегав его вицей.
— Я те дам волка, я те дам защиту от отца родного!
• • •
Когда наступили смутные революционные времена, Пашке было уже 16 лет. Был он деревенским горлопаном, драчуном и сочинителем похабных частушек. Таких называли тогда «отпетыми».
Шатаясь по деревне ночами, распевал Пашка свои частушки, от которых плевались старухи, но он умел спеть и красивые песни таким глубоким, мягким голосом, что растревожил бы сердце любой девке, кабы не знать, что это Пашка-волчонок. После того, как пришла в Сибирь гражданская, братоубийственная война, ушёл Пашка то ли к белым, то ли к красным, и долго о нём ничего не знали даже отец с матерью.
2015. Париж
Вслед за клоуном
Бывают такие моменты, когда человек совершает нецелесообразные дикие поступки, разрушая свою прежнюю жизнь, так же, как и жизнь близких людей, да так, что все знавшие этого человека начинают искать причину в самых что ни на есть банальных знаках — любовная интрижка, деньги, выгода. И при этом самому провинившемуся невозможно объяснить всем, что он сделал это ни много, ни мало, а для того, чтоб спасти свою жизнь. Или для спасения своей внутренней гармонии, которая не поддаётся внешнему контролю и не выводится как сумма правильных поступков. И без которой человеческая жизнь превращается в настоящий ад.
Все были уверены, что причина всего происшедшего — клоун. Так подумали муж Юлии Жан-Жак, её сын Пьер, её свекровь, подруги-русские, подруги-француженки, соседи, сотрудники мужа, сестра Юлии, которой Жан-Жак позвонил первой после ухода супруги и рассказал свою версию срывавшимся от слёз и волнений голосом.
А клоун был совершенно ни при чём. Он действительно сыграл свою маленькую роль в жизни её и её семьи, но вовсе не ту, о которой все подумали.
• • •
Последняя ссора с сыном произошла как раз перед цирком. Красиво облокотившись на приоткрытое окно, Пьер небрежно вёл свой «Пежо», поглядывая в лица обгоняющих его людей. Асфальт автотрассы блестел под прохладным октябрьским дождём.
— Осторожнее, — попросила его Юлия.
— Заткнись! Ты всегда бы меня за руку водила — была б твоя воля!
Они ссорились сегодня целый день, нанизывая новые обиды на старый круг. И такие вот выходные дни были уже в их семье не в радость. Сегодня утром он сказал ей такое… Он сказал ей, что устал от её слишком русской любви, в которой он задыхается.
— Знаешь, как я жалею! — моментально подхватила мать здесь, в автомобиле, отвечая ещё на ту фразу, которую она не сможет ни простить, ни забыть, как его предыдущие грубости. — Знаешь, как жалею, что не абортировала тебя! — мстительно и резко она бросила ему эту фразу, как проклятие.
Пьер осёкся — до такого они ещё не доходили в своих скандалах.
— Останови здесь! — скомандовала Юлия. Она вышла неподалёку от цирка, а Пьер круто развернул автомобиль. Обоим было понятно, что в цирке им будет слишком тесно.
У входа Юлия увидела группу знакомых из русской Ассоциации «Тройка». Это были в основном русские жёны со своими французскими мужьями. Под придирчивыми взглядами Юля распрямилась и тряхнула хорошо уложенной головой.
— Юлька, приветик! — подбежала к ней Алла. — Я тебя давно не видела! — Женщины расцеловались, чуть касаясь щеками и производя губами звуки поцелуев.
Публика проходила под синий купол цирка шапито «Медрано», движение задерживали двое рабочих, менявших перегоревшую лампочку в гирлянде под козырьком.
Разговаривать с подругой в этом узком коридоре остановившихся людей было неудобно, и Лена опять вспомнила ссору с Пьером. Сердце сжала тоска — сын ей никогда не простит последних слов. Он был очень раним и мнителен. По-французски.
Муж Юлии Жан-Жак считал себя хорошим отцом, но она, не имея никаких претензий к нему как к заботливому мужу, была глубоко разочарована его спокойным французским равнодушием, которым он оградился от её страха за будущее их эгоистичного и беспомощного сына.
Часто уезжая в командировки, Жан-Жак был исключён из ежедневного процесса взращивания ребёнка. Юля видела, что его это вполне устраивает: не копая глубоко, удовлетвориться ответом: «У меня всё хорошо, папа!». Не формулируя своих претензий, Юлия просто начала называть своего холёного седовласого мужа Жан-Жака Жорой. Эта перемена имени означала многое. Был рыцарь, француз, мужчина её жизни, которому она никогда не изменяла, несмотря на ухаживания его друзей в периоды его долгих командировок. Стал провинциальный французский обыватель Жора. И даже фамилия как-то уже не облагораживала, несмотря на аристократическое «де» — Де Рибан. Жора Рибан. Как будто кличка. Вот, оказывается, за кем она была замужем все эти годы.
Всё это так незаметно подступило, осело какой-то надоевшей пылью, которую не смыть даже горючими слезами. Разочарование. Если это слово не звучит как трагедия или катастрофа, то пустынный пейзаж, который открывается за ним, убивает не хуже.
Ссоры с сыном в последнее время начали разнообразить этот пейзаж силуэтами обгоревших деревьев. Сгорели её материнские надежды на престижный университет, на его блестящее будущее в области науки или медицины, Пьер выбрал учёбу в профессиональном лицее по кулинарной части. Как говорила Юлия с тонкой усмешкой соотечественникам, помнившим ещё нелепого студента из одноимённого учебного заведения: он же у нас в кулинарном техникуме.
Но самое главное — она перестала понимать, для чего она отчаянно держится за свои русские модели, защищаясь изо всех сил от понятий и привычек, принятых в кругу французских обывателей — так называемого среднего класса, привыкшего экономить, немного ругать правительство и много — арабов, пожирающих львиную часть средств налогоплательщиков. Арабов она тоже ругала, выпив красного вина на какой-нибудь вечеринке в кругу соседей. Её раздражало то, что она не могла определить в терминах, но что чувствовала за версту — ограниченность этого самого среднего класса. Её тошнило, когда она слышала в суждениях Жан-Жака о последней международной новости и те же самые выражения, в которых об этой новости сообщил накануне диктор «20 часов» — информационной программы первого французского канала. Он никогда не задумывался о том, что и почему разжевали и вложили в его голову профессиональные политологи-редакторы. Ему было всё равно, кто убил Политковскую, но, раз диктор сообщил об этом событии в ряду с осуждением Президента России, Жан-Жак будет считать, что не обошлось без руки Кремля. Так же, как и всё его окружение.
Прожив здесь почти двадцать лет, Юлия уже не видела во Франции той страны, которая была когда-то для неё запредельной мечтой. Более того, она была убеждена, что французская нация прошла уже пору своего апогея и теперь потихоньку превращается в старушку Францию — страну, где коренное население более всего стремится к комфорту и ужасно боится конфликтов с арабами. Больше не было здесь для Юли никакого идеала.
Таково свойство памяти — забывать всё плохое. В этой самой капризной памяти всё чаще всплывала Россия. Не Советский Союз, в котором её вызывали в КГБ, грозились лишить гражданства и диплома педагогического ВУЗа за роман с Жан-Жаком. Нет, не Союз, а Россия —
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни вековые,
Как слёзы первые любви.Россия». 1908.
Но, побывав этим летом в Москве, она была разочарована, плакала и говорила, что больше туда не поедет: грубость милиционеров, вседозволенность богатых, нищета подавляющего большинства русских людей — это причиняло ей боль. Так же, как хозяйское поведение восточных людей в Москве, устанавливающих потихоньку свои порядки и подкупавших стражей порядка постоянной мздой, что ни для кого не было секретом.
Но у неё была ещё внутренняя территория — её семья, страна, где рос рождённый ею по страстной любви человечек, пространство, где она была хозяйкой и правительницей. Для сына она запоминала интересные случаи в своей жизни, коллекционировала знакомства с интересными людьми, старалась чаще водить его на гастроли русского балета, читала ему Достоевского и Гоголя.
Но в последнее время Пьер неожиданно стал выказывать отвращение ко всему русскому. Для него стали важнее его друзья и девушки… Приходя в их дом, они пили пиво и негромко и многозначительно вели беседу: говорили о марках автомобилей и мобильников.
В его отрывистых репликах, которыми он принялся общаться с нею, Юлия слышала холодное презрение. Оно выражалось насмешками над её рассказами о прожитом дне, когда вся семья собиралась на ужин. Или открытым смехом ей в лицо во время её разговоров с мужем о подорожании. Смех сына был уже не безобидный и не вызывающий на конфликт. Его смех в последнее время стал уничтожающим. Страсть матери ко всему русскому он подавал своим товарищам как подобие раннего старческого маразма.
Отчего их отношения с Пьером зашли в такой мерзкий тупик — она уже не понимала. Когда начинала думать об этом, её сердце разрывалось от обиды.
«Просто не понимаю, за что?» — думала Юля, кивая головой в ответ на новости, который выкладывала ей Аллочка — крашенная блондинка из Саратова. Аллочка, ставшая бабушкой в России, но скрывавшая это от своего жадноватого и ограниченного мужа — Даниэля.
— Алла, я сейчас без машины, а Пьер уехал, не подбросите меня после цирка?
Алла смутилась:
— Поговори с Даниэлем.
Даниэль в ответ на её просьбу промолчал, а потом и вовсе незаметно улизнул подальше, на другой ряд, оставив Лену без надежды на его помощь.
Юлия просто недоумевала — они ведь были почти соседи и при всей его жадности в её просьбе не найти ничего страшного. Да и сама она сколько раз подвозила друзей или просто знакомых. Кстати, самого Даниэля с Аллой тоже.
«Ну, что за люди? — возмутилась её душа. — Оставят идти пешком по тёмным лесам и пустым деревням до самого дома из-за пяти лишних литров бензина». Прожив почти двадцать лет во Франции, Юлия привыкла к французской жадности, но всё же каждый раз это вызывало в ней отвращение. Всякий раз при муже и сыне ей необходимо было скрывать свои реакции и они отравляли душу, разъедая её горькой сухой иронией.
На арене началось выступление дрессированных тигров. Приземистый дрессировщик в кожаных галифе тыкал прутом в морды полосатых матёрых хищников — и они, щерясь и угрожающе раскрывая лапу, всё-таки выполняли его команды.
— Тигры какие-то заморенные в этом году.
Алла, подруга Юлии, чувствуя неловкость после отказа мужа довезти Юлю до дома, старалась прикрыть это своей весёлостью:
— Юль, что это ты так загрустила? Смотри, какой мужчина этот дрессировщик. Вот хочешь, познакомься с ним, он в тебя влюбится и подарит тебе тигрёнка.
Юлия из вежливости хмыкнула. Она вообще не понимала, о чём говорит Алла, её сознание сконцентрировалось на её собственной жизни… И тот же самый вопрос, который она задавала себе перед замужеством и отъездом во Францию замаячил перед ней, но уже в прошлом времени… А стоило ли?
Вспомнила, как впервые встретила Жан-Жака — она, переводчица, приехала в Шереметьево встречать французских специалистов. Увидев его лохматую шапку и бороду, ни с того ни с сего сказала себе: «Это мой муж». Жан-Жак развёлся ради Юли с женой и привёз её сначала в Париж, затем в маленький городок к югу от Парижа, в котором они приобрели дом с садом.
— Вы не французы, вы — старосветские помещики! — смеялась сестра Юли, приезжая на лето в их сад и срывая в их огороде помидоры, кабачки, яблоки.
Действительно, чтоб копаться в собственном огороде, не нужно было уезжать так далеко от Москвы. А диплом преподавателя французского языка хранился у Юли в папке с почётными и невостребованными бумагами — с вырезкой из газеты «Ле Монд» — со статьёй и фото с Жан-Жаком и его коллегами на открытии какой-то газовой станции в Саудовской Аравии, лозунгом «Пятилетку в три года» — который Жан-Жак снял со строительного заграждения в России. Работать после замужества Юле не пришлось, работы во Франции ни для неё, ни для других русских жён не было. Русские дипломы не признавались французским министерством образования, поэтому одна знакомая русская — психолог с дипломом Ленинградского университета — работала горничной в отеле, врач — пошла сиделкой в дом престарелых.
…В уши ударила громкая разбитная музычка — на манеж, кривляясь, выскочил клоун с мелкими чёрными кудрями, набриолиненными до ботиночного блеска. Он был худой, подвижный и почти гуттаперчевый. Сделав круг по манежу, он выбежал за барьер и в световом луче прожектора стал бегать среди зрителей, вытаскивая за руку молодых и пожилых, мужчин и женщин — на манеж. Пробегая мимо Юли, он внимательно присмотрелся к ней, и вдруг восхищённая улыбка пробежала по его нарисованному рту. Он подскочил к ней и взял за руку, вытаскивая на манеж.
Она отрицательно покачала головой. Клоун зарыдал, тряся плечами, сражённый её отказом.
— Мадам, силь ву пле! — клоун упал на колени и резко припал кудрявой головой к её руке.
Зрители смотрели в их сторону и смеялись.
— О``кей, — чтоб поскорее прекратить всё это, сказала Юля, — и клоун блеснул на неё хитроватым глазом.
Юлия вышла на манеж, присоединившись к группе людей, которым всё тот же тощий гуттаперчевый клоун начал раздавать разноцветные колокольчики. Юлии он дал чёрный колокольчик, порывшись в грязноватой корзине. Затем он достал пульт с нотами и взмахнул дирижёрской палочкой в белоснежной перчатке, указав на пожилого господина. Тот потряс колокольчиком — клоун выразил своё восхищение, приложив растопыренную правую пятерню к сердцу. Выждав паузу, он тряхнул головой, как бы выходя из оцепенения, и взмахнул дирижёрской палочкой на молоденькую девушку с длинными волосами. Девушка кокетливо тряхнула колокольчиком — клоун от восторга упал на колени, как подкошенный. Когда очередь дошла до Юли, её колокольчик сломался при первом же взмахе. И она растеряно сказала по-русски:
— Это не я.
Клоун сделал обиженную гримасу, растянув вниз уголки рта и прижав к сердцу сломанный колокольчик. Он смотрел по сторонам, приглашая зрителей в свидетели, а бедная Юля сидела на барьере, совершенно равнодушная к происходящему, не стараясь даже включиться в действие. Клоун протянул ей новый колокольчик и концерт продолжился.
В конце концов их маленький оркестрик, по-французски чуткий к каждому взмаху дирижёрской палочки в клоунских руках, сыграл-таки прекрасную музыкальную фразу из девяти — по числу участников — нот. Зрители хлопали, клоун был в экстазе — он стоял, как великолепный маэстро, принимающий заслуженные рукоплескания, и лишь по лицу его струились беспрерывные потоки слёз из видневшихся за ушами трубочек.
В антракте позвонил муж и напомнил, чтоб не задерживалась — на завтрашнее утро был назначен визит к его матери в дом престарелых. Юлия знала, что путь почти всех старых людей на Западе заканчивался не на кладбище, а в доме престарелых. Её это убивало, коробило, выводило из себя: Жан-Жак после обязательной католической мессы в воскресенье вёз их, свою жену и сына, к маме в дом престарелых, чтоб засвидетельствовать своё сыновнее почтение не столько даже престарелой мадам Рибан, а обслуживающему персоналу и соседям. Сколько Юля ни билась, она не могла объяснить мужу и его знакомым, что считает это ужасным делом — отдавать своих беспомощных старых родителей в эти стариковские дома. Никакие рациональные доводы, приводимые в пользу домов престарелых, не могли поколебать её убеждения в том, что эти ужасные — хоть и хорошо выглядящие порой, приюты — всего лишь оправдание человеческого эгоизма.
Достаточно было один раз пройти по дому престарелых, где уже тринадцатый год жила её свекровь, чтоб понять, что никакие медицинские кровати на роликах, откидывающиеся столики, четырёхразовое рациональное питание не смогут заменить всем этим старикам простой жизни с ежедневными заботами, тревогами за близких, дедушкиного кресла, бабушкиных очков. Старики и старухи жили здесь в оцепенелом ожидании посещений. Они были изгнаны из жизни, и, проживая в этом чистилище годы, все как один приобретали вид слабоумных.
Юлия помнила, как ужасен был день, в который они приехали отвозить свекровь в дом престарелых. Кроме них с Жан-Жаком приехали две дочери мадам Рибан, старуха не спала всю ночь, она не хотела покидать своего дома, но её никто не спрашивал. Главным аргументом её детей был: «Мы боимся оставлять тебя одну!» Но никто и не подумал о том, что есть ещё один способ избежать этого — взять к себе старую мать. Тем более, что все трое детей старой дамы имели свои дома с пустующими спальнями для приглашённых гостей. Свекровь, которая до этого утра всегда была мадам, стала вдруг маленькой усохшей старушенцией, которая хотела забрать свой архив с письмами друзей и возлюбленных — с собой, в дом престарелых, но эта идея была холодно отметена её детьми.
Пьер — было ему лет пять — сказал однажды родителям: «В этом доме престарелых — весело. Когда я вырасту, отдам вас туда».
Весёлого там было мало. Просто отвозили его обычно к бабушке в выходные или на праздники, где разные благотворительные организации устраивали концерты. Но насчёт его обещания сдать её и мужа туда же Юля даже не сомневалась. Особенно сегодня, после их последней ссоры, когда стало ясно, что у неё с сыном нет больше надежды понять друг друга.
На арене группа из шести парней и восьми девушек в национальных казахских костюмах показывала сложный номер с шестами. Двое ребят были русскими, остальные казахи. Они бегали, прыгали по вертикальным шестам, ходили по ним и слетали головой вниз, зацепившись сплетёнными стопами за шесты. Дамы в зале падали в обморок: мальчики тормозили в двух сантиметрах от затоптанного ковёрного покрытия арены. Юлия забыла про свои проблемы, вскрикивая вместе с залом и аплодируя виртуозным проделкам соотечественников громче других.
Номер с морскими котиками, для которого в антракте монтировали арену-бассейн, был монотонно-усыпляющим из-за спокойного самоуверенного присутствия на сцене двух дрессировщиков: толстой курносой женщины и такого же мужчины. Как оказалось, швейцарцев. Одеты дрессировщики были в кожаные брюки и пиджаки, которые на их расплывшихся телах выглядели украинскими свитками времён Гоголя.
— А костюмы-то у дрессировщиков сшиты из их прежних артистов — из списанных котиков, — заметила Алла. И это было похоже на правду — кожа на пиджаках была невиданная: жёсткая, топорщившаяся под швами.
— Практичный народ эти швейцарцы! — произнесла Юля с отвращением.
Чувствуя, что по энергетике русские гораздо сильнее всех европейцев вместе взятых, Юля всегда не понимала, отчего такая сильная нация, как русские, живёт так неровно, так плохо, грязно? Отчего в русских людях так мало достоинства? И нет ни капли уважения к себе подобным? Она вспомнила, как этим летом на Российской таможне, мальчик-пограничник — ровесник её сына — похотливо посопел на вырез её майки, потом вдруг расхохотался:
— А что это за фамилия такая — Рибан? От слова «рыба»? Рыбка…
Юля, отвыкшая от такого хамства, не нашлась как быстро ответить и остроумный и хлёсткий ответ (по-французски «юмор на лестнице») приходил к ней в голову до сих пор с опозданием.
«Нет, в Россию не поеду, — с тоской вдруг подумала она. — Там я сдохну». И сама удивилась — с чего это она стала вдруг искать прибежище? У неё ведь есть дом, благополучная семья, муж, сын, друзья! Она живёт так, что все её бывшие подруги, приезжая к ней в гости, завидуют её великолепному дому, огромной гостиной, обставленной в старопровансальском стиле, двумя ванным в стиле техно, саду, машине, Франции!
Алла что-то спрашивала у неё:
— Ты остаёшься на банкет?

Администратор цирка Дидье ежегодно приглашал на этот традиционный банкет русскую Ассоциацию «Тройка». Он был энтузиаст цирка, любитель всего русского. Вот он вышел в синем расшитом галунами пиджаке, подождал, пока скроются неприглашённые зрители, и объявил зычно: «Друзья, — на арену! Банкет!»
Юля равнодушно последовала за всеми. Выпив достаточное количество вина из пластикового стаканчика, она вдруг увидела худого элегантного месье с прочитывающимися чертами того самого клоуна. Он разговаривал с двумя девушками, которые тонко флиртовали с ним и делали реверансы глазами и улыбками. Клоун разговаривал с ними, гримасничая так выразительно, что Юля засмотрелась в его лицо и вдруг заметила: он был молод, а глаза у него были старые.
Тогда она с бокалом приблизилась к нему.
Не обращая внимания на девушек, она задала ему вопрос, который вдруг её заинтересовал больше всего в данную минуту:
— Скажите, вы мне специально подсунули тот чёрный колокольчик?
Он обернулся и, узнав Юлю, картинно опустил голову:
— Простите меня, я сделал это нарочно, чтоб посмешить публику.
Рассчитано это было и сейчас на публику — девушки рассмеялись.
Женщина продолжала свой допрос:
— Ну почему именно за мой счёт? Ведь у меня сегодня самый плохой день в жизни.
Ей стало вдруг так тошно от произнесённых слов, потому что она выразила этому незнакомому человеку истинную правду. Клоун не удивился. Он внимательно посмотрел на Юлю.
— Хотите, я скажу вам кое-что? — элегантнейшим жестом он взял её под руку и отвёл в сторону. — Сегодня и у меня самый плохой день. Впрочем, у меня каждый день очень плохой. Мне не нравятся мои дни. И я уже перестал их оценивать. Хорошие они или плохие? Зачем их оценивать? Что это меняет? Просто принимайте их такими, какие они есть.
И он поцеловал ей руку и упал перед ней на колени, затем подпрыгнул, перевернулся в воздухе и ускакал куда-то, как на ходульках.
«Зачем он всё это продолжает, шут!» — возмутилась про себя Юлия. Она ведь подключилась к его волне, начала вслушиваться в его слова, а он…
На арену пришли, переодевшись и сняв грим, казахи — мальчики лет семнадцати, и Юля подошла к ним. Она говорила с ними, подкладывая им бутерброды, они стеснялись вначале, а потом разговорились, рассказали, что путешествуют уже шесть месяцев по Европе с цирком, зарабатывают неплохо, помогают семьям. Контракт на один год, но они не хотят продолжать после, потому что ещё не закончили учёбу.
Когда Юля увидела их руководителя, властного маленького мужчину, она подошла и к нему тоже, чтобы передать своё восхищение от этого номера на шестах. Мужчина ничего не ответил ей. Просто стоял и слушал, как сфинкс, не поведя бровью. Странный!
Закрутившись с этими беседами, она не заметила, что почти все её знакомые рассеялись. Уехали и Алла с Даниэлем, на автомобиль которых всё-таки рассчитывала Юля.
В растерянности вышла из шапито в тёмный осенний вечер, кутаясь в шубу. Вокруг цирка стояли вагончики, в которых так уютно горели маленькие окна, где-то порыкивали тигры, совсем рядом резко вскричал морской котик. И вдруг она поняла изболевшимся сердцем, что она бы хотела так жить, переезжая из города в город, из страны в страну, ни к кому не привязываясь и не оценивая свои дни. Как сказал тот клоун. Она устала быть на страже своих дней и своих родных. Пусть живут, как хотят. Пусть у каждого будут свои дни.
Её жизнь вступила в пору, когда действительно не нужно так наивно и плоско оценивать свои дни, нужно подготовиться к тому, чтобы переживать всё, что ей предлагает жизнь в качестве опыта. Даже горького.
На арене во время банкета Юля слышала разговор. Дидье рассказывал, что костюмерша-румынка попросила вчера политического убежища во Франции и теперь артисты должны не пачкать и не мять костюмы — некому гладить и стирать одежду, ухаживать за общим реквизитом.
Юля по какому-то наитию вернулась в шапито и приблизилась к Дидье:
— Я услышала случайно, что вам нужен костюмер. Я могла бы вам подойти?
Дидье удивлённо посмотрел на неё: холёная дамочка в бриллиантах и такое…
— Я имею опыт, я танцевала в балете, — заговорила Лена. — Но ещё я обожаю цирк. Я не могу жить без цирка, — пыталась усилить впечатление Юля, но этого как раз и не нужно было делать, Дидье испугался её пьяной экзальтированности.
— Давайте поговорим завтра.
— Давайте, — согласилась Юля. — А можно мне переночевать здесь у вас? У меня нет сейчас машины, я живу далеко от Парижа, а мой муж не приехал за мной, подумал, что меня подвезут друзья.
— А ваш муж вас отпустит с цирком?
— Я его не стану спрашивать. Я хочу работать в цирке.
Дидье нуждался в русском переводчике, потому что треть его труппы была из стран экс-СССР, поэтому Юля была в конце концов поселена в отдельный вагончик, в котором хранились костюмы и некоторый реквизит, и через неделю она переместилась с цирком в Лилль, куда их привёл гастрольный маршрут.
Муж был шокирован её сообщением, он подумал тогда, да так и остался навсегда в убеждении, что его жена убежала от него с любовником. Он привёз ей некоторые вещи в чемодане, как попросила его Юля. Ей было невыносимо больно видеть его осунувшееся растерянное лицо, но мысль о том, чтобы вернуться с ним, ужасала её, как запах его туалетной воды, которая не менялась лет пятнадцать.
— Я хочу поработать в цирке! — твердила она ему, а он пытался пробиться через её «стену» и рационально объяснить, что если ей так надоело сидеть дома, она может найти любую работу, может чаще ходить в спортзал или взять абонемент в гольфклуб.
— Я не поеду домой! — выслушав его, сказала Юля и заплакала.
Пьер так и не позвонил ей. Хотя она ждала его звонка и приготовилась сказать сыну, что её последние слова в машине были неправдой. Что она любила его всегда и никогда не могла бы пожалеть о том, что родила его.
2011. Париж
Женщина на Афоне
Ещё один день угасал. Столетия проплывают над Афоном. Его берега омываются эгейскими водами, воспетыми ещё языческим гением Гомера, но ничего не меняется на полуострове-храме. День сменяется ночью, рассвет гонит тьму. Постоянство монашеской молитвы держит природу в равновесии и порядке, почти исчезнувшими за пределами Святой Горы.
Из ближнего монастыря раздавался звук била, созывающего монахов на вечернюю службу: «То талантос, то талантос, то тала-тала-талантос!»
Главный талант у монахов — молитва, разговор с Богом. Отгородившись от мира и женщин, вход которым на Афон строго воспрещён, мужчины здесь беспрерывно взывают к Творцу.
Старый монах готовился к вечерней молитве. Он прожил почти сорок лет в горах в полном одиночестве в удалённой хижине, построенной святым отшельником в 1802 году. Жил в простоте и в нищете, увидев которую, многие люди сразу бы пожалели бы старого монаха и предложили бы ему денег, чтобы он смог, например, купить себе хорошую кровать или ковёр на холодный каменный пол. Но никто из них не мог бы представить себе, как бывал счастлив монах в этой убогой хижине, в простоте своей нищенской жизни. Особенно он любил час вечерней молитвы, когда на Афон опускались сумерки и в небе зажигались небесные светильники — звёзды.
Вот и сейчас, когда на Афон пришла ночь, геронда готовился к молитве, неторопливо поправляя свечи в старых подствечниках и лампады в разнобойных сосудах перед своим иконостасом. И он уже было затянул начало, как вдруг в дверь к нему постучали.
Геронда удивился. Обычно в такое время к нему никто не рискует добираться.
— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас, — послышалось традиционное монашеское приветствие.
Старец, досадуя, что молитва, уже коснувшаяся сердца, оказалась прерванной, подошёл к двери, прислушался. Как-то непривычно прозвучало приветствие на его чуткий монашеский слух…
На всякий случай старик переспросил:
— Кто тут?
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа умоляю открыть мне.
Ещё мгновенье поколебавшись, старец открыл скрипучую дверь своей хижины. Была почти ночь. Горная темнота была уже настолько густой, что жители равнин сказали бы, что это очень зловещая темнота. Но в свете лампадок и свечей геронда рассмотрел на пороге невысокого монаха с рюкзаком за спиной.
— Кто ты?
Монах протиснулся в хижину, не отвечая и не дожидаясь приглашения хозяина. Он устало сбросил рюкзак на пол и поднял голову к старцу.
— Здравствуйте, отец.
— Ты откуда пришёл?
— Издалека.
Старик внимательно всматривался в монаха, поведение которого было удивительным и дерзким. Догадка пришла к нему не от разглядывания — глаза его были уже не те, чтобы подметить важные детали. Он скорее догадался, чем увидел:
— Ты не монах… И ты… женщина? — спросил монах, видя как непривычно гибко на полу уселся его гость.
— Да, я не монах, и даже не мужчина, — едва шевеля языком от усталости, протянула гостья и сняла с головы скуфейку, открыв свою остриженную голову.

Хозяин хижины растерялся. Никогда ещё нога женщины не переступала порога этого монашеского убежища. Никогда ещё ни одной женщине не удавалось проникнуть так далеко в Афонские уделы…
Старик был в трудной ситуации. Выгнать в ночь человека было непростой задачей для смиренного монаха. Он знал, что разглядеть путь в такой темноте его незваный гость, — точнее гостья не сумела бы. Она запросто могла сорваться в пропасть или наступить на шипящего гада — их расплодилось во множестве в тех местах.
— Ты должна немедленно уйти, — наконец, преодолев сомнения, сказал старец. Ты нарушила не просто человеческий закон, ты нарушила просьбу самой Всецарицы. Уходи. Я не могу принять тебя.
Но женщина не отвечала. Старец поднёс свечу и в её слабом свете увидел, что женщина… спала, прислонившись спиной к стене.
Старик не стал будить её, помня слова апостола: «Не будьте скоры на гнев». Он вышел из хижины, решив дожидаться в бдении и молитве её пробуждения.
Ночь без сна — привычка для монаха. А молиться под огромным небом, усыпанном чёткими звёздами и россыпью Млечного пути, тёплой летней ночью было благословением. Старец молился или ходил вокруг хижины, перебирая чётки, размышляя о неожиданном искушении, посланном ему Господом.
Адам до сотворения Евы был в чистом Богообщении, его никто не отвлекал. Мужская автономия на Афоне — тоска по утраченному миру в Боге, попытка найти свой архетип Адама. Невозможная память возрождается к душах в этой тишине и отречённости. Знание не сразу меняет ум, но питает дух, и он растёт, тянется к небесному.
Несправедливость существования мужского рая без женщин для самих изгнанниц невыносима. Традиция аватона (так называется запрет появляться женщинам на острове) была закреплена при императоре Мануиле II Палеологе в начале XV века. Такова история. И большинство путеводителей расскажет, что нога женщины не ступала сюда никогда.
На самом деле за многовековую историю Афона были случаи, когда туда пытались проникнуть женщины в обход раз и навсегда установленного строгого запрета. Это были очень разные женщины: фанатички, своевольные искательницы приключений, воинствующие атеистки, особы, жаждущие новых впечатлений, романтичные путешественницы и пламенеющие неофитки, решившие, что для них настало время, когда нет на белом свете уже ни мужчины, ни женщины, ни эллина, ни иудея. Они верили, что настало уже Царствие Божие, которое они, действительно, ощущали внутри по причине своей новообращённости.
Удивляясь тому, как же этой женщине удалось добраться сюда одной без проводника по опасной ночной тропинке, старый монах подумал, что нужно что-то делать с нарушительницей устава. Будить её он бы не стал, но всё-таки отправить без лишних рассусоливаний с Афона непрошеную гостью нужно было как можно быстрее. Он заглянул в свою хижину, женщина так и оставалась в той же позе, в какой заснула.
Старец забеспокоился: «Жива ли его нежданная посетительница? Может быть она пришла сюда уже больной или её укусила змея на ночной тропинке?» С тех пор, как он по своей старости перестал вырубать кусты вокруг хижины, змей расплодилось тут много, даже кошки, которых прикармливал монах, не могли перебороть эту нечисть.
Он прислушался — женщина, слава Богу — дышала.
«За что мне такое испытание? Чем я прогневил тебя, Господи?» — задумался монах, выйдя из хижины и вдохнув чистый воздух благословенного места, благодать которого не могло нарушить даже такое бесстыдство, которое совершила незнакомка, свалившись как снег на голову старого анахорета.
Старик принялся молиться, испрашивая Божией помощи в избавлении от этой напасти в виде «современной женщины», от которой по всей хижине распространялся запах табака.
• • •
Наконец, женщина выглянула из двери. Было ранее утро. Солнце уже показалось из-за холма. Старик сидел на земляной ступеньке, утомлённый ночным бдением. Рядом с ним нежились в тёплых рассветных лучах три огромных кота, как будто из солидарности с монахом не желающие входить в помещение, где была женщина.
— Доброе утро, — поздоровалась женщина.
Старик не повернулся в её сторону и ничего не ответил.
— Я прошу прощенья, что нарушила ваш покой и выжила вас из вашего дома. Я заблудилась. Я шла не к вам.
Старик после паузы ответил:
— Пожалуйста, уходите.
— Я проснулась ночью и подумала, что вы вызовете свою полицию. Я их видела: такие бравые загорелые парни на открытых джипах с закреплёнными на крыше пулемётами, которые высматривают в толпе паломников-мужчин авантюристок в мужских платьях. Но вы, конечно, не стали этого делать. И не потому что вы так добры, а потому что вы боитесь за вашу репутацию: монах, исихаст, и вдруг ночью у него в хижине появляется баба — грязное существо, которому не разрешено даже ступить ногой на эту святую мужскую землю.
Старик молча пошёл в свою хижину. Женщина вошла за ним.
— Вы можете молчать сколько угодно, но я не уйду, пока не добьюсь от вас ответа.
Старец отвечал:
— Если молчание моё не принесёт вам пользы, то не принесёт пользы и слово моё.
Но женщина отмахнулась от цитаты из духовных книг, усевшись на порог хижины и не собираясь двигаться с места.
— Дайте мне ответ и я уйду.
Старик устало спросил:
— Какого ответа вы от меня ждёте? Какие у вас могут быть вопросы?
Женщину это разозлило.
— Да уж, какие вопросы могут быть у меня, низшего существа, прадочери Евы, проклятой Богом корячиться по жизни.
Монах видел, что эта женщина своего добьётся, она выведет его на разговор, ей нужно излить свою боль, которая, он видел это — кипела в ней.
Нужно сказать, что это была образованная, умная, обеспеченная женщина. Правда, речь её стала грубой и жесты резкими, как у всех людей, которых припекла жизнь. Или коснулся Бог. Бог не гладит людей всё время по головке, иногда Он раздирает наши внутренности, как предупреждал ветхозаветный пророк.
— Раз ты сюда пришла, и тебя никто не остановил, значит на это была воля Божья. Как тебя зовут? Ты христианка? Крещёная?
— Крещёная. Анастасия.
— Исповедуйся.
И, помолившись, старик приготовился выслушать гостью и дать ей совет, который придёт к нему на сердце. Всё как обычно, когда он исповедовал своих духовных чад, монахов.
Женщина обхватила свою стриженную голову, потёрла ладонями по лицу, как бы просыпаясь:
— Поверьте, я не сумасшедшая. Я пришла сюда… ну я пришла сюда потому что мне стало нечем жить… Знаете, я видела мужской ад, мне, наверное, нужно побывать в мужском раю. Чтобы понять, стоит ли продолжать всё это… Ну, стоит ли вообще жизнь наших страданий… Я работала в гуманитарной организации, нас послали в арабскую страну с гуманитарной помощью. Нас похитили арабы в масках. Меня и ещё троих мужчин. Привезли в убежище в горах, назвали сумму выкупа. Записали наше обращение на видео. Нас поселили в грязной пещере, где меня изнасиловали на глазах у моих коллег, записав групповое порно на видео. Кассету потом продавали на всех рынках. Нас выкупили через полгода. Я оказалась беременна. Сделала аборт. Прошло два года. У меня не может быть детей. Мой муж неделю назад ушёл от меня. Он не говорит причину. Но я знаю, что я стала ему невыносима. Ведь он не может всё время представлять себе то, что со мной произошло в плену. Мои коллеги меня жалеют, но ко мне относятся как к инвалиду. Я знаю, что многие из них видели видео, которое записали мои насильники.
— Знаете, я не хочу больше жить. У меня нет на это ни сил, ни желаний. Зачем? Я всё уже повидала на этом свете, теперь вот и Афон увидела. У меня нет больше иллюзий, что на земле есть что-то стоящее…
Закончив свой рассказ, женщина с ожиданием посмотрела на старца. Он повернулся к ней спиной, встал прикрутить фитиль у прогоревшей лампадки.
— Прости меня, — произнёс, наконец, старик. — Я не знаю, как утешить тебя и что сказать. Я должен помолиться в одиночестве, прежде чем отпустить тебя. Выйди вон, оставь меня, я буду молиться о тебе.
Женщина вышла на улицу. Рассказав всё старику, она как-то нехорошо успокоилась. Как будто уже решив про себя что-то. Он видел это и знал, что если она что-то сделает над собой, это будет его грех. Странно, что, исповедовавшись, она не получила облегчения.
Старец долго не выходил из хижины. Она устала ждать под палящим солнцем. Когда он вышел к женщине, его лицо было бледным, с набрякшими мешками под глазами — геронда постарел и выглядел утомлённым. Ей даже показалось, что его глаза покраснели и блестели, как будто от слёз. Но говорить он начал энергично и даже радостно.
— Ты не можешь убить себя, во-первых, потому что таким образом ты не избавишь свою душу от страданий. Знай, что есть монахи, которым являются души самоубийц с просьбой об искупительных молитвах. Посмертные мучения этих людей ужасны. Не нужно усугублять свою ситуацию. Во-вторых, твоя душа не проклята Богом и людьми. Ты не совершила преступления и ты не будешь страдать так, как будут страдать твои насильники. Твоё испытание страшное, после такого человек обычно теряет вкус к человеческим делам, и обращается к Богу всем сердцем. Ты призванная душа, Анастасия. Тебе, кажется, открылся путь в мир духовных истин, которые лягут на твою опустошённую душу, как по маслу. Я простой человек, совсем не образованный монах, я говорю тебе так, как мне открылось по молитве. Иди с Богом и ничего не бойся.
— Спасибо! — вежливо ответила женщина.
— Скажи мне только: зачем ты только придумала такую историю про гуманитарную организацию?
На этих словах женщина ахнула, как ужаленная, и прижала руки к щекам. Она смотрела на старца широко открытыми глазами и, кажется, потеряла дар речи на мгновенье.
Старец продолжал:
— Тебе стыдно было признаться, что такое надругательство над тобой сотворил твой муж со своими друзьями? А пережитое для тебя ещё хуже, чем придуманное, дочка.
Она со стоном опустила голову в руки. И тихо заплакала.
Монах внимательно всматривался в неё, увидев, что она, наконец, плачет, встал и сказал:
— Ну а теперь ступай с Богом! Возвращайся к себе.
— А что мне делать? Как жить дальше? — крикнула женщина, вдруг испугавшись, что этот человек сейчас уйдёт и не скажет ей чего-то важного. В глазах её появилась жизнь и так удивителен этот блеск в глазах людей после духовного наставления, попавшего в точку. Жизнь возвращается — вот что означает это сияние, которое видел старец у очищенных Божиим словом душ.
— Как «что делать»? Иди в церковь, учись молиться, читай Евангелие. Господь даст тебе учителей по твоим духовным нуждам. Храни свою душу, дочка, избегай людей мира, они становятся беспощадными в последние времена. Благослови и сохрани тебя Господь, Анастасия!
Перекрестив женщину, старец скрылся в хижине.
Анастасия спускалась с горы. Она была поражена скоростью, с которой в ней произошли перемены после разговора со старцем. Её психоаналитику не удалось такого за два года работы с ней. Она то плакала, то задумывалась над тем, как теперь начнёт жить.
Спустившись с холма, Анастасия застыла перед великолепием открывшегося вида: слева расстилались просторы долин, виноградников и холмов, покрытых буйной растительностью южных лесов и кустарников. А внизу, за всем этим царством зелени, сверкало и искрилось прекрасное, лазурное море, чуть колыхающееся в раме берегов.
Новообращённая душа хотела впитать, впечатать эту красоту Афона, так повседневно вдруг открывшуюся ей…
2012. Париж
Глаголы Адама
Адам прислушался: жена его произнесла незнакомое слово. В их доме все слова были наперечёт, а новые, после того как они пришли в это гибельное место, не рождались. «Наверное это потому, что это место не располагает к радости и удивлению», — думал Адам. Этот человек по своей натуре склонен был искать причины любой неудачи во внешних обстоятельствах. Или в жене своей, которая ела и ему дала попробовать плод с запрещённого дерева…
— Жена, что ты сказала?
— Когда? — не поняла Ева.
— Ну вот сейчас, когда ты на полу подстилку раскладывала!
— Сено.
— А что это такое?
— Сухая трава.
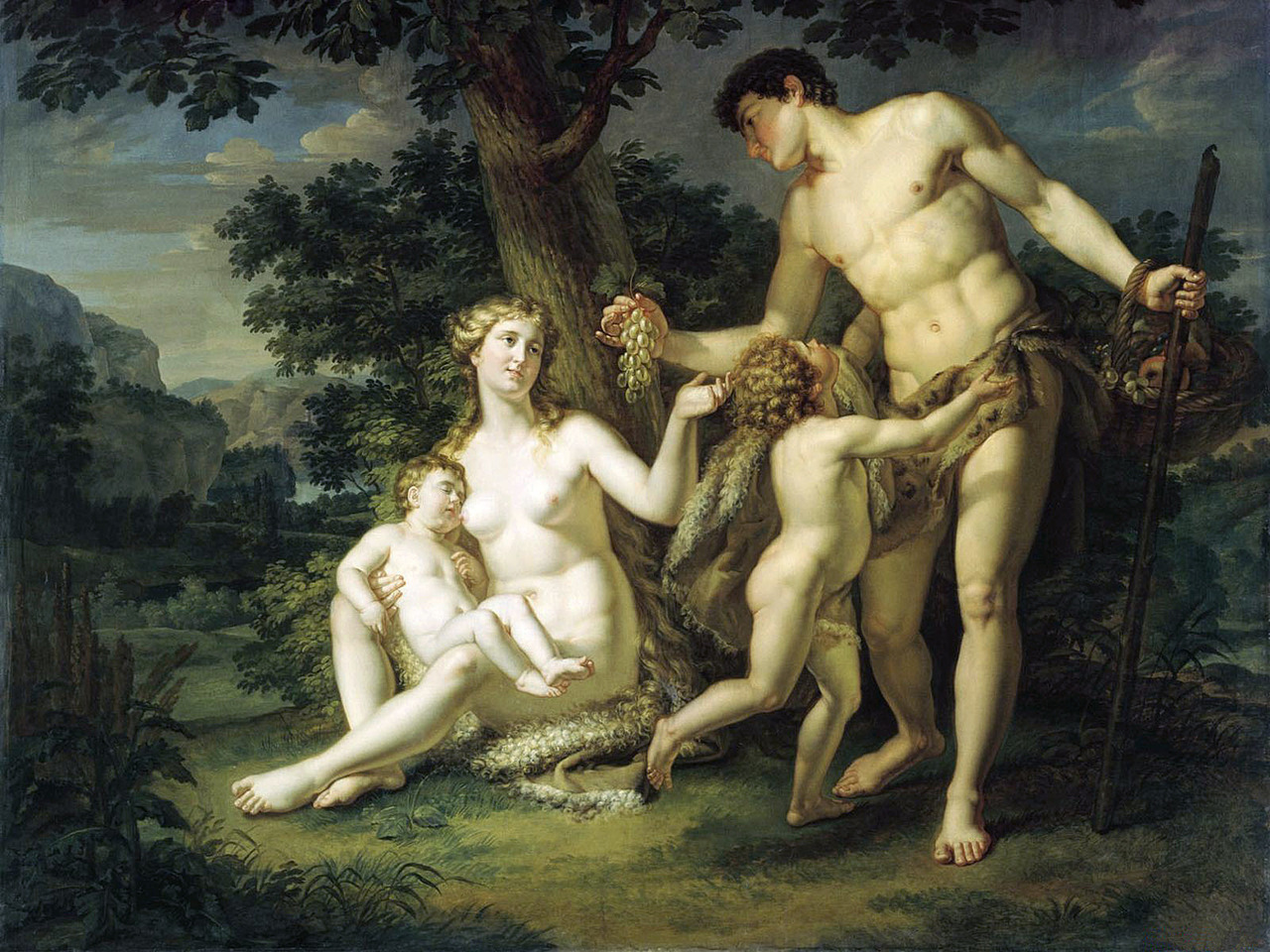
Нечто вроде зависти шевельнулось в адамовом сердце. Правда, сухая трава — это сено — шелестит и колется: «Неужели теперь этот дар отдан Еве — жене моей, ребру моему? Всё-таки женщина — подлое существо — сначала из-за её своеволия мы потеряли райское жилище, теперь она перехватила мой талант угадывать слова, выхватывая их прямо с небес».
Адам помнил, как подвёл к нему Господь мускулистого огненного зверя с крепкой спиной и спросил у Адама:
— Кто это? — совсем как спрашивает теперь он сам — Адам — у своих детей, приводя им кроликов и лисят погладить, чтобы дети, прикоснувшись, узнали, что такое нежность и беззащитность.
Адам смотрел на огненного зверя и удивлялся его стати и мощи. Господь увидел его удивление и сказал как бы про себя:
— Удивление — начало творчества… Удивление и чистота… Говори же, Адам, как ты назовёшь его?
Наконец Адам закричал:
— Лев! — самое трудно было передать в звуке завитки на кончике хвоста и на гриве зверя, и первый звук «Л» долго мучил своей мягкой неопределённостью.
Затем Господь привёл вола, антилопу, коня, — и всех их назвал он — Адам, иногда падая наземь от радостного смеха, накатывавшего как могучая волна на него и на самого Творца всех этих чудных существ, с копытами, лапами, быстрых орлов, медленных черепах, прекрасных волооких коров. Там были и пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими; этот левиафан, которого Ты сотворил, серны, аисты и дикие ослы…
Из души Адама тогда уже чуть не родилась предивная хвала Господу, что пропоёт гораздо позже прославившийся потомок:
Ты послал источники в долины:
между горами текут воды,
поят всех полевых зверей;
дикие ослы утоляют жажду свою.
При них обитают птицы небесные,
из среды ветвей издают голос.
Ты напояешь горы с высот Твоих,
плодами дел Твоих насыщается Земля.
Первый день Адама был чист и удивителен. Он был полон того упоительного чувства, которое мы, его потомки, назовём словом «надежда». Это знают сегодня только роженицы. Это они не помнят себя от радости, когда им показывают их новорожденное дитя.
И ни один дней Адама таким уже никогда не будет.
«Всё из-за неё», — подумал мужчина, наблюдая за усталыми движениями постаревшей Евы. И в его сердце вдруг зародилось одно слово…
Из тех, которые позже апостол назовёт «гнилыми».
2012. Париж
Уже написан «Пер Гюнт»
Светает. Серый рассвет осторожно пробегает по саду, заглядывает в окна дома. Хозяин встаёт рано, горничная — ещё раньше. Она подаёт ему чай, а после его ухода готовит себе кофе, выкуривая сигаретку у открытого окна. Затем женщина идёт в ванную комнату, выстилает дно джакузи мягкими полотенцами и укладывается на них спать: по всему дому установлены видеокамеры и ванная — единственное укромное местечко.
Водитель чуть суетливо открывает для хозяина дверь машины:
— Здравствуйте, Сергей Олегович!
С утра шеф неразговорчив: никогда не ответит, не кивнёт головой. Дождь. Влажные деревья по краям шоссе. На въезде в Москву гаишники делают замеры и записи на участке, где стоят лоб в лоб две разбитые машины.
— О, месяц назад на том же месте была авария, — оживляется водитель и ловит взгляд шефа в зеркале. Шеф молчит.
Секретари приходят в офис в девять утра. Хозяин с закатанными белоснежными манжетами уже не один час за работой. Солидный банк для солидных людей.
• • •
Лысеющий молодой секретарь месяц назад записал на приём к Овчинникову господина Бутоннье — советника Всемирного экономического форума. Советнику было назначено на 11:00. Месье появился в 10:58 и, холодно улыбнувшись, подал секретарю свою визитку и лакированные жёсткие буклеты Давосского форумаРоссии как Давосский саммит (Davos summit) — крупнейшая международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве. Ежегодный форум ВЭФ по традиции проходит в швейцарском горном курорте Давос, откуда он и получил своё неофициальное название..
— Спасибо! Спасибо огромное, мерси, мерси! — не удержался и тонко поиздевался над гостем секретарь с вечной русской насмешкой над вечной наивностью иностранцев.
— Я могу войти? — с акцентом спросил месье Бутоннье.
— Джаст момент, — попросил секретарь, осторожно просачиваясь в кабинет к шефу.
• • •
— Кофе? Чай? — спросил у гостя Овчинников. Господин заказал крепкий кофе.
Хозяин кабинета мельком взглянул на его визитку: Давосский форум, международный советник, Жан Пьер Бутоннье («кажется, я видел эти старомодные очки прошлой зимой в Давосе»).
— Вы француз?
— Нет, швейцарец.
— Вы уже были в России? — («какое мне дело, был ли ты в России»).
— Конечно, был, — («какое тебе дело, был ли я в России»).
Гость, смакуя хороший кофе, не торопился говорить о своём деле. Цель визита была обозначена так: «Развитие партнёрства между деловыми, политическими, интеллектуальными и другими лидерами мирового сообщества для обсуждения и решения краеугольных проблем глобального развития».
— Я вас слушаю, — подтянулся к деловому разговору Овчинников, не дождавшись, когда гость закончит кофе.
— Я знаю, что вы очень занятой человек, господин Овчинников, таких у вас называют трудоголиками. Поэтому сразу о деле. Вы будете удивлены, месье Овчинников, узнав, что моя фамилия переводится так: «Пуговичник».
— …?
— Я ведь тоже не менее занятой человек. Поэтому не буду говорить загадками. Я — Пуговичник, а вы, месье Овчинников, признаны несостоятельным человеком.
— Кхех! — вырвалось от неожиданности у банкира. — Кто же это признал меня несостоятельным?
— Международный совет в Давосе.
— Я — несостоятельный?!
— Простите, мой русский немного слабоват… Я должен был сказать: несостоявшимся человеком. Человек, который не состоялся.
Овчинников иронично поднял брови:
— А кто там у вас, интересно мне, состоялся как личность, в Давосе? И что вообще за нравственные категории в бизнесе? У вас на всё про всё было десять минут. Осталось пять. Говорите поточнее, господин Пуговичник, зачем вы пришли ко мне?
— Я — Пуговичник, и моё дело — переплавлять в пуговицы людей, которых как бы нет на Земле. То есть их жизнь проходит в полутени, полусвете, они ни теплы, ни горячи…
— Перестаньте юродствовать и, пожалуй, уходите. Простите меня за прямоту — нет времени.
— … они ни теплы ни горячи, они не выполнили своего предназначения на Земле и не стали самими собой — неповторимыми уникальными личностями. Они лишь примеряют на себя усреднённо-стандартные роли. Поэтому они должны быть переплавлены.
Овчинников понял, что к нему пришёл сумасшедший. Когда он только начинал своё дело, и его банк был мелким, к нему приходили городские сумасшедшие. Теперь, когда банк заматерел, стал крепким, солидным учреждением, изменился и масштаб сумасшедших — сейчас, знать, к нему потянулись интер-сумасшедшие, международнички, так сказать.
Овчинников вызвал начальника охраны.
Сергей — тёзка шефа — влетел в кабинет с пистолетом в руке.
— Встать! Руки за спину!
Сергей был весь на адреналине, несколько преувеличивая своё усердие перед шефом. Пожилой посетитель не делал никак резких движений и послушно встал, улыбаясь, как будто принимая всю серьёзность ситуации понарошку.
Охранник обыскал его карманы и выложил на стол металлический прибор, похожий на старинный ковшик, и кожаный пенал, откуда посыпались на пол мелкие металлические пуговицы.
— Можешь полегче — это просто сумасшедший. Уводи его быстрее отсюда, — приказал, принимаясь за свои бумаги, Овчинников.
В этот самый момент Пуговичник дунул и охранника каким-то сильным и мрачным порывом ветра вынесло из кабинета. Он вылетел за дверь с коротким вскриком…
Тут же заглянул секретарь, но Пуговичник без лишних разговоров выдул и его.
Наступила тишина.
— Вы предупредили меня, что вы очень заняты. Я ведь тоже занят. Прошу уважать чужие дела, — брюзжал Пуговичник, аккуратнейшим образом складывая со стола в кожаный футлярчик металлические пуговицы, конфискованные у него охранником.
— Откуда вы взялись вообще? — уже другим тоном вопросил банкир; как завороженный, он не сводил взгляда с оловянных пуговиц и крепких жилистых рук посетителя.
Пуговичник повертел в пальцах пуговицу:
— Это был управляющий делами в «Цюрих-банке». О, крупный был человек, и пуговица получилась крупнее обычных. А эта без ушка вышла — неполноценный был мужчина… певец один. Да вы его знаете…
— А если я сейчас позвоню в ФСБ? И ваши фокусы сразу потеряют силу — там ребята покрепче, чем мой охранник.
— ФСБ? До их прихода станете пуговицей. Обещаю вам. Я не боюсь никаких ваших ФСБ, но мне не хочется терять время на эти бесполезные дела. Кстати, ваш охранник не так уж плох, не обижайте парня — он ведь тоже служил в ФСБ. У него жена, любовница, двое детей, мать старушка… У вас…
— Не надо про меня…
— Вы никак не поверите в тот факт, что я — Пуговичник и пришёл по вашу душу. Никому не хочется верить в такие вот дела, я ведь это понимаю, но я думал, что вы деловой человек, и по-другому отреагируете.
— Ну как бы я мог по-другому отреагировать? — быстрее, стараясь вспомнить что-то важное, спросил Овчинников.
— Ну, начали бы торговаться, что ли? А то сразу охрану, ствол мне в спину…
— А что? — обаятельно улыбнулся банкир. — Давайте торговаться. У меня есть, что вам предложить…
— Деньги, недвижимость-движимость меня не интересуют абсолютно.
— А что же?..
— Ничего! — радость мелькнула в выцветших глазах Пуговичника.
«Да он манипулирует мной», — еле сдержался Овчинников.
• • •
— Да откуда вы вообще меня узнали?
— Видел вас, господин Овичнников, в Давосе, когда вы оружие перепродавали — через третьих лиц, в одну воюющую горячую страну.
— Я же не самый последний грешник на этой земле!
— Поэтому вам — не в ад, а — на переплавку. Кто не был, тому не страшно не быть — справедливо же?
— А что это такое: переплавка? Что за хрень, вообще?
— Ну, если у вас кто-то обанкротится, вы ведь его уничтожаете? Ликвидируете, то есть. В смысле — счёта.
— Ну да.
— Я тоже, как будто спишу вас со счёта, ликвидирую ваши задолженности списанием. Компроне ву?
— За что?
— За то, что вы не были самим собой — я же вам уже полчаса толкую.
— Что значит быть собой вообще?
— Русские очень любят задавать подобные вопросы… Быть собой — это значит проявить то, что тебе дано. А если человек так себе — ни рыба, ни мясо, он может исчезнуть, и никто не заметит.
— Как это никто не заметит? Заметят многие!
— Кто же?
— Во-первых, мои сотрудники — все эти люди, которых я обеспечиваю работой. И неплохой работой.
Пуговичник поморщился:
— Да бросьте вы наивничать. Ваш секретарь сейчас подслушивает за дверью и от смеха падает под стол, представляя вас — важного шефа — маленькой оловянной пуговкой. Ваш охранник сломал себе переносицу, когда я выдул его за дверь, и в эту самую минуту от боли проклинает вас и свою работу последними словами…
— Ну ладно, Бог с ними — с сотрудниками, — через силу согласился банкир. — Но моя семья. Мои дети, наконец.
— Ваши дети выросли без вас. Вы отправили их в другую страну, в безопасные, хорошие условия — и это замечательно, но вас они совершенно не знают. Вы также совсем не знаете их. В последнее Рождество вы откровенно заскучали рядом с детьми, даже забыли их имена. Перепутали Сашу и Мишу. Они вас не любят, господин Овчинников, принимают за банкомат, от которого ждут только денег. А жена ваша изменяет вам с одним молодым боксёром. Симпатичный такой мужчина.
— О, да вы сплетник, — с отвращением посмотрел в рябоватое лицо Пуговичника Овчинников.
— Это правда, — согласился месье, впрочем, без тени смущения. — Мне нужна вся информация о кандидатах в переплавку. Чтоб не ошибиться. А то меня самого переплавят.
— И что, были такие случаи? — лишь для того, чтобы потянуть время, спросил Овчинников.
— Бьян сюр! — кратко ответил Пуговичник, уловив равнодушие в вопросе банкира.
• • •
— Ну что же, за дело? — деловито спросил Пуговичник, выкладывая на стол ковшик, рукоятку, формочки, газовый прибор.
— Нет, я не готов.
— Но вас ведь и не спрашивают. Уйдёте неготовым.
— Послушайте, господин Пуговичник, вы же всё-таки приехали к нам из цивилизованного общества. У вас уважаются права людей.
— Так, так… — с усмешкой закивал Пуговичник.
— У меня должно оставаться право доказать свою невиновность… Или как там — личностную состоятельность! Я был! Я и сейчас есть! Я любил женщин, рвал цветы…
Пуговичник неожиданно оживился и продолжил с мечтательным выражением на лице:
— Валялся на траве. И зверьё как братьев наших меньших никогда не бил по голове. Люблю Есенина! Поэтов мы не трогаем… Только банкиров… Богатые даже не так страшно развратничают, как пьяницы-поэты, а всё равно… Ну ладно, за то, что вы тёзка поэта, даю вам шанс: докажите, что вы не «ни рыба, ни мясо», что вы живёте, действуете, проявляетесь в жизнях других, вызываете какие-то мифические добрые чувства в вашем окружении.
— Время лимитировано?
— Конечно, — усаживаясь в кресло и наливая себе коньячок, отрезал Пуговичник.
• • •
— Я богат, — волнуясь, начал Овчинников. — Мой банк, который я создал на пустом месте, мой дом, который я построил по моему же проекту, мой самолёт…
— Ваши яхты, замки, ваши футбольные клубы и самолёты ничего о вас не говорят — это всего лишь имущество, оно может принадлежать любому человеку, — отмахнулся Пуговичник.
— Это же не просто так, это моя материализованная энергия…
— Энергия без источника энергии не считается!
— Да?.. — растерялся банкир. — Ну, тогда те, кто живёт рядом со мной, могут описать меня как человека.
— Кто же это мог бы вас так живо описать?
— Шофёр, например.
— Да, действительно, он знает, что вы, как любой новый русский, любите очень быструю езду, ваш повар знает, что вы любите свежерубленое мясо с кровью, ваша любовница знает, что вы любите погорячее, но это всё не то… Тут почти нет вашего личностного начала. Это просто привычки, которые вы приобрели в течение вашей жизни богатого человека… Поставь на ваше место другого толстосума, похожего на вас внешне, никто не заметит подмены — просто скажут: привычки поменялись.
— Ну что же мне, получается, невозможно доказать, что я есть? Но… Но… Я есть! — вспотел Овчинников.
— Есть кто-нибудь, кто знает вас плю презисе — более точно? Кто мог бы вас описать, вашу личность, а не ваши привычки или ваше состояние?
— Моя мать сгодилась бы, по-вашему?
— Ваша нет. Вы же знаете, что у неё отшибло память после пяти лет в доме престарелых — престижном таком доме престарелых, где к ней в комнату аж трижды в день входят сиделки.
Овчинников поморщился при этом напоминании. И вдруг он вскочил и закричал.
• • •

— Есть шанс! — заорал Овчинников.
— Неужели Сольвейг? — как бы про себя спросил Пуговичник.
— Одна девочка, то есть сейчас уже женщина, которая любила меня ещё в школе! Я тоже любил её… Я сейчас найду её и мы с вами немедленно поедем к ней.
— Она меня хорошо понимала… Стихи мне посвящала, — уже в своей бронированной автомашине рассказывал Овчинников Пуговичнику. — Её звали Лена. Боровикова… Лена. Первая моя любовь… Целовались мы с ней как сумасшедшие, но никогда не доходили до физической близости — в те времена мы ещё не были так раскованны, как сейчас молодёжь… Я до сумасшествия любил её: глаза, волосы, запах её, голос, походку. Мог смотреть, не отрываясь, на неё… Она же мне такие стихи посвящала — я даже не верил, что она сама их могла сочинить… Сейчас вспомню:
Зачем бесполезно грустить о том,
что уже прошло?
Что изменяемся мы,
но неизменно то,
что где-то, быть может, рядом
приходит к кому-то любовь,
рождаясь в крике взглядов…
Пуговичник поморщился. Овчинников, заметив, замолчал. Остановились у салона красоты, на Кузнецком мосту. Овчинников вышел быстро из машины и вошёл в разноцветные стеклянные двери. Пуговичник, поразмыслив, последовал за ним. В салоне было мало народу — две парикмахерши работали, третья готовила кофе клиенткам.
— Бонжур, ле мадемуазель! Где я могу видеть Елену? — спросил Пуговичник у парикмахерш.
Они показали на дверь с надписью: «Директор. Посторонним вход воспрещён».
Войдя в кабинет директрисы, Пуговичник застал там белокурую женщину средних лет, ухоженную, с красивыми холёными руками. Овчинников прямо в пальто сидел в кресле.
Увидев Пуговичника, Елена цепко стрельнула в него глазами, улыбнулась, протянула руку для пожатия.
— Елена, — назвала себя она и сходу спросила, — так вы из Швейцарии, как Серёжа мне сказал? — голос у неё был низкий, приятный для уха.
— Да, из Швейцарии.
— Ни разу там не была, а так хотелось бы… Серёжа, а ты хоть раз бы меня туда пригласил… В память нашей школьной любви…
— Приглашу, Леночка, приглашу. Вот расскажи этому господину всё, что ты знаешь про меня.
— А что я знаю про тебя? — слегка насторожилась Елена.
— Ничего специального, Леночка, просто, каким ты меня помнишь по школьным годам.
Елена задумалась.
— А я так вроде ничего уже и не помню, Сережа, — сказала она. — Помню, как ты в любви мне признался.
— Как?
— Ну, сказал, что любишь меня.
— И это всё? А как целовались с тобой?
— Ну, и это помню, — стала вдруг неразговорчивой и хмурой Елена.
— Ну так расскажи!
— Да зачем травить себя и тебя! Ты ведь женился на другой, потом — на третьей. Это, что ль, рассказывать?
— Да ты сама мне первая изменила, дура! Дождалась бы меня из армии, сейчас не работала бы в этой конуре!
— Пошёл вон! — крикнула Елена, царским жестом указав на дверь обоим.
В машине Пуговичник сказал:
— Оттюненная дама!
И почти сочувствующе добавил:
— Да не грустите! Сольвейг не бывает сегодня и любовь до гроба не дотягивает… Я тоже мужчина, сам переживал подобное.
— Что мне делать? Согласиться с тем, что меня нет? Я так не могу — я же живой человек!
Вдруг он выскочил на светофоре из машины и, не обращая внимания на сигналы проезжающих на бешеной скорости иномарок, побежал по улице.
— Это паника! — проворчал Пуговичник. — Ну куда он потрусил? Это же глупо и бесполезно!
• • •
— Но только не туда! Не туда! — закричал Пуговичник: он увидел, как банкир забежал в небольшую церковь.
Водитель обернулся на этот страшный крик и увидел не благообразного господина на заднем сиденье, а того… Того, про которого он потом сказал, что это был настоящий леший.
В церкви, несмотря на неурочный час, находился священник, к которому и подбежал Овчинников, упав перед ним на колени. Банкир плакал и просил батюшку выслушать его немедленно. Во время исповеди священник услышал рассказ немолодого испуганного человека, который за всю свою жизнь не сделал ничего хорошего людям, потому что не знал и не умел делать этого.
Грехи, о которых банкир рассказывал, были так отвратительны, что молодой и неопытный батюшка испытывал физическую тошноту и слабость. А после исповеди священник сказал плачущему Овчинникову такие слова:
— Каждый человек ценен в очах Божиих, у каждого человека есть возможность обратиться к Господу, даже у разбойника, душегуба. Идите и не бойтесь никого — я буду молиться за вас.
Овчинников слышал нечто подобное не раз, но сейчас он, как маленький ребёнок, впитывал в себя эти нехитрые слова священника, которому поверил враз и навсегда.
— Прошу вас, молитесь за меня! — попросил банкир священника, приложив руку к сердцу и нечаянно нащупав там бумажник. — Может, мне заплатить за ваши молитвы, — заикнулся, было, банкир, но, увидев взгляд батюшки, сказал только:
— Простите меня, дурака…
На улице, когда он вышел, не было ни машины, ни Пуговичника. Шёл дождь.
2010. Париж
Молитва парижского профессора
Рассказ основан на реальном сюжете
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
