
Бесплатный фрагмент - Рассказы. Миниатюры

Рассказы
Рассказы не придуманы, а сотканы по моим дневниковым записям или наброскам после очередных или случайных встреч с теми, кто был близок или затронул при общении. А миниатюры — моё восприятие природы, некогда взволновавшее, или короткие зарисовки о минувшем, увиденном и схваченном не только глазом, но и душой.
Семена заронённые
Когда, с каких лет на моём «белом листе» юной человеческой души начали проявляться «письмена», начертанные генной памятью?
Строчки из дневника в тринадцать лет:
«Весь день падает и падает густой снег. Очень красиво, но на улицу я не пошла, а сижу на печке, слушаю по радио музыку и пишу эти строчки. Улей стоит у нас в доме, брат осмотрел пчёл и оказалось, что половина их вымерла. Как жалко! Все лето они собирали мед, гибли в дождь, пропадали в полетах, а мы этот мед у них отняли и вот они погибли от голода. Мама собирается поставить погибшим пчелкам свечку, а мне перед оставшимися даже стыдно, ведь к нам относится цитата Радищева: «Они работают, а вы их труд ядите».
Значит, загорание моего внутреннего света началось в пору смены поры безмятежного отрочества на первые годы юности, которая станет навевать обещания неких радостных, еще расплывчатых «деяний». И дальнейшее преображение моё зависело от тех «семян», которые были заронены теми, кто был рядом, — старшим братом Виктором, мамой, — и если бы тогда погибших пчёлок она просто смела и выбросила, то что осталось бы в моей душе?
А вот уже — подсказка памяти:
Я лежу на печке и с упоением читаю роман «Кавалер золотой звезды»… Удивительно, но отчётливо запомнилось, что именно роман этого, прославленного тогда писателя Семена Бабаевского. Так вот, с увлечением читаю, но входит брат, спрашивает: что за книга? Показываю. А он выхватывает её и бросает в печку. Я — в слёзы! Но он даже и утешать не стал, а только сказал: «Никогда не забивай голову барахлом». И ведь это «семя» тоже проросло, — научилась с помощью Виктора ориентироваться в книгах, выбирая то, что подсказывало не облыжную дорогу жизни. Потом была суверенная «лестница» вверх, с которой открывалась удивительная бесконечность мира, и взбираясь по ней, надо было выбирать крепкую, надежную «ступеньку», чтобы не сорваться вниз.
Когда по утрам слышу редкие удары большого колокола вновь возведённого кафедрального собора, а потом начинают петь-распеваться и другие…
Мурашки — от этого всепроникающего звона!
Почему? Ведь и крещены в православную веру, но не проросла она в нас ритуалами, и детей к максимам православия не приобщали, — каток социалистического атеизма прошелся и по нашим душим, — но всё же под религиозные праздники у нашей единственной иконы «Марии с младенцем» всегда горела свеча.
А вручил нам Богородицу председатель колхоза, — непозволительно было коммунисту держать такое в доме, — а ему Мадонну отдал сельчанин, выловивший символ Православия из реки, ибо тогда, при Хрущеве, шло очередное наступление на религию и кто-то, испугавшись, спустил «Марию с младенцем» по течению.
Так вот, горела у нас перед иконой Богоматери свеча, пахло моими свежими булочками… И этот дивный, ни с чем несравнимый аромат только что испеченных булок, живёт во мне с детства, он — моя радующая память.
Нас у мамы было трое, — овдовела сразу после войны, — и поднимала детей одна, так что, жили мы часто впроголодь, но она всегда сберегала мучичку, — иначе её не называла, — чтобы к Рождеству испечь булки, и вот…
В хате еще темно, но я просыпаюсь от их запаха. Ах, как же радостно ощущать и тепло, исходящее от большого, выбеленного под праздник тела печки, и аромат только что выпеченного лакомства! А еще, — знала я и ждала! — вот-вот от порога донесутся голоса ребятишек, славящих Христа, и от их сбивчивого торопливого лепета с привычным окончанием: «Тётенька, дяденька, с праздником вас, с Рождеством Христовым!» во мне на весь день поселится непонятное (что причиной?), но неизменно светлое чувство.
Мама рассказывала:
«Спрашиваешь, когда церкви громить начали?.. Да их закрывать и рушить стали прямо после Ленина, когда он до власти добрался, а уж с конца двадцатых так с ними стали расправляться, что только пыль столбом стояла. Помню, раз приехала я в Карачев, гляжу… Казанскую церковь ломають! Ту самую, в которую купец Кочергин электричество провел. Ах, какая же эта светлая и праздничная церковь была, и вот теперя кырками её рушуть. И всё — молодые, комсомольцы! А потоми за Тихоны взялись… И по-ошли, и пошли! Тут уже громили беспощадно, только и слышишь, бывало: там-то церковь ломають, там-то… А мало ли в Карачеве церквей было! Церквей двенадцать, должно: Казанская, Знаменье, Никола, Евсеевская, Кладбищенская, Афонасьевская, Преображение… Вот и не стало слышно звона колокольного над Карачевом, колокола все посняли и увезли.
Всё-ё теперь молодежь упрекають, что стариков, мол, не уважаить. А они-то нешто уважали? Ведь всё поразломали, поуничтожили, что их деды построили! Вот и религию… Ну зачем было трогать? Деды, прадеды молилися, пускай бы, и дети… Ведь вера в Бога приучаить человека, чтобы он не только о себе думал, но и другому зла не делал. И с малых лет это надо в души чистые закладывать, вот тогда-то она, душа человеческая, и привыкнить к добру, пока не зачерствела. Видишь, как дети встречають меня, когда подойду к ним перед сном? «Бабушка, перекрести нас!» Значить, чувствують что-то, значить, ребенку приятное есть в том, что говорю: Господи, да дай же ты им здоровьица, да дай же ты им ума-разума, помилуй и сохрани ото всяких бед и напастей! Спите с Богом. Скажу вот так, перекрешшу… и заснуть. И с таким-то настроением хорошим!»
Вот потому под Рождество у нашей единственной иконы и горела свеча, что драгоценное зерно, заронённое генной памятью и мамой в наши души, всё же взошло, ориентируя в бесконечном пространстве жизни. А потом захотелось и детям вложить похожее: Христос — символ добра, сострадания, прощения, — духовности; его — Христа (добро) — распинают, а он (добро) воскресает; только добром можно защититься и защитить, а если в душе его нет, то — темнота, злом заполняемая.
Семена, некогда заронённые в наши души — та же эстафета памяти. Как в спешных буднях не потушить «факел» добра и веры, когда и какими поступками своими передать детям то, что понесут дальше? Сие зависит от нас.
Граффити на асфальте
«Я люблю тебя!», «Я хочу всегда быть с тобой», «Ты моё всё», «Я хотел сказать, что…», «Извини, краски кончились». По этим откровениям, — на асфальте, белой краской, — мы шагали с ним несколько раз, и был он мне «не другом и товарищем», а просто нечаянным собеседником.
С недавних пор вечерами стала замечать его в скверике, что как раз напротив рощи старых лип и сосен. И обычно сидел он напротив детской площадки, на которой под звон детских голосов мелькают яркие пятна курточек, игрушек, шаров. Потом вставал с насиженного места и начинал ходить туда-сюда по аллее молодых лип, словно переваривая только что увиденное… или вспоминая и своё детство? А думалось так потому, что не смотрел по сторонам… наверное, боясь отвлечься от своих мыслей? И был похож на моего любимого поэта Тютчева поздних лет. «Симпатичный мужчина», — иногда мелькало, — любопытно было бы поговорить с ним и узнать: а есть ли в нём что-то от Федора Ивановича? И вот как-то…
Стояла, прислонившись к стволу вековой липы, и смотрела на противоположную сторону оврага под названием Нижний Судок, который пролёг от сквера к центру города и теперь, в пору разгулявшейся осени, являл собою дивную смесь оранжевых, красных, зеленных оттенков, и вдруг услышала:
— Как увядающее мило! Какая прелесть в нём для нас… не правда ли?
Как всегда, от неожиданности вздрогнула, обернулась, и узнав моего незнакомца, улыбнулась:
— Правда… — И, помедлив, с тою же улыбкой, продолжила строки Тютчева: — Когда, что так цвело и жило, теперь, так немощно и хило, в последний улыбнется раз!
И то был пароль. Незнакомец сразу же открыто улыбнулся, жестом пригласил меня в аллею старых лип и как-то сразу, — слово за слово, фраза за фразой, — завязался меж нами диалог, перетекая от Тютчева к другим поэтам, а потом и к художникам, о которых говорил со знанием терминологии, стилей, направлений. «Наверное, и сам художник» — подумалось, но, постеснявшись, не спросила, а лишь слушала, иногда поддерживая его монологи своими скромными познаниями.
А потом из аллеи старых лип стали мы переходить улицу, чтобы перейти в сквер, и тут перед пятиэтажкой, прямо на тротуаре, под ногами и замелькали те самые надписи: «Я люблю тебя!», «Я хочу быть с тобой»… и он, вдруг остановившись и замолчав на полуфразе, прочитал одну из них: «Ты моё всё».
— Как же мало надо этому… написавшему, — пошутила, — чтобы почувствовать всю полноту жизни!
На что незнакомец, коротко и отстранённо взглянув на меня, ничего не ответил, а через несколько шагов снова остановился и, торопливо попрощавшись, зашагал прочь.
Вечером всё думалось: ну вот, своей неосторожной шуткой огорчила безымянного симпатичного собеседника, но, в то же время, и оправдывалась: ведь есть, есть в этой шутке доля моей правды, с которой мог бы просто поспорить, но нельзя же вот так… сразу «перечеркивать» человека!
И было любопытно: а подойдет ли завтра?
И на следующий день встретил меня — словно ждал! — когда от рощи старых лип шла через переулок к скверу, и почти тут же услышала:
— Вот эти слова, разбросанные на асфальте, — сказал тихо, словно только для себя, перешагивая через ставшие еще более яркими после дождя надписи: — «Я люблю тебя!», «Ты моё всё»… как-то сразу зацепили меня, поэтому… — и взглянул, извиняясь: — Простите уж, что вчера вот так… ушёл вдруг, — и улыбнулся так искренне, что и я расплылась в улыбке. — Эти юношеские иероглифы подтолкнули меня к вопросу: а говорил ли подобное женщинам, которых любил?
Остановился, постоял какое-то время не поднимая глаз, а потом, пригласив жестом свернуть в аллею молодых лип, зашагал чуть впереди. И я послушно пошла за ним, боясь неуместным вопросом опять спугнуть его наметившийся монолог… А, впрочем, наверное, он и не ждал от меня каких-то слов, ибо почувствовал, что могу и хочу слушать, а не говорить.
Этот совсем молодой сквер просто предназначен для раздумий. Казалось бы, ему, треугольником распростёртому меж шмыгающих машин, никогда не удастся сохранить тишину. Ан нет, плотненько, плечо к плечу сомкнувшиеся молодые липки словно оберегают не только тишину, но и огромный Земной шар с трещиной до самой Антарктиды. И не только оберегают, но и создают ауру для задумчивости с трепещущей в ней подсказкой: а так ли живём?.. Но отвлеклась я.
Мой незнакомец идёт рядом и пока молчит. Молчу и я, любуясь резким контрастом черных стволов лип и ярко-желтой листвы, но когда оборачиваюсь, чтобы взглянуть на аллею, уже оставшуюся позади и с которой сейчас свернём в следующую, слышу:
— Так вот… А говорил ли я женщинам хотя бы раз: «Я люблю тебя! Ты — моё всё.»
И мой собеседник смотрит на меня, словно этот вопрос — мне. Улыбаюсь:
— Но ведь… — предполагая, что надо утешить его, пытаюсь найти нужные слова: — Но ведь если Вы любили искренне и глубоко, то не обязательно говорить…
Но он прерывает:
— Нет, нет! Теперь-то знаю, что надо, надо было говорить! И обязательно! Ведь сказанное слово имеет некую магию… сказанное слово…
Он замолкает и вдруг так же, как и вчера, машет рукой, торопливо прощается и ссутулившись уходит по аллее, черно-желтыми контрастами которой я только что любовалась. И всё же чудаковатый мужчина… Опять ушел неожиданно. И придёт ли снова?
Но на следующий день с утра подул стылый ветерок, топорща на дорожках опавшие листья, а потом всё накрыл мелкий въедливый дождик, окрашивая и без того темные стволы лип в черный цвет. Но мне такая погода по душе, — не мельтешит в ветвях солнце, что-то обещая и куда-то зовя, — и теперь, соткав свой собственный подзонтовый приют, можно бродить и вслушиваться в многообразие обертонов тяжелых капель, вдруг разбивающихся над головой о тугую ткань тента, а при подсветке проезжающих машин, любоваться игрой световых оттенков в каплях, сползающих с ветвей.
Интересно, если и встречу моего новоявленного знакомца, то продолжит ли «тему», неожиданно подсказанную ему незамысловатыми граффити? Казалось бы, мало ли их теперь, разных и всяких не только на асфальте, но и на стенах домов, заборах, но вот… пробудили же в его душе взволновавшую ассоциацию. Странный человек.
Но к вечеру дождь утихомирился, «странный» снова встретил меня в сквере молодых лип, и было похоже, что забыл о предыдущем разговоре. Но когда переходили улицу, направляясь к аллее старых лип, и я уже начала жалеть, что развития «темы» не будет, то он…
Он вдруг остановился над знакомыми иероглифами, прочитал вслух «Я хотел сказать, что…» и, непонятно усмехнувшись, взглянул на меня:
— Так вот… Я хотел сказать, что слова обладают магией, несут в себе нечто гипнотизирующее, поэтому нельзя произносить их бездумно или… — Сделал несколько шагов, остановился над «Я хочу всегда быть с тобой» и даже, как мне показалось, чуть вздрогнул: — Или вот так… распластывать на асфальте.
Ну что я могла ответить, видя, как он взволнован? Вот и шла рядом, молчала, но когда пауза слишком затянулась, то, чтобы «ослабить натянувшуюся струну», сказала:
— Вы так серьёзно воспринимаете эти юношеские каракули, что…
Но он решительно прервал:
— Нет! Не надо так… о них. Это — не каракули, а слова. А вот эти… — И, возвратившись к тем, которые только что перешагнули, указал на «Я люблю тебя!», «Я хочу всегда быть с тобой» и опять же, словно только себе, сказал: — Эти сыграли в моей жизни такую роль, что…
И замолчал… «Наверное, сомневается, — мелькнуло, — а стоит ли говорить о той самой „роли“? А жаль, хотелось бы…» Но, чтобы приглушить своё нескромное желание и всё же отвлечь его от показавшихся мне сомнений, попыталась направить его последнюю фразу в более «широкое русло»:
— Знаете, некогда мне запомнились вот такие слова: для кого-то мой голос может превратиться в звук, который он захочет услышать, — шум ветра, шорох листьев, пение птиц, гул водопада… Так, может, это — не просто слова, а так и есть?
И он подхватил:
— Да-да, именно так! — И, остановившись на краю оврага, от которого аллея пугливо сворачивала вправо, обернулся ко мне и заговорил взволнованно: — Еще с детства был я влюблён в одну девочку… потом она обратилась в прекрасную девушку, а моя влюблённость — в любовь… — И глаза его засветились, согреваемые давней любовью: — Но я… хотя потом и были с ней вместе, молчал о своей любви, будучи уверен, что если стану говорить, то она привыкнет к словам и покинет меня.
Замолчал, отвернулся к пылающему оранжево-красными всполохами противоположному краю оврага, постоял так с минуту, а когда обернулся ко мне, то в его глазах уже не было того света… а я, хотя и поняла по его грустному взгляду, что услышу нечто другое, почему-то сказала:
— Надеюсь, она не покинула Вас.
— Увы, покинула. И покинула потому, что… — Помолчал, жестом пригласил войти в аллею и, пройдя несколько шагов, продолжил: — И покинула потому, что я не говорил ей тех самых слов, которые там… на асфальте. — Остановился, поднес руку к виску, опустил глаза: — А надо было, надо!
Конечно, хотелось возразить ему, успокаивая, но, дабы ненароком не обронить бестактность, перевела разговор на яркую пестроту осенних красок, которые были так реальны не произнесенным словом, а своей данностью, и когда уже переходили дорогу, на которой распростёрлись белые граффити, то мой спутник остановился над «Извини, краски закончились» и, усмехнувшись, грустно взглянул на меня:
— Извините, и мои «краски» тоже закончились. Завтра уезжаю. И едва ли увидимся еще раз. Прощайте.
Вскоре опавшие листья подёрнулись темно-охристым цветом тлена, потом их укрыл снег, мои подруги-собеседницы старые и молодые липы стали еще черней, а те самые граффити, так и не смытые осенними дождями, затаились под снегом.
Часто и теперь хожу в этот, ставший мне столь родным уголок города и, вспоминая так и не представившегося мне и похожего на поэта «героя» моих осенних прогулок, думаю о том, что, наверное, всё же была права, не бросившись утешать его, когда он открыл мне свою тайну. Ведь вполне возможно, что возлюбленная покинула его по какой-то другой причине, но для него вера в гипнотическую силу слова, которую я и до сих пор не могу принять полностью, стала не только отвлечённым смыслом, но и реальным щадящим утешением.
Пробка от «Шампанского»
Ой, еще б немного, и мне — по голове!
А если б и попало, то что? Ведь пробкой от «Шампанского» еще никого не убило, для этого надо что-то потяжелей. А, впрочем… Нет, не буду сейчас о «впрочем»… Нет, Наташ, и не проси, мы еще о нас с тобой не наговорились, а я стану о Валюшке?
А потому, что это она — о пробке… Нет, и всё же не хочу, давай лучше завтра, а сейчас выпьем за нашу встречу, наговоримся вволю и…
Ну вот, опять ты… Как была прилипалой, так и осталась. Зачем нам — о грустном?
А потому о «грустном», что Валюшки нет с нами, она — в ином мире…
Хорошо, хорошо, если настаиваешь… Но вначале скажи: когда в последний раз видела её?
Лет пять как… И мельком. Ну да, вы же с ней — не очень, это я…
А потому, что была она довольно трезвым, неунывающим человеком и очень терпеливым, чего во мне — не очень-то…
Ага, некая разность и притягивала нас друг к другу. Да и жили почти рядом, так что невольно…
Ну да, знаю, знаю, что и вы вместе работали… и вместе в Фиму были влюблены. Кстати, наверное, ты сейчас и прицепилась к ней, что был он для вас — один на двоих.
Ладно, ладно! Верю, что «не поэтому, а просто». Но тогда-то он предпочёл её, и вполне естественно, что ты хочешь узнать, как и что — у них… как жизнь сложилась.
Да по-разному складывалась, как и у всех, но думаю, что выбор меж вами сделал он правильный…
А потому, что только Валентина и могла терпеть все его неудачи, а, вернее, его восприятие своих неудач, а ты…
Нет, не смогла бы. Ты уже через несколько лет от него упорхнула б.
Ну, не упорхнула б, а ушла. Да потому, что не хватило б у тебя терпения сносить все его жалобы на свою судьбу, а у Валюшки…
Да, хватило. И до самого конца.
До какого? Не торопи. Если настояла на разговоре о Валентине, то изволь хотя бы сейчас быть терпеливой, чтобы могла я добрести до того самого конца. Понимаешь, теперь-то я почти уверена, что мужчина интуитивно ищет себе женщину, которая потом, с годами станет ему и матерью… а если заболеет, то и сиделкой. Кстати, поэтому Ефим и выбрал не тебя, а Валюшку, и этим попал с первого раза в десятку, ведь у художников интуиция отличная!
Ой-ой, не бурчи, может и ты смогла, если бы…
Ну, хорошо, и ты смогла бы, если бы… а вот Валя — без «если бы», и с самого начала их жизни понесла неудачи своего новоявленного стоически, когда он уже через месяц совместной жизни остался без заказов на картины из-за какого-то несогласия с председателем Худфонда… Ведь время-то какое пакостное было! Эти самые заказы распределяло Областное Управление Культуры и Худфонд, и если художник с охотой писал в стиле соцреализма для красных уголков фабрик и заводов портреты членов ЦК, орденоносных передовиков производства и румяных тружеников колхозных полей, то и процветал, а если не угождал… Вначале местная «руководящая и направляющая» заказы сокращала, а потом совсем могла не давать и не позволять устраивать авторские выставки. И шлейф за такими, «отмеченными вниманием» Обкома, волочился потом постоянно, поэтому приходилось искать им случайные подработки на стороне, — где-то и что-то расписывать, что-то и где-то оформить, или находить заказчика на портрет, пейзаж. В общем, под неустанным приглядом Партии житьё и у художников было не из легких, как и у…
Ладно, ладно, больше не буду о том времени, увлеклась, ибо еще не отболело. Так вот, Валюшка жалобы мужа стала принимать с первого дня, и успокаивать его, поддерживать…
Конечно, молодец, кто скажет, что не молодец? Но дело в том, что к такому мужья привыкают, вот и Фима. Вначале не все свои неудачи выплёскивал на жену, а потом привык и… А ведь работа и у Валюшки была не из лёгких, — каждый день с больными людьми… А, впрочем, что я тебе, медику — об этом… Кстати, они и познакомились-то в больнице, когда он туда однажды попал, и она ну очень душевно за ним ухаживала! Вот и приучила своей душевностью к тому, что потом и с небольшими «болячками» шел к ней, а уж с большими!.. И «болячки» эти ой как отражались на положении семьи! Денег-то у них всегда не хватало и Валюшка частенько забегала ко мне, чтобы взять в долг, а он… Помню, пожаловалась как-то: сказала сегодня мужу, что, мол, получать от тебя зарплату нерегулярно мне очень неудобно, так что давай договоримся, что лишние деньги оставляй у себя, а мне каждый месяц выдавай столько же, сколько и я получаю. А Фима ответил: но ты же говорила, что можно меньше. И даже обиделся. А, между тем долгов у них было!.. не говоря уже о том, чтобы диван новый купить, а то спала Валентина на короткой тахте, которая держалась на трех ножках, а вместо четвертой гирю подставила, с которой он уже бросил заниматься. И чуть не расплакалась бедненькая.
Наташ, ну а что я могла ей посоветовать?.. Вот то-то ж.
Да нет, жаловалась мне Валентина не часто, поэтому и запомнилось еще и это: как-то сказала она своему творчески самостоятельному художнику, что сыну, мол, нужна куртка к зиме, на что Фима сразу стал сердиться: пусть, мол, носит ту, что есть. Но она подстегнула его: да какая это куртка!.. он уже вырос из неё, на что муж на этот её подхлёст лишь повернулся к ней спиной, чтобы нырнуть в свою комнату. Но она догнала его фразой: хорошо, пусть носит, только ты сам ему об этом скажи. Сказал ли он сыну, нет ли, а зима приближалась, и Валюшке пришлось самой шить куртку… как, кстати, и пальто себе, ведь она и шила, и вязала…
Ну да, может, и зря. Может, и не надо было ей всем этим заниматься, дабы не расслаблять главу семейства, пусть бы не забывал о том, что жену и детей обеспечивать надо и что…
Да, да, ты права. Надо было ему еще какие-то постоянные заработки искать, чтобы не занимать деньги у соседки, а он… Как-то предложила ему Валюшка поехать осенью на уборку свёклы… подруга ей подсказала, что муж её ездил на Украину и заработал столько, что зимой и на службу не надо ходить. Так вот, предложила ему такой же выход из положения, а он сразу и сдался: нет, мол, не выдержу такой нагрузки.
Да нет, был он, как и в молодости, еще здоровым, крепким мужиком, даже не помню, чтобы Валя говорила о его болезнях, а вот «не выдержу», мол…
А что она… Да ничего. Промолчала и опять терпеливо… Знаешь, когда рядом человек близкий по мировосприятию, то стараешься не замечать его недостатков, и этим невольно портишь его. Ведь все палки — о двух концах, поэтому…
При чём тут палки? А при том. Ведь трудно уследить появление той грани, за которую нельзя переходить в уважении, любви, и если не заметить эту грань вовремя, то даже любовью можно испортить человека.
А вот так. Незаметно тот расслабляется и часть своих обязанностей начинает перелагать на любящего, что произошло и с Ефимом, а когда «переложенного» для Валюшки стало слишком много, то она и… Слушай, сходи-ка на кухню, завари еще и кофейку, а я найду записки о ней. Ведь и тебе будет интересней знать из первых рук… то бишь, уст. Идет?
Вот и хорошо.
Да-а, всего несколько записей… А жаль. Видать, были у меня тогда «объекты» поинтересней. Ну что ж, пришло и их время быть обнародованными.
«Уже довольно поздно вечером забегала Валентина, и я услышала:
— Иногда на меня налетают злые мысли, — и, помедлила: говорить ли дальше? Но всё же досказала: — Как наше государство замордовало народ «высокими социалистическими идеалами», так и мой Фима — своими. Ведь держит семью на грани выживания! Ну, стыдно, стыдно мне за него перед детьми! Вчера сын купил туфли за свою стипендию, а он: «Вот и пусть одевается за свой счет». Как же тоскливо стало! — Встала, прошлась по комнате, остановилась напротив своего карандашного портрета, исполненного её мужем, обернулась: — Да и вчера, когда занимала деньги у дочки до своей зарплаты и пожаловалась ему, что неудобно, мол, как-то перед нею, то бросил: «Чего напрягаешься? Живи, как живётся». — И опять взглянув на портрет, хотела шагнуть к окну, но остановилась: — А ведь это мне приходится экономить, изворачиваться, выгадывать, чтобы накормить семью! — И присела на диван, опустила голову, а потом сказала тихо, словно только себе: — Живу с ним… и ощущение, что за плечами — рюкзак, который вначале вроде бы не замечала, а с годами… Нет, что-то не так у нас… не то… надо что-то менять».
Нет, Наташ, ничего у них тогда не изменилось. А, впрочем… В материальном отношении не изменилось, а во взаимоотношении… Понимаешь, конечно же чувствовал Ефим свою вину перед семьей, что не может обеспечить её как надо, а преодолеть себя, чтобы зарабатывать деньги на какой-то нелюбимой работе, как его друг художник-оформитель, пишущий свои картины только вечерами и по выходным, не мог и начал изменяться в не лучшую сторону, — стал всё чаще покрикивать на детей, на жену. Вот, послушай еще одну запись… и учти, что она тоже — в моём «исполнении»…
А в таком. Записывала, редактируя как небольшие рассказики.
«Собираются они вчера с Фимой в кино… „А ведь такое случается теперь так редко!“ — добавила, рассказывая, Валентина с грустью. Так вот, собираются в кино, и как-то так получилось, что вышли на разговор о дочкиной зарплате, а он вдруг и бросил: „Нет, я не согласен. Что ж, мы содержать её будем, а она свою зарплату только на себя тратить?“ Да раздраженно так, наступательно! Валя попробовала нейтрализовать его раздражение, — не надо, мол, об этом сейчас… мы же в кино собираемся, — но он продолжал ворчать. Она терпела, помалкивала, а Ефим нырнул в свою комнату, но тут же выбежал с лампочками в руках: „Зачем их ко мне на шкаф положили?“ Валя взглянула, улыбнулась: „У тебя же в комнате места свободного много, вот и…“ А он прервал: „Поэтому и склад в ней можно устраивать?“ На что она, с присущим ей юмором предложила: „Ну, хорошо, оставь себе одну про запас, а остальные, если так уж мешают, вынеси в коридор“. А он так и сделал! Ну, Валя молча хлопнула дверью и ушла. До кинотеатра шла пешком, чтобы как-то успокоиться, а возле него Фима стоит! „На, возьми, — и суёт ей в руку что-то, — проездной свой забыла. А в кино я не пойду, ну тебя!“ — и, махнув рукой, сделал шаг в сторону. Она попыталась его остановить: „Ладно, не обижайся. Верю, что страдаешь… не хватает денег и даже у дочки занимаем, но пойми, мне тоже не легко, устаю от безденежья“. Но он еще раз махнул рукой и зашагал прочь».
Ну что, Наташенька, радуешься, что Фима тогда выбрал Валентину?
Ой, да, конечно, ты бы заставила его… ты бы не допустила. А вот я сомневаюсь, что «воспитала б по-своему».
Да потому, что такие натуры, как Фима, «хрупкие штучки», с ними надо обращаться бережно, иначе… Вот Валя. На что терпеливо и бережно — с ним… а он всё равно срывался на такое!.. А слушай на «какое»:
«И опять у моих друзей конфликт… Вчера, сразу после завтрака, Валя вдруг услышала: „Сейчас еду деньги выбивать“. Удивилась: „Как это выбивать, и у кого?“ „За рекламный плакат для кооператоров“. Испугалась: „Фим, не надо бы тебе так зарабатывать, ведь кооператоры еще не очень-то поощряются, а ты — для них… Узнают где надо и совсем…“ А он вдруг и закричал: „Но вы меня в угол загнали!“ Имеет в виду Художественный Фонд… и её. „Ну что ты говоришь? Разве я требую от тебя денег?“ — попробовала остепенить его Валя, а он — еще крикливее: „Требуешь! Ты упрекаешь меня: тот-то больше получает, тот-то…“ „Да мало ли что я иногда ни скажу! Ты тоже… А если имеешь ввиду те деньги, которые мне хотелось бы регулярно от тебя получать, так они только — на текущие расходы, чтобы…“ И, отвернувшись к стене, заплакала, а он хлопнул дверью и ушел. Жалко мне Валюшку, но чем помочь? Не знаю».
И что скажешь на это, Наташенька?.. «А та, сидя в кресле, покачивая ногой и попивая кофе, подумала: кажется, моя рассказчица увлеклась ссорами Валюшки и совсем забыла о пробке от шампанского». Да? Смеешься. Значит, угадала. И ты права, увлеклась я. И вот почему. Что-то странное со мной происходило, когда еще работала. Помню, наснимаем киноматериала, просмотрю, потом надо осмыслить его, выстроить, смонтировать, а ведь работали-то в спешке, — «Быстрей-быстрей!» И вот зачастую идёшь на монтаж, а в голове — пустота. С чего начать, какие эпизоды за какими склеить, какой темпо-ритм задать очерку или сюжету? А начнёшь монтировать с какого-то эпизода и пошло-поехало: цепляется одно за другое… этот поясняет предыдущий, другой тащит за собой именно тот… Вот и сегодня у меня пошло-поехало, так что ты уж потерпи… как Валюшка, доберусь я и до пробки, но пока вот о чем хочу… Пословица есть: «Муж и жена — одна сатана». Нет, не то… лучше эта: «Муж и жена — одно тело, одно дело, один дух», в этой народной пословице и впрямь есть некая мудрость. Ведь Валя и Ефим хотя и были довольно разными, но постепенно тот самый «дух» становился у них общим.
А вот в чём проявлялось. Та её прозрачная и неунывающая трезвость, которая так мне нравилась, с годами словно мутнела, и иной раз даже оторопь брала от её неожиданных суждений, — уж очень отличались от прежних. Ведь Фима в какой-то мере был мистиком, вот и она… Вначале я стала выслушивать её сны, в которых повторялся один и тот же мотив: она — в каком-то незнакомом доме или городе и никак не может из него выбраться, а потом…
Вспомню ли хоть один?.. Да нет, что ты! Как можно вспомнить чужой сон, когда и свои-то ускользают, как только проснешься… если за хвост не ухватишь и тут же ни запишешь.
Ну да, записываю, и уже много… Есть ли похожие на её? Ой, не знаю… Но если подождешь, то могу поискать. Вот и хорошо, выйди-ка пока на балкончик и полюбуйся моей ивой плакучей.
Ну, и как моя ивушка?.. А-а, то-то ж, я весь год ею любуюсь, во все времена она прекрасна.
Ага, нашла один. Слушай.
«Сумерки… я — на окраине какого-то городка среди убогих хаток, захламлённых улиц и мне непременно нужно туда, в центр… но зачем?.. не знаю, а надо, надо!.. только там и спасение!.. но как пройти?.. и некого спросить… Но вдруг — толстая баба, и уже я — возле неё, и она вроде бы показывает, рассказывает мне как пройти, но смотрит липко, неприятно и вдруг спрашивает: „Ты эстонка?“ Почему-то отвечаю „да“, и даже начинаю говорить с акцентом, чтобы поверила… но зачем? А она вроде бы радуется этому и говорит: „Две тысячи“. „Что… две тысячи?“ „Долларов, за то, что подсказала“. Шарахаюсь: „Да Вы что?..“ И снова иду меж хаток по темным, пустынным улочкам, ищу того, кто подсказал бы… и вдруг справа — крутой спуск, поросший ярко-зеленой травой, а посреди — мужчина с ма-аленькой черной собачкой и над ним, вдалеке — телевизионная вышка, высвеченная синим цветом… но который тут же гаснет, а мужик меж тем поднимается по этому крутому склону легко, быстро и уже — около меня. „Этот подскажет“ — думаю… хотя и одет в старую грязную фуфайку, но лицо… и он уже с охотой начинает объяснять, как пройти и даже кивает вроде как на экран: „Вам обязательно надо пройти через это!“ И я вижу на этом экране что-то вроде свалки или развалин, освещенных скупым светом… но уже иду туда, куда указал, а, вернее, не иду, а спускаюсь по шаткой лестнице в землянку, в которой мужики в грязно-серых халатах перетаскивают с места на место огромные мешки, и мне надо — мимо них… и опять спускаться по ржавой лестнице? Может, возвратиться?.. не туда подсказал, не туда послал? Но спускаюсь… и словно вспыхивает лицо того мужика в фуфайке, и он говорит, говорит: иди, мол, иди, всё правильно… а мне душно, тяжко от этой темноты, грязи, но снова передо мной — его лицо…»
Да, вот так и закончился тогда… мой короткометражный фильм. Мрачный? Да уж… не из веселых. Но нечто похожее и Валюшка смотрела…
Почему именно такие… Да потому, что с годами нервы наши начинают растягиваться, слабеть, как гитарные струны, и звучание их… и звучание души расстраивается. И если в молодости громче звучали мажорные ноты, то после сорока усиливаются минорные, а сны им вторят.
Не совсем согласна… Лучше — о пробке? Хорошо, этот мой сюжет почти смонтирован, так что пора и к финалу. Но прежде прочитаю тебе еще одну, уже мажорную и предпоследнюю запись, которую я сделала после нашей… я, Валюшка, Фима, вылазки в лес. Может, она и не совсем здесь монтируется, но жаль не вставить в этот сюжет.
«Прекрасный сентябрьский день! Мы бредём в молодой посадке леса. Какие же ярко-зеленые и стройные крепыши эти молодые ёлочки! Да еще вокруг — вереск стайками, шуршащий мох под ногами! Красота!.. А если остановиться и вот так прислониться к березке? Ну да, и вовсе…
— Валюш, какая же убаюкивающая благодать вокруг, да?
— И даже тонет в этой благодати звучание моей натянутой струны, — она тоже прислоняется к березке: — Звучание глухое, тревожное.
— Ты всё о том же? Опять у Ефима нет приработков?
— Нет, о другом я… к этому уже почти привыкла. Я же его понимаю: людям нравятся картины… как размалёванные яркие фотографии, а он совсем не так пишет. А тревожно мне… Знаешь, последнее время всё чаще мелькает: а любил ли меня Фимка?.. хотя и слышала не раз: «Умереть бы нам в один день!» Ведь если любят, то… А вот и он из-за ёлки появился. Ну что, в этой убаюкивающей благодати, прямо на этой чудесной поляне, легко и весело спросить его об этом?
— Попробуй.
— Фимушка, — Валюша улыбается и голос её становится похожим на урчание кошки, — а может, ты меня и не любил, а просто ценил мои достоинства?
Приостановился. Блеснул очками. Не ответил. Скрылся за ёлкой.
— Вот те раз! Похоже, твой Фима почувствовал неладное и испугался. Но ты…
— А я-то надеялась, что спросит: почему, мол, так думаешь? Тогда прямо здесь, среди этих веселеньких елочек, и сказала бы легко и шутя: маловато, мол, защищал от безденежья, не возил на юга, чтобы хоть там почувствовала себя женщиной, а не…
— Да ладно, как-нибудь еще… в другой раз спросишь.
— Ладно, так ладно. А сейчас пропою-ка: вот упаду лицом в траву и зарыдаю… наяву! Услышит ли?
— Нет, кажется.
— Ну, что ж, тогда присяду у этой березки, прислонюсь к ней и, рассмеявшись… ха-ха-ха!.. крикну: ну, коль молчишь, иди сюда, обедать будем, как всегда.
— «Обедать» твой Фима обязательно услышит.
Ага, показался, подошел, снял рюкзак, сел рядом и тоже — к березе спиной.
— Ну тогда, Валенька, не сбиваясь с поэтического размера, скажи: а вот и термос наш китайский, и бутерброды с колбасой.
Как же не хотелось омрачить ту тишь да благодать проблемами!»
Ну вот, после такого мажора, можно — и к пробке… что от «Шампанского», но дальше, к сожалению, без минора — никак.
А потому, что «события разворачивались стремительно и бесповоротно». И об этом вначале — вот эти два отрывка из моей последней записи о Валентине:
«У Ефима — неглубокий инсульт. Валентина хлопочет над ним, лечит, ко мне забегает лишь для того, чтобы отдохнуть от своего «ребёнка», которого пробует заставлять расхаживаться. Но он не принимает её совет, и сегодня у нее вырвалось: «Через мои руки прошло очень много больных и по опыту знаю: если человек захочет жить, то будет бороться с болезнью всеми оставшимися силами и иногда побеждает, а мой Ефим… — Замолчала, встала, подошла к его акварели с лужайкой среди берез, постояла, обернулась: — Он замкнулся только на себе! И совсем не борется, а лишь жалуется, жалуется, жалуется, а это значит…»
А теперь, Наташенька, хотя ты со мной и не совсем согласна, что с годами нервы становятся похожи на растянутые струны и начинают издавать сомнительные звуки, я всё же попробую…
Нет, не доказать, а как бы подтвердить свои домыслы. И вот чем. Ну скажи, разве не фальшивый звук души хотя и не очень упёртая шизофрения?
А вот такая… Как-то Валюшка сказала: «Когда мы расписались с Фимой, то он прямо в Загсе открыл бутылку „Шампанского“, пробка вылетела, попала в потолок, а потом — мне по голове. Кто-то из друзей еще пошутил: дурное, мол, предзнаменование. И вот теперь всё чаще и чаще стала я вспоминать это и подумывать: а, может, и впрямь?..» Ну, я, конечно, бросилась отговаривать её: всё это чушь, бред, мистика, которую надо из головы — вон! А она сидела, смотрела на его акварель и молчала.
Нет, больше не говорила о пробке, а вот о том, что сердце стало подводить, говорила, и несколько раз… А, впрочем, недели за две до смерти Ефима, вошла ко мне уже поздно вечером и сказала: «Кажется, тогда… с пробкой, не напрасно… — и замолчала, зная моё отношение к тому случаю, а потом всё же договорила: — Иногда думается, что не выдержу и первая…»
Ну, а потом были его последние дни, похороны. На кладбище — родственники, друзья… и тогда я еще подумала: наверное, всё же от переутомлений Вале казалось, что Ефим будет причастен к её смерти, но оказалось… Оказалось, что она вроде как права была в своих мистических предположениях, ибо после поминок, на другой день с ней и случился обширнейший инфаркт, от которого даже коллеги не спасли… Наташ, давай-ка еще пригубим «Шампанского». И не чокаясь. Помянем её, может, сейчас она вместе с нами.
Не веришь. Не веришь и в Валюшкины «мистические»… Трезвый ты человек. А мне иногда… а я иногда…
Говоришь, простое совпадение? Может, и совпадение, но всё же… Вот, смотри: я подхожу к этому пейзажу… Да, это Фима написал, и нам с Валюшкой нравился больше других. Так вот, я смотрю на этот весенний пейзаж и, хотя Фима не выписал деталей, полутонов… ёлочки-то, березки — лишь намёком, да и облачка над лесом, и лёгкое марево от только что разогретой земли, робкие, боящиеся оторваться от земли подснежники — тоже… И вроде бы всё это — просто цветовые пятна, брошенные художником на холст небрежной кистью, но… А во мне словно некая волна поднимается, теплая волна, пронизанная искринками радости. Скажи, что это, почему? Да и явление наших снов, неожиданных поворотов судьбы…
А-а, всё же согласна, что есть нечто, еще мало постигнутое! Значит, и Валюшкино «совпадение», как ты говоришь, с желанием Ефима умереть в один день…
Опять не веришь… Знаешь, человек, несмотря на свои познания в философии, технологиях, а теперь уже и нано технологиях, многого не знает, поэтому я и сомневаюсь… и почти уверена, что человек так и должен…
Почему? Да потому, что только сомнение подталкивает к поиску, ибо оно плодотворно. И прав поэт… не помню его фамилии, написавший строчки, которые запомнились: «Я не стыжусь, что ярый скептик, и на душе не свет, а тьма, сомненье — лучший антисептик от загнивания ума». Правда, я — не скептик, и просто больше преклоняюсь перед сомнением, нежели перед самодовольной уверенностью, ибо она-то и может стать симптомом загнивания ума.
Зачем звонит колокол
Эту странную женщину зову иногда Мадам Энзим. А странная потому, что не хочет… или не умеет жить спокойно, да и тех, кто рядом будоражит своим чувствованием жизни. И как-то сказала ей об этом, назвав катализатором, на что она, усмехнувшись, ответила:
— Тогда уж лучше зови меня не этим громоздким и длинным словом, а из терминологии моей профессии: энзим. — Удивлённым взглядом дала понять, что слышу этот слово впервые, и тогда она пояснила: — Энзимы — ферменты, ускоряющие химические реакции в живых системах.
— Ну что ж, тогда, для пущей изящности буду звать тебя Мадам Энзим.
На том и порешили.
А познакомилась с ней недавно при поездке на экскурсию в Минск, и теперь она иногда приезжает ко мне в гости и с мужем художником. Бродим тогда в соседнем сквере или ездим в более дальнюю, еще не столь «причёсанную» рощу, где можно побродить по еще не закатанным асфальтом тропинкам, прислониться к березке, посидеть на нашем любимом валуне, оглядывая дали, раскинувшиеся за рекой. И почти каждый раз Дина выкладывает мне нечто, будоражащее и моё чувство, после чего потом думаю, думаю… А, может, странная и я, раз цепляюсь за её сюжетики? Но зачастую есть, есть в них нечто, ведь иначе не потянуло бы выткать из её «витальных историй», как она их называет, вот этот небольшой рассказ. Конечно, кое-что в нём не так, как у неё, — что-то опустила, что-то даже и додумала, сплетая из её коротких реплик нить потолще, — но так ведь как без этого, если собираешься что-то поведать?
Она сварила утреннюю кашу, стала выкладывать на тарелочку и ложка зазвенела о стенки кастрюльки. «Словно трезвоню, — подумала. — И Фима слышит этот трезвон, а завтракать не идет».
— Чего завтракать не идешь? — почти крикнула, чтобы долетело в его комнату.
— Ты же не приглашала, — услышала.
— А ты что ль не слышишь… по ком звонит колокол? — вдруг вспыхнуло название романа Хемингуэя.
И пришел:
— Но он же не по мне звонит?.. надеюсь.
— Может, и не по тебе… а по нас.
— А зачем? — усмехнулся.
— А ты как думаешь? Может, подскажешь? А то я не…
— А не хочу я думать, — прерывает, — и буду просто есть кашу.
Присели. Едят. Она:
— Ну ладно, не думай зачем звонит колокол, я сама… А что скажешь насчет того, что дети собираются зимой в Польшу на лыжах кататься, а я не советую.
— Почему?
— Они же недавно там были, пускай съездят еще куда-либо.
— Но в Польшу дешевле.
— Пусть подсобирают денег и махнут в Испанию или во Францию.
— Пусть и во Францию.
— А тебе уже все равно, куда им махать, — усмехнулась. — Был бы только телевизор.
— В общем-то, да.
— А вот мне еще не всё… всё равно.
— Ну и поезжай куда хочешь.
— Поехала б… да денег нет, — тренькнула ложкой по тарелке. — Да и не приглашают.
И он понимает намек, но молчит какое-то время, а потом:
— Ну и нашла бы в свое время себе богатого, чтоб приглашал, а то вышла за художника с неясной перспективой.
— Но ты же был талантлив, писал отличные картины, — сорвалась на упрек. — Я же не знала, что погасишь свой талант так скоро и что потом…
Нет, не скажет она ему о «потом», тем более, что он, ничего не ответив, доел кашу, поставил тарелку в раковину и вышел.
А сегодня, изменив городскому скверу и роще, пригласила я мадам Энзим и Фиму съездить на участок поля, недавно купленный моим сыном и на обратном пути навестить моего знакомого, который живёт один в старой хате и пишет роман.
Моросит. Пасмурно, словно опускаются сумерки… Да, не лучшую погоду выбрал сын для знакомства со своим приобретением, но в выходные дни погоды не выбирают, да и надеялись, что через какое-то время тучи развеются, а они лишь осели и плотненько занавесили небо.
Вот уже с полчаса дворник налево, направо, смахивает дождинки, заставляя их сбиваться в ручеек и стекать на капот, за вспотевшим стеклом изредка мелькают отяжелевшие лапы елей, а потом опять, не прерываясь, серовато-коричневой полосой тянутся полегшие жухлые травы, измокшие кусты, иногда рассекаемые яркой белизной отмытых стволов берез.
Мои приглашенные посматривают в окно, расспрашивая сына, — зачем, мол, купил, что собирается делать с этим полем, — и беспокойная подруга всё предлагает варианты, а её муж каждый раз подсовывает сомнения: да нет, ничего из этого не получится… да нет, для этого надо многое добывать… да еще и неудачным затея окажется. И Дина всё пытается разбить эти сомнения, настаивая, что если даже и возникнут неудачи, то всегда при желании и упорстве можно найти «лекарство», чтобы провести «реакцию нейтрализации», но муж по-прежнему бубнит своё и, наконец, она вспыхивает, отворачивается к окну и закрывает глаза, — всё, мол, устала от него!
Но вот сын свернул направо, остановил машину.
— Приехали. — И взмахнул рукой: — Справа, мое поле. — А когда все вышли, пошутил, улыбнувшись: — Во-он там, возле березняка, можно строить дом и жить.
Сырой, холодный ветер сразу пополз под капюшон, начал холодить спину, но Дина с мужем захотели пройти к недалёкому березняку в конце участка. И сын повёл их туда, а я не решилась, — ветерок наглел, пробирался уже и под легкую куртку, — и начала трусцой бегать вокруг машины, чтобы согреться и хотя бы «взором окинуть» приобретение сына. Полевая дорога тянулась вдоль сжатого поля, на котором дождик высветлил примятое колесами машин жнивье, а справа и слева темнел березняк. Отличное место! Люблю вот такое: поля, поля, а на взгорьях стайками — берёзки. Наверное, как же красиво здесь летом! Но сейчас, под моросью и настырным ветром, хотелось побыстрее нырнуть в машину и уехать, а сын всё вёл моих знакомых туда, к березняку, изредка останавливаясь и взмахивая руками.
Возвратились они минут через пятнадцать, но захотели подъехать еще и к лесочку справа.
«Зачем?» — подумалось, но села в машину. Проехали сколько-то, вышли. Возле стайки берез потоптались по ежику сжатой ржи и, наконец, вернулись к машине, сели в неё… а она и забуксовала. Стали толкать. Нет, ни-икак!
— Может, сходить поискать трактор в соседнем поселке, чтоб вытащил? — посоветовал Ефим, вытирая грязные туфли о жнивьё: — А то и надорваться можем.
Дина коротко взглянула на него, усмехнулась, но ничего не ответив, снова подошла к машине, упёрлась в задок руками. Подошли и мы, толкнули раз, еще, еще!.. Ну, слава Богу, по-оехала! Значит, через час будем дома. Но прежде хотя бы на полчаса — к Алексею.
И снова рябоватой полосой замелькали размытые контуры перелесков, скошенные поля с редкими стожками и, наконец, отсыревшие, но ставшие яркими домики пригородной деревни.
Остановились у потемневшего от дождя серовато-бурого домика с подслеповатым взглядом окон и стыдливо укрытого кроной разросшейся рябины, из которой весело и удивлённо выглядывали красные гроздья ягод. Через приоткрытую и сбитую из обрезков досок и палок калитку протиснулись во двор, остановились возле трех покосившихся ступенек, и я постучалась в дощатую дверь. Нет, не отзывается хозяин. Постучалась громче, еще громче и услышала: идет, открывает щеколду и уже стоит, опершись на палку:
— А-а, это ты! –обрадованно улыбнулся и взглянул на гостей: — Ба, да ты не одна!
По тропинке коридора, заставленного разным скарбом, пробрались к двери в хату.
— Подождите, сейчас свет вам включу, — уже открыл дверь Алексей и опять же, по тропинке, окаймлённой бордюром из пожиток, потянулись за ним в соседнюю комнату. Слева, возле давно немытого окна приткнулся стол с небрежно раскинутыми книгами, стопкой чистой бумаги, листами копирки и банкой супа, возле него — низкое кресло с накинутой и словно распростёртой старой шубой, перед ним — пишущая машинка с абзацем отпечатанного текста, а справа — кровать со сбитым одеялом и овчинным тулупом, на котором серым комочком свернулась кошка.
— Да вот, прибилась, — заметил мой взгляд Алексей: — Есть и еще одна с двумя котятами, приходится кормить…
Пройду, закрою ящик, в котором хозяин хранит свои пищевые запасы, накину на него подвернувшийся клочок какого-то меха, присяду, позову Дину:
— Проходи, садись на кровать, пока мы тут с Алексеем…
И она присядет, поправив одеяло, соскальзывающее на пол и взглянув на словно застывшую кошку, а сын с её мужем так и останутся стоять в проёме двери, оглядывая «интерьер» хаты и иногда похихикивая: и для чего, мол, ему всё это барахло?.. а паутина-то… ха-ха!.. и на потолке висит, и по углам!.. на что Алексей, коротко взглянув на них, усмехнётся:
— Да так… с барахлом и паутиной уютней и теплей.
И услышит от Ефима:
— Вы бы лучше со стороны улицы дыру над окном заколотили, чтоб не дуло.
— Да надо б заколотить, — тихо скажет Алексей, — но всё как-то некогда, роман время отнимает… каждый день до четырех часов утра над ним сижу.
— Ну и зря, — опять прозвучит категоричный совет: — Писать надо днём, а ночью спать.
Но на это ответа не последует, а Дина взглянет на меня, и в этом её взгляде уловлю: ну, зачем, мол, Ефим… со своими советами? Да, зачем?.. подумаю и я, ведь понять Алексея ему, живущему в уютной квартире под неустанной заботой жены невозможно. И, чтобы заштриховать вдруг повисшую неудобную паузу, фальшиво оживлюсь:
— Ой, я же не представила тебе моих друзей…
И, назвав их, выну из пакета суконные ботинки и комбинезон, купленные по телефонной просьбе Алексея:
— А вот и заказ твой, писатель, принимай.
И он засветится радостью:
— Ну спасибо! Ну, угодила! — сразу станет примерять обувь. — А то те, что на мне, слегка поизносились, и приходится дырки клочками затыкать, — засмеется.
— Сходили б и купили новые, — опять не сдержится Ефим.
И Алексей, взглянув на меня, — да ладно, мол, не огорчайся из-за него, — ответит:
— А пойти купить новые уже не могу… возраст… ноги плохо подчиняются.
И опять с улыбкой начнёт разглядывать комбинезон.
— Алекс, — назову его сокращенным именем, — если комбез покажется тебе не очень теплым, то позвони… приеду, заберу, утеплю синтепоном и зимой, в твоей продуваемой всеми ветрами хате, мороз тебе будет нипочём.
Минут через десять сын и Ефим, поторопив нас с отъездом, ушли в машину, а я, спеша договорить то, что хотелось, взглянула на Дину:
— Если хочешь, иди и ты… я еще пару минут тут, с Алексеем…
Но она останется и, взглянув на кошку, всё тем же комочком сереющую в уголке, протянет руку, чтобы погладить её, но почему-то отдернет, а потом молча будет вглядываться в Алексея, бродить взглядом по столу с листами отпечатанного текста, по полке с книгами, по непонятному скарбу в углу, но каждый раз снова и снова возвращаться к иконе Спасителя, висящей в углу и чуть заметному огоньку лампады.
Вскоре сядем в машину и мы. Сын постоит рядом с Алексеем, приобнимет его, шепнёт что-то на ухо, а когда сядет за руль, и машина развернётся, то через забрызганное окно увижу: Алексей будет стоять, опираясь на костыль и крестить нас вослед.
Вначале ехали и молчали, а потом со своего первого сидень я услышала:
— Ну и живет же твой знакомый…
Обернулась, удивлённо взглянула:
— А что… что ты имеешь ввиду?
Фыркнул презрительно, усмехнулся:
— Не хата, а берлога какая-то. Разве можно так жить? Я бы и дня не выдержал.
— А зачем тебе выдерживать? У тебя чистенькая квартира… с заботливой женой, — попыталась смягчить его агрессивный настрой.
Но он не принял моей робкой шутки и стал возмущаться, что, мол, нельзя так… надо было бы продать этот старый дом… надо было бы как-то по-другому устроиться в жизни, а не писать роман, который никому не нужен, да и вообще надо было… На все выпады мужа Дина ничего не отвечала, отвернувшись к окну и глядя через исхлёстанное дождём стекло на метущиеся мокрые кусты, деревья, считаемые телеграфными столбами, но когда Ефим, успокоив себя выплеснутым недовольством, замолк, то всё так же глядя в окно тихо сказала:
— Алексея в такой обстановке только писание романа и спасает.
И я с благодарностью подумала: какая же молодец моя Мадам Энзим, что поняла Алексея… и меня.
Она сварила утреннюю кашу, стала выкладывать в тарелочки и ложка зазвенела о стенки кастрюли. «Словно трезвоню, — опять подумала. — И он слышит, а не идет».
Но пришел.
— Слышал, по ком звонил колокол? — опять пошутила, усмехнувшись.
— Звон-то слышал, а вот по ком…
— А по нас он… вернее, для нас.
— Зачем? — тоже усмехнулся.
— А затем, чтобы барахтались, насколько хватит сил, искали свои «биогенные стимуляторы» и постоянно прислушивались к себе: а не смолк ли колокол, который…
— Который ты устраиваешь по утрам? — опять усмехнулся Ефим, дав понять, что не хочет дальше слушать.
И она замолчала. Но как часто с ней и бывает, додумала про себя: а ведь и он мог бы не потерять себя, когда спонсоры предложили ему открыть салон для выставок, но отказался, испугавшись хлопот, тем самым списав себя и как художник. Так зачем же говорить ему об этом теперь?
И снова я с Мадам Энзим на взгорье нашей, еще не совсем непричёсанной рощи, но сегодня над нами не серое клочковатое покрывало, сочащееся моросью, а вечерняя бирюза со слоистыми улыбающимися облаками, робко подсвеченными розоватым светом предзакатного солнца. Как же благостно сидеть на нашем любимом валуне и видеть перед собой осенние светло охристые заречные луга, посёлок с шапками желтеющих деревьев и церквушкой среди них, темнеющую полосу дальнего леса. И не хочется думать, а просто смотреть бы и смотреть на этот удивительный дар жизни, чтобы, сберегая в душе, потом вновь и вновь вызывать, всматриваться в чудные панорамы. Но вдруг слышу:
— Ты знаешь… — и по глазам Дины понимаю, что собирается сказать нечто, её взволновавшее: — Вчера по телевизору посмотрела фильм о французском ученом Паскале… — Подумалось: Дина, не надо бы сейчас о Паскале… но промолчала. — А утром за завтраком нечаянно вышли с Фимой на вопрос: по ком… а, вернее, зачем звонит колокол?
— И зачем же? — заинтересовалась. — Так вот, теперь знаю… Звон колокола напоминает, что Бог создал нас по своему образу и подобию, а, значит, всю жизнь должны мы хранить не только его образ, но и крохами дел своих стремиться к его подобию, постоянно прислушиваясь: а не смолк ли мой колокол? — Замолчала, поняв, наверное, что сказанное литературно и пафосно, но не услышав меня, продолжила: — Так зачем я — о Паскале… В сорок девять лет с ним случилась апоплексия и казалось, что жизнь кончилась. Но смог вытащить себя! И увидеть вершину, на которую должен был подняться, сделав множество спасительных для человечества открытий. И дожил до восьмидесяти, а когда умер, то на могиле люди оставили некролог: «Спасителю — от благодарного человечества». — Дина встала, сделала несколько шагов к крутому спуску взгорья, постояла там и, неспешно раскинув руки… словно пытаясь взлететь над заречными далями, сказала: — Так и знакомый твой… Алексей. — Опустила руки, обернулась ко мне: — Он и теперь слышит звон колокола, покоряя свою вершину. — И тихо добавила почти для себя: — Наверное, таким думается: а иначе и жить-то зачем?
За Бланкой — в клетку
Сейчас она войдёт и скажет: «Можно к тебе на минуточку?» Потом пройдёт в зал, сядет со своим вязаньем или папками, полными рисунков в кресло и… А, впрочем, что это я? Лучше, начну вот так.
Когда открывала ей дверь, всегда слышала: «Можно к тебе на минуточку?» И этот её вопрос был приветствием. Потом проходила в зал, садилась в любимое кресло… моё любимое, раскрывала одну из папок и… Да нет, «долгие беседы» у нас не начинались и если мне было некогда, то она и час, и два могла просидеть в зале одна, перебирая наброски, сделанные её мужем, и я знала, что не нужна ей, что просто захотелось ей сейчас «выпорхнуть из своей клетки», — её слова, — чтобы немного оттаять от… А оттаивать «от» начала после того, как её муж… Нет, вначале — о Бланке.
Знаю её лет… Ну да, лет пять, и даже помню, как познакомились на собрании жильцов дома, — возвращалась с работы, а они во дворе галдели, ну и подошла к галдящим, а она возле стояла. Еще тогда подумалось: что-то не припомню такую в нашем кооперативном дружном коллективе.
А было в её славянском лице нечто нерусское, прелестно-ускользающее и это нечто вспыхнуло еще ярче, когда на мой вопрос, — и о чём, мол, волнуется «народная стихия»? — сразу подхватила интонацию и ответила:
— Да так… Думаю, стихия просто сошлась поболтать, — и улыбнулась светло, призывно.
Потом — слово-за-слово… потом отошли в сторонку, разговорились, и оказалось: зовут её Бланкой, и потому Бланкой, что уже давным-давно её предки-поляки обрусели, оставив ей внешность и имя прабабки, что купил недавно муж Костенька, — по-другому потом его и не называла, — в нашем доме квартиру, и что он «очень, очень талантливый художник!», да и она художник, только оформитель.
Ну, а теперь, после контурного наброска портрета моей героини, — ну как же рассказывать о художнице и не прибегнуть к терминам её профессии? — постараюсь прорисовать и полутона, а помогут мне в этом наши тихие беседы и брошенные ею фразы вроде «выпорхнуть из своей клетки», за которыми я снова и снова тащилась за нею со своими думками, перебирая, перетирая, переосмысливая… «пере» и «пере» их по-своему.
Ну да, муж её был талантливым художником-пейзажистом, иначе Бланка за него и не вышла бы. И не только пейзажистом, были у него и наброски натюрмортов, жанровых сценок, портретов…
Да нет, не гениальных, конечно, как у Пикассо, исполненных одной непрерывающейся линией, но глядя на Костины, сразу верилось: рисовальщиком он был отличным.
Почему был? А потому, что вскоре всё чаще стала слышать от моей подруги:
— Опять Костенька хандрит, не пишет… — и спицы или листки в её руках начинали слегка дрожать.
О, видела и я подобную хандру! Видела не раз и поэтому сразу представляла себе Костеньку, лежащим на диване и тупо смотрящим на пляшущие разноцветные картинки телевизора. Потом он встанет, — видела, видела и это! — бесцельно пройдет на кухню, постоит у плиты, может быть, заварит чай и, не допив, снова ляжет, бессмысленно уставившись на экран. Тоскливая картина… Но что было посоветовать Бланке? Нет, не знала. И всё же надо, надо было — хоть что-то!.. вот и пробурчала, кивнув на папки:
— Может, тебе не стоит давать ему советы, как и что писать?
— Как это?.. — захлопнула одну из них.
Что за папки?.. Ну как же, всякий раз, когда приходила, то обязательно — с этими двумя коричневыми папками, на которых были наклеены белые квадратики с буквами «G» и «B»… еще помню, спросила её, когда увидела их впервые: и что, мол, кроется под этими таинственными вензелями, а она рассмеялась:
— Да буквы эти означают «хорошо» и «плохо»… по английски, а копаюсь в набросках Костеньки потому, чтобы потом придраться к чему-либо.
— Господи, зачем?
— Ну как же, хочу, чтобы всё лучше и лучше писал свои пейзажи, а он…
— А он? — уставилась на неё, почти не скрывая не столько непонимания, сколько осуждения.
Но она не поняла моей интонации, и начала взахлёб разносить портретные наброски Костеньки, засыпая меня терминами и пытаясь заразить своим неприятием творческих поисков мужа-пейзажиста.
— Бланка… — попыталась остановить, — но ведь художник должен только сам… иначе…
— Нет, нет и нет! — отрезала финал моих соображений, — портреты писать ему не надо и творить только пейзажи, он — пейзажист, и только пейзажист!
Ну и ну… С тех пор и перестала ей советовать, — дело семейное, ну как можно?.. — а то еще ненароком рассорю «творческий союз».
Ну, а потом Костенька совсем перестал «творить» пейзажи и даже начал попивать, а она — ощущать себя загнанной в клетку. Ведь вышла-то за него, почти на пятнадцать лет старшего, только потому, что увидела в нём «настоящего творца, — опять же, её фраза, — которому можно было служить, которому можно было что-то советовать или хотя бы просто говорить о любимой живописи, а он…» А он теперь забросил своё увлечение и оставил её ни с чем.
Да нет, не говорила она этого, но я же видела! Иначе как можно было объяснить что-то вроде застывшего непонимания и возмущения в её угасшем взгляде, который почти кричал: я же любила его за талант, я же хотела боготворить его, а он!.. он предал мою любовь, и теперь её нет… и теперь я одна, одна!
А, может, и не так всё было?.. Да нет, так. Когда забегала к ним, видела: заботлива Бланка и обедами кормит своего «творца» вовремя, и не повышает голоса, да и он на неё не жаловался, но был… Был словно напрочь потерявший волю человек, которому всё — всё равно, и ничего не надо, кроме как вовремя поесть, лечь на диван, скрестив руки на груди… как у мертвеца, потом посмотреть новости да лечь спать, а она… А она крутилась, а вернее, выкручивалась, чтобы как-то прокормить и его на свою зарплату… Нет, всё выпархиваю и выпархиваю из их клетки из-за своих домыслов! Ладно, постараюсь дальше рассказывать только то, что видела, слышала, — поверхностный абрис, так сказать, — но получится ли?
Как-то она пришла, села в любимое… и моё любимое кресло и грустно улыбнулась:
— Знаешь, часто, очень часто вижу похожие сны. Вот, послушай сегодняшний: какой-то незнакомый город… нет, не с многоэтажками, парками, трассами и машинами на них, а какой-то древний, с каменными, обожженными солнцем домиками, возле которых почти нет деревьев, и я мечусь в узких улочках этого чужого мне города, мечусь и никак не могу найти выхода… А как-то видела и такой: замок ли, дворец ли?.. но потолки высоки, стены толсты… да-да, почему-то остро ощущала их давящую толщину и прочность, и всё время сверлил вопрос: зачем я здесь, почему? И томилась меж этих стен, и перебегала из одной полутёмной залы в другую, из бесконечно длинного коридора в такой же, но только натыкалась на огромные резные двери, не открывающие выхода.
Тогда не стала я разгадывать её сна или что-то советовать, а лишь подумала: бедная Бланка, ведь у тебя и впрямь нет выхода со своим депрессивным творцом и остаётся только ждать. А она лишь взглянула коротко, но потом, когда упоминала о муже, то в её взгляде появлялось нечто решительно-отчаянное, словно перед прыжком в… Но куда? Ведь ни на что не решится.
И всё же опять — за Бланкой, в её «клетку». Вот она приходит домой, начинает готовить ужин, ожидая Костеньку. И он приходит. Пьяно-депрессивный. И она подходит к нему, молча смотрит, потом уходит в свою комнату, ложится на диван и, как и он, взгляд в — потолок: «Уже давно надо бы побелить этот посеревший потолок! — Закрывает глаза: — Что же делать? — Руки её на груди, пальцы скрещены: — Во, и я свои… как у мертвеца! — проносится в голове, и резко встает: — Но надо идти кормить его… и молчать, молчать, молчать… и что-то придумывать».
И ведь придумала! Начала искать другого «творца»… по Интернету. И нашла. Голландца с международным именем Николай-Ника… а для неё — просто Коленька. Месяца два длилось их виртуально знакомство, потом — встреча в Москве и вскоре моя, преданная талантам Бланка, выпорхнула из клетки от увядшего Костеньки и уехала к обещающему творцу в Гаагу.
«Ну и что? — скажите Вы, — Бывает и такое. — А, может, еще и прибавите: — И правильно сделала». Но вот послушайте, правильно ли? Так что, есть еще не прорисованные штрихи портера Бланки, и сейчас добавлю их бережно, с «документальными» подтверждениями и… со своими домыслами и догадками.
После её, довольно скоропалительного знакомства и отъезда в страну «великих и малых голландцев», получила от неё мейл… кстати, мейл — от неё, а примерно через месяц — ключи от Костеньки: возьмите, мол, «на всякий случай…», и опять же «на всякий случай» взял мой адрес. Нет, не стала расспрашивать, куда, мол, наладился и что за «случай» может нагрянуть, — ну как спросишь, если человек не хочет рассказывать, хотел бы, так сразу и…, — но ключи взяла. Аот Бланки получила вот такой первый мейл: «Живу, как королева! Особнячок — прелесть! Садик — чудо! Подрезанные деревья, дорожки, плиткой выложенные и махровые цветы, цветы, цветы! Кажется, я счастлива»
«Кажется» — подумалось… А почему кажется то! Из клетки — да в такое? Да каждая женщина должна радоваться… да каждая только о таком и… ходить и улыбаться от счастья. И почти тут же увидела: Бланка просыпается на цветных иностранных подушках и простынях с замысловатыми иностранными вензелями, муж приносит ей на серебряном подносе утренний кофе, садится рядом и… Ой, дальше — не надо, не буду, не стану… А потом они, взявшись за руки, бродят по плиточным тропинкам сада с подрезанными деревьями и махровыми цветами, выбирая натюрморт для его следующей, непременно талантливой картины, и она даёт ему советы, советы, советы…
Были и еще довольно частые мейлы с упоминанием о нагрянувшем счастье, потом «счастье» стало упоминаться реже, реже и в последние полгода этого сладкого слова и вовсе не нашла, — так, одни «сообщения», что жива, мол, здорова, мол, того и тебе… В чем дело? — недоумевала, ведь могла бы написать просто и понятно: что-то не… Ан нет! Потом мейлы пропали.
И вдруг… Вдруг Бланка объявилась как-то поздно вечером.
— Бланка! — только и всплеснула я руками. — Ну что ж это ты, блин!..
А она и залепетала, когда уселась в моё… в её любимое кресло:
— Ой, ты знаешь…
И дальше «коротко — о главном»: жилось ей вначале с Коленькой сладко, счастливо, — «кайфово жилось, думалось и мечталось», — опять же — её словосочетание, а потом… Потом как-то попристальней начала она вглядываться в своего голландского Нику-Коленьку и «вначале поскучивать», — её же! — а потом и совсем заскучала.
— Бланка, почему? — округлила я глаза, — Почему ты заскучала в такой обстановке кайфовой и с таким творцом-художником?
А она сидела напротив… но уже без папок и вязания, и ничего определённого не могла ответить, — так, пожимание плеч, междометия, усмешки и даже с румянецем во всю щеку, а когда оный стал еще ярче, я поняла: ну, конечно же, хочет спросить о своём Костеньке, но стесняется!.. а, может, и боится? И тогда сразу же «раскололась»:
— Бланка, не знаю, где сейчас первый творец… после твоего побега он тоже уехал куда-то, но вот ключи от клетки… — И она замерла… а я не стала пытать её молчанием и даже рассмеялась: — А вот ключи от квартиры оставил, сказав при этом: «возьмите на всякий случай», а что за «случай» имел в виду…
И она вроде бы не услышала моих слов, но румянец стал ярче и снова без умолку залопотала о своём житье-бытье в Голландии. Но из этого сбивчивого и бурлящего потока я всё же выловила суть: надоели ей и подстриженные деревья, и махровые цветы и самое главное!.. картины Ники-Коленьки, писаные только для интерьеров тамошних обывателей и в которых не было «таинственного свечения масляных красок, а лишь примитивность бесслойных акварельных», — её слова!.. А дальше — мои, обобщающие: ну да, не было в его картинах ничего завораживающего, а так, разноцветные кружочки, черточки и квадратики с треугольниками… и опять — её: «прозрачность дистиллированной воды, лишенной какой-либо жизни».
— Но зачем тебе таинственное свечение, Бланка? Жила бы в особняке среди… и без этого… и просто…
Нет, не смогла я в наш первый вечер услышать от неё ответа на нечаянный… и неискренний вопрос свой, — был уже второй час ночи, когда она, взяв ключи, вернулась в свою бывшую клетку. Но на другой день рано утром…
А на другой день рано утром впорхнула:
— Ты только посмотри, сколько Костенька написал моих портретов! — и из знакомых коричневых папок вывалились на диван листы.
— Ба-атюшки! — только и пропела я, рассматривая портреты и по одному водворяя в паку. — Бланка, да твой Костенька портретист! Ему надо было сразу и…
А портреты и впрямь были отличные. Настолько точно была поймана и проявлена суть его почитательницы!.. и особенно глаза: на зрителя… на меня смотрели глаза, в которых светились и искренний восторг, и жажда жизни, желаний… и даже какая-то неведомая мне и загадочная глубина. А Бланка меж тем всё лопотала и лопотала, но я почти не улавливала её слов, — лишь интонацию восторга и вины перед Костенькой, который… «ка-акой молодчина!.. я же знала!»… я же говорила!.. ну, настоящий творец!»
Что, вот этим и закончить?.. Не-ет, пожалуй, финал таким не бывает, — точки нет! — а посему напишу, как и было.
Поразмыслив, я подумала: а правильно ли сделала, что отдала ключи Бланке? А вдруг Костя возвратится с другой почитательницей таланта, и что тогда?.. Но о своих сомнениях ей не сказала, — а где бы она жила кроме как ни в освободившейся прежней клетке? У меня? Так это выглядело бы нелепо: рядом пустая квартира, а она… Но мои сомнения и вопросы вскоре разрешились легко и просто, ибо получила мейл от Кости: как, мол, там, всё ли в порядке? Ага — ответила… ну, конечно, не «ага», а настучала по клавишам, что Бланка, мол, возвратилась, а он… Он и замолчал. И с месяц — ни ответа, ни привета. Но за это время Бланка нашла работу, повеселела, похорошела… и как раз вовремя.
А вот почему. Опять же, как-то поздним вечером впорхнула:
— Ой, прости, но…
И мне уже не надо было слышать о том, что сейчас раскроет мне это самое «но», ибо поняла: Костенька приехал! Ведь Бланка светилась тем самым светом, которым вспыхивает лицо влюблённой, только что услышавшей ответное признание.
— Бланка, и всё же! — решилась чуть пригасить этот самый свет своими прозаическими вопросами: как же он?.. где ж он всё это время?.. и что теперь будет?
Но она, ласковой кошечкой прокравшись к своему… к моему любимому креслу, только взглянула как-то… И было в этом взгляде столько тихой успокоенности и трепетной радости, что её слова уже не имели никакого значения, по крайней мере, «на как же он»? и «что теперь будет?» этот её взгляд уже ответил, а вот на «где же он всё это время…» И оказалось, что уехал тогда её творец в Тверь к другу-портретисту, «стажировался» у него, да и не только стажировался, но и перенимал опыт «выживания» художников, — находить заказчиков. И преуспел… правда, там, в Твери, а здесь надо будет… Но это пока не печалило Бланку, ибо была уверена: её Костенька — гениальный художник-портретист и если послушает её советов, то… Нет, не буду снова плестись за ней и за ее многообещающем «то», а…
А то уже пора выскрести из себя последнее — для резюме, — и для этого в последний раз нырну за Бланкой, но уже не в клетку, а в обитель Раскаявшейся и Простившего, — великие чувства! — чтобы, хотя б на минуту, представить себе их самый задушевный разговор: вот она зажигает свечи, — любит их тихий и мигающий свет, и они у нее на полочках с сувенирами, на пианино, на книжном шкафу, — ставит на стол бутылку французского вина, привезенного из злополучной Голландии, два фужера… ну и всё остальное, что нужно для задушевной беседы, и вот уже сидят они друг против друга, у него в одной руке — бокал с вином, изумрудом переливчатым сверкающий от свечных огоньков, а в другой… вернее, а другая — на изящной ручке сияющей Бланки, ну а потом…
Нет, не буду подглядывать, — а что же потом? — и, отвернувшись, в одиночестве домыслю такое: наверное, возвратилась Бланка потому, что её обрусевшая душа неизлечимо заразилась нашим русским вглядыванием, всматриванием, прозреванием явлений и даже вещей: а что там… как там, если — дальше, глубже?.. и для чего?.. да и зачем, наконец?
Кстати, а зачем?
И скучно ей стало бродить среди махровых цветов по вымощенным тропинкам со стрижеными деревьями. И захотелось вырваться из той, красивой клетки, чтобы обрести…
Но что, что обрести?
…Платочком махну, но уйти не смогу
Из этой проклятой и радостной клетки.
О! Как раз и кода для моего рассказа, — строки поэта со странным псевдонимом «Положение Обязывает», только что выкраденные с лит. сайта.
Зерно проросшее
Иногда с одного взгляда и слова чувствуешь: этот человек тебя поймёт!
И ехали-то с ней в полупустом купе всего несколько часов, но, как это нередко бывает, кратковременность встречи побудила её к откровенности, — ведь скоро расстанемся, так почему бы не сбросить на «временщика» то, что просится быть исторгнутым.
…Кстати, ты же писатель, «инженер человеческих душ», сталкер непознанного, вот и «освети фонариком» уголки моего сознания, подскажи ответ на вопрос, не дающий покоя всю жизнь: все ли семена, кем-то брошенные в наши души, прорастают?
А вот я о чём. У меня нет подруг. И как ты думаешь, почему?
Не знаешь. Лишь предположить можешь. Вот и я… И в подтверждение своего резона расскажу тебе вот что. В юности подруг у меня было столько, что даже уставала от них. Помню некрасивую молчаливую Тоню, сразу после окончания школы уехавшую к своей тётке в Саратов, белобрысую хохотушку Леру, которая тоже навсегда уехала в Новгород, толстушку Аллу и взгляд её серых глаз исподлобья с неожиданным смешком на губах, тихую, с большими голубыми глазами Любу… потом вышла она за офицера, уехала в Воронеж, а через год вернулась с сыном на руках и поселилась у матери. Так что лет с двадцати осталась я одна.
Да нет, были, были подруги и потом, когда училась в Университете, работала в газете, но… Все они существовали для меня… как бы рядом. И потому «рядом», что близко не подпускала… словно сторонилась.
Ну, хорошо, помогу тебе своим «фонариком осветить» свой резон, и расскажу о подруге детства. Жила она от нас за два квартала, но приходила прямо с утра и уже не расставались до темна. Помню, как затеяли с ней в театр играть и сшили несколько кукол, выучили сказку, потом натягивали перед детишками простыню и из-за неё показывали спектакли…
Нет, сказку не помню. Но интересно было! И, может, не столько зрителям, как нам самим… А летние купания в нашей речушке! А игры возле дома на поляне, покрытой муражком! А зимние катанья на санках со склонов оврага!.. Ты знаешь, несмотря ни на что, даже и до сих пор от тех лет дружбы с Лариской в душе — радость… А расстались с ней в тринадцать лет. И для меня это стало неким шоком, который переживала довольно болезненно. И особенно из-за того, что моя любимая подружка на письма отвечала редко.
Да, наверное. Новые обстоятельства, новые подруги, вот и… Но через четыре года встретились. Приехала она в гости к своей тетке и приходила к нам часто, я радовалась ей, но… Понимаешь, тогда я прибывала в поре своей первой влюблённости, а Лариска… а моя подружка детства уже смотрелась красивой молодой женщиной и в её больших серых глазах металось не очень-то мне и понятное. А у нас с Сашкой тогда снова что-то не ладилось и естественно мне захотелось раскрыть ей душу, но она… Она хотя и слушала меня, но во взгляде не было участия, а, скорее, мелькала нетерпеливость: и когда, мол, кончишь… со своими жалобами? Тогда я предложила ей почитать свой дневник…
Прочитала ли? Нет, наверное. А если и прочитала, то не помню, чтобы посоветовала что-то. И я стала удивляться ей, но старалась переубедить себя: нет, моя Лариска прежняя!
Да я же говорила тебе, что тогда была в очередной ссоре с Сашкой и попыталась поближе узнать моего нового поклонника Володю, надеясь, что с ним смогу забыть о своей неудачной любви, но Лариска… Когда я уехала в командировку, то она все вечера была с ним.
А брат потом рассказал… И снова я начала маяться: ну почему она прежде не спросила о моих чувствах к Володе, а сразу… Хорошо, что у меня не было к нему любви, а если бы…
Нет, об этом ей не сказала. Зачем? Ведь ничего уже нельзя было изменить… Да она и уехала вскоре. Уехала, а я попыталась забыть то плохое, что в ней открыла.
Да, ты права… потому что больно было её терять.
Но через год она снова приехала. И опять встретила я её с радостью потому, что хотела увидеть в ней ту, прежнюю подружку детства, когда играли в куклы, читали книги, клялись друг другу хранить нашу дружбу, мечтали жить вместе, путешествовать…
И снова ты права. Время было против моих желаний и сделало своё дело, ибо в этот свой… и последний приезд Лариска попыталась увести и Сашку.
Откуда узнала? Да он сам мне рассказал.
А что я… Конечно, опять терзалась, томилась разочарованием, но, как видишь, пережила.
Нет, сейчас не буду снова — о ней… а вот о чём. Недавно был у меня «вечер встречи» с моими подругами юности. Сидела рядом полная седая Клава, когда-то уехавшая в Сибирь и теперь возвратившаяся, а напротив… хотя и не совсем седая, но зато еще более кругленькая Валя. Так вот, сидели мы, пили вино, вспоминали далёкую юность, а во мне всё крутилось: если бы тогда они не разъехались по разным городам, то стали бы мне близкими подругами? Что скажешь на это, мой милый сталкер?
Точно не знаешь. Вот и я…
Ну, может быть, я — хорошая ученица, «которая всё схватывает с первого раза»…
Да-да, многое зависит от восприимчивости «ученика», от «почвы» души, в которую зерно… Значит, моя «почва» и оказалась благоприятной для зерна недоверия.
Нет, не боялась потом я за своего мужа, что, уведут, мол, уж поверь мне. Наверно, всё гораздо сложнее, но в чём эта сложность? И до сих пор не пойму.
На этом наш разговор прервался, — ей надо было выходить, — а я, оставшись в пустом купе, всё возвращалась и возвращалась к услышанному, пытаясь додумать то, что не удалось попутчице. Да, любые отношения выстраиваются на доверии, на готовности принять мои правила жизни теми, кто оказался рядом. Но её подруга не приняла их и разыгралась драма, — проросло зерно недоверия в душе моей попутчицы. И разрастаясь, плодя подозрения, пробуждающие инстинкт самосохранения, стало «затемнять» и других женщин, которые оказывались рядом. И надо было защищаться, — хотя бы не подпускать их близко.
Ну что ж, это — моя версия. Жаль, что не успела ей высказать… А, впрочем, она оставила свой мейл, так что обязательно напишу.
Улыбка розового зайца
Есть, есть во мне нечто от провокатора, — так и хочется подбросить человеку ситуацию или тему, в которой он раскрылся бы своими, неведомыми дотоле, качествами. Вот и сейчас сделаю это, тем более, что не виделась с Раисой почти десять лет и интересно: а что в ней изменилось? Правда, «тему» раскрывать полностью пока не буду, а там дело будет видно.
Слушай, после твоих жалоб на «чудовищное непонимание дочери», хочешь расскажу похожую историю примерно десятилетней давности, только о непонимании матери? Кстати, и свидетель той истории есть… вот этот розовый заяц, оставленный мне той, о которой хочу рассказать. Правда, послух этот несколько облинял, но тогда в его облике и особенно во вздёрнутом носике было что-то радостное, — словно улыбался.
Согласна слушать. Ну, тогда поехали.
И случилась эта бывальщина вскоре после того, как ты уехала, — поселились как раз напротив нас в однокомнатной квартире мать и дочь, и довольно скоро мать стала ко мне захаживать, хотя я и не видела в ней подруги. Странной они были парой…
А вот чем. Обычно мать впархивала ко мне с очередной жалобой на дочь: ты знаешь, моя-то прелесть опять!.. ведь сколько раз ей говорила!.. нет, больше с ней не могу… представляешь, моя паршивка!.. А её тихой, задумчивой, словно вглядывающаяся в мир дочери, было тогда только семнадцать и была она очень похожа на отца, с которым моя соседка недавно развелась.
Ну да, как и ты — со своим…
Нет, о муже её мало знаю, всего только два раза и видела, когда приходил навестить дочь, а потом уехал в другой город, но я успела схватить о нём главное, чтобы потом недоумевать: и как, зачем судьба свела эту пару? А, впрочем, ты по собственному опыту знаешь, что в семейные пары зачастую соединяются люди не очень-то похожие… словно природой так задумано, чтобы непременно свершалось некое «перекрестное опыление» разных миров.
Для чего? Не знаю, не поняла и до сих пор, но подобные семьи наблюдала часто, вот и тогда…
Да-да, понимаю тебя, остаться без мужа с дочерью, которая только-только окончила школу и начинает искать свой путь…
Ну, конечно, права ты, права, но всё же… Нет, Раиса, думаю, что матери надо быть терпеливее и мудрее, раз так получилось, а Ирэна… Кстати, имя своё Ира, Ираида она почему-то переиначила в Ирэну и когда произносила его, то «э» звучало как дубль «э», с ударением на второй звук, а в этом мне всегда слышалось: э-э, брось спорить, ведь все равно я права!
Думаешь, переиначила просто из причуды? Не скажи. Есть в сонористике имён что-то и от характера человека, вот и в звучании имени Ирэ-эна… Не могла она мириться с иными мирами, вот и мир дочери всё пыталась переделать, перекроить по-своему.
Так и надо? А я… Но ладно, слушай дальше. Но какое-то время спустя познакомилась Ирэна с мужчиной и довольно скоро уехала к нему в Калугу, покинув свою еще «не оперившуюся» дочь, а этот хрупкий возраст…
Ну, конечно, хорошо, что с твоей дочкой всё было олрайт, когда ты её оставила, но ведь не каждая юная, не окрепшая душа может выдержать одиночество и не сломаться, приняв подброшенные жизнью испытания. Вот и привыкшая к каждодневной жесткой опекой матери Настенька, оставшись одна, растерялась и замкнулась в своём мирке. Когда заходила к ней, то вначале кроме «да» и «нет» ничего от неё не слышала, но понемногу всё же сумела эту «тишину» наполнить «звуками» своего мироощущения, и она уловив в них нечто своё, стала приходить ко мне после работы, садиться в уголок дивана и, поглядывая на экран телевизора, слушать…
Да нет, не читала я ей лекций, не мудрствовала по любому поводу, но… Понимаешь, я же видела, чувствовала, что принимает она и даже ждёт моих коротких реплик к тому, что только что увидела, о чём сама рассказала… и даже к тому, во что одевалась. Как-то пришла в странном наряде, который сама и сшила из белой ткани: что-то вроде длинного сарафана с приспущенными бретелями, а сверху натянула короткую черную майку с ярким узором.
Ну, может, это и модно, но не сплетался этот наряд с её замкнутым характером и показался мне даже крикливым.
Нет, не сказала ей об этом, смекнув: наверное, такой внешностью хочет бросить что-то вроде вызова своей тихой «задумчивой» сути.
Хорошо, хорошо, «давай к действию»… А действие развернулось после того, как неожиданно, по горящей путёвке, на неделю съездила она в Болгарию, а когда возвратилась… Помню, как светясь радостью, вошла ко мне в обнимку с огромным розовым зайцем, и я услышала:
— Тётьаль…
А вот так забавно и звала меня, слив воедино два слова и вместо «я» смягчив звучание мягкими знаками.
— Тётьаль, посмотрите на это чудо! — И протянула мне этого, тогда еще розового и улыбающегося плюшевого зверька. — А подарил мне его друг, который будет со мной теперь всю жизнь!
А что я… Вначале порадовалась за неё, а потом оставалось только слушать и по привычке записывать каждодневные её рассказы: мы сегодня с Пашкой… Пашка сказал… Пашка придумал, Пашка предложил…
Да нет, до твоего понимания «мужчины» ему было далеко, он только учился в ПТУ на третьем курсе…
Раиса, ну как можно такое? Ведь первая влюблённость, первые восторги юности… Не ругала я Настю, не пыталась отговорить от Пашки.
Хорошо, «даю» дальше. Помню, как-то забегает Настенька ко мне и слышу:
— Вы не знаете, чем лечить себорею? У Пашки, на лице…
Входит и он следом. Приглашаю пройти в зал, достаю книгу «Лечение травами» и они садятся рядышком на диван, листают ее. Ничего, симпатичный мальчик, высокий, стройный, блондинистый, голубоглазый… А еще и такое помню… Нет, лучше давай-ка прочитаю тебе записки из дневника тех дней, идёт?
Вот и хорошо. Только я их вначале найду, а ты пока заварика кофейку.
Ну, а теперь слушай:
«Вчера забегала ко мне встревоженная Настенька:
— Тётьаль, что же делать? У Пашки такой большой мозоль на ноге!
Улыбнулась:
— Настенька, мозоль до этого была женского рода.
— Ну, всё равно, — даже не ответила улыбкой, — такая большая и уже кровью налилась.
Да и сегодня сообщила:
— Иду к Пашке. Надо посмотреть его ногу.
— Настасья, — постаралась не ворчать, — не хорошо это… ходить домой к парню.
Но всё же она сходила и вечером рассказала, как возила Пашку к врачу, как его там ругали, что не пришел раньше, как ему больно было и как будет еще больнее, когда завтра пойдет на перевязку».
Раис, ну почему ж ты сразу… «по дурацки»? Разве сострадание к боли человека, да еще любимого человека так уж и плохо?
Ну хорошо, хорошо, в какой-то мере соглашусь, что нельзя вот так, сразу… со своей любовью и преданностью, а то… Кстати, может, и из-за этого довольно скоро над любовью Настеньки и нависла первая тучка.
А вот такая:
«Еще вчера хвалилась Настенька с радостной улыбкой: „Пашка, сказал, что если брошу его, то сядет на мотоцикл, разгонится и-и головой о столб“, а сегодня ходит гру-устная и всё ждет, — оказывается, не звонит уже третий день. Переживает, вижу, но домой к нему не идет.»
«Сегодня забегаю к ней. Открывает. Лицо — в слезах. Ныряет в зал, бухается на тахту, прижимает к груди своего зайца, а ко мне — спиной.
— Настенька, в чём дело?
Молчит, плачет.
— А ну-ка обернись ко мне, рассказывай.
Полежала. Что-то тихо пробурчала, но всё же повернулась ко мне, посадила зайца на спинку тахты, утерла слезы: упрекнула Пашку, что, мол, не так к ней относится, как в Болгарии… и еще кое-что прибавила, а он и обиделся. Ехали потом в троллейбусе, как чужие, в разных углах и она вышла на своей остановке, а он дальше поехал.
А потом сидели мы с ней уже на кухне и она, зажатая между холодильником и столом, слушала мои утешения, молча смахивая со щёк не унимающиеся слезы, но когда я спросила: «А что еще сказала своему Пашке?», то, не поднимая глаз, прошептала: «Тебе бы только переспать со мной и всё!» И снова ринулась к тахте, обняла зайца и сжалась с ним в комочек».
Раис, ну почему же «и всё же дура твоя подопечная»? Забыла, что значит быть влюблённой? А если не забыла, то должна понять её и простить.
Нет, не понимаешь. Не простила бы. Может, и слушать дальше не хочешь?
Ну, если «валяй дальше», то и слушай… дальше:
«На другой день Настя не приходила, да я и сама вернулась с работы поздно, а на следующий, прямо с утра, позвонила в дверь и:
— Пашку вчера встретила… Шёл с какими-то девками.
И снова полились ее слёзыньки. Утешала: и недостоин, мол, тебя!.. и уж очень молод, но ничего не помогало. Правда, потом вроде бы и встрепенулась:
— Сегодня же поеду к нему и потребую назад деньги, которые одолжила. Ведь сказал, что будет возвращать по десятке, чтобы не бросила его, а сам… И скажу всё, что о нем думаю.
Посоветовала пока не ездить, а подождать, но она снова разревелась: уж очень обидно!
— Настенька, успокойся, — гладила её по растрепавшимся волосам: — Держись, девочка, и верь: будут у тебя, такой молодой и красивой, встречи еще и еще!
И удалось кое-как утешить, ушла к себе. А к вечеру позвонила с работы, что-то буркнула и замолчала.
— Настя, ты что? — насторожилась. — Опять плачешь?
— Опять, — хлюпнула в трубку. — Тетьаль, знаете, как мне плохо!
Когда после работы сразу забежала к ней, то… Снова лежала она на тахте в обнимку с зайцем и обернувшись пледом. Присела рядом, поцеловала в щёчку, пригладила волосы, а она и расплакалась. И опять уговаривала её, утешала, как могла, а когда чуть успокоилась, вышли с ней на балкон, и я попробовала отвлечь её юмористическим рассказом из газеты, а она лишь раз усмехалась сквозь слезы, потом встала, посмотрела вниз и вдруг сказала:
— А зачем жить? Это мне Вас жалко, а то б…
От испуга затараторила:
— Настенька, детка, думать о смысле жизни в такие годы… это естественно, но… — И кивнула вниз: — Вон, видишь дерево под балконом? Растет себе да растет. Так и ты живи.
И приобняв за плечи, снова поцеловала в висок».
Ну, Раисочка, если к тебе и не приходили такие мысли, то это не значит, что те, к кому… «просто ненормальные». Через такое проходят натуры тонкие, которые и создают духовную ауру жизни, через них…
Да не умничаю я, не достаю левой рукой правое ухо, а…
Хорошо, хорошо, не будем больше об этом, лучше опять — к дневнику.
«Сегодня, чтобы отвлечь мою исстрадавшуюся подопечную от тягостных мыслей, повела на фильм Тарковского «Жертвоприношение», а когда шли домой, снова услышала:
— Вот и фильм этот… Словно подсказывает: а зачем жить?
Попробовала даже выругать её, а она… Когда привела домой, сразу легла на тахту и отвернулась к стене. Подошла, присела рядом и, чтоб отвлечь от вопроса «зачем?», стала расспрашивать о работе, а она опять:
— И всё же, Тетьаль, скажите: а зачем жить, для чего?
И пришлось суемудрствовать: смысла жизни как такового вообще нет… даже более умные головы не нашли ответа на этот вопрос… перед человеком должен стоять только выбор: как жить… Слушала, успокаивалась понемногу… Да-а, ошибку я сделала, что повела её на этот фильм, рано ей — такое…»
А ты и вовсе заснула на нём? Ну, может и лучше было б Настю — на другой… Ага, на «Новые приключения Шурика» или «Пёс Барбос…», но тогда они не шли в кинотеатрах, вот и… Ладно, отвлеклись мы с тобой, читаем дальше.
«И всё же в субботу собралась Настенька к Пашке, а я даже и не попыталась отговорить её, ибо знала: не послушает. Перед уходом забежала ко мне и улыбнулась грустно:
— Тетьаль, пожелайте мне ни пуха, ни пера.
А вечером сидели с ней на кухне, и она рассказывала: приехала к Пашке, позвонила. Вышла его сестра и сказала, что его нет дома. Хотела сразу уйти, но тут высунулась мать и затащила к себе.
— Посидели мы, поговорили… — Настенька смотрит в окно, на иву, что растет как раз напротив моего окна: — Спросила: буду ли я поступать в Университет? Сказала, что поеду, а она вдруг и говорит: «Если поступишь, то приди, скажи». — И всё так же смотрит на верхушку ивы, но губы ее… Вот-вот заплачет! Но сдержалась: — И почему-то меня это сразу резануло: значит, знают, что Пашка меня бросил.
Оборачивается ко мне, смотри в глаза, а я… А я будто бы эдак легко-о, как ни в чём ни бывало восклицаю:
— Ну, бросил, так бросил, — и даже выдавливаю на лице улыбку: — Дурак, что отказался от счастья. — И снова улыбаюсь, но уже искренне: — Настюша, да найдешь ты себе друга лучше Пашки! Ты только верь в себя! — Она дернула плечом, горько усмехнулась, но я не унялась: — Ты же красивая, умная, будь еще и гордой!
Ничего не ответила моя исстрадавшаяся девочка. Поднялась, засобиралась к себе, а когда прощалась, взглянула виновато… и почему виновато?»
Ну, может и извинялась за «своё дурацкое поведение». Но Раис, почему непременно «дурацкое», объясни? Влюблённая, страдающая… и не с кем посоветоваться потому, что мать бросила. Ну, хорошо, не бросила, а предоставила свободу. Но в её годы от такой свободы может повеять холодом и случиться беда.
И хорошо, я рада, что с твоей ничего не случилось, что у неё «всё тип-топ»: и дом, и денежный муж, дети… Но давай вернёмся к Насте.
«Снова я — у Настеньки. И снова встречает заплаканная, ложится на тахту, но розового зайца уже не обнимает, а сидит тот на спинке тахты, свесив голову набок, отчего кажется, что улыбка его погасла. Сажусь рядом с ней, глажу по волосам и слышу.
— Ну за что мне такое горе? — и рыдает. — Я же никому плохого не де-елала!
Как помочь, чем? И тогда, — может это подействует? — опять начинаю ругать Пашку, а она:
— Никого больше так не полюблю, как его! — сдёргивает зайца со спинки тахты и прижимает к груди.
Опять стараюсь пробудить в ней гордость, и опять говорю и говорю, что она достойнее, умнее его, что он — так, мальчишка неразумный, если отказывается от такой красивой, доброй и умной дивчины. Немного помогает… хоть плакать перестаёт, но тут же слышу:
— Вот заснуть бы сейчас… и не проснуться».
Ты, Раис, счастливая, если с тобой такого никогда не было. А, впрочем… Знаешь, человек должен пройти через подобное потому, что оно не унижает, как ты думаешь, а наполняет душу.
А хотя бы и страданиями, как же без них? Нельзя порхать по жизни только мотыльком, с василька на василёк, с ромашки на…
Можно? И даже очень «олрайтно»? Ну что ж, Раисочка, каждому — своё. Но позволь мне закончить свой рассказ, тем более, что осталось всего… всего три записи.
«Сегодня Настенька вспыхнула и ожила, когда рассказывала о Пашке: подошел, мол, в парке и возвратил деньги, которые одолжила ему в Болгарии. Но она отсчитала только пятнадцать рублей, а остальные вернула. «Почему возвращаешь?» — спросил. «За тенниску… ту, что подарил». Ничего не ответил, а она повернулась и ушла.
— Молодец, Настасья! — обрадовалась я. — Значит, выздоравливаешь от своей влюблённости, значит становишься гордой… и мудрой, — даже польстила.
А она грустно улыбнулась, перевела разговор на работу, и я… А я не увидела зайца ни на тахте, ни на кухне. Хотела спросить про него, но не стала, — зачем тревожить еще не зажившую рану?»
«Ездила «от завода» на два дня на турбазу, а когда возвратилась, зашла ко мне и сообщила:
— Мы с Пашкой теперь всё выяснили.
И была успокоенная, тихая.
— Ну и расскажи, — улыбнулась, — как всё было?
А получилось так, что ехали они с ним на турбазу одним автобусом, и он всё пробовал заговаривать с ней.
— Даже руку мне подал, когда выходила из автобуса. Потом подходил и на дискотеке, в столовой, а вечером пришел и в номер. Лежала я на диване, а он присел рядом и начал вспоминать: как хорошо нам было в Болгарии. А потом…
Потом подруга закрыла их в номере, а он стал возмущаться: «Меня ж там ждут»! Настя обиделась: «Ждут, так иди» и встала, начала стучать в дверь, что б кто-нибудь открыл. И открыли, ушел он. Но на другой день опять несколько раз подходил, говорил, что, никогда не женится, что все девки ему надоели, и она сказала, что ей от него тоже ничего не нужно и что эта их встреча последняя.
Рассказала Настасья всё это… и вот уже несколько дней ходит тихая и грустная».
Раис, ты опять — за своё. Ну почему все должны поступать так, как тебе кажется? Ведь люди очень разные и каждый вправе выбирать поступок, соотносясь со своим характером, вот и Настя… Ей надо было разобраться и в себе, и в Пашке, а не делать резких движений, выводов, и это…
Да, разобралась, не сделала «резких», а понемногу… А, впрочем, послушай две последние записи:
«Я пришла домой, прилегла на диван, закрыла глаза, — уж очень устают после монтажей! Но пришла моя юная соседка: уже третий раз звонит ей Пашка, говорит о том, о сем, но никуда не приглашает, не назначает встреч.
— Настенька, учти, — сказала тихо, — вот таким всю жизнь он и будет.
— Но он же совсем другим был, когда познакомились!
— Когда знакомятся, все бывают «другими», — обобщила.
— Не знаю, и как с ним быть? — и голосок её зазвенел.
— Будь искренней. Скажи как-нибудь: Паша, между нами появилось кривое стекло, через которое мы смотрим друг на друга и не верим: ты — мне, я — тебе. Так нельзя. Любить — значит верить. Если не будешь со мной таким же искренним, как раньше, то лучше не звони.
Ничего не ответила и ушла к себе».
«Настенька ходила на проводы заводских новобранцев в Армию, встретила там Пашку, а он сказал: «Приходи провожать меня на вокзал. Я так хочу». И она думала пойти, но я мягко рассоветовала:
— Не ходи. Если б он любил тебя, то нашел бы, где проститься, а так… Не ходи.
И она не пошла».
Нет, Раис, так и не возвратилась она к Пашке, хотя и писал ей со службы влюбленные письма.
Да, отвечала ему… опять же по моему совету: напиши, мол, ему же, бедненькому, там скучно! И, когда возвратился, были у них встречи, но у Насти была уже другая влюбленность.
Вот и подошла к финалу моя очередная «эмпирика», не лишний раз подсказавшая, что если человеку за тридцать, то принимать его надо таким, каков он есть, ибо с годами в нём, как в Раисе, почти ничего не меняется, а поэтому… Нет, так и не сказала ей, что героиней моего рассказа была не незнакомая ей Настенька, а её дочь.
Таисина берёзка
— Эта березка такая тонкая, а дотянулась аж до пятого этажа!
Мы стоим с моей подругой на балконе, остывая после долгих разговоров, — не встречались-то шесть лет! — и после только что прошедшего обильного летнего дождя никак не можем надышаться благоуханием, сотканным из ароматов леса и трав.
— Да уж… дотянулась. И теперь из-за неё соседнего балкона не видать.
— А зачем тебе его видеть? — усмехается.
— А, впрочем, ты права. Зачем я… о балконе? Теперь в той квартире живёт молодая семья и балкон у них такой же, как рядом: беленький, аккуратненький, с крышей, ставнями и жалюзи. Теперь не прежние времена, когда и в помине не было «балконной отрасли» и тогда стояли они без крыш, рам, а на некоторых по периметру даже травка зеленела… как бахрома.
— Прежние… это когда?
— Пожалуй, лет двадцать с лишним… А эта тонкая и веселая березка, что закрывает теперь тот балкон, часто напоминает мне о Таисии Николаевне, иногда и ошарашивая заново, — не унимается моя маленькая «вторая вселенная», распалённая предыдущими разговорами: — Ну почему судьба сводит столь разных людей под одной крышей? Случайность ли то или какая-то неведомая нам закономерность?
Моя собеседница смотрит на меня какое-то время, и я соображаю: зря затронула такую, почти тупиковую тему и, вдыхая последождевой «парфюм» поглубже, уже ищу более легкий мотивчик для нашего неумолчного щебетания, но тут слышу:
— А почему эта березка напоминает тебе некую Таисию Вас… Васильевну?
— Николаевну, — поправляю. — Да она часто посиживала на том балкончике, которого теперь не видать, и была…
А, впрочем, стоит ли?.. и время ли рассказывать Дине о ней? Ведь то была грустная история. Но она, моя цепкая на разные гатовники подруга уже настаивает:
— И что там за «была»? И что за Таисия жила напротив двадцать с лишним лет назад?
— Ну, если хочешь… А была она добрейшей старушкой и как-то… А, впрочем, идём-ка в мой уголок, я быстренько найду и прочту тебе о ней из своих компьютерных дневников. — И она покорно идет за мной в комнату. — Знаешь, компьютер — такая прелесть! Только одно ключевое слово тиснешь в «Найти» и сразу выскакивает то, что ищешь, — щебечу в надежде, что всё же передумает она слушать о старушке. — Чудо! Живу и не перестаю удивляться достижениям умных людей… и не перестаю сожалеть, что лишь ничтожное меньшинство пользуется такими благами.
Нет, моя подруга идет… и уже берет стул… и уже садится рядом с моим Компом:
— Давай, вставляй своё ключевое слово в «Найти».
— Ну что ж, найти так найти. Но вначале послушай это… для зацепки.
«Вперевалочку ходит по квартире смешной топтышка, и не верится, что это — мой сын. Найдёт что-либо на полу и бросит в мусорное ведро. Дочка делала так же, но, пожалуй, это у них — единственное похожее, а в остальном — уж очень разные! Как будут относиться друг к другу, подрастая? А сейчас, как только малыш просыпается, так сразу кричит:
— Аля, Аля! — с ударением на первую и последнюю буквы.
Кое-как «протянули» мы с ним год, — то я взяла отпуск после положенных двух месяцев «по уходу за ребенком», то Платон, — и вот теперь проблема: с кем оставить сына? Очередь в ясли ещё не подошла, а няню не найти. Но часто, занимаясь кухонными делами, поглядываю на балкон, что как раз напротив нашего, — иногда там посиживает старушка, — может её попросить посидеть с сыном?»
И сходила я тогда к этой бабульке. Доброй, улыбчивой оказалась. Вначале всплеснула руками: «Да нет, что Вы! Не смогу», а потом всё же согласилась, и я вышла на свою любимую работу.
Но всего только месяц и посидела Таисия Николавна с нашим сыном, — «Не те силы», — и пришлось мужу брать отпуск за свой счет, благо редактор оказался покладистым, а потом и я…
Да, конечно, жалко было, что эта добрая бабулька не смогла больше оставаться с нами, таких солнечных старушек еще не встречала, да ещё… Мало того, что не взяла с нас денег «по уходу», но даже ничего не ела, когда я приезжала на перерыв, чтобы покормить сына и ее.
— И это весь рассказ о ней? — тихо удивляется Дина.
— Ну, записок о ней больше нет, но помню…
— Вот о «помню» и рассказывай, раз начала.
— А была Таисия… Знаешь, никак не могу её — по отчеству, Таисия она для меня… ибо есть в этом имени нечто светлое, загадочное. Так вот, была Таисия маленькая, сутуленькая, с белыми прядками волос из-под цветастого платочка, — начинаю увлекаться воспоминаниями, — и с глазами, так и не утратившими голубизны, из которых струилась тихая благодать. Иногда, возвращаясь с работы, встречала её у подъезда, и она совала мне в руку несколько десяток: «На, возьми… Пригодятся».
— Но ты, конечно…
— И я, конечно, отказывалась, но она тихо настаивала: «Бери, бери. Мне они не нужны, а то Раиса отнимет, хотя денег у неё и на две машины хватит».
— Что за Раиса?
— Слушай, мой рассказ начинает разрастаться, так что давай-ка от Комп… от компьютера перейдем в зал, заварю кофейку и потом…
И Дина с готовностью поднимается со стула.
— А было Таисии уже за семьдесят и жила она в однокомнатной квартирке вместе с племянницей Раисой, преподавателем истории.
— И кем Таисия работала? — Дина попивает кофе и, кажется, уже слушает мой рассказ с интересом.
— Медсестрой. На фронте медсестрой, и после войны… А вот была ли замужем? Не знаю. Но детей у неё не было, только племянница. И племянница эта была полной её противоположностью, громкой, агрессивной, со стреляющим взглядом серых холодных глаз. Такой тип людей мне хорошо знаком, ибо всегда своим боковым зрением высматривают себе очередную жертву, которую потом можно будет разобрать по косточкам и непременно осудить. А таких я не то чтобы побаиваюсь, а сторонюсь, и когда Раиса стала к нам захаживать, то это обернулось для меня настоящим бедствием…
— Ну да, знаю тебя… — благожелательно проворчала подруга, — не любишь болтовни.
— Не люблю. А она не уходила часа по два! И всё рассказывала, талдычила о своих соседях: какие, мол, плохие! И мне, вымотанной на работе, из последних сил приходилось поддерживать разговор.
— Как сейчас — со мной? — пошутила Дина, почувствовав мою усталость. — Ладно, расскажешь о Таисии, и я уйду… к своей тетке.
— Ну, если уйдешь… — тоже пошутила, — то продолжу. И еще у Раисы была какая-то удивительная особенность: о чём бы или о ком ни говорила, в конце непременно всплывала «тема денег». И даже к своим увлечениям… любила норковый мех, золотые кольца и относилась к ним не как к красивым вещам, а согревали ее прежде всего цены на них, за которыми и следила.
— И что? Таких большинство…
— Да знаю я… Но всё же как-то решилась посоветовать ей: Вы бы, Раиса, из своих норковых шкурок сшили себе в ателье шапочку, накидку, а потом — в театр… «Ой, да что Вы! — и серые глаза её нахмурились под сдвинутыми бровями: — В этих ателье одни воры! Или отрежут от меха себе на воротник, или подменят». «Но зачем же Вы собираете эти шкурки? — искренне удивилась. «Как зачем? Вкладываю деньги».
— И что ж ты ответила?
— Да ничего. Мне тогда было не до вкладываний, поэтому поддержать разговор на такую тему не хотела, а она повернулась, вышла на мой балкон, постояла там и я услышала: «Смотрите-ка… К моему балкону березка прицепилась».
— Как это? — не поняла Дина.
— А вот так… Ма-аленькая такая берёзочка, и на солнце ве-есело лепестками играла! Но то лето было сухое…
— Никогда не видела на балконах берёз, — перебила Дина и, допив кофе, отодвинула чашку. — Но раз говоришь…
— Говорю, говорю, — подхватила. — И даже всё восхищалась этой березкой: ну, надо ж какая отчаянно-живучая, растёт себе да растёт, тянется к солнцу…
— Но ты же сказала, что тогда лето было сухое…
— Да, сухое. И на соседних балконах трава пожелтела, а вот эта березка… И потому, что её Таисия спасала. Видела я раз, как она поливала ее да, видно, перелила и потом через перильца смотрела, как вода с балкона капала: не попала б кому на голову?
— Добрая душа была твоя Таисия… — почему-то вдруг загрустила Дина.
— Добрая и… даже чересчур, — зачем-то прибавила это «чересчур» и, чтобы встряхнуть подругу, без обиняков перешла к конфликтному эпизоду своего рассказа: — Так вот… Увидела Раиса эту отчаянную березку и сразу выпалила: «Надо выдернуть её, а то…» «Ой, не надо! Не выдергивайте, — почти взмолилась я: — Пусть растёт, а потом…» «А что потом? — перебила. — Всё равно погибнет».
— И выдернула?
— Нет, не выдернула. Но когда выходила на балкон и растягивала на перильце коврик для просушки, то накрывала им и березку, а я вздрагивала: сейчас сломает или стряхнёт мою красавицу! Но видать березка крепко вцепилась в скудный клочок землицы и каждый раз выныривала целой и невредимой. И всё лето любовалась я этой отчаянно-храброй березкой, а осенью…
— А осенью?.. — и в глазах Дины мелькнул оживший интерес?
— А осенью… — Я притормозила свой рассказ, соображая: достаточно ли прорисовала образ моей старушки? И, решив, что недостаточно, улыбнулась: — Нет, о березке — потом, послушай-ка еще немного о Таисии. — Дина взяла подушку, сунула за спину, показывая этим, что согласна. — Так вот… Иногда я навещала Таисию, принося незамысловатые угощения, и она благодарила, хвалила мои блинчики с творогом, но каждый раз в глазах её племянницы читала я еле сдерживаемое раздражение из-за этих гостинцев, поэтому и старалась потом забегать тогда, когда старушка была одна. А как-то увидела в их тесном коридорчике раскладушку. «У вас гости?» — спросила. «Да нет… — застеснялась Таисия, — это я теперь здесь…» «Как же так?..» — растерялась я. И оказалось, что племянница выселила свою тётку к порогу квартиры, которая той и принадлежала, но добрая старушка даже не пожаловалась мне.
— И ты не пробовала защитить её?
— Ну как я могла защитить, Дин? Как вмешиваться в чужие семейные отношения?.. Молчишь. Пожимаешь плечами. Вот и я тогда… Но чего не могу простить себе, так того, что потом только пару раз и навестила добрую старушку, когда та заболела. А ведь как-то прокричала она сыну с балкона, когда тот бегал во дворе: «Скажи маме… пусть зайдет», а я…
— Что ж ты так…
— Знаешь… Работа допоздна, дети, поездки на выходные к маме, которая тогда тоже лежала со сломанной ногой в гипсе, а потом и вовсе долгая командировка… — Дина взглянула почти с упреком. — Да нет, это — не оправдание, но…
— И больше вы не виделись?
— Нет, не виделись… А на похороны Таисии Николаевны пришла я с огромными белыми хризантемами… которых потом не оказалось на могиле.
— Племянница оставила себе? — Дина даже оторвалась от заспинной подушки.
— Оставила. И когда через неделю пригласила меня на «поминальный чай», хризантемы были еще свежи, белоснежны… И знаешь, за чаем Раиса всё повторяла: «Кольцо тёти Таси куда-то запропастилось, никак не могу найти! Ищу, ищу…» — и каждый раз посматривала на меня вопрошающе.
— Думала, что ты?.. кольцо…
И Дина, всплеснув руками, слегка хлопнула в ладоши.
— Наверное… Но тогда я не придала значения этому её взгляду, и лишь через несколько дней, когда она позвонила и радостно сообщила: «Представляете, кольцо было спрятано в ванной, в спичечной коробке!» Вот тогда-то меня и осенило: так вот зачем Таисия звала меня!.. Хотела подарить своё кольцо. Ведь как-то спросила удрученно: «Что ж это у вас кольца-то на руке нет?»
— У тебя и сейчас нет.
— Ну да, не люблю, чтоб всегда…
— Да-а, — встала Дина с диванчика, — грустна твоя история. Но ты хотела еще о березке что-то…
— Скажу, скажу. Присядь. Еще немного грустинки плесну, а потом… Ведь Раиса тоже умерла через год. С подругой шла на дачу, приостановилась, сказала: «Ой, что-то у меня с головой…» и упала.
— Так что все её меха…
— И норки, и золотые кольца, и деньги, которые копила, отбирая пенсию у тётки, достались какой-то дальней родственнице, а квартира — государству.
— Слушай, совсем ты меня… загрустила, — усмехнулась Дина. — Давай, выдай на прощанье что-либо светленькое, мажорное…
— Хорошо, даю. Только выйдем-ка еще раз на балкон… Видишь, как весело красуется и шелестит листочками, клонится на ветру моя тонкая берёзонька!
— Почему «моя»?
— А потому, что спасла её тогда подсохшую и увядшую, найдя под балконом Раисы. Думала, не приживётся. Ан, нет, видно, победило в ней желание жить и теперь она — словно связующая нить с доброй и светлой душой Таисии. Порою, заводя с ней диалог, прошу пособить понять: почему судьба сводит под одной крышей столь разных по мироощущению людей? И кажется, что отвечает березка: значит нужно Всевышнему, чтобы кто-то был рядом с заблудшими, помогая их душам найти путь к добру.
Окраинный художник
В магазине «Дубрава» скользила взглядом по картинам местных художников. Нет, не то, не то… Всё — яркая фотографичная попса для «массового зрителя». И уже хотела уйти, но… А вот эта вроде бы интересна: река под закатным солнцем, заснеженные лодки — у берега, над ними — нависшие ивы. Да и эта: поляна перед лесом, несколько коров, солнечные зайчики в траве — через кроны деревьев. Да, по теме не избиты… и какая игра цвета, света! А вот еще: овраг, в гору — дорожка меж хаток, а на ней — клочья длинных вечерних теней. Чьи же это? «Юрий Михно». И попыталась выведать о нём у хозяйки салона. «Лет сорока…» — только и буркнула, и телефон его не дала, наверное, смекнув: терять сорок процентов с продажи?
Ну, что ж, попробую сама разыскать Юрия Михно.
А как-то пошла на рынок и, как всегда, заглянула на открытый базарный «картинный салон». Как же всё пестро, примитивно! Но одна картина остановила: предосеннее, уже блеклое поле, дорога — к горизонту, справа — несколько желтых березок на фоне предзакатного неба с наползающими тёмными облаками.
— И кто художник? — подошла к девушке-продавщице?
— Юрий Михно.
Ну, надо же!.. И попросила номер его телефона, а вечером позвонила и оказалось: живет-то в нашем доме!.. в шестом подъезде. И теперь «Дорога» — центр нашего зала. Когда включаю настольную лампу, то глаз не отвести, — небо над ней вспыхивает живым светом.
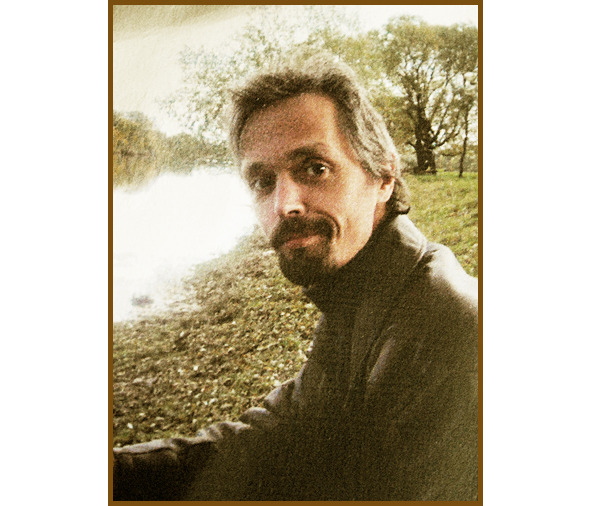
Высокий, поджарый, с лицом человека «в себе». И нос, и глаза, и удлинённый овал лица, — всё вроде бы правильно и даже красиво, бородка и усы аккуратно подстрижены, но вот тёмные с сединой волосы… Кажется, забыл о них, и они почти дыбом стоят над его высоким лбом, да и одежда случайна, неопрятна. И эта его не ухоженность, и манера бросать в ответ незаконченные короткие фразы, пряча глаза… словно не хочет показывать их, — всё создает ощущение: он — породистый, но одичавший пёс. Странное чувство.
И снова в магазине увидела его зимний пейзаж: заснеженная даль, ближе — укрытый только что выпавшим снежком лес, а на переднем плане — молодые тонкие деревца над крышами сараев. Да, что-то есть в этом пейзаже от японской живописи. И сказала Платону, что б зашел, посмотрел… Нет, не посмотрел. Тогда позвонила художнику сама, и теперь у нас рядом с «Дорой» и «Зима». Но, вглядываясь в неё, понемногу начинала придираться: нет, что-то в этом пейзаже не то. И нашла! Да-да, третий сарай лишний, он утяжеляет, тянет правый угол композиции вниз, да и по цвету яркий, наглый, — выпадающий. И когда заказывала раму, попросила мастера перетянуть картину, отрезав третий сарай. Понимаю, дерзко, бестактно по отношению к художнику, но получилось-то здорово!
Недавно подарил нам художник свой буклетик с надписью: «Галине Семеновне, Платону Борисовичу с благодарностью от автора». И вот читаю: «Родился Юрий Михно на Украине в Новгород-северском… учился в Брянском художественном училище… постоянный участник выставок молодых „художников“, Московских вернисажей в Измайлово… Живописцу присуще импрессионистическое видение мира, чуткое к малейшим нюансам и оттенкам, которые, сплетаясь, образуют бесконечное природное пространство, наполненное светом и воздухом».
Да, так и есть. Пейзажи Юрия наполнили и наше комнатное пространство светом, цветом и множеством его оттенков. И как жили без них?
Встретила Юрия Борисовича в магазинчике, что через дорогу, — покупал бутылку водки… хотя от него уже и потягивало перегаром. Выпивает?
Оказывается, мастерская Михно в трех шагах от нас, — в однокомнатной квартире его тещи. Это мы вчера ходили к нему покупать картину для сына, свадьба у него. И «Зимняя дорога» — наша надовражная улица Лубянка, справа — занесённая снегом хатка с сараем, слева, на пригорке — пятиэтажка, а меж ними, уходящая к закатному небу дорога и девочка с санками.
Позвонила Михно: забирайте, мол, из «Дубравы» и приносите Ваши «Тополя».
— Но только стог сена, что виднеется в проёме калитки… — и сделала паузу. Как сказать, чтоб не обиделся? — Но стог сена, увезите, скормите коровой, но, пожалуйста, уберите. Юрий Борисыч, он же лишний, и торчит, как окрашенное яйцо.
Думала, что заупрямится, но только хмыкнул: хорошо, мол, скормлю… но козой. И теперь у нас поселился отличный осенний пейзаж с «моим» настроением: под черноствольными липами — покосившаяся деревенская изгородь, подпёртая кольями, под ней — жухлые, темно-оранжевые листья и в них — тропинка к хаткам.
Странно! Но пока все пейзажи Юрия, которые видела… окраинные, словно выискивает сюжеты там, где нет людей, но его неудержимо притягивают их теплые гнезда, а войти туда не хочет… или боится?
Сегодня Юрий Борисыч занял у меня сто рублей. Переминался, топтался, боялся поднять глаза, — как же ему было неудобно!
— Да что Вы, Юрий… Можно Вас так?.. — и улыбнулась, на что с готовностью закивал и тоже улыбнулся. — Если еще будут нужны деньги, приходите.
А он опять бубнил извинения, пятился, божился, что скоро отдаст… и снова попахивало от него перегаром.
Рядом с портретом мамы, который написал когда-то наш друг Виктор Якушев, теперь висит картина Михно «Колодец», и на ней опять — окраина деревни, слева дуб, перед ним колодец с навесом, а возле него сидит бабулька, опершись на костыль. Как на маму-то похожа!
Но и эту картину я немного подправила. У Юрия слева были какие-то высокие и тёмные кусты, вроде как он небрежно заполнил ими оставшийся кусок хоста, а я вместо них написала хатку с палисадником, в нём кусты яркого «Золотого шара», а прямо у дороги лавочку. Ох, как же долго!.. на ощупь!.. с пробами и ошибками писалось всё это! Но вроде бы получилось.
Попросили Юрия написать яркий батик для спальной комнаты сына, и потому, что один уже купили у него же, для дочки. Казалось бы, ну что в нём такого? Две курочки с петухом роются у забора, но какой же яркий праздник красок! Вот и для Глеба захотелось похожее.
— Но чтобы эротические мотивы были, — подсказал, ухмыльнувшись, Платон.
И Юрий написал. Быстро написал: изгородь, вдоль неё бегут две яркие курочки и впереди — петух. Конечно, батик броский, красочный… правда, эротики не получилось, но зато радостный!
— Вот только курочки Ваши, — всё же мягко придралась, — сливаются, Вы бы их разными по цвету сделали, — словно попросила.
И переписал. Теперь отлично!
И висят у нас уже пять пейзажей Юрия Михно. А самый притягивающий такой: окраина села, желтоватое закатное небо, силуэты старых, изломанных берёз над двумя хатками, на их крышах — оранжевые блики заходящего солнца, а рядом дорога со следами проехавших саней. И этот «пейзаж-сапфирчик», как его называю, «увела» у женщины, которая хотела увезти его во Францию, но не хватило денег и обещала прийти за ним еще раз.
И снова приходил Михно, чтобы взять в долг… Переминался, стесняясь, и от него попахивало перегаром. Вышел Платон из своей комнаты:
— Юрий Борисыч, Вам бы не надо пить, Вы же талантливы. Жалко будет, если постигнет участь «многих славных»…
Мне стало неудобно от извечной прямоты мужа, а Юрий вроде бы и не обиделся, закивал головой: да-да, мол, Вы правы… И было в этом его согласии что-то от желания поговорить, покаяться в своей слабости, но не стал… взял деньги и запрыгал вниз по ступеням.
Ходила к нему в мастерскую и заметила еще одну «Зимнюю дорогу»: поле, разрезанное дорогой, вдоль неё — клочьями последний снег, вдали лесок, над ним три сосны, несколько березок перед ним, а над всем серое беспросветное небо. Пейзаж отличный, но мра-ачный!
— Да это лишь набросок. Еще не знаю, что и как… но работать над ним буду, — сказал, усмехнувшись.
А я купила и набросок.
Наверное, по своей природе, Юрий — одиночка, одиночка-меланхолик, только и находящий свою тихую радость в бесконечных играх солнца со светом и цветом.
Купила пастельные мелки и несколько дней занималась «преступной деятельностью» — вырывала «Зимнюю дорогу» из мрака, чтобы получился пейзаж под названием «Скоро весна». А делала это так: поверх масляной краски — как прикидка, — сквозь мрачные тучи писала прорывы голубого неба. И было так интересно!.. А вчера желтым и оранжевым попробовала «сотворить» предзакатную полосу меж сосен, над березками. Ничего, заиграл пейзаж, засветилась в нём улыбка! А еще… Ну да, надо, чтобы прорывы небесной голубизны отражались и в лужах от уже подтаявшего вдоль дорог снега.
Здорово. Еще веселей стала картина!
Уже больше недели мелки заменяю масляными красками. И делаю это параллельно с коренным «перемонтажом» моей автобиографической повести «Игры с минувшим». Иногда отчаиваюсь: а справлюсь ли и с тем и с другим?.. Но, как пейзаж наполняется воздухом и начинает светиться, так хочу, чтобы и записки мои…
А сегодня над полем и лесом будущей картины «Скоро весна» высоко в небо выпустила стайку грачей… нет, две небольших стайки. Как же им радостно кружиться над оживающими соснами и березками в бирюзовом небе, которое отражается в покрытых тонким ледком лужах! Кажется, этот пейзаж станет моим любимым, но пока прячу за креслом потому… Надо еще что-то… еще надо добавить… а, может остановиться, не увлекаться? Да и пока не знаю, а какого цвета раму для него заказать, светлую ли, темную? Вот когда со всем этим разберусь, тогда и выставлю «для всеобщего обозрения», а что руку к нему приложила, — простите, Юрий Михно!
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
