
Бесплатный фрагмент - Пять зверских капель
Лечебник для бесстрашных
Одна девочка ничего на этом свете не боялась. А ведь известно — большинство-то самых отважных детей, не говоря о взрослых, хоть самую малость, да побаиваются. К примеру, привидений. Медведей на липовой ноге. Вурдалаков, которые на могилах кость, ворча, грызут. Кое-кто, конечно, чихать хотел на всю эту чертовщину. Зато трепещет при виде мышей, пауков, грузовиков с бандитами или маленьких яблочных червячков.
Знавал я человека, отважного на девяносто, как говорится, девять процентов. Лишь один — совсем завалящий — процентик страшно боялся смотреть на себя в зеркало. Случайно глянет, и в обморок.
А нашей девочке решительно всё было нипочём. Родители её до поры, до времени радовались, любуясь на медали за доблесть и отвагу, на водах и в огне. Но когда девочка объявила, что в мужья возьмёт только Кощея Бессмертного с упряжкой Змеев Горынычей и дворцом из костей человечьих, — родители кинулись к докторам.
Им сразу посчастливилось. Целитель и магистр Песадийо, известный под именем Аж-мороз-по-коже, осмотрел девочку.
— Замечена нехватка чувств, — сказал целитель, пошептавшись с магистром. — Случай не из простых. Начнём по капле перед сном. Вот вам специальный лечебник — флакон на полный курс! Хорошо если в комнате будут поскрипывать двери и половицы, трепетать огоньки свечей на сквозняке, а ветви деревьев царапать окна. Чудесно, если бабушка жалобно повоет в уголке. А мама погоняет папу веником по квартире. Всё это усилит действие лекарства. Немного личного участия, и девочка, уверены, пойдёт на поправку.
Дон Оррор, или магистр открывает флакон
Зимней ночью я оперировал картошку-синеглазку.
Стенала вьюга на дворе. Казалось, ноет и канючит — «пу-у-у-с-с-с-ти-и-и!»
О, как тоскливо, одиноко в моём пристанище. Картошка всё не оживала. Я распахнул форточку.
Вздохнула вьюга и протянула руку. Чёрную, но бледную. Коснулась моего лица.
— Гуляй, гуляй, вьюга! Чего ты хочешь? — промолвил я, пытаясь затвориться. Не тут-то было. Лохматая тень выперла из беспокойной ночи. Сверкнули круглые глаза.
— Пу-ссс-ти!
Я отшатнулся и упал, едва не растоптав картошку.
— У-у-у-х-х-х, — пронеслось по комнате.
Нет, то не вьюга, гулявшая, как прежде, за окном. Некто — маленький и безобразный — ввалился в дом. Свет померк, но я чувствовал — он рядом.
— Кто здесь?
И даже вьюга стихла, затаившись. Пока на ощупь, страшась прикосновений, я лампу разжигал, всё слышал за спиной — возню, сопение да костяное щёлканье. Наверное, зубное.
И озарилась комната — вот жуткое виденье! Зловещий карлик-горбунок! Кривой, как ятаган, носище. Оливковые грязные лохмотья. А пальцы-когти цепко ухватили синеглазку.
— Патата? А нет ли фиников, сеньор? — он хрипло буркнул, глядя исподлобья. — Немного фиников для бедного скитальца.
Заворожённый, поднёс я горсть румяных фиников, уже пошедших было на поправку. Они и охнуть не успели. А карлик встряхнулся, приосанился, перебирая носом лохмотья на груди. Затем он повертел картошку — так да эдак. Склонился к ней, прощупывая пульс.
— Залечили, сеньор, залечили. Прививки бесполезны, — и живо уколол картошку когтем где-то между глаз. — Хотя надежда есть…
— Да кто вы такой?! Не сдержался я. — Сожрать мои финики! Поучать магистра!
— Дон Оррор, к вашим услугам.
И вдруг он растопырил крылья, как майский жук, будто приглашал к дружескому объятию.
Я остолбенел. Безрукий, но крылатый карлик!
— Ужас! — пискнула земельно-корнеплодным голоском моя картошка-синеглазка. — Так звучит его имя на языке американских пататас, моих дальних предков, — она подмигивала мне всем, чем только могла. — Вглядитесь, это попугай!

Действительно, большая птица, клюв крюком, и оперенье. Нормальный говорящий попугай.
— Увы, увы, — вздохнул дон Оррор. — Не так уж я нормален. Я стар, рассеян и забывчив. Всё путаю! Кто я такой, на самом деле, — то ли карлик, то ли птица, то ли пустоголовая картошка-синеглазка, неблагодарная патата, которую вернул я к жизни. Пожалуй, триста лет скитаюсь в этом мире.
Бесспорно, попугай был речист, галантен, муй гентиль, как говорят на родине картошки. Но и самый отсталый осёл, протяни он три века, наберётся ума-разума. Дело в среде обитания.
— Откуда же вы родом, дон Оррор?
— О, там не ступала нога человека. А раз ступившая, не возвращалась, — он призадумался. — О чём я? Ах да, ещё горсть фиников, и я поведаю о бестиях, невиданном зверье — отродье редком и зловредном…
Картошка-патата позеленела, прикрыв синие глазки. А я устроился, как мог, оплакивая финики и сомневаясь в каждом слове дона Оррора — то ли говорливого попугая, то ли косноязычного карлика.
Василиск — царь змей, или первая капля
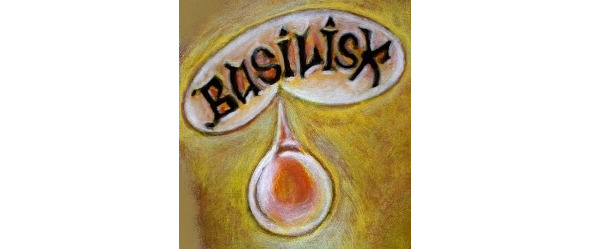
Василиск живёт в пустыне. Где появится — там пустыня. Всё гибнет!
Поглядит Василиск направо. Поглядит налево, назад, вперёд — всюду одно и то ж — пустыня. Покуда хватает глаз Василисковых. Только тихо-тихо течёт, пересыпается песок под петушиными его лапами.
Тёмной ночью бледно мерцают его глаза, как звёзды Скорпиона. А на голове — царственный огонь красного гребня. Издали видать. Кто знает, обойдёт дальней стороной. Но всегда есть безрассудные, что летят, как мотыльки, на Василисков костёр, который испепеляет. И в прах рассыпаются, шуршат песчинками под петушиными лапами.
Давным-давно появился Василиск из яйца, снесённого на заре каким-то шальным петухом. Так и зовут Василиска — петушиное отродье.
А крылья-то у него лебединые! Хочет Василиск улететь из пустыни, оглядеть цветущие земли, да мешает драконий хвост — длинный, в чешуе, волочится по песку, как корабельный якорь. Разбежится Василиск, взмахивая лебедиными крыльями, оттолкнётся петушиной лапой — вот-вот, кажется! И рухнет на песок.
О, как разгораются глаза Василиска! Далеко пронизывают ночь. Горе, горе тому, кого настигнет этот яростный свет. Вскрикнуть не поспеет, а уж нет его. Так, горсточка лёгкого праха…
Бежит Василиск из края в край пустыни, и шпоры его высекают искры. За хвостом — широкая полоса, будто множество змей проползло. Василиск — царь змеиный. Искры, им высекаемые, порождают ядовитых гадов. Кобры, эфы, мамбы, щитомордники — все прислуживают Василиску.
Да что ему ползучее царство!? Один он на всём белом свете. Бродит Василиск по пустыне. Ищет Василиск свою Василиску.
Вот мелькнуло впереди! И мчится Василиск, загребая хвостом, — неужто она, Василиска?! Нет, рассыпалось видение, и топчет, топчет его Василиск, высекая всё новые искры. Нигде не видать подруги. Не снёс ещё петух такого яйца, из которого вылупилась бы несравненная Василиска.
Тяжко одному в пустыне. Всё знает Василиск, всё понял об этом мире. И никто не выдержит всезнающий взгляд. Нет такого существа, что, узнав мировые тайны, осталось бы невредимым. Всё живое рассыпается в прах под этим гнётом.
Правда, были люди, решившиеся заглянуть в глаза Василиска. Живал, рассказывают, один мудрец, который выдул стеклянный толстостенный сосуд. Забравшись внутрь, вознамерился понаблюдать Василиска. Бутыль доставили в пустыню. Много дней и ночей дожидался мудрец, сидючи на куче крапивных листьев. А чтобы вернее уберечься, и сам крапиву жевал — вроде бы охраняет от сильного глаза.

И, наконец, сквозь тёмное стекло забрезжило. Какой-то мокрый, липкий свет, как фонарь под ливнем. Бутыль звенела, дребезжала, каркнула пару раз и принялась хрустально щебетать. Близко подошёл Василиск. Мудрец потерял сознание, да так, до конца дней своих, и не нашёл, лишь крапиву жевал без устали. Кто, впрочем, скажет — не в этом ли смысл жизни?
Судачат люди: если изловчиться и сжечь Василиска, а пеплом тронуть серебро, получим золото. Но это, право, басни.
Восходит солнце. На коротеньких покуда ножках поднимается над пустыней. Хочет проползти под ним Василиск туда, где осталась вчерашняя ночь. Долог день впереди, надо уж спать ложиться.
Беспокойно Василиску на восходе. И тянет кукарекнуть. И тянется из клюва змеиный шелест.
— Силиск-силиск, — так он встречает зарю. И отворачивается, смежая веки. То ли слепоты боится, то ли не желает обратить в прах само солнце.
Положив под петушиную голову драконий хвост, укрывшись лебединым крылом, дремлет Василиск посреди безжизненного царства. Ночи дожидается.
Грифоны, или вторая капля
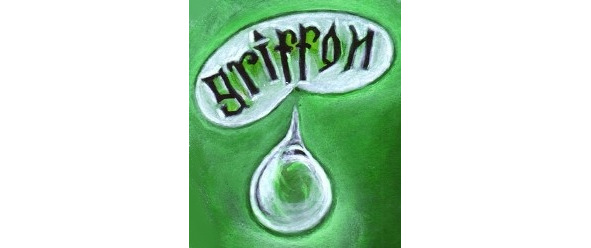
Птица ли? Зверь ли? Одно слово — Грифон.
А живут Грифоны семьями. В горах, на громадных дубах вьют гнёзда. И ранней весной появляется на свет пара Грифончиков. Каждый с быка. И ревут-ревут. Как голодные львы.
Сам Грифон с Грифонихой улетают на охоту. От взмахов тяжёлых орлиных крыльев — камнепады в горах. Всё выше поднимаются Грифоны. Гиперборейские ветры свистят, поигрывая их длинными львиными хвостами. Плавно кружат Грифоны, сметая с пути тучи-облака. Доносится с неба, как предвестье грозы, то жуткий клёкот, то рык зловещий.
Принюхиваются Грифоны. Прислушиваются — ослиные уши торчком. Вот уловили — лёгкое и холодное, призрачное дыхание. Слабый ток зелёной каменной крови.
Подобны молниям Грифоны — бьют оземь. Крепким клювом колют, как улиток, скалы. Когтями, величиной с коровий рог, цепляют ускользающую жилу. Охотятся на изумруды.
Только чистейшим изумрудом посильно выкормить Грифончиков. О, как хорошеют день ото дня! Глаза зеркально-зелены, шерсть шелковиста и сиятельна, будто трава на горных склонах. А перья крыльев, особо остевые, прозрачны, но вбирают свет закатов и рассветов.
В гнезде Грифонов — груды изумрудов. На чёрный день. Но где сокровища, там чёрный день неподалёку. Близок, когда разбойники соседи.
Обитает рядом племя одноглазых великанов. Звать их — аримаспы. Пасут свиней, которые, подстать хозяевам, — щетинисты, бровасты, и бакенбарды до земли. К тому ж — повсюду бородавки. Но главное — клыки. На каждой свинской харе по два отточенных клыка. Не просто свиньи. Вепри!
Однажды, точно выбрав время, аримаспы гонят стадо к дубу. Пихаясь, хрюкая, визжа, все свиньи-вепри роют землю, режут корни. И аримаспы, поднатужась, упершись, глаза тараща, валят дерево. Его крушенье сотрясает горы. Кажется, рухнул мир. Стоял, был прочен и вот — распластан. Надломлены и вывихнуты ветви, и корневище вдруг оголено так странно, страшно.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
