
Бесплатный фрагмент - Путешествие внутри себя
ИЗ РАЗГОВОРА ДЕРЕВЬЕВ
— Можно ли жить без корней?
— Без корней мы становимся безликими брёвнами, и из нас строят пустые дома.

ОТ АВТОРА
Здравствуйте, дорогой Читатель!
Русская литература началась с хожений.
Роман «Путешествие внутри себя» — о дороге. Стелется скатертью дорога и ведёт главную героиню. Действие разворачивается в настоящем времени, когда страны под названием Советский Союз больше нет, и мир сорвался с петель. Вот бы перед ним путеводный пояс расстелить!..
Почему пояс? Об этом и сказ.
Теперь можно родиться в одной стране, учиться в другой, жить в третьей, работать в четвёртой, и никого это не удивляет и не возмущает. Переезд за границу не считается уже предательством родины, насильственным угоном, репатриацией или безвозвратной и тоскливой эмиграцией. Мир стал общим и открытым, где каждый может столкнуться с прошлым в самом неожиданном месте.
Спустя много лет главная героиня романа возвращается в родительский дом. Большая часть жизни прожита. Университеты, дипломы, карьера, поиск личного счастья и бесконечная суета превратили её жизнь в путь этакого «перекати-поля»… А вот кто она на самом деле и где её корни?! Как найти их, прильнуть и подпитаться живительными соками?!
Она пускается в путь, встречается с родными, друзьями и незнакомыми людьми. Происшествия и пояс ведут её через Москву, Гомель, Оршу, Санкт-Петербург, Ригу, Таллинн, Копенгаген и Лондон.
Дорога побуждает главную героиню романа не только к иному восприятию окружающего мира, но и к путешествию внутри себя — к самопознанию. Пристрастные и яркие описания городов и встреч неспешно проявляются чётким, но довольно загадочным оттиском впечатлений.
Добро пожаловать!
В путь!
София Агачер
ПРЕДИСЛОВИЕ
Любовь к пространству и устройство правильной жизни
«Русская литература началась с хожений». Это первая после приветственного обращения к читателю фраза в автоаннотации Софии Агачер к собственной книге «Путешествие внутри себя». Книга, заявленная как роман, действительно густо черпает из жанра хожений — путевых впечатлений о посещении иных земель. Строго говоря, русская литература началась с житий и монументально-исторической «Повести временных лет», чтобы из тишины монастырских келий вырваться к «словам» — «О законе и благодати» и грандиозному «Слову о полку Игореве». Но без хожений русское средневековье представить невозможно. Причем самое известное — «Хожение за три моря» Афанасия Никитина — отнюдь не первооткрыватель этого жанра.
Сегодня книгу Агачер «Путешествие внутри себя» заявили бы как тревелог, и тем понятнее и значимее авторское обозначение: русские хожения тоже совершались прежде всего «внутри себя», и духовное самопознание в них неизмеримо важнее намотанных расстояний. «Гадючий пояс», сотканный белорусской тётушкой, и разгадывание тайны его орнамента ведут автора от страны к стране, от пункта к пункту узнавания-вспоминания своих корней и самой себя. Этот путь сложнее и существеннее «охоты к перемене мест». В процессе перемещений, встреч и впечатлений, возможно и неожиданно для самой паломницы, выясняется, что роль женщины в доисторическом легендарном мире, фрагментарно удостоверенном археологическими находками, не просто недооценена, но, можно сказать, вообще не известна. И для автора это такое же открытие, как для читателя, что чрезвычайно ценно: романная форма постепенно превратила романиста во всезнающего и не допускающего сомнений демиурга. Викингши, матери родов и таинственные «пряхи», ткущие путеводные, судьбоносные, говорящие на языке орнамента пояса, оживают на страницах «Путешествия», приобретают черты художественных образов, и жанр романа уже этим доказан.
Тревелоги всегда были востребованы издателями. «Письма русского путешественника» Карамзина разошлись на ура, так что вскоре понадобилось второе издание. В предисловии к нему великий историк отсылает тех, «кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений», к учебнику географии. И сегодня, когда достаточно многим жителям России вояжи во все концы света стали доступны, никого не удивишь, как пишет Агачер, «внушительным количеством терминалов», рекордной пропускной способностью и пассажиропотоком. Ради описания «государства в государстве» — датской Христиании — или лондонского Боро-маркета можно написать туристический проспект, но не роман. Лично меня поражает в «Путешествии» вовсе не километраж и легкость автора на подъём.
«Привлечь к себе любовь пространства» (Пастернак) можно только любовью к этому пространству. Книга Софии Агачер пронизана любовью к Москве и Петербургу, Риге и Таллину, Лондону и Копенгагену. Но особо — к родной Белоруссии, Гомелю и окрестностям, «где жил мой родной дом — мой крепкий якорь, не дававший сорваться в небытие ни при каких обстоятельствах». Здесь росла девочка по прозвищу Пропажа. Здесь, в хате слепой тётки Оли, обладательницы тайного знания и запечной ручной змеюки, она обрела «гадючий пояс». Здесь, в когдатошней столице староверов Ветке на берегу Сожа, в уникальном музее народного творчества, перед ней впервые приоткрыла покров тайна «символов и оберегов», руками мастериц напечатлённая на рушниках и поясах.
Книги — наши последние обереги, рукотворные знаки, посылаемые нам «для устройства правильной жизни». Мы, всё растерявшие на ухабистой исторической дороге, стремительно теряем и привычку к чтению. «Путешествие внутри себя» можно засчитать как попытку вернуть людям эту далеко не вредную привычку.
Марина Кудимова
ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРИ СЕБЯ
Скоро ли сказка сказывается, скоро ли разматывается клубок сюжета этой истории, которая началась в… Шереметьево…
Стрелка моего внутреннего компаса прокладывала маршрут от города к городу, от страны к стране. И даже если превратности дороги и обстоятельства вступали в противоречия с моими планами, это подтверждало лишь старую истину о том, что повороты судьбы возможны и прямых путей не бывает. Покуда героиня романа шла вперёд, я возвращалась на волнах памяти назад.
Мой маршрут пролегал через Москву, Гомель, Ветку, Оршу, Санкт-Петербург, Ригу, Таллин, Копенгаген и Лондон. Почему и зачем судьба вела меня таким странным путём, что я искала и обрела на этой дороге — попробую разобраться в своих записках путешественницы.
…Завязываются первые узелки в памяти, дорога прядёт причудливый узор моих впечатлений…

КАРТИНКА 1
О чём может поведать городской рынок?
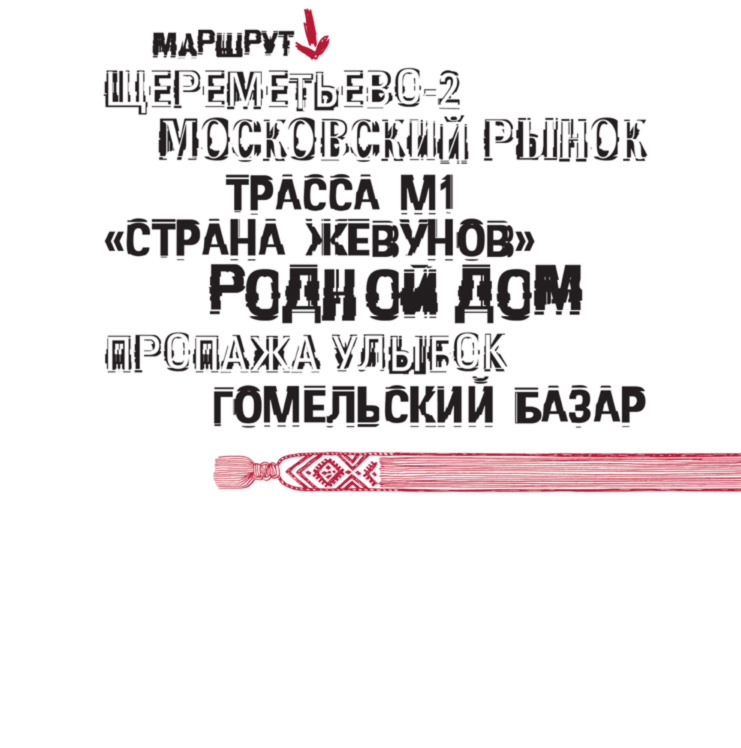
Словно у чеховских «Сестёр», все дороги в моей жизни пролегали через Москву. Вот и в этот раз самолёт приземлился в международном аэропорту Шереметьево-2. Зазевавшись на паспортном контроле, я подняла глаза и увидела на всех табло китайские иероглифы. На моём лице отразился такой ужас, что немолодой мужчина рядом со мной рассмеялся:
— Я вижу, вы давно не были в Москве? У нас теперь большая дружба с Китаем, поэтому все надписи дублируются на китайском языке.
Раннее весеннее утро едва обозначилось в облачной дымке.
В здании аэропорта было необычайно чисто и пусто. Я быстро выкатила тележку с багажом из таможенной зоны и встретилась со старинным другом Николаем, вызвавшимся довезти меня до родного города Гомеля. Мы обнялись и сели в машину.
— Коля, давай сделаем круг, заедем на любой московский рынок: так хочется после стерильной американской еды попробовать нашей — натуральной, с запахами, ароматами степей, костров, закатов и горизонтов.
Москва как купчиха хлебосольная, лукавая, необъятная, как талия продавщицы в мясном отделе! И рынки в Москве — имперские. Кого и чего здесь только нет: азербайджанцы, армяне, узбеки, татары… Нарядно разложенный дорогущий товар. Продавцы приветливые и много шутят. Если чего нет на прилавке у пожилого азербайджанца, то он тут же пошлёт мальчишку — и тот принесёт всё, что ты захочешь.
Слона? Достанет и слона из-за пазухи.
Главное — плати! С ними приятно шутить, торговаться, разговаривать. Они поведают о своей семье и выслушают о твоих проблемах, даже могут дать неплохой совет. Покупатели здесь — люди небедные. Шум и гам в этом логове жутком приглушённый. Эмоции вокруг царят приглаженные, как, впрочем, и основной товар: откалиброванный, один и тот же во всём мире круглый год, без запаха и почти без вкуса, выращенный в промышленных парниках. Глобализация! Московский рынок, конечно, не восточный, как в Стамбуле, но многонациональный, цветастый, напоминающий большой павлопосадский платок, но не сотканный руками мастерицы, а, скорее, фабричный, какой можно купить в любой сувенирной лавке. Поэтому главное — не зевать, а не то купишь, что тебе совершенно не нужно, втридорога, тем более перекочевавшее сюда из близлежащей «Пятёрочки». Дуракам в Москве улыбаются широкой и жизнерадостной улыбкой.
Из местных продуктов — немного мяса, творога да квашеной капусты с мочёностями. А рушников, когда-то украшавших все колхозные рынки страны, совсем нет: ни тканых, ни вышитых.
Москва давно перестала быть русской, это, скорее, интернациональный колхоз! Поэтому несолоно хлебавши я умчалась восвояси.
Московская вонь от выхлопных газов, заполняющая чашу города и ещё километров надцать его пригородных дачных посёлков и городков, наконец-то закончилась под Вязьмой.
У Смоленска удалось отвязаться от апрельской слякоти, облепившей стёкла машины. Перестал падать и противный мокрый снег. Вдоль Олимпийки, построенной к Олимпийским играм от Москвы до Минска, тянулись весёленькие зелёные поля, заросшие весенними цветами, с торчащими в небо остовами разрушенных ферм. Обозрев это «торжество» земледелия, я поняла, что моя надежда увидеть местные продукты на рынках растаяла безвозвратно.
Наконец в районе Дубровно из московского царства Снежной Королевы мы попали в иной мир, в синеокую Беларусь: через много-много лет я возвращалась в родной город. Хотя, если чеcтно, синеокой она была только весной. Летом же превращалась в зеленоглазую красавицу с золотистыми искорками цветов на лугах, да с конопушками снопов сжатой ржи на полях, да с белобрысыми мордашками местной детворы на улицах. После серой, раздетой Москвы, откуда почти исчезла красочная и креативная реклама, ларьки с чебуреками и блинами, красивые и манящие витрины магазинов, Беларусь вначале показалась мне сказочной «страной Жевунов». В районе Орши уже были аккуратно распаханы поля. Дородный хозяин и лошадка с плугом возделывали землю под картофель, паслись коровы; в лесу цвели белые подснежники и фиолетовый чабрец, берёзы плакали соком, жужжали пчёлы и шмели. Запахло свежевспаханной землёй, пряными травами и далёким детством! На обочине шоссе можно было купить парное молоко, рассыпчатый творог, картошку величиной с арбуз, стекающий золотом мёд и пышущие здоровым румянцем пироги. Во мне проснулся Гаргантюа.
Дорога прикатила нас в Гомель, где жил мой родной дом — мой крепкий якорь, не дававший сорваться в небытие ни при каких обстоятельствах. Мысль о том, что дома меня ждёт мама, всегда придавала сил и уверенности, ведь даже самая грозная буря когда-нибудь заканчивается. Разве может быть счастье большее, чем обнять после долгой разлуки свою маму? Долго-долго смотреть в её глаза и держать в ладонях её маленькие, ставшие уже почти невесомыми ручки?
Время потекло вспять. Мгновенно пронеслось несколько суток, и я выползла из домашнего ковчега и начала бродить по закоулкам своего прошлого. Но какое-то странное чувство досады и потери увязалось за мной по пятам. Тяжесть навалилась на грудь, заболели суставы, затрещал позвоночник, закружилась голова. «Ну конечно, это сказывается усталость после долгой дороги из Америки, да и перемена дня и ночи тоже бодрости не добавляет», — думала я.
Дни шли, словно ходики, своим чередом, а болезненные ощущения и тревога всё не проходили. Ни нарядные, аккуратные дома с резными наличниками, ни сады с цветущими вишнями и грушами, ни палисадники, светящиеся ландышами и тюльпанами, ни прекрасный парк, раскинувшийся над рекой Сож, не приносили мне облегчения.
И вдруг я поняла, в чём дело и от чего мне, наполненной до краёв счастьем встречи, так неуютно в родном городе. Даже в суетной Москве сразу после тяжёлого перелета через океан я чувствовала себя более комфортно. А здесь атмосфера как будто уплотнилась, причём настолько, что становилось труднее дышать и двигаться. Казалось, огромный поршень сжал пространство, выдавив вольный воздух, и оставил лишь плотную, упорядоченную, почти кристаллическую структуру. На улицах, в скверах и во дворах совсем не было бомжей, панков, хиппи и прочих чудиков. Люди были опрятно и аккуратно одеты, сосредоточенно занимались своими делами, но никто не улыбался. Даже дети, выделявшиеся яркими пятнами своих курточек, почти не шалили, не баловались, а главное — не смеялись заливисто и беззаботно!
Паника охватила меня от осознания того, что в этой строго упорядоченной стране исчезло веселье, как в сказке про проданный смех. «Этого не может быть, — подумала я. — Вот проснусь завтра утром и пойду на рынок, куплю мёда, творога, зелени, огурчиков маленьких в пупырышках, яиц настоящих с янтарными желтками, перьев лука, сала копчёного и, конечно, старого доброго леща и плотвичек днепровских на уху. Позову одноклассниц, устрою пир, и мы начнём вспоминать и смеяться!»
Память, завязав узелок, напомнила мне воскресное утро, когда мы с бабушкой и корзинкой, покрытой цветастым рушником, идём на рынок. У птичьих рядов — да-да, пятьдесят лет тому назад на рынке можно было купить живую птицу — стоит высокий худой еврей в тёмном лапсердаке и шляпе. К нему подходят женщины и протягивают только что купленных кур. Он ловко перерезает птицам горло и вешает их вниз головой. Это моэль, специальный человек — мастер не только по обрезанию еврейских мальчиков, но и по всем правилам Талмуда умеющий резать кур. Такого наваристого янтарного бульона с тёмным петушиным мясом больше попробовать, увы, нельзя, поскольку современный куриный суп — это, скорее, подкрашенная специями и солью водичка, сваренная из трупиков двухнедельных мутантов. А какими живописными выглядели мясные ряды с молочными поросятами, которых потом запекали в русской печи, начинив гречневой кашей и блинами!
Для такой кухни нужен был желудок никак не меньше Чичиковского!
Летом с утра эдак за версту до рынка начинал витать клубнично-земляничный дух — и можно было ориентироваться лишь на пьянящий аромат ягод. Зимой же пахло антоновкой и квашеной капустой, что вызывало у покупателей такое слюноотделение, унять которое можно было, лишь напившись из кружки сладковато-кислого, пряного капустного рассола, причём абсолютно бесплатно. Где оно, моё настоящее мочёное яблоко — большое, налитое и прозрачное, с чёрными семечками внутри? Я помню, как здесь же на рынке, не удержавшись, вопьёшься в такое яблоко зубами и захрустишь, прикрывая глаза и подставляя ладонь под струю сока. А бочка с солёными помидорами — огромными, с натянутой, как на барабане, кожицей! Возьмешь такой, а он взрывается мякотью и семечками у тебя во рту, и ты захлебываешься от блаженства. И, конечно, не забудутся те кадушки с грибами из детства: рыжиками, волнушками, груздями. А какие были продавцы на рынке — труженики, с лицами загорелыми, изрезанными уникальным узором морщинок, руками коричневыми, узловатыми и сильными, что корни, держащиеся за родную землю. Женщины повязывали головы живописными ярчайшими платками, а прилавки украшали рушниками с красно-белыми узорами. Рынок каждого городка отличался от другого. Даже грязь и пыль там были весёлыми, искрились на солнце и пахли свежескошенной травой и смородиновыми листьями. И только немногочисленные узбеки, привёзшие свои душистые дыни, или кавказцы, торгующие мандаринами и гвоздиками, одетые в кепки-аэродромы, были везде одинаковые, и товар у них был ужасно дорогой.
Едва солнце, как хохлатка, выставило в окно свою макушку, помахивая корзинкой со старым бабушкиным рушником на удачу, я заспешила на базар… Центральную часть крытого рынка занимали всё те же откалиброванные фрукты и овощи, сошедшие со стандартных конвейеров турецких и польских «биофабрик», но всё же кое-где белели ряды сала: свежего, подсоленного и копчённого с чесночком.
Сало достойно оды, поэмы!
Лет сорок тому назад его заворачивали в холщовые тряпицы и коптили на ольховых, сосновых и можжевёловых опилках. У каждого хозяина был свой секрет приготовления копчёного сала. Но сегодня мой нос привёл меня к прилавку, за которым стояла румяная, пышногрудая молодуха и бойко стрекотала по телефону. Мечтательное настроение и потрясающий запах копчёного сала заставили меня спокойно простоять у прилавка минут пять, терпеливо слушая болтовню молодой женщины, абсолютно не обращавшей на меня внимания. Потеряв надежду быть обнаруженной, я начала действовать: решительно взяла в руки кусок сала и понюхала его.
— Тю! Чаго лапаешь, не паложено покупателям лапать товар, видишь, занятая я, щчас. Всё равно лепей маяго сала на рынке не знойдешь, а потом метнись гроши разменяй, а то раницей сдачи у мяне зусим нету. Иди-иди к Дуське в ларёк — она табе разменяе, — не прекращая свой разговор по телефону, прогэкала молодуха.
Ожидание чуда разбилось. Улыбка моя упорхнула в далёкое детство.
— Что расстроилась, красавица, у меня сало не хуже, чем у Ядвиги, — услышала я приветливый голос. — Подходи: всё сама посмотришь и выберешь, в обиде не будешь. Я здесь один шучу и смеюсь, поэтому и зовут Зубоскалом, а мамка кличет Ахмедом: мать — белоруска, отец — азербайджанец, — махнул мне рукой, улыбаясь от уха до уха, чернявый парень у прилавка напротив.
От сердца отлегло, появился свет маяка-улыбки на лице продавца.
— А помидоры настоящие, грунтовые у тебя есть, Ахмед? — спросила я его, с сомнением глядя на одинаковые, почти без запаха помидоры.
— Вах! Конечно, есть. Видишь, помидор воробей клюнул — значит, грунтовые. Разве шалаш с порванной плёнкой, где выросли эти помидоры, можно назвать парником?! — продолжал балагурить парень. — А если честно, то иди, хозяйка, за ворота крытого рынка, там под небом, на воле, у местных жителей ещё можно найти настоящие продукты: и сало, на можжевельнике копчённое; и масло подсолнечное душистое; и яйца только что из-под счастливой курицы, петухом топтанной; и зелень-мелень разную; и редиску ядрёную с огурчиками сладкими. Что захочешь, то и купишь. И ландыши там продаются с запахом весны! А помидор этот клюнутый на удачу бери и не переживай из-за грубости людской — тяжело здесь люди живут, безрадостно, вот и не улыбаются вовсе.
Вокруг рынка расплескалось море торговли, где всё, что я хотела, кроме свежей речной рыбы, то и купила. Обмелел Днепр с притоками, и рыба куда-то исчезла, как, впрочем, и крепкие молодухи в цветастых платках — стали старухами, суетливо прячущими деньги за товар. Увы, улыбка Ахмеда так и осталась единственным маяком смеха на этом рынке-море.

КАРТИНКА 2
Чемодан без ручки
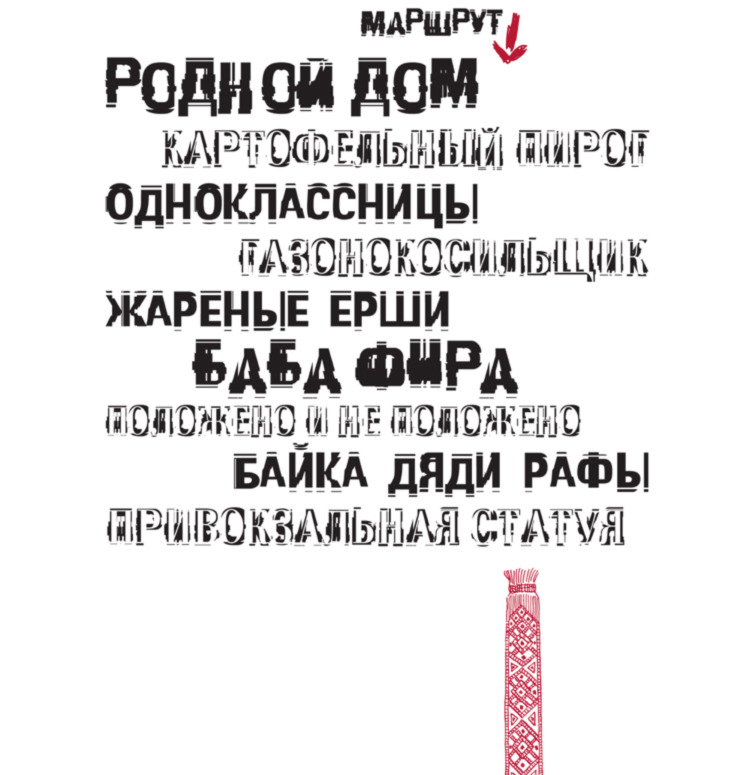
Дотащив домой наполненную доверху корзину с продуктами, я обзвонила школьных подруг, ещё откликающихся на старые городские телефоны, пригласила их на вечер воспоминаний и начала готовить обед.
Что за стол в Беларуси без драников?!
Вначале я натёрла картошку и лук на мелкой тёрке, потом на чёрной, чугунной сковороде поджарила драники на густом, тёмном, деревенском растительном масле. Затем приготовила начинку из обжаренных кусочков копчёного и свежего сала для картофельного пирога, состоящего из нескольких слоёв драников. Далее залила всё это свойской сметаной и, за неимением настоящей деревенской печи, поставила в духовку. Сквозь открытое окно кухни запах такой силы и вкусности вырвался наружу, что аж коты со всей округи собрались и начали жалобно мяукать, выклянчивая чаевые. Пришлось спуститься во двор и накормить эту ораву кусочками жареного сала и драниками.
За окном, как начищенный солидолом пятак, сверкало солнце. К пяти вечера начали подтягиваться школьные подружки. Собралось нас из всего класса только четверо. Люся — моя соседка и лучшая подруга детства, красивая, спортивная брюнетка, бабушка двух замечательных внучек и, по совместительству, заведующая конструкторским бюро. Наталья — яркая блондинка, раньше нас всех вышедшая замуж, вырастившая троих детей, не работавшая ни одного дня, потрясающая хозяйка, жена и мастерица. Галка — маленькая, толстенькая, озорная певунья, выдумщица и хохотушка.
Люся появилась первой; она притащила золотистый луковый пирог и здоровущую тарелку вкуснейшего салата.
— Все овощи свои, с дачи, только вчера сорванные с грядки. Здесь редисочка первая, весенняя; огурчики пупырчатые, медовые, салатик нежнейший, ну и, конечно, трава-мурава: крапива молодая, мята, лучок зелёненький, петрушечка кучерявая и семечки тыквенные сверху. Да, всё полито маслицем подсолнечным, что сосед мой по даче, Василий Петрович, выжимает. Золотые у него руки, как из начальников цеха ушёл, так и мастерит различные механизмы: маленькие трактора, косилки, хлебопечки, — бойко рассказывала Люся, по-хозяйски выставляя яства на стол.
— Косилки — это здорово, а то я сегодня со страха чуть было ноги не протянула, — попыталась пошутить я. — Возвращаюсь с рынка, смотрю: по нашему скверу идут цепочкой здоровые мужики, одетые в камуфляж и армейские высокие ботинки, на головах у них такие защитные шлемы, как у спецназовцев, а в руках — длинные штуки, похожие то ли на миноискатели, то ли на инжекторы для дезактивации. Всё, думаю, что-то случилось: военные в городе.
— Ничего-то ты не знаешь, Пропажа, давно тебя не было. Это у нас так траву косят, — серьёзно, нахмурив брови, объяснила Люся, назвав меня старым детским прозвищем.
— Дзинь!.. — звонок в дверь. Это пришла Наталья. Она бережно внесла большущую сумку, достала из неё плоский контейнер, завёрнутый в фольгу, и водрузила свою «летающую тарелочку» на стол. И оттуда потёк очумелый, давно забытый запах детства… Перед глазами стоял мой дед, вернувшийся с рыбалки с десятком сопливых ершей, которых потом бабушка жарила на большой чугунной сковородке в печи. Как маленькая женщина умудрялась держать ухватом эту тяжеленную конструкцию над углями, не уронив и не перевернув, для меня по сей день остаётся загадкой!
— Наташка, не может быть, неужели это жареные ерши?! — заверещала я.
— Да, девчонки, это ерши: сын сегодня на зорьке наловил, а я поджарила, правда не в печи, но все равно хрустят, как семечки. Ну что, удивила я вас, подружки?! — довольно сощурилась Наталья. — Галка, как всегда, опаздывает?
— А вот и не опаздываю! — звонко закричала с порога Галина. — У вас дверь нараспашку? Пахнет — можно с ума сойти! Приготовить я ничего не успела, зато принесла наше любимое полусладкое шампанское! Маму твою видела, хозяюшка, на скамеечке сидит у подъезда, ножками болтает, прямо как баба Фира сорок лет тому назад. Помните бабу Фиру, девчонки?
Бабу Фиру помнили все. Она была потрясающей старушенцией. Всегда с причёсочкой, ярко накрашенными губами и янтарными бусами на шее. Если не сидела на скамейке возле подъезда, то смотрела в окошко своей квартиры на первом этаже. И любой прохожий мог попросить у неё воды или просто пустой стакан, чтобы пивка попить с другом, а нас, детей, она кормила латкес и пирогами с рыбой. А сейчас постучать в окна первого этажа нельзя — везде решётки стоят, подъезды закрыты на кодовые замки. Даже если убивать будут, никто окно не откроет и не отзовётся. Водичку только в магазине купить можно или из лужи попить. Заснувших же на скамейке у подъезда подвыпивших и загулявших мужичков, которых жены домой не пустили, баба Фира накрывала стареньким одеяльцем. А потом подымалась в квартиру к строптивой жене и уговаривала её забрать мужа, потому что «так поступать приличная женщина не должна — другая подобрать может, поскольку завалящих мужиков не бывает, а случаются глупые и одинокие женщины».
— Какие потрясающие люди жили в этом доме, шутить умели, — продолжала озорно Галка. — Уехали многие. Из нашего класса в городе осталось всего человек десять, а остальные — кто в России сейчас обитает, кто в Европе, кто в Америке, кто в Канаде, ну и, конечно, в Израиле много нашего народу. Помните, подружки, как на зимние каникулы, на втором курсе, к бабе Фире внук Илья приехал из Ленинграда?
И внука Илью вспомнили… Шампанское лилось рекой, салатики быстро исчезали, беседа набирала обороты…
— А то! — расхохоталась Наталья. — Это когда мы на танцульки у неё собрались?
И «девчонки» наперебой начали вспоминать, как натанцевались и плюхнулись за стол чай пить с пирогами. Морозище тогда на улице стоял градусов под тридцать. Поздно было, но расходиться не хотелось. И тут баба Фира выходит из своей спальни и говорит так ласково:
— Ильюшенька, помоги мне достать из шкафа дедушкино габардиновое зимнее пальто на ватине!
Все чуть от смеха не подавились, а Илья ей отвечает:
— Зачем тебе, бабушка, пальто, ведь его даже с места сдвинуть нельзя, а можно лишь использовать в качестве доспехов ратника?!
Баба Фира ему: мол, мороз страшный, в подъезде холодно, а там пара молодая разговаривает, а если в это время под лестницей парень и девушка — значит, они там стоят и целуются и им очень неудобно и зябко! И поэтому Ильюшенька должен взять дедушкино габардиновое пальто и отнести им, чтобы они могли постелить его и сесть на подоконник площадки между первым и вторым этажами.
— Да, потрясающая была бабуля, — под этим лозунгом могла подписаться вся компания, — всё слышала и замечала. От многих бед она людей спасла, особенно молодых — ведь своих папу и маму расстраивать не будешь, а ей можно было всё рассказать, совет получить и помощь.
— Ох, девчонки, через два года будет сорок лет, как мы окончили школу, может, соберём своих одноклассников со всего мира, накроем столы и вспомним замечательное детство, — предложила я, поменяв тему разговора.
— Не думаю, что это удастся сделать, и потом, встреча получится очень грустная, — перебила меня Наталья. — Не только потому, что мы почти все уже бабушки и дедушки. Весь мир с тех пор стал иным, страна другой, да и дворов нашего детства больше нет. Помните, как все мы весело лет с пяти-шести с ключом на шее гоняли в казаков-разбойников, в штандера, в вышибалу? Сейчас же я провожаю свою младшую двенадцатилетнюю дочь в школу и забираю её оттуда. И общается она со своими ровесниками, не сидя в беседке и слушая бренчание гитары лохматого неуклюжего мальчишки, а зависая непонятно с кем в чате.
— Помню, у нас в классе только Андрюшку Равиковича дедушка провожал в школу, украдкой следуя за ним, и то лишь лет до восьми. И как только Андрюху за это не дразнили! А теперь… вчера иду с работы и вижу здоровенного парня лет двенадцати, за которым бабушка несёт в школу тяжёлый портфель. Заколбасило меня чего-то, остановилась, стала стыдить мальчишку, так такого от его бабушки наслушалась… Немудрено понять, отчего дети сейчас растут инфантильными эгоистами, — со вздохом добавила Люся.
И тут я поняла, что ностальгическое слабоумие до добра не доведёт:
— Ладно, девочки, хватит о прошлом, расскажите, как сейчас живёте, может, повеселее станет.
— Как живём? Живём — не тужим, — сказала Галина, наполняя наши бокалы пенящимся шампанским. — Видишь, всё у нас есть: еда, работа, мир. И всё это находится в коридоре между тем, что положено, и тем, что не положено.
— Что значит: положено и не положено? — удивлённо, чуть не подавившись, воскликнула я.
В комнате почти ощутимо возникла тягостная пауза.
— Как же тебе объяснить это, человеку, приехавшему в свою родную страну, прости, как турист. Ты видишь вокруг себя красочно размалёванные здания, цветущие кусты роз, чистые улицы, аккуратно постриженную траву и деревья, ешь вкусную еду. А я вот четыре месяца занималась здоровьем своей старенькой мамы. Слепнуть она стала, надо было сделать операцию — удалить катаракту. Месяц мы с ней вдвоём собирали анализы. Она у меня плохо ходит — возраст, передвигается с помощью двух палочек. К семи утра я шла за номерками в поликлинику, потом везла её на приём к различным врачам. Каждый день один врач или один анализ. Потом с этой кипой документов надо было вставать на очередь на операцию, а когда время госпитализации подошло, пройти повторно врачей и анализы, поскольку они действительны только десять дней, — терпеливо и как-то обречённо стала объяснять мне Галка.
— Разве нельзя записаться на операцию, а, когда подошло время, за десять дней до неё сдать все анализы и пройти врачей? — ошеломлённо спросила я.
— Не положено, — каким-то чужим голосом ответила мне Галина. — Хоть головой в стену бейся: не положено!
— Но ведь это издевательство над людьми! — сорвалось у меня.
— Это еще не издевательство! Издевательство началось дальше, когда мы попали в больницу, в палату на шесть человек с туалетом в коридоре, куда пожилые люди после операции просто не могут доползти. Когда же я узнала, что в отделении есть двухместные благоустроенные палаты с санузлами, я стала врача просить положить маму туда. На что мне ответили, что палаты платные. Причём на все мои предложения заплатить мне отвечали: «Не положено: ваша мама старше восьмидесяти лет и ей положено бесплатное лечение. Вы понимаете разницу между положено и не положено?!»
Теперь и я усвоила, в чем разница между туризмом и жизнью в этой стране!
Сияющий глянец сувенирного самовара под названием Беларусь начал тускнеть!
Проблема, которую можно решить за деньги, — это не проблема; проблема — это когда денег не берут и ничего не делают при этом.
И хотя стол ломился от вкусностей — картошечки с салом, беляшей, салатов, заливного, солений и мочений, мы сидели притихшие и грустные, понимая, что невозможно вернуться в мир нашего детства, как, впрочем, и существующий не переделать.
Вечерело. На прощание мы чокнулись за здоровье наших родных и близких, и мои бывшие одноклассницы разошлись по домам, благо идти было недалеко, а я, убрав посуду, вышла подышать свежим воздухом. Вокруг цвели сады и кипела сирень, принося умиротворение.
И тут я услышала булькающий смех и покашливание:
— Привет, Пропажа, где тебя носило? Рот закрой и лучше дверь подъезда попридержи, а то сейчас меня ожидает та же участь, что и старушку из старого анекдота. Эта дверь — серьёзный охотник. Знаешь, сколько бабушек она уже подранила?
Мне навстречу, держа под мышками два картонных чемодана с окованными краями, выходил старый добрый дядя Рафа. Он пытался протиснуться в подъездную дверь, придерживая её ногой.
— Что стоишь как статуя Свободы, держи это, — сказал он и, повернувшись боком, умудрился плюхнуть мне огромный чемодан на руки.
— Дядя Рафаил, но ведь его невозможно держать без ручки, — наконец-то рассмеялась я, балансируя с неудобным чемоданом, пытавшимся ежесекундно выскользнуть у меня из рук.
— Конечно, без ручки. Если бы у этого чемодана была ручка, разве бы я тогда сбросил его тебе. Шагом марш на помойку, выброси этот ящик. И возвращайся за другим, а я ещё принесу, — произнёс он шутливо и вернулся в подъезд.
Перетащив восемь чемоданов без ручек, мы с дядей Рафаилом присели на скамейку передохнуть и поболтать.
— Почему такая грустная, Пропажа? Зуб, что ли, болит? Так я тебе дам телефон чудного дантиста: хоть наш город и далёк от Чикаго, где ты проживаешь, но зубы тоже умеют лечить прилично! — пытался меня рассмешить Рафаил Маркович.
Среднего роста, по-армейски подтянутый бывший военный летчик, переквалифицировавшийся после хрущёвской демобилизации в снабженцы, вечно шутивший и имеющий везде друзей, дядя Рафа в свои восемьдесят пять был по-прежнему энергичен и ироничен.
— Понимаете, дядя Рафаил, вот я добралась до своего родного города и обнаружила, что люди практически не улыбаются. Все мои попытки рассмешить друзей или просто незнакомых людей, пошутить с ними, вызвать их ответную улыбку с треском провалились. Не улыбаются медсёстры, врачи, не улыбаются продавцы, таксисты, парикмахеры, проводники, официанты и прочий люд из сферы обслуживания, которому положено быть приветливыми и улыбчивыми, хотя бы в силу их профессии. Но самое страшное, что я сама тоже перестала смеяться — и мне от этого холодно и неуютно как-то. Улыбка исчезла с моего лица, поскольку я четко поняла, что при очередной попытке пошутить с продавцом или с дворником меня просто сдадут в дурдом, — стала я слегка растерянно объяснять ему своё состояние.
Дядя Рафа поскреб свой подбородок, сделал вескую паузу и, прищурив карие глаза, поведал мне одну из своих баек:
— Знаешь, Пропажа, а ведь, кажется, это я отправил улыбки из нашего города… Это было тридцать пять лет тому назад, когда сотни тысяч евреев уезжали из Советского Союза. В стране ничего не было, всего не хватало, в том числе и чемоданов. Я же, будучи начальником отдела снабжения одного из заводов, узнал, что в соседнем районе, на фабрике кожгалантереи, скопилось большое количество брака — чемоданов без ручек. Тогда наш завод по моей заявке купил их по копеечной цене как тару для рабочих инструментов. И, о чудо, на заводской склад пришёл вагон чемоданов без ручек. Потом два моих друга, Беня и Изя, два прекрасных сапожника, шивших такие мягкие сапоги, что в них можно было спать и не только, начали приделывать к этим чемоданам ручки. Затем отъезжающие евреи обменивали у них в мастерской свои деревянные ящики на уже отремонтированные чемоданы. Деревянные ящики привозились ко мне на склад, где я их уже оприходовал как тару для хранения инструментов, а чемоданы разъезжались по всему миру.
— Ух, ты! Золотое время было для такой умной головы, как ваша, дядя Рафаил? — спросила я его лукаво.
— Что ты, Пропажа! Я делал это весело и абсолютно бесплатно, — ответил Рафаил Маркович, продемонстрировав мне свои пустые ладони и вывернув карманы.
— Но зачем? И при чём здесь улыбки? — удивилась я, отгоняя раннюю надоедливую мошкару от лица.
— Ну, ты же родилась в Гомеле, неужели забыла бородатый анекдот о том, как старый еврей покупал яйца, отваривал их и потом продавал по цене покупки. Когда же его спрашивали, зачем он это делает, он смеялся и отвечал: «А бульон от яиц?!» Понимаешь, у меня появились тысячи друзей в разных странах мира, со многими из них я общаюсь до сих пор. Иначе я бы давно уже умер без общения и шуток в нашем «мрачном королевстве». И кстати, если ты сходишь на местный железнодорожный вокзал, то увидишь чудную скульптуру еврея в шляпе и длинном пальто, что сидит на «моём» чемодане без ручки с надписями: Гомель, Париж, Лондон, Тель-Авив, Рио-де-Жанейро. И, заметь, многие из моих чемоданов стали семейными реликвиями, а ручки, приделанные Беней и Изей, представь себе, держатся до сих пор, — дядя Рафа остановился и как будто посмотрел вдаль. — Иногда я думаю о том, что мои предприимчивые и неунывающие ни при каких обстоятельствах соплеменники-евреи увезли в этих чемоданах нечто большее, чем книги. Да-да, забирали в основном в иммиграцию книги: Достоевского, Шолохова, Булгакова, Пастернака и других великих русских писателей, — продолжил Рафаил Маркович свой удивительный рассказ.
— Так что же они увезли ещё? — воскликнула я.
— Они увезли свою культуру, анекдоты, неповторимый колорит, математику, атмосферу. Они увезли улыбки, ведь ручки от чемоданов очень напоминают улыбки. Я знаю, ты много путешествуешь, Пропажа, встречаешь различных людей. У меня к тебе просьба: рассказывай им эту смешную историю про чемоданы без ручек и, если люди будут смеяться, собирай их улыбки в бабушкин рушник, привози их обратно и разбрасывай здесь. Кто знает, может быть, собранные и возвращённые тобой улыбки прорастут опять в этой болотной земле, — с надеждой и совсем по-мальчишески произнёс дядя Рафа.
— А при чем здесь рушники? — окончательно обалдевши от его поэзии, спросила я.
— Так ты ничего не знаешь про рушники и корни своего рода? Ну, это поправимо: здесь километрах в двадцати от Гомеля есть небольшой городок староверов — Ветка. Там находится потрясающий музей. Поезжай, многое узнаешь о тайнах старых рушников, а потом ещё больше захочешь узнать! Хотя хватит мечтать, порядок должен быть; порядок — это положено, а это не положено, — неожиданно серьёзно свернул свой монолог дядя Рафаил. — Знаешь, мой отец всю жизнь проработал корреспондентом, даже во время войны он выпускал подпольную партизанскую газету, единственную во всём крае. Был весельчаком, балагуром и неустанно мне повторял: «Сынок, надо потерпеть — дальше будет лучше». И только когда он уже умирал, он поднял на меня свои грустные еврейские глаза и прошептал: «Прости меня, сын, я тебя обманывал: дальше будет только хуже!»
Дядя Рафаил встал, ссутулился и шаркающей походкой старика двинулся к подъезду.
Вечер накинул чёрный плащ на плечи многоэтажек. Сквозь его прорехи просвечивали звёзды…
И тут я чётко поняла, что надо начать встречаться со старыми людьми, помнящими ещё тот Гомель, с его смехом, шутками, рынком и многонациональной культурой, поскольку тот город семидесятых уже, увы, потерян навсегда. Мне захотелось поехать в Ветку и, возможно, начать оттуда самое увлекательное путешествие в моей жизни — путешествие внутри себя к своим корням и предкам.

КАРТИНКА 3
Красная площадь
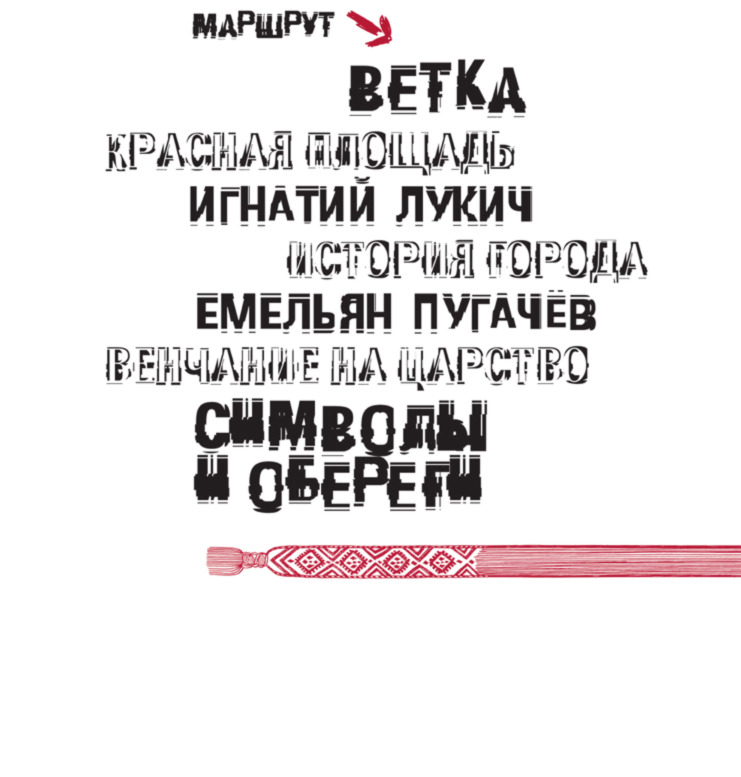
Небольшой городок Ветка расположен в двадцати километрах от Гомеля, на высоком берегу реки Сож. Он весь, как нарядный румяный ребёнок, одет в разноцветное кружево деревянных наличников, ворот с изображениями оленей, медведей, райских птиц, с яркими петухами на коньках крыш и заборах.
Капли только что прошедшего дождя умыли город и радугами ещё больше расцветили его старинные и не очень деревянные резные дома с окнами и веками-наличниками, башенками-кокошниками и воротами-улыбками. То ли из-за того, что на улицах почти не встречались железобетонные многоквартирные коробки, то ли благодаря густому, напоенному ароматами цветущих садов и сирени воздуху, то ли от блеска маленьких радужных капель-солнышек, но создавалось стойкое ощущение, что я оказалась в другом мире. Как будто с картинки семнадцатого века сошёл фрагмент Французского квартала Нового Орлеана или купеческого московского посада.
Машина остановилась, тучный усатый таксист повернулся ко мне и пробасил:
— Всё, хозяйка, приехали: вот музей, где хранятся старые рушники и прочая рухлядь… Выходи… Красная площадь. Когда закончишь байки слушать, позвони — я тебя обратно в Гомель отвезу.
Я выкатилась из такси, подняла глаза и на трёхэтажном купеческом доме с тяжелыми бревенчатыми воротами прочла: «Красная площадь, 5». Это был Ветковский музей народного творчества. Ильич рядом тоже присутствовал, правда не в мавзолее, а в виде памятника — в пиджаке и с дежурной кепкой.
Войдя в вестибюль музея, я увидела среднего роста пожилого мужчину, разошедшегося вширь, как река по весне, с окладистой седой бородой и копной непокорных стального цвета волос:
— Здравствуйте, что привело вас в наше захолустье? Желаете послушать экскурсию? — обратился он ко мне.
— Я… мммм… очень хочу узнать побольше о коллекции старинных рушников, — несколько растерянно замычала я.
— Отлично! Сейчас подойдёт сотрудница нашего музея, зовут её Анна Григорьевна, и она с удовольствием покажет наши экспонаты, — продолжил он, несколько нараспев растягивая слова. — Зовут меня Игнатий Лукич, я, как сейчас принято называться, краевед, ожидаю учеников местной школы для проведения факультатива по истории края.
— Знаете… наверное… это несколько странно прозвучит …но я никак не могу отделаться от ощущения того, что попала… в старую посадскую Москву. И дело здесь не только в Красной площади, а в самом духе, что ли… — сбивчиво и не очень уверенно выразилась я.
— Да вы не стесняйтесь своих ощущений, учитесь доверять себе и следовать традиции, — спокойно и привычно, как встревоженному ребёнку, стал объяснять мне Игнатий Лукич. — Наш маленький городок Ветка — это действительно ветка той старой патриархальной Москвы, существовавшей ещё до великого раскола. Реформа патриарха Никона заставила Московскую Русь не только читать церковные книги по греческому образцу и креститься тремя перстами, но и расколола народ, культуру, государственность и духовность земли Русской. Одни приняли чуждую культуру правящей элиты, стремящейся в Европу, другие ушли в глухие места, тайные монастыри, скиты и молельные дома, сохранив традицию прежней духовной культуры и государственности. В 1685 году двенадцать богатейших староверческих родов Московской Руси основали на острове Ветка на реке Сож, на землях Мозырского воеводства Речи Посполитой, город, ставший центром всего русского старообрядчества. По преданию, беглецы плыли по реке и пустили на воду ветку со старинной иконой, где она пристала к берегу, там и град основали.
— Надо же! — вырвалось у меня. — Я читала, что викинги, ходившие на своих драккарах, в том числе и по Днепру, прежде чем пристать к берегу и основать поселение, пускали по реке ветку с деревянной куклой богини и там, где она прибивалась к берегу, основывали своё городище.
— Всё верно: у староверов, особенно у потомков казачьего воинства, до сих пор сохранилось множество языческих обычаев, — Лукич, разгладив бороду, продолжил свой рассказ. — В Ветке основали Покровский монастырь для 1200 иноков и насельников. При обители возникли мастерские: по переписыванию книг, иконописные, по изготовлению окладов из кованого металла, резного дерева и речного жемчуга… Да-да, в Соже вплоть до двадцатого века добывали речной жемчуг. Люди здесь жили общиной без помещиков и чиновников — работящие, мастеровые и торговые. Корабли строили на своей верфи и ходили на берлинах с товаром до Босфора. Снабжали все поселения раскольнического толка — от дунайских гирл до кубанских плавней и тверских предгорий; от белорусских и прибалтийских лесов до Поморья, Яика и сибирских дебрей — книгами, иконами, окладами, поддерживали деньгами и обучали детей богослужению по староверческому чину. Можете себе представить, что в тридцатых годах восемнадцатого века в Ветке вместе с посадами проживало около сорока тысяч человек. Для сравнения: это почти треть населения Москвы того времени. Смуту сеяла Ветка: сюда бежали казаки, большинство из которых придерживалось старой веры, крестьяне-староверы, купцы, уставшие от поборов царских наместников. Два раза казаки по приказу Московского царя сжигали и грабили город. Во втором нашествии, так называемой «царской выгонке», принимал участие и Емельян Иванович Пугачёв — тогда-то, по преданию, он и познакомился с раскольниками из Ветки.
Поражаясь всё больше, я спросила Игнатия Лукича:
— А какое отношение к староверам и к Ветке имеет Пугачёв? Ведь восстание началось среди казачества Яика, на Урале?
Мой собеседник, довольно крякнув, не остался в долгу:
— Видите ли, в учебниках истории, как имперских, так и советских, об этом было не принято писать, ведь из-за преследований властей большинство раскольничьих скитов и молельных домов жило тайно. Фактически у людей старой веры тогда функционировала обширная подпольная сеть, раскинувшаяся по всей России веткой, и нити её сходились уже в городе под названием Ветка. Будучи удачливыми купцами и ремесленниками, в том числе и благодаря своей сплочённости, староверы из Ветки активно снабжали деньгами общины единоверцев и по ту сторону границы Российской Империи.
А какие ходили толки в те времена среди раскольников? Вероятно, о гонениях «истинной христианской веры» в «антихристовом государстве», где на московском престоле правит немка, величая себя императрицей на манер гонителей христиан — римских тиранов. О том, что за поддержку своего трона она расплачивается со служивым дворянством землями и крестьянами, которые при этом полностью теряют свою свободу. Остальной же народ, «не дворянского чина», облагается грабительской подушной податью и рекрутчиной. Уважаемых людей унижали, били и оскорбляли прилюдно, заставляли их брить бороды, носить иноземные парики и платье.
В моём воображении возникали картины старой Москвы, покуда Лукич, как кот-баюн, продолжал:
— Возможно, староверы поговаривали также и о том, что на Яике может начаться «великая смута» и что казачество повсеместно недовольно притеснениями царицы, фактической отменой их вольницы и значительным ущемлением власти общевойскового круга. Вот тут-то летом 1772 года приезд в Стародубский монастырь близ Ветки сильного, не раз сиживавшего в остроге бывалого казака, подданного Речи Посполитой Емельяна Пугачёва и мог показаться ветковским старцам перстом Божиим. И замыслили они тогда восстановить справедливость — посадить на царство силами казачества своего царя-единоверца, как это было уже на Земском соборе в 1613 году, когда казаки князя Трубецкого возвели на московский престол также подданного польского короля — юного Михаила Романова. При жизни европейские дипломаты в своей переписке именовали его не иначе как «казачий» царь. Вот для этого и было решено прибегнуть ко «лжи великой» — выдать Емельку Пугачёва за царя Петра III, Божиим промыслом якобы спасшегося от душегубов, подосланных «подлой жонкой» его, нынешней императрицей Катериной… И снабдили они Емельяна Ивановича документами, деньгами, и отправили его к отцу Филарету, игумену, в Мечетную слободу на реке Иргиз, послав слух «верный» по всем скитам и монастырям старой веры, что под именем Емельяна Пугачёва на Русь вернулся законный царь Пётр III и всем единоверцам надобно служить ему верой и правдой. Семейные предания моих земляков повествуют о том, что под древними иконами Покровского монастыря один из самых уважаемых людей в мире истинной веры — старец Василий — венчал донского казака Емельяна Ивановича Пугачёва на царство Российское под именем Петра Фёдоровича. Здесь же, в Ветке, старцы передали Пугачёву одно из четырёх знамён голштинской гвардии Петра III, которыми, по прибытии на Яик, «спасённый царь Пётр Федорович» смог убедить казаков в своём чудесном воскрешении. Конечно, мы не знаем, как доподлинно складывался и осуществлялся этот план. Так что на Добрянский форпост на российско-польской границе 12 августа 1772 года, скорее всего, Емельян Пугачёв прибыл из Ветки, уже будучи посвящённым в план будущей войны казачества за восстановление старой веры и вольницы, с уже вполне твёрдым намерением выдать себя за царя Петра III. Он записался уроженцем Речи Посполитой, Емельяном — сыном Ивана Пугачёва. Около шести недель он пробыл в карантине, после чего комендант Мельников выдал ему паспорт…
Смута, «Капитанская дочка», стрельцы и воеводы, в панике бегущие от погромов, — такая далёкая и почти забытая история вдруг в устах ветковского краеведа стала родной и близкой.
— …Прибыв на охваченный волнениями Яик, Емельян Пугачёв возглавил казачью войну в России за «Веру, Царя и Отечество!». Последней такой войной, как, я надеюсь, вы помните, была Гражданская война, начавшаяся в прошлом веке после Октябрьского переворота и закончившаяся геноцидом казачества. Большевики не были столь великодушны, как Екатерина, которая, казнив несколько тысяч наиболее активных участников военных действий и урезав казачьи вольности до минимума, не тронула их семьи и таборы, а позволила им служить России, как и прежде. Так что шествовал «Петр III» по Руси, благословляя народ «старым крестом и бородою», а начал он этот путь вблизи Красной площади города Ветки, закончив его рядом с Красной площадью Москвы, на Болоте. Могилы его нет, и почитают его многие староверы до сих пор за пророка, принявшего мученическую смерть за «веру истинную».
— Потрясающе, а главное, многое становится на свои места! — воскликнула я, поражённая услышанным.
— Что, например? — оживился Игнатий Лукич.
— Для меня всегда было загадкой, как смог организовать такое грандиозное восстание неграмотный беглый казак, пусть даже обладавший недюжинными способностями вождя. Почему ему поверили люди? Кто снабжал его деньгами, оружием, информацией? Почему бунт вспыхнул и побежал пламенем, как по ветке? А, оказывается, эта ветка существовала не только в моём воображении — это была реальная разветвлённая сеть староверческих поселений, где десятилетиями оттачивались мастерство противостояния властям и искусство конспирации, где были деньги на оружие и собиралась информация о врагах, — озвучила я пришедшие мне в голову мысли.
Лукич, заговорщицки подмигнув, ответствовал:
— Вы знаете, в центре староверческой традиции всегда стояли символы и обереги, посланные людям с неба для устройства правильной жизни. Например, город Ветка, ставший столицей мира старой веры, должен был быть устроен в виде ветки и прорасти, как она. Старцы, строго следуя символам, творили историю, события и судьбы. Емельян Иванович Пугачёв венчался на царство в староверческой столице вблизи Красной площади наподобие царей Московских, совершавших такой же обряд в Москве вблизи Красной площади. Да и венчать на царство можно было только человека с царской, «голубой, драконьей кровью», ведь только «дракон может жить в пламени царствования».
— Подождите, подождите, вы хотите сказать, что Пугачёв был потомком благородного рода? — совсем растерялась я, воспитанная на идее бедняцкого происхождения народного бунтаря.
— Несомненно, иначе старец Василий не смог бы провести обряд венчания на царство! Поэтому-то староверы и приняли Емельяна Ивановича как царя! А вот чья это была кровь? Ведь казаки — это отдельный этнос, они дети великой и вольной, разбойничьей Степи, в том числе и потомки хазар, не особо жаловавшие попов. При Романовых началось активное ославянивание казаков и насильственное их приобщение к русской ортодоксальной церкви. «Сарынь на кичку!» был боевой клич казаков Пугачёва, что означает, извините, «срань на нос». Так кричали поволжские казаки-разбойники, ушкуйники, грабившие суда, призывая бурлаков, которых они не трогали, бежать к носу судна. Сейчас мы не в состоянии это понять и принять, поскольку символы и знаки ушли из жизни, сохранившись лишь на старинных иконах, книгах, рушниках и поясах. Увы, не осталось в живых тех, кто знал язык этой традиции, мог видеть будущее и с помощью древних знаний ткать рушник реальных событий…
— Ну, всё. Заболтался я с вами — ребятишки мои собрались, пора начинать урок, — улыбнулся Лукич. — Да и Анна Григорьевна уже идёт. До свидания, приятно было с вами побеседовать, — попрощался он со мною, повернулся и легко, по-мальчишески зашагал вглубь музея.

КАРТИНКА 4
Вождение стрелы
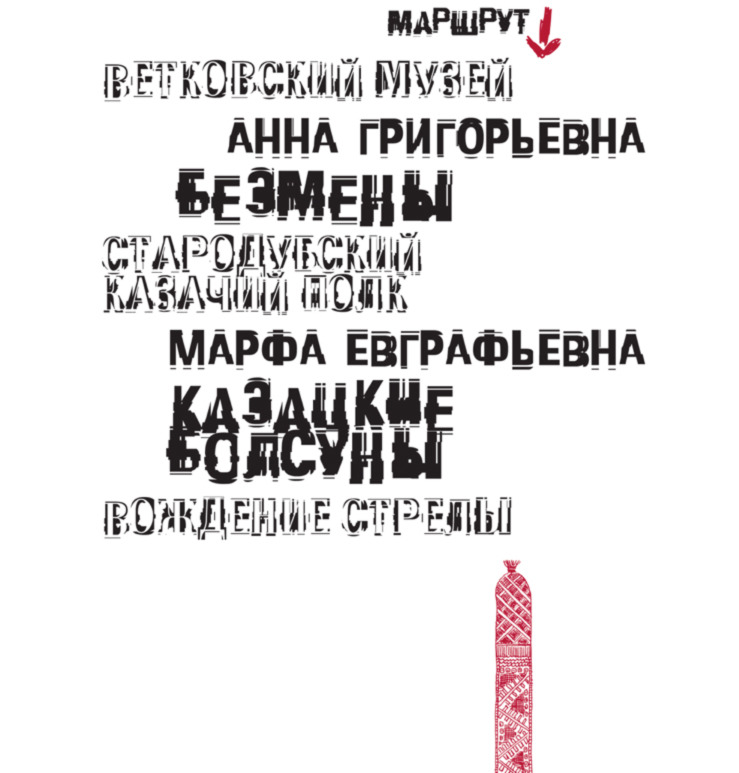
Из исторической панорамы Пугачёвского бунта, куда меня погрузил Лукич, мне навстречу спешила высокая, статная женщина, с горящими глазами и пышной короной каштановых волос, как будто подёрнутых всполохами огня.
Солнечные зайчики играли в пятнашки на стеклянных витринах музея. Столбики пыли, выхваченные лучами, висели в воздухе. Чесались глаза, и чих вот-вот должен был прорваться наружу. Запах времён давал о себе знать.
— Доброе утро, меня зовут Анна Григорьевна, и я с радостью проведу для вас экскурсию, — привычно начала она. — Наш музей устроен как любой дом: он имеет фундамент, светлицу и крышу; или как человек, у которого есть тело, душа и разум; или как земля с её природой и рекой-дорогой, пронизывающей и объединяющей пространство и время. По берегам этой воображаемой реки вы видите окна-экспозиции: пристань, верфь, торговый ряд, старый город, кузню…
И мы, отворив скрипящую в петлях тяжёлую кованую дверь, отважно шагнули в прошлое…
— Какие огромные булавы? Древнее оружие? — спросила я, пытаясь вынырнуть из зачаровывающего голоса моего экскурсовода, зацепившись взглядом за висящие на стене полуметровые, чеканные, дюжие цилиндры с утолщениями на одном конце и крючьями на другом.
Анна Григорьевна заулыбалась с лукавым прищуром:
— На территории Речи Посполитой иноземным купцам запрещалось иметь оружие, но места здесь были лесные и глухие, да и граница рядом, поэтому лихие людишки пошаливали частенько. Вот купцы и возили с собой безмены — приспособления для взвешивания и отпуска товаров, хотя в случае необходимости их могли использовать для защиты и как оружие. Так что это выставка стародавних безменов.
Я обратила внимание на диковинный рисунок из ветхой книги, помещённый за толстым стеклом витрины.
— Что это? — воскликнула я.
— Это уникальный экспонат, — явно обрадовалась моему интересу экскурсовод, — копия страницы из очень древней староверческой книги, где изображён Сын Божий без бороды, с крыльями за спиной и звездой Бога Саваофа на голове, ведь имя Божие Саваоф приложимо ко всем лицам Святой Троицы. На этой старинной иконе Иисус Христос представлен прежде всего как всемогущий владыка всех сил неба, земли, «воинства небесного», звёзд и других космических явлений. Посмотрите дальше, — провела рукой Анна Григорьевна вдоль музейной витрины, — видите, сколько здесь икон небесных покровителей воинов, написанных огненной киноварью, ведь защита веры и родной земли является жизненной и духовной основой людей старой веры. Архангел Михаил веками «сходил» с маленьких дедовских икон, вселяя в поколения мальчиков дух и веру, так необходимые в бою ради жизни на земле. Скольких воинов он вынес с поля битвы на своём коне с золотыми подковами, скольких уберёг своим щитом и скольких врагов покарал. Поелику основное число порубежных казаков придерживалось древнего благочестия, перемена веры, отказ от традиций предков означали для них неминуемую смерть в бою. Я сама родом из исконной казацкой семьи, мой прапрадед привёз себе жену из турецкого похода. Говорят, у меня от неё такие карие глаза. И была она второй женой при живой первой. Так что был мой предок многожёнцем, как и многие другие казаки до него. Старая вера дозволяла иметь несколько жён. И не всегда молодые венчались в церкви. Выведет казак на сход девку и назовёт её своей женой — этого было достаточно, чтобы прожить жизнь вдвоём в любви и согласии.
— Извините, Анна Григорьевна, но откуда здесь, в Ветке, казаки? — уже абсолютно потеряв нить повествования, удивилась я.
— Разве Игнатий Лукич не рассказал вам свою любимую историю о Стародубском казачьем полке, стоявшем на границе с Речью Посполитой? Казацкие таборы-деревни, состоящие из отдельных хуторов, до сих пор есть на ветковщине. Там сохранились не только дедовы рушники, книги, иконы, но и обычаи. Наша музейная смотрительница, Марфа Евграфьевна, родом из такой казацкой деревни, она вам лучше расскажет об обычаях, а то и песенки споёт. Марфа Евграфьевна, подойдите к нам, пожалуйста, поведайте нашей гостье о своей родной деревне и обычае «Вождение стрелы», — обратилась Анна Григорьевна к высокой, сухопарой пожилой женщине, одетой в длинную тёмную юбку и белую, вышитую красными ромбами рубаху.
— Здравствуйте! — шаг у Марфы Евграфьевны оказался упругий, скорый, совсем как у молодой. — Отчего же не поговорить с хорошими людьми. Родом я из Казацких Болсунов, деревня наша когда-то большая была, да и сейчас не бедствует. Землю возделываем, детей воспитываем, скот растим и рушники ткём на кроснах изо льна: из белой нитки и красной. Шестеро сыновей у меня, все воевали и живые вернулись домой. Нынче, овдовев, живу у младшенького, внучков помогаю поднять, а здесь работаю как живой экспонат, Анна Григорьевна уговорила. Приезжайте к нам на Вознесение, поучаствуете в старинном обряде «Вождение стрелы». Сами всё увидите, своими глазами, да от железа сбережётеся.
— Как это — от железа? Что мне плохого железо может сделать? — удивилась я.
— Нет у тебя сыновей, гостья, нет!.. Не знало твоё сердце боли за детей, когда они под железом смертоносным на поле боя погибают. Я казачка потомственная. Когда мальчик казак рождался, то дед его лет с четырёх обучал воинской науке: как по лесу ходить незамеченным, как выжить без еды и воды в холоде. Жеребёнка новорожденного пацану давали, так они и росли с детства вдвоём, не разлей вода. Хлеб один делили, спали и дышали вместе. Боевой конь и хозяин — это одно существо. Когда же девочка рождалась, то её бабушка учила науке, как быть женой воина-казака. Какие травы целебные собирать, чтобы мужнины раны от шашки лечить. Какой пояс ткать суженому в дорогу, чтобы от лихих людей, обмана, зависти сберечь и путь обратно домой открыть. Учили, как стрелу летящую, смертоносную от любимого в бою отвести. Вот поэтому обряд и называется «Вождение стрелы»…
…На сороковой день после Пасхи все женщины нашей деревни наряжаются в свои праздничные, специально вышитые для этого обряда одежды с красными поясами и берут с собой что-нибудь железное. Если сын в армии или муж, то находят железо, что тот в руках держал: нож или косу. Идут женщины по деревенской улице, взявшись за руки, и песни поют о летящий стреле, что убила сына, и очень горько и безудержно плачут. Выманивают они горем своим и плачем небесную борону, или молнию-стрелу, в небо, а потом выводят её за деревню в поле. За околицей начинают хороводы водить, в центр кругов садят детей, поют и рыдают до тех пор, пока не достучатся до небес и небесные покровители им не ответят — молния блеснёт и дождь заплачет. После первых сполохов и капель, больших и тяжёлых, начинают женщины смеяться и ребятню вверх подбрасывать, чтобы росли они сильными и здоровыми, а стрелы проходили мимо их сердец. Потом молодые мужчины и женщины обнимаются и катаются по полю, чтобы детки крепкие и счастливые рождались. И только после этого женщины, принёсшие железо, закапывают его в землю, затем собирают семь колосков и несут их домой, где прячут за икону или за стреху под крышей. Такой дом и живущую в нём семью беда, огонь, молния, болезнь — любое «испытание огненное», тюрьма или плен весь год обходить будут, — привычно закончила рассказ Марфа Евграфьевна.
— Знаете, — обратилась ко мне Анна Григорьевна, видя моё ошеломлённое выражение лица, — когда я в первый раз приехала на этот обряд, прежде много раз слушая рассказы очевидцев, то серьёзно настроилась и приготовилась ничему не удивляться. Но когда женщины начали плакать и петь, чувство безысходного горя охватило меня и слёзы полились ручьём. Когда же на небе сверкнула молния и упали первые капли дождя, липкий страх и ощущение соприкосновения с великой силой так скрутили меня, что я упала и долго лежала, прижимаясь к матушке-земле. Так что приезжайте, если хотите реально побывать в мире своих предков. Итак, экспозиция первого этажа закончилась, пойдём в светёлку к Марфе Евграфьевне, посмотрим на рушники.
Понравились вы ей, очень редко она рассказывает об обычае «Вождение стрелы» с такой глубокой интерпретацией, всё больше говорит экскурсантам об урожае и здоровье. Кажется, она вас за свою признала, странно… Знаете, ни одна экскурсия у меня ещё здесь не проходила по намеченному плану, обязательно какой-нибудь экспонат, как говорят, цепляет экскурсанта и увлекает его в глубину родовой памяти, к осознанию самой сути жизненного пути. Идет такой человек по музею подобно археологу-собирателю, не копает землю, а просто смотрит, и вдруг река памяти из подземных вод подсознания выносит какой-нибудь артефакт — и происходит удивительное узнавание, что преображает этого человека и всю его последующую жизнь. Жаль, что применение техники при археологических исследованиях почти уничтожило правдивость и чистоту находок, интуиция учёного больше не притягивает артефакты, но музей — это особое мистическое пространство, и здесь экспонат улавливает «частоту» экскурсанта и цепляет его, иногда на час, но чаще на долгие годы.

КАРТИНКА 5
Традиции
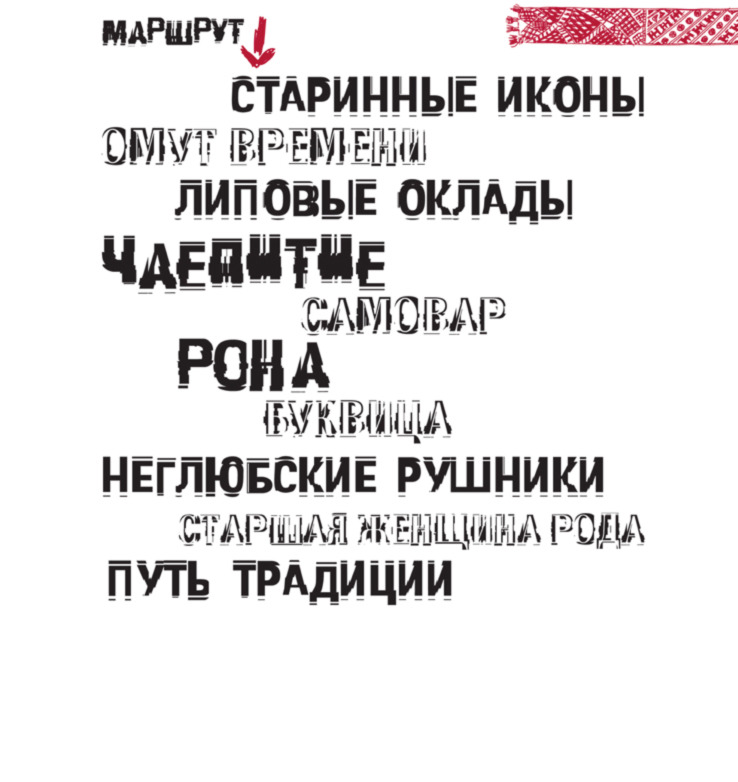
Я почти не замечала, как летит время — для меня оно остановилось.
Анна Григорьевна прошла вперед и стала подниматься по лестнице на второй этаж музея. Скрип ступенек убаюкивал меня, и я начала погружаться в междупутье, населённое потемневшими ликами святых, глядящих на меня сквозь окна-иконы. Запахло ладаном, воском и ароматом трав; словно семя в землю, в мою спящую душу начал проникать некий божественный звук. Сердце заныло и забилось, как перед дверью родного дома, позабытого в странствиях по чужим большим городам, вокзалам и аэропортам. Деловитость и жажда книжных знаний улетучились, остались лишь глаза Божией Матери, всё понимающие и обнимающие…
Голос экскурсовода, повествовавший о бесценных окладах из днепровского речного жемчуга, вышитых руками вестковских искусниц, мешал и даже раздражал. Сейчас любой рассказ препятствовал моему единению с прошлым. Слова-брызги били в лицо и кололи в уши.
— Да вы не слушаете меня совсем!.. — встрепенулась Анна Григорьевна. — Посмотрите только, какой филигранной работы эти резные липовые оклады, покрытые тончайшим слоем сусального золота. Липа — дерево мягкое, но упругое, только из подобного материала можно создать такую райскую, объёмную, светящуюся изнутри божественным светом красоту. Кстати, отсюда и пошло выражение «да это же липа!» — поскольку липовые позолоченные оклады для икон производят полное впечатление золотых.
Мой взгляд был прикован к лику Божией матери, как будто это моя мама смотрела из окошка на меня…
— Хватит вам смотреть на иконы, они затягивают, забирают слишком много энергии этого мира. Голова у вас будет сильно болеть, и сознание можете потерять. Практика нужна ежедневная для общения с такими сакральными пластами прошлого. Очнитесь немедленно, дышите, нельзя так — сиганули в реку времени на серьёзную глубину без тренировки, вот силёнок-то вынырнуть и не хватает. Кессонная болезнь! Пошли, пошли быстренько отсюда к более простому и близкому времени, — Анна Григорьевна пристально посмотрела мне в глаза и практически силой потащила в другой зал музея.
Туда, где в огромные окна лился полуденный солнечный свет и где пузатые медные самовары пускали шаловливых зайчиков. Я даже закрыла глаза от такого резкого перехода из омута времени в яркую столовую как будто бабушкиного дома.
— Ну что, вынырнули, стало легче дышать среди знакомых предметов? — продолжала выталкивать меня на поверхность времени Анна Григорьевна. — Это прообраз самовара — сбитенник для приготовления горячего медового напитка сбитня. Чай-то появился на Руси только в семнадцатом веке. Самовары использовались не только для чаепития дома, здесь вы видите казацкие походные самовары, в них готовили кулеш и кашу. Сияющий медный самовар стоил очень дорого и свидетельствовал о состоятельности семьи. Его включали в приданое и передавали из поколения в поколение как одну из величайших ценностей, ведь внутри самовара жила душа рода и дома, объединявшая за чаепитием и беседой всю семью. Нередко у «пузатого сородича» спрашивали совета, слушая, как он шумит, одобрительно или сердито попыхивает. А уж со вкусом чая из самовара, пропитанного дымком еловых шишек, разве может что-либо сравниться?! Медный красавец был другом, собеседником, членом семьи. У староверов были строгие обычаи чаепития. Во-первых, чай всегда разливала хозяйка дома, на стол выставлялась всякая вкусная выпечка и варенье, на плечи гостям вешались маленькие рушники — пот вытирать, так как за трапезу самовар ставился несколько раз и выпивалось по 10–15 стаканов чая. Это уже в начале прошлого века тульские фабрики купцов Баташёвых массово стали выпускать самовары по доступным ценам.
— Знаете, Анна Григорьевна, я вам тоже расскажу историю о тульском самоваре, изготовленном на фабрике братьев Баташёвых, — решила я поделиться событиями, произошедшими со мной несколько лет тому назад. — Началась она в Нью-Йорке, в знаменитом ресторане Russian Tea Room по соседству с Карнеги-холлом, где среди ярко-красных диванов и таких же стен, разукрашенных золотыми узорами, выставлено несколько десятков медных самоваров: маленьких и огромных, пузатых, без труб и с длинными трубами, с узорными ручками и кранами. Вот как представляют русскую чайную комнату американцы! Они бы сильно удивились, попав в этот музей и увидев, что в заснеженной России единственный самовар стоял в деревянной светлице, где красный цвет встречался разве что на рушниках да на иконах. После этого я начала беседовать со своими друзьями о фамильных чаепитиях и самоварах. Но, к моему великому сожалению, я слышала практически ото всех одни и те же слова: «О каком семейном самоваре ты говоришь?! Войны, ссылки, репрессии, иммиграции — здесь не то что самовара, даже фотографий предков не осталось. Почти все семейные истории скрывались от детей. Нет, ничего не знаем и не помним!»
Однажды, вернувшись во Флориду и окончательно отчаявшись получить какую-либо информацию о самоварах от своих друзей, я случайно в магазине встретила небольшого роста пожилую женщину, которая, услышав, что я говорю по телефону по-русски, подошла ко мне и обратилась по-английски:
— Здравствуйте, меня зовут Рона, моя семья приехала в Америку в начале прошлого века из небольшого белорусского местечка. Мои прабабушка и прадедушка вместе с девятью детьми пересекли океан в трюме корабля, практически без еды и воды. Самой большой ценностью, которую они привезли с собой, был самовар. Я хорошо помню, как моя бабушка рассказывала, что они сидели очень голодные в тёмном трюме корабля и слышали, как пищат крысы. Тогда бабушка начала просить свою маму, мою прабабушку, чтобы та поменяла самое ценное, что у них было, самовар, на хлеб и накормила детей, а прабабушка ответила ей, что голод пройдёт, а самовар надо беречь и что её внучка, которая обязательно родится в далёкой Америке, когда-нибудь прикоснётся к нему и вспомнит о своих предках и их заокеанской родине. Бабушка пообещала своей матери беречь самовар. С тех пор у нас в семье есть старинный русский самовар из Тулы.
Меня тогда поразила история этой американской семьи, хранящей у себя больше века самовар как символ стародавней родины предков. Видя мой неподдельный интерес, Рона пригласила меня к себе, где и продемонстрировала своё сокровище — самовар, изготовленный на фабрике Василия Степановича Баташёва. Кроме того Рона оказалась замечательной художницей, она показала мне портреты своих бабушки и дедушки, нарисованные ею самой. Все девять детей её прабабушки преодолели океан, остались живы, получили в Америке образование. Мы сидели друг напротив друга, как родня после долгой встречи, и плакали…
— Очень трогательная и символичная история, показывающая, что в самоваре действительно жила душа рода и дома, — сказала Анна Григорьевна, вытирая платочком уголки глаз.
— Да, замечательная. Только с очень грустным концом, — согласилась я и присела отдохнуть на деревянную лавку светлицы.
— Почему с грустным? Самовар украли или он сам вышел погулять и потерялся? — попыталась пошутить экскурсовод.
— Нет, самовар просто выбросили за ненадобностью, как, впрочем, и портреты бабушки и дедушки, — вспомнила я тот страшный ветреный день, когда я приехала повидаться с Роной.
Перед домом, где она жила последние годы, её сын продавал её вещи, среди которых были самовар и портреты. Когда я спросила его, где Рона, он ответил, что она умерла неделю тому назад в соседнем госпитале. Я не могла поверить, что за несколько долларов этот статный, образованный и достаточно обеспеченный мужчина продаёт реликвию своего рода, и попыталась объяснить ему, что этот самовар означал для его матери величайшую семейную ценность, а значит, и для него тоже. Он мне ответил: «Традиции семьи моей матери умерли вместе с ней, я уже не знаю и не понимаю их, у меня иная культура, я — американец. Всё, что я могу сделать, это подарить вам, как русской, самовар в память о моей маме».
Теперь этот самовар — не электрический, расписанный для туристов, а настоящий Баташёвский — ставится у меня в саду под яблоней, и мы пьём ароматный, с дымком чай с пирогами. И я верю, что в нём пребывает душа моего дома, а внуку очень нравится колоть деревянные чурочки для его растопки. Вот так: самовар шумел-шумел — и нашумел мне дорогу.
Мы замерли возле самоваров, словно перед портретами предков.
— В этом мире всё случается не просто так и каждая встреча может многое изменить. Но давайте поднимемся на третий, последний этаж музея, — повела меня опять к лестнице Анна Григорьевна. — Здесь, на чердаке, в голове дома, живут книги с рукописными филигранными буквицами и рисунками фантастических зверей и птиц. Самые красивые — это певческие книги, ведь церковное старообрядческое пение особенное. Этот переливчатый музыкальный строй невозможно было передать нотной грамотой, музыкальные традиции певчих передавались только от учителя к ученику, поэтому в Покровском монастыре в XVII–XVIII веках была большая школа певчих и мастерская по изготовлению книг для них. Посмотрите, какими буквицами начинается каждая песнь, как будто райским светом раскрываются пелены прорастающего зерна мудрости и дыханием мороза расцвечиваются оконца книг. Буквицы, как камертоны, настраивали исполнителей и голоса певчих на передачу божественных звуков. Впереди нас ожидает зал рушников, где мы и закончим экскурсию.
Марфа Евграфьевна сидела за кроснами и ловко перебирала нити, прикрыв глаза, тихо напевая песню и притопывая в ритм правой ногой, как будто качая люльку ребёнка. В витринах за стёклами висели красно-белые льняные длинные полотнища с изображениями ромбов, крестов, зигзагов, фигур, напоминающих женские силуэты, птиц, гусей, медведей. У меня неожиданно возникло ощущение обманутой надежды, как будто я рвалась на берег живой сильной реки, а попала в аквариум. Ощущение глубины и мощи ушло безвозвратно, плечи мои опустились, и слова Анны Григорьевны уже проносились мимо.
— Ох, милая, пусто тебе, ломко, — раздался за моей спиной спокойный, ласковый голос Марфы Евграфьевны. — Хотела жар-птицу словить, да она в сундуке не живёт — она тварь вольная и тайная. Правильно почувствовала: какое тебе дело до того, что ромб — это символ пустоши, а ромб с крестом внутри — это пашня засеянная, ничего это тебе не даёт. Зачем тебе уметь читать и толковать чужие судьбы давно умерших. Рушник — это дорога или река, рух, путь рода, или человека, или войска, или народа, и читать его, толковать или создавать может только ткачиха-ведунья или пряха. Учить же этой традиции должна старшая женщина в семье ту, которую выберет родовой рушник. Поезжай к старшей в своей семье и задай те вопросы, какие хочешь, она, если сможет, на них тебе ответит, а если нет, то даст рушник или пояс, что поведёт тебя в дорогу.
— Есть один вопрос, что мучает меня после вашего рассказа о «Вождении стрелы»… А что будет, если во время обряда молния на небе не блеснёт и дождь не пойдёт? — с трудом выдавила я из себя.
— Ты чего стесняешься, правильный ведь вопрос задала. Если во время обряда молния на небе не появится и дождь не заплачет, то большая беда будет на земле. Это значит, что горе, копившееся долго, не уйдёт в небо и небесные силы не избавят людей от него. На моей памяти два раза не было молнии и дождя. В 1942 году, когда немцы летом и осенью пожгли наши деревни вместе с людьми, тогда многие пряхи погибли. И второй раз — в 1985 году. В тот год мои сельчане думали, что проскочили беду, ан нет! В апреле 1986 ухнул Чернобыльский реактор и почти весь Ветковский район выселили. Теперь уходи, прощай, езжай своей дорогой, устала я, — оборвала наш разговор старуха и стала опять стучать ногой, качая воображаемую люльку младенца.
Я поблагодарила Анну Григорьевну за интереснейшую экскурсию и уже на выходе из музея купила схему расселения староверческих скитов. Стрелки уходили на север — к Балтийскому морю, на юг — к Чёрному и Каспийскому, на восток — через Омск, Красноярск, Иркутск, Байкал — и заканчивались на Аляске.
«Да, права старая казачка: надо ехать к своим корням, к папиной, пока ещё живой, старшей сестре, к тёте Оле надо спешить; чувствую, ждёт она меня», — закрутилось в голове.
А ещё я поняла, что…
Нельзя познать традиции и свои корни из книг и в музеях — только от учителя к ученику, от старшей к младшей, глазами в глаза, из уст в уста, как создавались староверческие песни, рушники, пояса, иконы.

КАРТИНКА 6
Неположено!
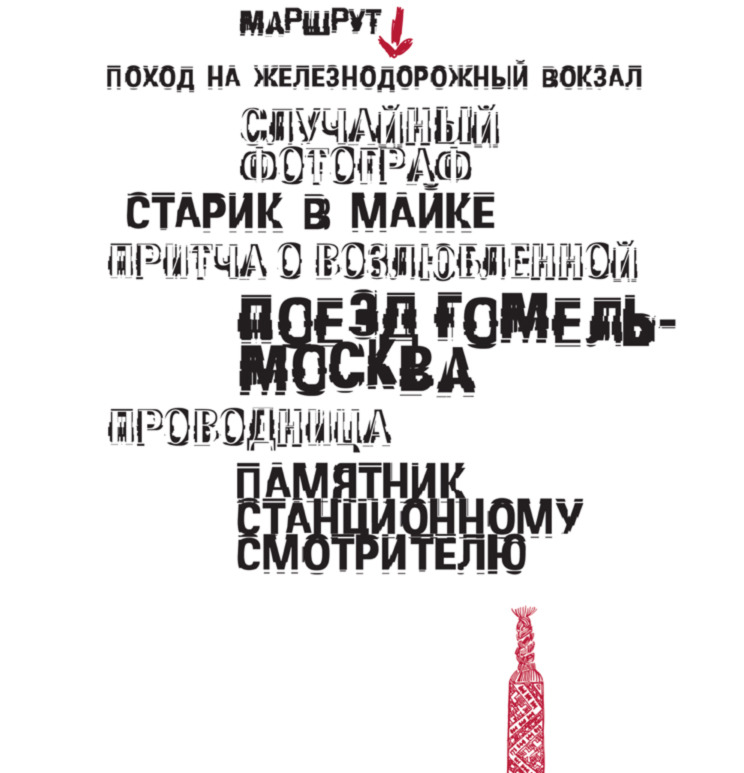
Сумасшедший запах сирени врывался в самое сердце, принося с собой ощущение счастья, какое бывает лишь в детстве. Утро звучало голосом радио, а из кухни доносился звон посуды и аромат маминых оладушек. Подушки пахли солнцем и ветром.
После завтрака я направилась к железнодорожному вокзалу за билетом на поезд и, глядя окрест, думала о том, что разница между старинной деревянной Веткой, где каждый дом обладал своим характером, судьбой и родителями-мастерами, и Гомелем, центр которого был застроен кирпичными пятиэтажками, растянулась не только на двадцать километров асфальтового шоссе, но и на три сотни лет.
Жёлтые, голубые и бежевые кубики зданий, выкрашенные и умытые, выстроились в ряд, прореженный аллеей с побеленными и аккуратно остриженными деревьями. На свежевскопанных клумбах сквера рабочие-озеленители высаживали уже цветущие кусты чайных роз и красили в белый цвет бордюрный камень.
Впереди, посвистывая, вышагивал парень с рюкзаком за спиной, явно любовавшийся этой чистотой и нереальной ухоженностью улицы. Привычным жестом он достал из кармана телефон и начал фотографировать. «Как жалко, что я забыла свой фотоаппарат дома», — пронеслось у меня в голове, и тут же, как будто в ответ на мои мысли, окружающий мир явил рядом с молодым человеком майора милиции.
— Здравствуйте, гражданин, — обратился к фотографу страж порядка. — Зачем вы делаете здесь снимки? Видите: люди работают, украшают свой город, а вы их смущаете и мешаете. Дайте мне немедленно ваш телефон! — произнёс он голосом, не допускающим возражений, и протянул руку.
— Извините, но это мой телефон и здесь не военная база, а обычная улица. Почему я не могу фотографировать то, что я хочу? — спокойно ответил представителю власти молодой человек.
— Вы меня не поняли: дайте мне телефон, я сотру снимки, которые вы только что сделали, и идите себе дальше, — продолжал наступать на парня милиционер.
— Это вы меня не поняли. Я свободный человек, не нарушаю никаких правил, законов и фотографирую где хочу и что нравится. У меня есть несколько часов до поезда, вот я и решил погулять по этому красивому городу и сделать несколько снимков на память. А в чём, собственно, дело? — крайне удивлённо ответил прохожий.
— Понятно, так вы приезжий и не знаете, что сейчас здесь должен проехать правительственный кортеж, поэтому дайте свой телефон, а заодно и паспорт для проверки, — продолжал невозмутимым тоном майор.
Парень протянул милиционеру свой телефон и паспорт. Представитель власти полистал документ, потом стёр фото и резко повернулся ко мне:
— А вы что здесь делаете, гражданка? Предъявите свои документы!
— Я иду на вокзал покупать билет на московский поезд, — ответила я, протягивая ему паспорт.
— Вот и следуйте по своему маршруту, а не глазейте по сторонам: здесь не место сейчас посторонним лицам. Не положено — вы русский язык понимаете! Беда с этими туристами! — отчитал меня майор.
Не знаю, чем бы закончился наш разговор, как плетью, ударивший меня словом «не положено», но тут из промежутка между домами на улицу вышел очень пожилой мужчина с палочкой. На его голову была нахлобучена выцветшая солдатская пилотка со звёздочкой, а одет он был в майку с медалями и значками и надписью по центру «Я ПРОТИВ!».
— Так у вас тут заговор, демонстрацию протеста собираете! Я сейчас покажу вам несанкционированный митинг перед спецкортежем! — заорал майор. Тут же рядом затормозила милицейская машина, из которой вывалились два здоровенных сержанта и затолкали в неё старика.
Очарование чистого и разноцветного города мгновенно улетучилось, я свернула во дворы и уже по ним добежала до вокзала. «НЕ ПОЛОЖЕНО! НЕ ПОЛОЖЕНО!» — стучало в висках. Купив билет до Орши, я в прескверном настроении, не отрывая глаз от кончиков своих туфель, тем же путём направилась домой.
— Ну-с, и что несёшься вся такая «плюнь — зашипит», по сторонам не смотришь, с людьми не здороваешься?! — раздался ироничный голос дяди Рафы, стоящего рядом с подъездом родительского дома и вытирающего платком мел на руках.
Я подняла глаза и увидела сначала два сердца, намалёванные мелом на асфальте, а сверху надпись: «Риточка, я тебя очень сильно люблю, ты наивысшая, ты мой космос, ты моя Вселенная!»
Глядя на испачканные мелом руки маминого соседа и его лукавую улыбку, я сразу сообразила, кто автор.
— Понимаешь, Пропажа, Риточка — это девочка, что живёт на пятом этаже надо мною, и месяц тому назад здесь появился этот опус магнум. Прохожие начали улыбаться и останавливаться. Хорошо стало вокруг! Но счастье недолговечно, и дожди смывали мел. Я потихоньку стал подрисовывать буквы, а здесь прошлую неделю маялся радикулитом, вот водичка и уничтожила художества. Вышел я сегодня за хлебом в булочную, а вокруг все какие-то злые, напряжённые, вот я и решил в наш двор счастье вернуть! Пока рисовал, кланяясь асфальту и растягивая свою радикулитную спину, придумал короткую притчу. Хочешь первой её услышать? — поинтересовался дядя Рафаил, осторожно присаживаясь на скамейку.
— Конечно, хочу, здравствуйте, дорогой Рафаил Маркович, — ответила я, выдохнув всю гадость до капельки.
— Как ты правильно произнесла, точь-в-точь как твоя мама: «Дорогой Рафаил Маркович!» Хотя соседа с четвёртого этажа твоя матушка величает «милый Толя», и я это всё должен терпеть! — продолжал меня смешить и разыгрывать дядя Рафа. — Притча же моя проста: «У Создателя, когда он был мальчиком, была любимая девочка по имени Солнце. Это была очень грустная девочка, потому что ей было не с кем играть. Чтобы рассмешить её, мальчик создавал для неё планеты и спутники. Солнце радовалась, но планеты и спутники надоедливо всё кружили и кружили вокруг неё, заглядывая в лицо и ожидая тепла, и ей опять стало одиноко. И тогда, чтобы развлечь любимую, мальчик вылепил из глины человечков и населил ими одну из планет. Увы, новые его творения также недолго развлекали Солнце. Задумался тогда мальчик и создал новую любимую, а вот способы ухаживания оставил старые. Видно, наибольшее удовольствие Создателю всё же доставлял сам процесс Творения!»
— Ха-ха-ха, про процесс вы замечательно подметили! — развеселилась я, напрочь забыв свои предыдущие мрачные ощущения.
Улыбка дяди Рафы сияла, как солнце!
— Молодость, всё бы вам активничать, суетиться, а мама твоя ловит каждую минуту рядом с тобой, чтобы успеть передать тебе любовь. Не уезжай надолго, нам здесь плохо без тебя! Вот тебе на дорогу манную бабку испёк, держи, а то похудеешь и не вернёшься. Счастливого пути! — слегка пожурил меня дядя Рафаил и протянул круглый свёрток.
В тот же вечер московский полупустой поезд уносил меня прочь. Маленький такой поезд, скукожившийся до шести вагонов. Не то что сорок лет тому назад, когда под громкий марш «Дорогая моя столица…» длинный и блестящий состав из двадцати вагонов, заполненный орущими, поющими и смеющимися людьми, уходил на восток, в столицу нашей общей могучей Родины. Перестали стремиться люди на восток, всё больше уезжают теперь на запад, в Европу.
Высокая, дородная проводница, затянутая в голубую железнодорожную форму, приветливо обратилась ко мне:
— Здравствуйте, ваш билет? До Орши следуете?
— Да, до Орши, на родину своего отца, вот хочу увидеть тётю, пока она ещё жива, — решила я поддержать разговор.
— Значит, земляки, я ведь родом из Шкловского района. Слава Богу, выбралась из этой грязи и глухомани… Деревни моей уж нет, старики поумирали, а молодые разъехались. Вы зачем к тётке, если не секрет? — поинтересовалась она, пряча мой билет в карманчик папки.
— Надеюсь поговорить с ней о семье нашей, истории, традициях, может, старые фотографии переснять, иконы, рушники увидеть, — начала я ни к чему не обязывающий разговор.
— Ай, какие традиции — грязища одна да хаты полуразвалившиеся. Смешно даже, зачем вам эти тряпки — рушники? Ни рук ими не вытереть, ни полы помыть, бесполезная в хозяйстве вещь. Не любитель я таких изысков, не понимаю эти народные промыслы, пустая трата денег. В детстве находилась по краеведческим музеям, учительница у нас была повёрнутая на истории родного края — сейчас не тянет. Я считаю, что такое должно храниться в музеях, дома ни к чему. Сама люблю все хайтековское, лаконичное, космическое, — разоткровенничалась проводница.
— Неужели не интересно знать, кто и откуда ваши предки? — удивилась я.
— К чему? Наследства они не оставили, а байки собирать… я и сама их придумывать умею. В наш век меньше знаешь — лучше спишь. К примеру, сегодня весь день пассажиров высаживали не на перрон, а через другие двери, по путям выводили, чтобы те на привокзальную площадь и центральные улицы попасть не могли. А зачем, спрашивается? Не моего ума дело. Нелюбопытный наш народ, болото напоминает: всё в себя засасывает, а наружу только «буль-буль»: дрыгва! Так, чай пить будете? Душистый, с чабрецом! — вставая, бросила проводница.
Я отхлёбывала терпкий чай из гранёного стакана в стальном подстаканнике с гербом СССР и думала о том, что и чай этот, и стакан с подстаканником — тоже старая традиция. Сколько всего поменялось, а она осталась.
Милиционер и проводница — одного поля ягоды. Только тому всё не положено, а этой всё по барабану: меньше знаешь — лучше спишь, лучше спишь — меньше знаешь.
Последнее время мне кажется, что я живу внутри какой-то сферы и стоит мне чем-то заинтересоваться, как со всех сторон начинают открываться дверцы или выдвигаться ящички, где лежит то, что меня интересует. Интернет открывается на нужной странице, по телефону звонят люди и приглашают меня в гости, где я нахожу интересующие меня предметы и сведения. И даже птицы и коты выводят меня к тому месту и событиям, что созвучны мыслям. Я становлюсь эдаким музыкантом, что слышит и видит музыку во всём окружающем мире и только записывает её на нотном стане, ведь ласточки на проводах так похожи на ноты, а шелест листьев и звон капели придают этой гармонии особые оттенки. Покуда я предавалась праздным размышлениям…
Поезд остановился на станции Могилёв. Немногочисленных пассажиров спокойно выпускали на перрон — то ли потому, что длинный летний день подошёл к концу и больше не предвиделось спецкортежей, то ли потому, что сюда кортежи вообще не добирались. В окно купе при свете вокзальных огней я увидела странную бронзовую фигуру станционного смотрителя с фонарём в одной руке и часами в другой, такую уютную и спокойную, что мне захотелось выйти и посмотреть на памятник поближе. Как только я приблизилась к нему, рядом, словно из-под земли, материализовался местный страж порядка и обратился ко мне всё с тем же вопросом: кто я такая и что здесь делаю. Да, бдительность в этой стране была на высоте!
Я вернулась в вагон, поезд тронулся, а через час показались огни Орши, где меня должна была встречать кузина Янина.

КАРТИНКА 7
Хранительница
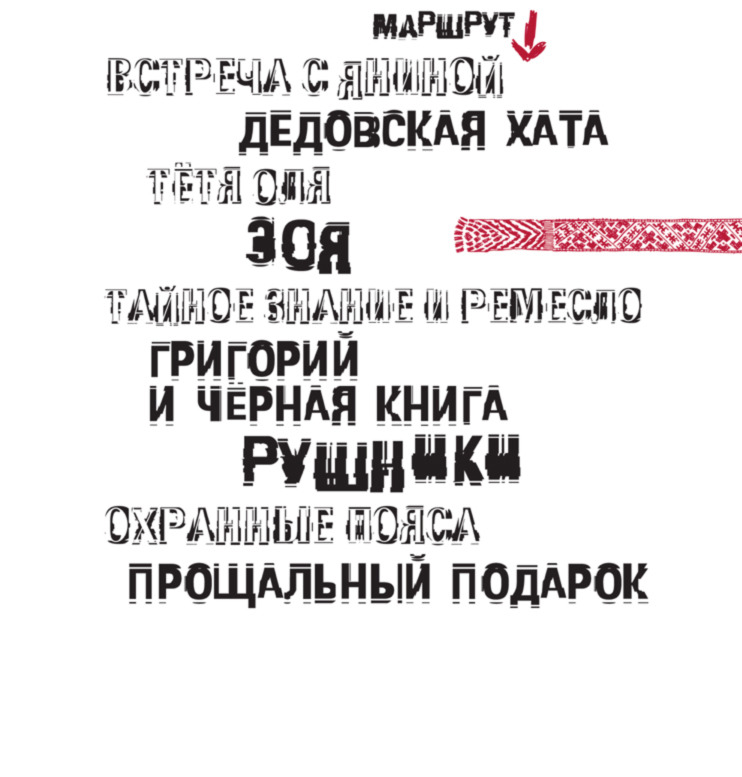
Около одиннадцати вечера я покинула уютный поезд и пристроилась на перроне в ожидании встречающих меня родственников. По железнодорожной платформе спешила статная женщина, средних лет, с пышной косой, в цветастом платье и загорелая настолько, что казалось, будто отпадный сарафан, молочная улыбка и венец солнечных волос сами по себе летят вдоль состава в поисках чего-то или кого-то. Это и была моя двоюродная сестра Янина, а не виделись мы лет этак тридцать. Обнялись, рассмеялись, поплакали, потрогали друг друга руками, как бы проверяя, не сон ли наша встреча, и поехали домой.
— Вначале забуримся в баню, сестрёнка, с настоящими берёзовыми вениками, я тебя попарю, а потом мёдом намажу. Да не бойся — настоящим, с нашей пасеки. Как я рада, что ты наконец-то решила добраться до нас, а то мама замучила меня совсем, допытываясь: «Кали Базылёва дачка приедзя?» — звонко, совсем по-девичьи щебетала Янина. — Ой, думаю, чудит старая, ведь уже девяносто пятый год ей пошёл. Зачем ты ей? Вспоминала она тебя в своих молитвах, память у неё отменная, повторит всех родственников, как живых, так и умерших. Последние полгода каждый день про тебя спрашивала, а тут ты сама звонишь и говоришь, что приедешь. Чудно! Так что завтра утречком тронемся к ней, молочка отвезём, творога и мёда, больше она уже давно ничего не ест. Живёт твоя тётка в дедовской хате, в той, что отец ещё твой строил. Одна во всей деревне: соседка её, бабка Федора, померла прошлым летом. Слепая мама уже на один глаз, согнутая, табуретку перед собой двигает и тащится так за ней, а переезжать ко мне не хочет ни в какую. Да не смотри на меня так, сестрёнка, ты же знаешь характер моей мамы: если сказала, что помирать будет в родительском доме, значит, так тому и быть.
Баня, чай да разговоры до утренней зорьки сделали своё дело: я уснула мертвецким сном. Ни крик горластого наглого петуха с сине-рыжим хвостом, ни шум техники, выходящей в поле, ни утреннее мычание коров не могли разбудить меня, поэтому, к своему стыду, проснулась я почти в полдень, когда Янина уже вернулась с работы на обед.
— Просыпайся, ленивица городская, всю красоту и силу продрыхнешь, умывайся, пей молоко, и рванём к маме, — разбудил меня раздавшийся громом с ясного неба кузинин голос. — А то сейчас наберу колодезной воды — будить тебя стану! Что, испугалась? Сразу вскочила, — шутила Янина, доставая из печи дымящийся чугунок с картошкой и водружая его на стол, где уже шкворчала сковорода с янтарной яичницей и розовым салом, а в миске нежились пупырчатые, маленькие, только что с парниковых грядок огурчики, редиска, укроп и перья зелёного лука. Как же всё это было смачно и весело есть, запивая парным молоком дневной дойки.
Через час мы уже приближались к деревне, где жила тётка Оля.
— Вот так и езжу каждый день к маме в обед — проведать, печь протопить, воды наносить, еды привезти, благо всего десять километров. Телефон у неё мобильный теперь есть — позвонить может мне в любое время, — рассказывала про своё житье-бытьё Янина, ловко управляя старенькой «Нивой» и объезжая рытвины грунтовой дороги.
Мы миновали большое деревенское кладбище и свернули на улицу, скорее похожую на погост, с мёртвыми домами и окнами, забитыми досками. И вдруг над нами пролетел чёрный аист.
— Аисты-отшельники поселились в деревне лет десять тому назад. Это белые птицы детей и счастье приносят, а чёрные аисты покой берегут, чураются они людей, — поясняла Янина.
Деревенские дома, словно глухонемые, стояли молча в ряд. Грустная картина!
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
