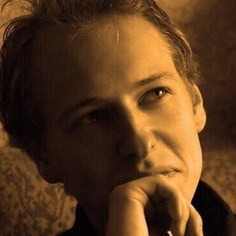Бесплатный фрагмент - Позволь реке течь
Роман для тех, кто хочет быть счастливым

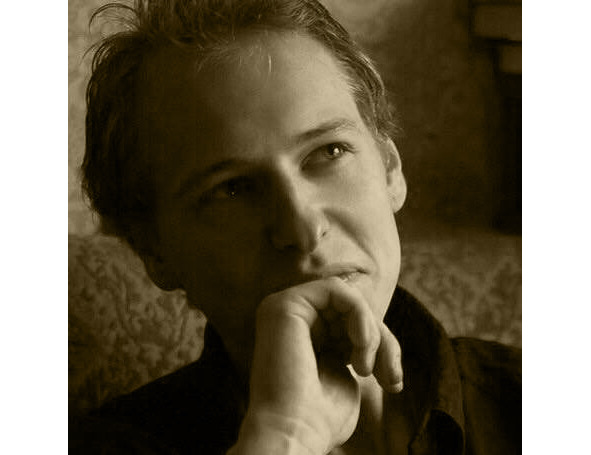
***
«Позволь реке течь»
Внезапно рухнувшая ночь тяжело нависает черной простыней над домом. Знаю, на юге всегда так бывает, но я отчего-то не в состоянии к этому привыкнуть. Вот, как ни старайся, не могу этого понять, а точнее, уследить, уловить, ухватиться за вечер — маленькую крупинку дня. Растянуть бы ее, как жевательную резинку без сахара, и рассмотреть под микроскопом со всех сторон. Тогда, может быть, хоть что-то стало бы понятней, ближе — проявился бы ощутимый контур чего-то постоянно ускользающего…
Но, наверное, вместе с ним исчезла бы и дымка таинственности — реализм прагматичной науки непременно убивает божественную романтику неполноты. Это как в школе: смотришь на уроке биологии через окуляр на стеклянную пластинку, а там — увеличенный в тысячи раз монстр. Тебе объясняют, что предъявленная гадина является простейшим микроорганизмом, откликается на такую-то кличку и в разрезе выглядит вот так, и тычут тебя носом в схему. И ты, косясь на это создание, невольно сравниваешь ее с собратом на плакате. И видишь — не похожи. Но все равно киваешь в такт учительнице, бубнящей заученный текст о важности этих «образований» для природы в целом, и, конечно, их месте в пищевой цепочке в частности.
А в голове у тебя мысли совсем другие: эти организмы живут, размножаются, питаются, воюют и умирают — и, по сути, ничем от людей не отличаются. Разве что размером, да внешним видом. И вот ты — такой же организм, и на тебя кто-то тоже сейчас в микроскоп глядит… что захочет с тобой, то и сделает. А ты, глупый, даже не подозреваешь о том, что и как на самом деле есть (кстати, равно как и твой меньший брат по участи). И вдруг такая тоска невыносимая накатит, что глядеть противно становится, и урок учить ни к чему… Черт бы побрал эту школу! «Знания умножают скорбь» — это ещё царь Соломон сказал.
Поглощенный раздумьями, я меряю свою крохотную времяночку шагами. Три вперед, разворот, три назад, ещё раз. Три вперед, разворот, третий назад и… И всё меняется в мгновение ока: земля взмывает куда-то ввысь, потолок обрушивается под ноги, а я сам со смачным звуком шмякаюсь на встающий на дыбы пол. Больно… В голове шумит, как во время прибоя на берегу — особенно здорово шарахнулся именно ей. Жизнь жутко несправедлива — ошибаюсь я целиком, а все удары на себя принимает моя самая слабая часть тела.
Окинув взглядом место происшествия, я понимаю, что послужило причиной столь резвого моего падения, и это заставляет меня рассмеяться, несмотря на боль. Оказывается, во всем виновата банановая кожура — ни дать ни взять штампованный кадр из немого кино. Комедия… Поужинал, а убрать за собой не догадался — результат налицо… Храните травмоопасные предметы в труднодоступном месте!
Сажусь, растирая ушибленный затылок, и чувствую, как под моими пальцами вырастает приличных размеров шишка. Угораздило же меня… Расскажу завтра об этом ребятам — будут ржать надо мной, как сумасшедшие. Представляю себе их лица… Да я бы и сам на их месте смеялся до колик.
Встряхнув головой, пытаюсь немного прийти в себя. Раньше я этого не замечал, но, оказывается, с этой точки открывается отличный вид — и в том числе прямо на соседский балкон, на котором как раз кто-то курит. Я вижу, как витает алый мотылек сигареты — на мгновение разгораясь и становясь ярче, он затем вновь блекнет, теряя насыщенность цвета… Интересно, видел ли тот человек мое эпичное падение? В любом случае, при всякой оплошности можно сделать вид, что все произошло не случайно, а было запланировано, сделано намеренно, как раз потому, что знал — за тобой наблюдают. Хорошая мина при плохой игре: с таким подходом все ошибки переживаются легче. Поэтому я с удовольствием корчу рожу в ту сторону — пусть, если что, будет в курсе, что и я тоже в курсе! Но, к моему глубочайшему сожалению, рожа выходит постная и скучная. Не так смешно ее изображать, как смотреть на это со стороны.
Вот, скажем, раньше была у меня подзорная труба. Давным-давно, ещё до школы. С виду простая, ничем не примечательная. Такие промышленность в то время, наверное, миллионами штамповала. Но для меня она представляла собой настоящее чудо, хотя на витрине магазина совершенно не казалась такой уж волшебной штуковиной, способной проникать сквозь пространство, заставлять приближаться отдаленное, показывать невидимое легко, как «свет мой зеркальце…». Однако, несмотря на всю свою прелесть, сие хитроумное устройство не пробудило во мне тяги к науке. И общие впечатления исследователя свелись к тому, что я помню, как выглядит укрупненная с помощью оптики сверкающая карта звезд, да, пожалуй, ещё занавески в окне напротив. Аллилуйя!
Не спеша поднимаюсь на ноги. Разноактивные мысли, мыслишки, мыслюшонки и мыслюшата ступают железными пятами, пятками, пяточками и пятенятами по плодородным равнинам моей памяти. Выписывая круги среди неразрешимых вопросов, спотыкаясь о выпуклости неприятных воспоминаний и задерживаясь подольше на позитивных моментах, они шуршат шелухой происшествий, обращаясь ко мне, как к равному. И меня это радует…
А на Севере сейчас белые, будто суфле, ночи… Солнечный диск, не торопясь, лениво уползает за «неровность вычурную крыш» на пару часов. А потом он снова будет медленно подниматься вверх, чтобы после с ускорением вновь рвануть к горизонту. Закат, как и все пути с вершины — дорога вниз… Удивительно, но меня почему-то совсем это не беспокоит. Наверное, также как и не тянет домой. Говорят, что дом — это там, где тебе хорошо. И точно — я чувствую себя здесь дома. Дома — потому что здесь хорошо! И мне хорошо! И хорошо, когда хорошо!
Я выползаю под раздолье небес. В помещении спать жарко — раскалившийся за день металл крыши неохотно остывает, отзываясь специфичным пощелкиванием. Ему вторят цикады и невесть откуда взявшиеся комары. Поэтому лежать в этой душной, звенящей микроволновке, пусть даже под простыней, попросту невозможно. Снаружи всё совсем не так — с моря легким бризом тянет прохладой и среди темнеющих на фоне неба ветвей ослепительно ярко блещут звезды. Запрокинув голову, я стою так минут пятнадцать, любуясь красотой бесконечности. Правда, моих познаний не хватает на то, чтобы отыскать, скажем, созвездие «Стрельца», но это не умаляет красоты всей развернувшейся пред моими глазами картины… Мы так редко смотрим вверх, постоянно устремляя взгляд себе под ноги, словно ждем чего-то. Например, что внезапно наткнемся на золотоносную жилу, нефтяную скважину или на чемодан, упакованный хрустящими новенькими стодолларовыми бумажками. Вот порой и забываем, в каком именно мире мы живем. А ведь это вовсе не мир валютных магнатов и звезд скандальной желтой прессы. Наш дом — обитель гармонии и чудес, залитая до краев восхитительными по красоте пейзажами, населенная неповторимым многообразием организмов и субстанций. Мы не ценим в спешке своей жизни того, что распростерто вокруг нас, предпочитая сиюминутную выгоду огромному и всепоглощающему счастью. Скажите, давно вы смотрели на звезды? Я — слишком. И поэтому сейчас все так славно…
Тихий смех выводит меня из состояния гипнотического транса. Я с трудом возвращаю запрокинутую голову в прежнее положение, и перевожу взгляд на дом. Ликино окно золотится тусклым светом ночника. Оттуда снова слышится смех. Видно они со Шкипером ещё не спят. Сейчас помаются дурью, а потом займутся любовью. Счастливые… Я вздыхаю, и присаживаюсь на край скамейки. Хорошо хоть они будут делать это тихо, чтоб не разбудить Арчика, а то я знаю, как Лика в процессе получения чувственного удовольствия способна верещать…
Странно все-таки — назвать сына Артуром… Мы же вроде не в Средневековой Англии живем, другие времена на дворе. Ну да Бог с ними. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Главное, чтобы человек вырос хорошим, а как его при этом звать — не важно. Имя, в конце концов, и поменять можно.
Когда я начал ходить на карате, был там мальчик младше меня лет на пять. И имя у него было то же, только величали уменьшительно-ласкательным — Артурчик. Сразу становилось заметно, что ребенок далеко не из обыкновенной семьи: малиновые пиджаки, Моцарт из «утюга» и мерин шесть-нуль-нуль. Во всяком случае, все к этому пацаненку относились почтительно, и даже тренеры лебезили перед ним. И однажды случилось так, что меня с этим Артурчиком поставили в спарринг. Надо признать, что насилия я не терпел никогда, и спарринг этот был для меня первый и, забегая вперед, скажу, что последний… Мы поприветствовали друг друга, «хадзимэ!», и бой начался. Артурчик бросился на меня аки гладный лев на трепетную лань и начал колошматить куда придется. Никак не ожидал от мальца такой прыти! Да и бить человека заметно ниже ростом и находящегося со мной в совершенно разных весовых категориях не хотелось. Я бы ни за что в жизни не стал этого делать. Поэтому, отступая, пытался закрыться от ударов, но… Словом он провел запрещенный прием, заставив меня согнуться от боли, а затем прыгнул и повалил… Дело запахло жареным — проигрывать было унизительно. Тогда я собрал всю свою волю в кулак и ответил всерьез.
Долго потом тренеры недовольно качали головами… Да и вообще, отношение ко мне в секции сменилось на крайне негативное. Пришлось уйти, так и не получив даже желтого пояса. Хотя, казалось бы, чего такого — разбил человеку нос, губы и поставил ослепительный бланш под глазом. Делов-то… На то оно, вроде как, и карате… Ну а потом, во взрослой жизни, чаще все-таки били меня. И не то чтоб я был таким уж отпетым пацифистом, не принимающим никакое насилие, просто…
Просто… Не знаю… Так складывалось, потому что я… Потому что… Черт возьми, да кто же я на самом деле? Что я могу сказать о себе? Вот если сейчас внезапно откину коньки или склею ласты, то какие слова будут написаны обо мне в эпитафии? Каким запомнюсь друзьям и знакомым? Надо бы задуматься о собственной роли в жизни — сделать выводы, пересмотреть позиции…
Начинаю бесшумными шагами мерить двор — четырнадцать плиток вперед, разворот, четырнадцать назад и ещё раз. Главное в темноте не споткнуться о какую-нибудь оставленную вещь. Ибо ночь на дворе стоит такая — хоть глаз выколи, а с меня на сегодня падений хватит.
Итак, что у меня позади?
Прожил я с горем пополам двадцать девять лет. Это порядка десяти с половиной тысяч дней, а уж сколько секунд и считать страшно… Из этих самых двадцати девяти лет я совершенно не помню первые года четыре, а ещё три рисуются в памяти крайне смутно — лишь отдельными моментами. Исключим к тому же время, потраченное на учебу (одиннадцать лет в школе и шесть в универе), и я получу чистыми — пять. Из этих пяти стоит вычесть все пьянки и дни, следующие за ними; дни, упущенные по состоянию здоровья, а также потраченные на работу и глубокие депрессии. Ещё часы, проведенные в пустом ожидании (автобуса, опаздывающей девушки, начала приема в сберкассе) и время, ушедшее на перемещение в пространстве. Спрашивается, что я получил в итоге? Каких-нибудь пару лет жизни для себя? Пару лет без мытья посуды, полов и плиты, без выяснения отношений и ссор, без контроля и присмотра… дни без обязательств и воплощения в жизнь глупых пустых обещаний. И вот эти вот два года — это и есть весь я?
Хорошо! Ладно. Допустим. Значит, этими двумя годами своей жизни я могу нарисовать полную картину себя с избытком. Что ж, попробуем!
Зовут меня Руслан. Ростом я под два метра, комплекции плотной, склонен к полноте. В армии не служил, серьезно не болел, руки-ноги не ломал, в аварии не попадал, не тонул-не горел. Из тридцати двух зубов, правда, навсегда лишился около дюжины, что порою наводит на мысль, что я гималайский сурок… Сердце временами пошаливает, но это от постоянного употребления табака и алкоголя. Понимаю, что своими руками рою себе могилу, вот только отказаться от искушения не в силах.
Жил у себя дома или в квартирах подруг, которых за десять лет взрослой активной жизни насчитывается всего четыре штуки. С половиной из них расстался мирно и поддерживаю вполне приятельские отношения… Ни у одной не был первым, что, естественно, несколько печалит. В браке не состоял, детей не завел. Однако стал причиной пары абортов, чего до сих пор не могу себе простить.
Хорошие друзья появлялись с частотой — один в год. Терял я их в два раза реже. В итоге, сейчас постоянно общаюсь примерно с десятью, чего должно хватать, если бы у всех находилось на меня время.
Трижды был заграницей и остался не слишком доволен. Стандартный тур: банальные экскурсии, обыденные впечатления… Почему же я так дьявольски мало путешествовал? Надо бы это исправить, и, как только выдастся свободное время, рвануть куда-нибудь — хоть «стопом», хоть на велике, хоть пешком. Нельзя разделять свое время только между домом и работой. Это неправильно. Разве для того я пришел в этот мир, чтобы оказывать финансовую поддержку боссу, который благодаря моему труду ездит по Европе и развлекается? А у меня если и остаются силы, так только на то, чтобы в выходные выбраться в ближайший лес пожарить шашлыки. Это ведь категорически неправильно! В конце концов, мой работодатель преуспевает лишь из-за меня и таких, как я — не будет нас, не будет и его успеха…
Кстати, насчет работы: за одиннадцать лет трудового стажа я сменил около семи профессий, пока не остановился на буковках и циферках — стандартном и невероятно скучном наборе программиста. Общий заработок за все время должен был бы составить приличную сумму, но для себя я расщедрился лишь на подержанный старый «Опель» и участок за городом в шесть соток с сараем на нём.
Так, что ещё?
Написал кучу страниц кода, несколько неплохих статей по софту и могу самостоятельно собрать из груды запчастей вполне приличный комп, чему и рад безмерно… Пересмотрел пару тысяч полнометражных фильмов (некоторые не по одному разу) и прошел около сотни игрушек… Деревьев не сажал, дома не строил…
Да, что-то рисуется не слишком радужная картина «меня» — можно сказать, вся жизнь прожита даром.
Ой-ой-ой… Как же это нехорошо… Это даже звучит отвратительно — «даром»! Эдак, если и дальше так пойдет, на смертном одре похвастаться будет совершенно нечем. И не помянет меня никто добрым словом, и не вспомнит. Пора, наверное, начать переосмысливать свое бытие и направлять жизнь в нужное русло, чтобы все без исключения, с кем меня сталкивает стремительный поток бытия, могли с чистым сердцем, нисколько не кривя душой, сказать, что с моей помощью они стали чуточку чище и добрее, а мир вокруг обрел малюсенькую капельку иного смысла и новых красок… Уверен, это будет как раз то, что нужно.
С этой великолепной мыслью, окрыленный воодушевившей меня идеей дальнейшего саморазвития, я безмятежно отправляюсь спать, зная, что эта ночь станет для меня одной из самых спокойных в жизни.
* * *
На моих часах без двенадцати минут и тридцати трех секунд шесть. Я недавно проснулся и лежу с открытыми глазами. Пялюсь в потолок. Мне всегда доставляло удовольствие собирать в голове какие-нибудь замысловатые геометрические фигуры из узорчатых панелей, которыми он оклеен. Вот, к примеру, деталью рисунка каждой из них является окружность, и если внимательно присмотреться, то из двенадцати можно сложить крест.
Все-таки двенадцать — это какое-то сакральное число. Месяцы, апостолы, поэма Блока… Кстати, я регулярно его перечитываю. Странно, ведь никогда не любил, а тут, вдруг, начал читать. Да и не только его, а прям всю поэзию «Серебряного Века». И хотя до конца ее так и не понял, но каждый день с упорством барана, вновь и вновь принимаюсь за штудирование. Авось проймет… Но пока что-то не пронимает. Должно быть, в мире есть вещи, которые — твои и, которые — не совсем. Даже если они очень и очень здоровские, и нравятся большинству.
Впрочем, то же самое можно сказать и о людях — с ними не всегда просто прийти к взаимопониманию. Редко бывает, когда находишься на одной волне с человеком. И уж если посчастливилось столкнуться с таким — сгребай его в охапку и ни за что не выпускай из своей жизни. Потому что это — самый настоящий дар: духовная близость! Хотя, случается и наоборот… Скажем, где-то примерно через полчаса должна встать Анна Николаевна — мать Шкипера. Уж насколько она замечательная, и во всех смыслах удивительная — днем с огнем второй такой не сыщешь. Низенькая, коренастая, пухленькая, с виду очень медлительная, она полна невероятной бьющей через край энергией — и по дому постоянно хлопочет, и на рынок бегает, и ораву подобных мне раздолбаев терпит и, более того, кормит и беспокоится обо всех. При этом всегда с улыбкой, шутками-прибаутками и хорошим настроением — клад, а не женщина! Но, увы, найти с ней общий язык у меня до сих пор не получилось. То ли не нравлюсь я ей в силу своих несуразных комплекции и размеров, то ли пристрастие к алкоголю всему виной, но есть что-то такое незаметное и неизмеримое, что и ощущаешь-то лишь пресловутым шестым чувством… А может быть, мне только кажется… Да! Скорее всего, так. Так оно как-то спокойней…
Когда Анна Николаевна встанет и выйдет с бидончиком за калитку (молоко начнут продавать из бочки в районе семи — нужно успеть взять его, покуда оно тепленькое) солнце, лениво потягиваясь, ещё только начнет освещать верхушки абрикосового сада по соседству. Тихо скрипнут ржавые петли, глухо заворчит лишайная соседская псина Пальма, а Николавна непременно пригрозит ей: «Цыц, окаянная!». Тут же, ну, максимум с интервалом в пять минут, проснется на чьем-то дворе петух. Не спеша слабо кукарекнет разок, словно пробуя свои силы, потом ещё раз — уже громче, и, наконец, в полную мощь гаркнет свое переливчатое «Кукаре-е-е-еку-у-у-у». Следом подхватят остальные, и вся улица на несколько минут утонет в гаме нестройного хора «пернатых будильников». А затем из репродуктора деды Миши польется гимн, он выйдет в своих парадных семейных труселях к «построению» — отдаст честь куда-то в сторону столицы и, промаршировав по направлению к нужнику, начнет поднимать государственный флаг, который успел уже основательно пообтрепаться и выцвести… Вообще, несмотря на все свои странности и загибоны, деда Миша — отличный мужик! Как говорится, «мастер на все руки». Кроме того — башковит. Словом, обладает такой народной смекалкой, которая, как я думаю, раньше передавалась по наследству из поколения в поколение.
Повезло Шкиперу с родителями! Анна Николаевна ответственна за цветы и за борщ, деда Миша за дорожки, за времянку и дом, который сам и ставил. Ну, а Шкипер им, конечно, в меру своих сил теперь помогает. За это ему, несомненно, стоит воздать должное… Вот не дай Бог попался бы им такой сынок, как Эл — не припомню, чтобы он хоть что-нибудь своими руками сделал! Хотя, может это и приходит со временем, а он ещё элементарно не дозрел… и где-то примерно через часик с небольшим, когда Лика поднимет его пинками, и Эл, зевая во всю пасть, выйдет на крыльцо, его внезапно, как гром среди ясного неба, торкнет мысль: «А почему бы мне не сделать сегодня…». И он, следуя порыву, конечно же, в очередной раз этого не сделает… Ну, а может и наоборот. Но тогда непременно сегодня! Ведь бывает же такое?
А пока всё кругом ещё спит. И можно с незабываемым чувством свободы следить глазами за сонной мухой, ползущей по стене, складывать в голове крестики из кружочков на потолке, и вращать их на северо-запад — туда, где какой-то месяц, а может быть и добрую сотню лет назад находилось то место, которое я называл домом…
* * *
Однажды я где-то прочитал весьма неплохую мысль, которой проникся фактически до самого мозга костей. А звучала она примерно следующим образом: «Бывает, ты возвращаешься домой с работы, делаешь себе горячий чай с лимоном, забираешься с ногами в кресло и укрываешься теплым пледом. А вокруг — тишина… И в этот самый момент ты, и только ты для себя решаешь, что это — одиночество или свобода…»
Черт меня побери со всеми моими планами, но там, позади, в прошлой уютно-домашней жизни, я, ни на секунду не колеблясь, ответил бы, что это свобода. И только здесь, в компании людей, которые теперь стали мне ближе, чем собственная кожа, я безоговорочно поменял свое мнение на противоположное.
И это вовсе не значит, что я перебежчик или предатель своих идеалов. Просто тот дом перестал быть таковым, когда я познал «Дом» этот. Более того, я склонен думать, что прежний никогда на самом-то деле и не был им: скорее являлся прибежищем; обжитой раковиной моллюска; коралловым рифом рыбы-клоуна; местом, где можно было бы спрятаться и под одеялом переждать ураган жизни, несущейся за окнами. Это был склеп, в котором я собирался похоронить себя заживо; поместье графа Дракулы со всеми удобствами — полы с подогревом, терабайт софт-порно и пельмени из морозилки на ужин. Эта размеренная устаканенность бытия засасывала, как болото, как дурман-трава отнимала волю и желание что-либо менять в своей жизни. И если бы не совершенно случайное совпадение неких фактов, я бы, пожалуй, до сих пор просиживал штаны, любуясь красотками на постановочных отфотошопленных снимках в социальных сетях. Но, хвала небесам, случайностей в этом мире нет, и Авалокитешвара не зря распростер свои большие уши и внемлет голосам, звучащим вне моего сознания. И значит всё, что должно произойти, сбудется. Ибо всё предначертано в Великой «Книге Судеб». И даже то, что ты читаешь сейчас эти строки…
Я помню, в тот день шел дождь. Нет, не дождь это был, а настоящий потоп, стена воды, смывающая все на своем пути, жутчайший ливень, к которому я оказался совершенно не готов. Ещё вчера встроенный в браузер плагин премиленько показывал мне иконку солнышка и циферку «+21», а сегодня днем с оттягом вдарила самая что ни на есть натуральная гроза. Первая за этот год.
Перескакивая стремительно разрастающиеся лужи и водные запруды, неуклюже лавируя между потоков, с ревом вырывающихся из водосточных труб, я, стараясь не наткнуться на хищно растопыренные спицы слепых зонтиков, спешил в свой обеденный перерыв за шавермой. Честно признаюсь, желания вылезать из офиса в такую погоду не было никакого — снаружи было слишком мокро, слишком противно, слишком гадко и мерзко. Но сидеть и с урчащим желудком слушать, как коллеги обсуждают бизнес-ланч, хотелось ещё меньше. Все-таки мою тушку весом в добрую сотню килограмм надо снабжать соответствующим питанием.
Именно поэтому я с видом ужаленного пчелой оленя несся к знакомой будке с призывными лозунгами «Хычины. Беляши», где буквально нос к носу столкнулся с Элом. Он стоял, низко наклонив голову, скрытую под капюшоном, с которого стекали несколько плотных струек воды, и безнадежно пытался прикурить. А я же его попросту не заметил. Потревоженный таким абсолютно не галантным способом, Эл выдал трехэтажное выражение, и в тот момент, когда мой куда более изощренный ответ был уже готов сорваться у меня с языка, наши взгляды встретились.
— Старик, — Эл выплюнул сигарету и схватил меня за рукав. — Сколько лет, сколько зим…
— Здаров, — сказал я, несколько глупо улыбнувшись. Вода лилась по лицу, попадала в глаза, мне постоянно приходилось вытирать ее с губ и стряхивать нависающие капли с носа, и совершенно не грела мысль провести ещё несколько минут под дождем пусть в дружеской, но всё же лишенной всякого смысла беседе.
— Ты куда так летишь? Чуть было меня не растоптал… — осклабился Эл.
— Ты извини, у меня обед… — развел я руками.
— Понимаю… — согласился Эл. — Слушай, а давай вместе пообедаем. Я, кстати, ничего с утра не ел. Тут рядом есть какие-нибудь местечки прикольные?
Во мне тут же не на жизнь, а на смерть сцепились два желания. Первым было — послать Эла куда подальше, потому что меня не радовала мысль плестись с ним по ливню до какого-нибудь кафе, пить там чай втридорога, а потом ещё раз промокнуть по дороге назад. С другой стороны, поговорить нам, в принципе, было о чем. Мы с ним не виделись лет шесть — с тех самых пор, когда он торговал пиратскими дисками в одном полуподвальном помещении, а я терся в канцелярском магазинчике наверху, добывая себе лишнюю копейку в роли продавца-консультанта.
Тогда рабочий день Эла был длиннее моего на час, и я, закрыв магазин, спускался к нему и проводил этот час за бутылочкой–другой пенного напитка, болтая о всяческих пустяках. Потом Эл подбивал кассу, и мы вместе шли до метро, где наши пути расходились.
Однажды (в небе тогда светило теплое осеннее солнце, пахло прелой листвой и веяло какой-то особенной свежестью), я под характерные звуки, доносящиеся из полиэтиленового пакета с незатейливой надписью «пиво», спустился в подземное царство своего друга.
— А мне жутко фартит, — заявил он, отхлебнув солидную часть из тары зеленого стекла. — Представляешь, приходит сегодня один мужик. Весь такой в костюме, с барсеткой… Деловой, короче. И просит он фильмы для взрослых. Ну, и чтоб там… и тут… и вот тут было… — Эл наглядно показал руками, что имел в виду покупатель. — Значит, даю я ему несколько коробок, он выбирает три диска и сует мне купюру. А у меня как назло сдачи нет. Я ему говорю: «Извините, Вы не сходите разменять?». А он рукой махнул, сказал: «Не надо», — и ушел. Так что теперь у меня хороший бонус к окладу.
Однако когда Эл стал считаться, касса начала безбожно минусовать. Он посчитал один раз, потом другой. На третий раз он ударил себя по лбу:
— Твою мать! Ну что ж за лажа… Ты прикинь, я ему порево как обычный диск продал — не по той цене… Теперь я не то что не в плюсе, так ещё из своих добавлять придется!
У него тогда был настолько жалкий и растерянный вид, что я с трудом удержался от смеха.
Я улыбнулся, вспомнив то происшествие… В сущности, Эл был хорошим человеком. Да и перефразируя одного литературного мученика, мне хочется сказать, что плохих людей не бывает… Секунду поколебавшись, я всё-таки принял его предложение, ограничившись лишь одним условием — мы сядем обедать в ближайшем месте.
Этим местом оказалась закусочная сети быстрого питания. Что, в общем, меня устраивало по всем параметрам — кормили довольно сытно и, самое главное, недорого. Эл заказал себе солянку и кофе, а я — полноценный обед из маленькой порции невозможно острого супа харчо и тефтелек с макарошками, залитыми восхитительной ароматной подливкой. Проводив взглядом официантку, мой приятель достал мятую пачку сигарет и закурил. Я предпочел отвернуться. Свободно бросать курить мог позволить себе лишь такой гений, как Марк Твен.
— Нет ничего лучше, чем сытно пообедать, — глубокомысленно изрек Эл. — Ну, разве что только трах. Но тогда это должен быть хороший, отменный трах.
Я ничего ему не ответил. Не то что отменного, но даже обычного траха, у меня не было уже довольно давно. Но Эл, как назло, продолжил развивать свою мысль:
— А такой трах случается только по любви… Вот ты знаешь, ни с кем мне в жизни так не было хорошо, как с Ликой. Ты себе и представить не можешь, что мы с ней вытворяли в постели, — Эл присвистнул. — Закачаешься… Жаль, конечно, что ей вожжа под хвост попала. Вынь да положь, давай поженимся… Как же все эти бабы бывают тупы, правда?
— Ну… — протянул я. — Это с какой стороны посмотреть. Вот, если ты, к примеру…
— Я, кстати, через пару недель к ней собираюсь, — перебил меня Эл, не дав мне закончить мысль. — Она сейчас там живет. На юге, — он махнул рукой. — Вышла всё-таки замуж за Шкипера… Да и правильно! А я поеду, расслаблюсь, отдохну… Сама, между прочим, предложила, — подмигнул он мне, ехидно хохотнув.
Я пристально посмотрел на Эла. Несмотря на исполнившиеся двадцать семь, он был совершенной копей себя самого шестилетней давности: та же легкая щетина с налетом откровенной маргинальности; те же хитрые глаза; те же малюсенькие, словно оспинки, шрамы на лице — результат автомобильной аварии, когда разлетевшееся боковое стекло впилось сотнями острющих когтей в его щеки, лоб, подбородок и нос. Из сильных изменений я бы назвал лишь наличие дредов — его некогда коротко стриженые ярко-рыжие волосы теперь представляли собой фонтан кирпичных экскрементов, растущих из головы. Но, по понятным причинам, я ему этого, конечно же, не сказал. В остальном, Эл оставался все тем же. Но только внешне…
Как мне показалось, его внутренний мир претерпел большие перемены: поменялась жестикуляция, появились незнакомые интонации в голосе… Он перестал быть мальчиком, но нет — не повзрослел. Он просто изменился. Похоже, наркотики оставили в его душе глубокий след.
Зачем же судьба так сильно испытывает нас? Почему человек не в состоянии прожить свою жизнь без потрясений и печали?
К слову, насчет испытаний: проснувшись в тот день утром, я понял, что у меня никак не получится избежать всяческого рода проблем и неурядиц — будильник по какой-то лишь ему одному ведомой причине не зазвонил. И, когда мама с вопросом: «Сынок, ты часом не заболел? Чего на работу не встаешь?», — зашла в мою комнату, до выхода мне оставалось около трех минут. Я вскочил как ошпаренный, начал метаться по квартире, мигом оделся и выскочил на улицу, даже не успев позавтракать, не говоря уже о том, чтобы собрать еды с собой, и поэтому мне пришлось идти на обед. А отсутствие зонтика заставило бежать бегом, что привело меня к встрече с Элом.
Получается, что все эти неудачи существовали лишь в моем сознании. А на самом деле у них была совершенно ясная и определенная цель: в нужное время я должен был оказаться в нужном месте. И мне достаточно было посмотреть на происходящее со стороны и спросить себя: «Что я смог вынести из того, что творилось вокруг? Чему я смог научиться?». Конечно, я понял, что будильник надо непременно дублировать, еду собирать заранее, а второй зонтик хранить на работе. Но это то, что лежит на поверхности. Остальная часть айсберга доступна лишь тем, кто умеет нырять — и это Эл. Получается, мир гораздо добрее ко мне, чем я привык думать…
И, взглянув на случившееся под новым углом, я вижу, что нет ничего более правильного и позитивного, чем происходящее со мной по жизни; понимаю — всё то, что я раньше принимал за негатив, в действительности есть не что иное, как испытание, задание или ребус, который я обязан решить именно для того, чтобы стать счастливым.
И первая головоломка была мною разгадана. Наступала пора переходить к следующей!
— Если б ты видел, какая там растет алыча, — краем уха я слушал все доводы Эла относительно неоспоримых плюсов проживания на юге. — Не фрукт, а мутант какой-то! Размером с кулак — вот такая! — и он сунул мне под нос свою руку. — А солнце… Солнце там теплее раз, наверное, в пять. И море под боком… Там настоящий рай на земле. Вот, где стоит жить! Вот, куда надо переселяться, чтобы спокойно встречать старость! Ты и представить себе не можешь, как приятно кувыркаться в прибрежных волнах…
Он бы продолжал молоть чепуху ещё долго, но его перебила подошедшая официантка.
— Ваш заказ, — выдав каждому из нас по порции дежурной хорошо поставленной улыбки, она сняла с подноса приборы. — Приятного аппетита.
— Простите, — в голосе Эла зазвучала до боли знакомая тональность. Он разве что руками не схватился за девушку, — у нас тут с другом маленькая дискуссия. Скажите, Вы…
Он сделал движение, выдавшее попытку прочесть ее бейджик, и она, поняв это, повернулась непосредственно к нему, позволив насладиться всей красотой своего третьего номера, упакованного в кружева тесного лифчика, соблазнительно выглядывавшего через вырез блузки.
— Таня, да?
— Да, — она кивнула.
— Тань, ты давно была на юге? — я удивился, насколько быстро Эл перешел к атакующим действиям. У него было, чему поучиться.
— Давно.
— А не хочешь туда съездить?
Она вопросительно посмотрела на Эла, и он поспешил продолжить:
— Видишь ли, получилось так, что мой друг, — при этих словах он показал на меня, — оказался ужасно занят на работе, и, к сожалению, никак не может составить мне компанию. А уже все оплачено и забронировано… — он вздохнул. — И теперь, чтобы все не сорвалось, я ищу надежного и, самое главное, верного попутчика, способного радоваться жизни и веселиться, предаваясь беспечному отдыху. Как ты на это смотришь?
— На что?!
— На то, чтобы съездить, отдохнуть, насладиться морем и всеми сопутствующими прелестями…
— С тобой, что ли?
— Естественно, — он радостно кивнул.
На лице девушки появилось выражение изумления:
— Нет, спасибо, — ответила она и, развернувшись, пошла прочь от нашего столика.
— Погоди, — закричал ей Эл вдогонку, — если ты думаешь, что мы с тобой для этого недостаточно близко знакомы, то давай проведем сегодняшний вечер вместе. Посидим, пообщаемся! Ты сумеешь узнать меня получше. Ты во сколько заканчиваешь?
Но девушка даже не обернулась.
— Ну и дура! — махнул рукой Эл. — Не представляет, от чего отказывается. Разве можно переоценить всю прелесть траха в набегающих на берег волнах посреди уютной бухточки, начисто скрытой от постороннего взгляда? — нельзя! А купание голышом ночью? А возможность намазывать друг друга маслом? Или вечерами баловаться с фруктами — как в «Девять с половиной недель»… эх… А ведь как могло хорошо выйти… Нет, ты только послушай, — и он толкнул меня в плечо, — я и она, вся такая в обтягивающем купальнике…
Это был старый Эл: он мог болтать по нескольку часов кряду на любую тему, хотя, в принципе, было заранее известно, что ничего удивительного или нового в его речах не прозвучит. Вероятно, за подобными разговорами таилось его желание не замечать проблемы и трудности — всего лишь очередной способ отгородиться от жизни. Хотя, чему здесь удивляться? К каким только уловкам порой не прибегают люди, чтобы не брать на себя ответственность за свою собственную судьбу.
Но жизнь не крест, который нужно нести из последних сил. Тяжесть ее существует только в голове. Это не хищник, нацеливший свои клыки прямо в глотку, от которого необходимо отбиться. Она не загрызёт. А если и укусит разочек, так только потому, что сам ей позволил! Меж тем как выход из любой ситуации лежит буквально под носом. Достаточно прислушаться к зову сердца, настежь открыть завинченные и наглухо заваренные люки, и в следующий раз уже сам покажешь жизни зубы. Уверяю, она завоет, заскулит и послушно свернется калачиком у ног, лелея одну мысль — как бы получше услужить тебе.
Мы, и только мы сами кузнецы своих судеб. Перекуйте мечи на орала, а щиты на серпы. Затем сейте, взращивайте и пожинайте. Наслаждайтесь плодами трудов своих, но оставайтесь голодными до новых. И никогда не останавливайтесь на достигнутом — все время идите вперед, при этом ни под каким предлогом не подписывая сделок со своей совестью и не становясь рабами своих желаний. Потому как это очередная ловушка, очередной маневр для того, чтобы заставить нас затормозить на полдороги, в то время как самое интересное и волнующее в жизни приключение дожидается за тем холмом у горизонта.
— Слу-у-у-у-ушай… — внезапно прервав свой, казалось, бесконечный монолог протянул Эл. — А у меня идея!.. А давай рванем туда вместе… А что? Это ж круто будет, а?..
Я задумался. И, смею доложить, задумался не на шутку. Было над чем: отпуск в этом году мне не предвиделся, к тому же денежные затруднения стояли прямо у моего порога горами Тибета. И если на вопрос «зачем ехать?», я мог ответить волне конкретно: «Дабы отдохнуть, ибо не был на юге уже добрые лет десять», — то вопрос «на что ехать?» видился мне непреодолимой стеной… Нет, конечно, можно было бы изыскать скрытые резервы: взять в долг, снять все, что ещё могло оставаться на карточке, в конце концов, разбить свою любимую копилку в виде мамонта Феди, в которого деньги, по хитрой прихоти дизайнера, почему-то приходилось засовывать прямо под хвост…
А время обеда таяло, как оставленный летом кусок масла на подоконнике, и часы сообщали мне, что через пять минут я должен был быть в офисе. Надо было решаться! А Эл, прикончивший уже вторую чашку кофе и сигарету восьмую, всё продолжал разглагольствовать. Собственно, в данный момент он был подобен любому лентяю, которого хлебом не корми, дай языком почесать. Причем желательно поболтать о чем-нибудь метафизическом, несбыточном; построить планы на триста, четыреста лет вперед. И плевать, что к этому времени ни его самого, ни его внуков уже не будет на свете… Главное — это болтать. И речь, словно отлично выдрессированный питомец, послушно следует за мыслью, которая, плавно переливаясь из пустого в порожнее, огибает одну тему за другой… Я не раз замечал, что заговариваясь с кем-нибудь на добрых полчаса, потом не могу вспомнить, с чего началась беседа. Скажем, можно начать говорить о ценах на бензин в этом месяце, а закончить различиями в построении микропроцессорной архитектуры. И ведь ничего полезного из такого трепа никогда не выносится. Разве что эмоции — неповторимое ощущение того, что твое мнение кто-то выслушал, что твои знания хранятся в черепной коробке не просто так, а могут сослужить хорошую службу, вырываясь на свет павлиньим хвостом эрудита.
— Будем купаться, жрать фрукты по самое мама не балуй, бухать, телочек клёвых снимем, — тем временем на ходу строил планы Эл.
Ну да, так прям всё и будет… Хрена лысого! Уж в том, что ничего и отдаленно напоминающего слова Эла ни за что не произойдет, я не сомневался. Сама жизнь научила меня никогда не поддаваться фантазиям и принимать любые иллюзии скептически, сколь бы они ни походили на правду — как бы близки к воплощению ни казались планы, не надо делить шкуру неубитого медведя. В таком случае, вероятность того, что ты будешь разочарован, резко снижается… К этой мысли я пришел опытным путем ещё в детстве и с тех самых пор придерживаюсь её неукоснительно, чем, должно быть, сэкономил себе массу нервных клеток — не питая несбыточных надежд и не строя воздушных замков.
И, вообще, какой смысл в построении всех этих планов, если завтра мне на голову может упасть кирпич? Живи сейчас! Живи тут! Наполняй жизнью до самых краев каждую секунду, не откладывая принятие решений в дальний ящик на какое-то неопределенное «завтра». А если кто-то все ещё ищет знак свыше для старта, то вот он: «ЗНАК». Доволен? А теперь иди, и действуй. Давай! Ну?! Какого хрена ты ждешь? Беги, Форрест, беги, твою мать!
— Я поеду… — должно быть, я произнес это слишком тихо или как-то неуверенно, потому что Эл не расслышал и переспросил:
— Чего?
— Я ПОЕДУ! — уже громче повторил я. — Да! Я еду. Стопудово еду! И мне плевать на работу, на завтра и все свои нерешенные проблемы. Я ЕДУ И ВСЕ!
Я уже орал во все горло, войдя в какое-то совершенно мне не свойственное состояние экстаза. Элу даже пришлось меня успокаивать… хотя это следует лишь из его слов, так как я решительно ничего не помню. С того момента, когда внутри меня внезапным просветлением взорвалась настоящая бомба решимости, я словно оказался в тумане, абсолютно не участвуя в том, что происходило вокруг, словно моей жизнью жил некто другой, а я был сторонним и крайне невнимательным наблюдателем. Вот, хоть убейте, а в памяти вовсе не отложилось ни то, как я подавал заявление об уходе, ни то, как паковал чемоданы и покупал билет. Действуя на автомате, я ел, не чувствуя вкуса, дышал, не ощущая запахов, и смотрел по сторонам, не замечая ровным счетом ничего, чем, наверняка, ни на шутку испугал свою маму. Боже, она у меня такая ранимая и заботливая, что зачастую принимает близко к сердцу вещи, о которых и упоминать смешно. Так что уж говорить про те моменты, когда речь заходит о моем здоровье… Но в этот раз все, вроде, обошлось мирно — без докторов и таблеток.
Очнулся я только через две с лишним недели, вечером в вагоне, когда поезд отошел от города на добрую сотню километров и Эл разливал остатки первой бутылки водки по чайным стаканам.
— За нас! — провозгласил он тост.
— За нас, — поддержал его я.
Стекло звякнуло, но перед тем, как разделаться со своей процией, я подумал о том, как это странно — вырваться на волю из собственноручно построенной клетки, когда просто-напросто на все двести процентов уверен, что никакой клетки не существует и в помине. Вздохнуть полной грудью, в первый раз в жизни понять, что такое НАСТОЯЩАЯ свобода, свергнуть с постаментов все старые идеалы и стремления для того, чтобы… Да черт с ним со всем! Колеса стучат, шпалы бегут, а водка греется. Живем, брат!
* * *
Вместо «волшебной» яичницы, носящей такое название в виду своей ежедневной неповторимости, напрямую зависящей от степени полноты холодильника, на столе лишь свежий кефирчик и крупные куриные яйца, сваренные вкрутую. Причина тому проста и банальна, как валенок — вчерашнее адское перепитие. Именно поэтому нет ни горячих бутербродов, ни кофе, а вместо них в морозилке доходит до нужной температуры чумовой молочный коктейль «бурёнка», добрую половину объема которого составляет самый обычный самогон…
— Я вот тут с утреца подумал… — многозначительно произносит Шкипер, как только все приступают к трапезе. Он самый старший в нашей компании и, наверное, именно поэтому обычно берет на себя роль лидера. Его назидательные поучения, промолвленные менторским тоном, обычно призваны если и не вернуть нас в лоно праведной жизни, то, по крайней мере, ограничить от грядущих ошибок. Жалко, что произносятся они чаще постфактум.
Вот и сейчас он выдерживает поистине мхатовскую паузу, дожидается тишины и с пафосным видом академика готовится выдать, вероятно, какую-нибудь глубокомысленную фразу. Но на этот раз Акелла промахнулся…
Скажем, если б Эл обладал привычкой читать лекции во время завтрака, то я был бы уверен, что он весело расскажет о вреде влияния алкоголя на человеческий организм или же возрадуется новому меню из молочных продуктов (ибо как бы ни были вкусны хрустящая ветчина и плавленый сыр, к сожалению, они тоже имеют свойство приедаться). Но Эл никак не может начать говорить именно сейчас, по двум простым причинам:
Первая. Он раздолбай до мозга своих костей, и потому никогда не опускается до проповедей и назиданий различного характера, предоставляя людям свободу поступать ровно так, как им вздумается, и требует от них такого же к себе отношения.
Вторая, и, вероятно, главная. Эл всё ещё дрыхнет богатырским сном, так как вчера имел радость разгорячиться не в меру. Причем до такой степени, что вначале на спор предлагал сигануть в море с отвесного утеса и сам чуть не бросился вниз головой, дабы доказать свою правоту относительно безопасности такого поступка. А потом, жалуясь на неприятие его точки зрения отдельными индивидуумами и всем миром в целом, проплакал у меня на плече добрую четверть часа, после чего был положен в койку, заботливо укрыт одеялом и отправлен в царствие Морфея пускать слюни на подушку.
В силу этих, безусловно, неоспоримых фактов слово берет Шкипер. То есть, пытается взять. После первой же неоконченной фразы, он тут же нарывается на Ликино замечание — острое, как консолея:
— Да ты что?! Ты реально можешь подумать? Да ещё и с утреца? Ну, ты герой…
Она ещё так старательно тянет это слово — «героооооооой», чтобы всем было ясно, какую долю сарказма она готова вылить в сторону своего не слишком благоверного спутника жизни.
Лика — хрупкая девушка под метр шестьдесят, со вздернутым носиком и темной короткой стрижкой. По мне, так она дико смахивает на шаловливую обезьянку Анфиску, готовую баловаться и проказничать сутками напролет, но когда она надевает свои громадные очки с цветными стеклами, закрывающими половину ее мордашки, и на полную включает серьезность, она производит не хилое впечатление завзятого политикана средней руки. Глядя на нее такую, ни у кого не возникнет даже мысли о том, какой она является на самом деле. Вернее, какой она была. А если ещё вернее — через что ей пришлось в этой жизни пройти. Но как бы там ни было раньше, сейчас она просто Лика — добрый гостеприимный надежный друг, заботливая мать и обожаемая женщина. И хотя в ней ещё временами и поднимают голову отголоски былой жизни, она ценит то счастье, которое сегодня окружает ее со всех сторон. И, мне кажется, она и вправду его заслужила!
Уверен, что и Шкипер все это прекрасно знает или даже чувствует. Неспроста же он к годовщине их отношений, на внутренней стороне руки набил кипящее сердце, с отлетающими от него трубками, винтиками и бьющим во все стороны паром…
Но вчера Шкипер реально налажал. Понятно, что все выпили; понятно, что языки развязались, а мысли, утратив столь призрачные границы моральных запретов, понеслись табуном к горизонту мечтаний; но это не давало ему права рассуждать о прелестях преподавательницы форро (во всяком случае, точно не в присутствии Лики). Несомненно, прелести у преподавательницы имеются, и они неоспоримы. Но чтобы они достались бритоголовому, наколотому парню с чудовищно длинным носом и диким количеством всевозможного пирсинга — это совсем из области фантастики. Или я ничего не понимаю в женщинах! Хотя… я действительно неприлично мало в них понимаю…
Однако есть вещи очевидные — Ликины чувства были задеты — как ни крути, все-таки Шкипер вчера был явно не прав. Правда и его точка зрения мне также не чужда — какой мужчина в состоянии подпития не вытворял чего-нибудь подобного, а то и похуже? И эти два противоборствующих аспекта (солидарность мужского пола и чувство нечеловечески острой справедливости), встав по разные стороны баррикад и ощетинившись орудиями, разрывают меня буквально пополам. Поэтому я предпочитаю не вмешиваться в разговор, а, соблюдая нейтралитет, следить за происходящим со стороны. Благо на кухне нет никого, кроме нас троих.
Шкипер немного смущён, но признавать свое поражение не в его стиле. Тем не менее, отвечает он примирительным тоном:
— Ну, зайк, давай не будем ссориться…
— А вот за зайку можно и в гычу получить, — мгновенно реагирует она. — И, кстати, мы ещё не поссорились! Но у тебя есть все шансы.
— Не надо так, — произносит он в ответ. — Ты же не знаешь, что я хотел сказать…
— Если это примерно похоже на то, что ты выдал вчера, то уж лучше помолчи. Здоровее будешь…
— Нет-нет, — возражает Шкипер. — Не перебивай меня, и я все тебе объясню.
— Интересно послушать… Что это ты собрался мне объяснять?
— Я хотел сказать тебе, как сильно я тебя люблю…
— Спасибо, ты вчера мне уже все сказал!
— Ну, хватит! — Шкипер с силой бьет ладонью по поверхности стола.
Чашки, блюдца и прочие столовые предметы на какие-то миллиметры покидают свои насиженные места, а затем со звоном возвращаются обратно. В моей голове со скоростью метеорного потока пролетает мысль о том, что лучший брак — это когда жена глухая, а муж слепой.
— Не ори на меня, пожалуйста… — шепотом произносит Лика. И эти простые слова, сказанные тихим голосом, действуют куда лучше шумного скандала с бросанием телефонов и хлопаньем дверями. Пламя, разгоревшееся в глазах Шкипера, в тот же момент угасает. Да и сам он будто скукоживается и становится «барби-сайз». Он берет ее маленькую хрупкую кисть в свою ладонь и, поднеся к губам, целует.
— Прости меня… Я и вчера был не прав. И сегодня… тоже…
Каким-то типично женским движением, которое, должно быть, передается генетически, она отдергивает свою руку:
— Не надо тут телячьих нежностей!
— Ладно… — соглашается Шкипер. — Только ты на меня не обижайся.
— Обижаются только в детском саду, — ловко парирует она. — Ну, так что ты там хотел сказать?
— Хм. Я, правда, не знаю, есть ли в этом теперь смысл…
— Не кокетничай! — обрывает его Лика. — Давай по существу.
— О'кей. Смотри, нам сейчас с тобой за тридцать… Чуть-чуть, но всё же за тридцать. А человек живет для себя ну, грубо говоря, лет тридцать пять — с пятнадцати до пятидесяти. До этого у него все-таки родители, после уже внуки, ну, или работа там, старость на носу, пенсия — то тут колет, то там побаливает…
— И? — Лика нетерпеливо перебивает его. — Причем здесь я?
— Погоди. Вот, скажем за эти тридцать пять лет жизни, человек успевает завести около двенадцати более-менее стабильных отношений. Всего двенадцать, понимаешь? Это же, блин, совершенно ничтожная цифра!
— Ты с чего взял эту цифру? — невооруженным взглядом видно, что Лика возмущена. — Бегбедера перечитался? Любовь живет три года?.. Чушь и бред! Ничего, что у меня было шестьдесят три любовника? Как-то вот не вписывается эта цифра в твои «двенадцать»!
— Да я не об этом, я о продолжительных отношениях хотел сказать — ну, как у нас с тобой.
— А такое, вообще, в жизни должны быть один раз, и на всю жизнь. Понял?
— Вот, я как раз об этом — у меня это на всю жизнь. И то, что мы с тобой так долго вместе…
Я не знаю, чем может закончиться этот их разговор. Не исключено, что сделав виток вокруг самодовольства Шкипера, он вполне в состоянии привести к очередному, и на этот раз более масштабному скандалу. Но, на наше общее счастье, на кухню заходит Анна Николаевна.
— Что вы тут так орете? Ребенка же разбудите, — возмущается она.
«Голубки» сидят с раскрытыми клювами и не находят, что прочирикать в ответ. Видно, что они ещё не в состоянии переключиться с одной темы на другую.
— А они тут о вечной любви спорят, — заполняю я паузу, ибо вопрос, судя по всему, относится ко всем присутствующим.
— О вечной?.. О вечной — это хорошо… Только не бывает ее — вечной этой любви.
Анна Николаевна, кряхтя, нагибается к серванту и достает с нижней полки пакет с какой-то крупой.
— Всё-то вы молодежь придумываете себе. Я такой же была в ваши годы. И, ух какой! Парни вслед наглядеться не могли. Я ж первая модница была тут… Да… Поклонников толпы были. До тех пор, пока папашку Димкиного не встретила, — смеется она.
Смех у Анны Николаевны негромкий и добрый, лучистый и теплый, как солнечный зайчик, пляшущий на лакированной поверхности комода.
— Не думайте вы о том — вечная или нет, — продолжает она. — Важно не это. А то, что у вас внутри. И что вы в данный момент чувствуете по отношению друг к другу. Любите, обнимайтесь и целуйтесь, что есть силы. А дни пускай идут… Потом оглянешься, и правда — любовь вечная получилась. Тут главное не корить, не есть заживо и не копаться в том, другом человеке. Будь ты хоть тысячу раз прав — не надо! Лучше перетерпеть немножко: где-то извиниться, где-то смолчать. Жизнь не всегда праздник, и тут важен момент! Момент счастья, который присутствует во всем — даже в том, что поначалу может казаться обидным и неприятным.
Вот так обычная женщина, которая ни разу в жизни не слышала ни о Сиддхартхе Гаутаме, ни о Дхармапалах, основываясь исключительно на своем жизненном опыте и наблюдениях, спокойно выразила всю суть учения буквально в трех фразах. Ну, во всяком случае, для меня…
— Кстати, а Шурик то где? — интересуется она.
— Кто? — в один голос переспрашиваем мы.
— Ну, Сашка… Третий ваш.
Ох уж эта привычка — давать людям прозвища. Мы ведь все-таки не настолько животные, в конце-то концов… А вот, поди ж ты, стоит хоть раз заклеймить человека, и данный «псевдоним» закрепится за ним прочнее родного имени. И никто не будет воспринимать его иначе, как через эту самую кличку.
К примеру — Шкипер. На самом деле его зовут Дмитрий Рогов. А свое прозвище он получил сразу после того, как вернулся из армии, где служил в доблестных рядах ВМФ. На его правом предплечье тогда стал красоваться здоровенный якорь. И если во время разговора речь заходила о том «как там, в армии?», он обычно, лишь загадочно улыбался. Все кругом полагали, что Шкипер (тогда ещё просто Дима) проходил службу в каком-нибудь элитном отряде морпехов или диверсантов, и уважительно кивали головами… Как обычно, правда открылась неожиданно, когда его по полной сдала Анна Николаевна, внезапно нагрянувшая в гости к сыну: при всей честной компании она попросила его приготовить что-нибудь вкусненькое. А когда кто-то аккуратно поинтересовался: «А разве Дима готовит?», — она без задней мысли дала правдивый ответ: «А то, как же — он два года коком оттрубил». С того самого момента Дима был моментально зачислен в капитаны буксира, и никакого другого погоняла он, не обладающий ярко выраженными качествами (кроме как носа… но за «носатого», я думаю, он бы убил), уже получить не мог.
Но с Сашей дела обстоят куда как загадочней. За что, или, скорее, благодаря чему он получил прозвище Эл, для меня так и остается загадкой. Сам он никогда не распространялся на эту тему, а Лика на вопрос: «Почему Эла все зовут Элом?», — ответила мне просто: «А как ещё его называть? Эл — он и есть Эл». Так что тайна, как говорится, покрыта мраком.
И пока я рассуждаю на эти темы, неспешно помешивая трубочкой успевший опасть коктейль, друзья оставляют меня наедине с мыслями, благо Анна Николаевна полностью переключилась с разговоров на немытую посуду. Впрочем, предмет этих мыслей не заставляет себя долго ждать, вскоре материализуясь в дверном проеме. Лёгок на помине, чо!
Покачиваясь, Эл стоит, держась обеими руками за дверь. На башке у него творится то, что в моем далеком детстве называлось не иначе, как «взрыв на макаронной фабрике»; весь его внешний вид символизирует полную и безоговорочную победу химии над чистотой и непогрешимостью разума; а о трехдневной пучковатой поросли на впалых щеках и о кругах под глазами упоминать даже как-то смешно. Простояв так минуты три, он всё же находит в себе силы двигаться дальше. Но делает это неспешно, ступая по нашей грешной земле, как Кентервильское приведение — пошатываясь и постанывая. С трудом попав пятой точкой опоры на стул, Эл начинает гипнотизировать муху, сидящую в центре разлапистого, преизрядно выцветшего розового цветка, изображенного на клеенке. Не произнося ни слова, он лишь мотается вперед-назад с частотой, до боли напоминающей размер пять восьмых.
Меня, в конце концов, эти движения укачивают, и я сам начинаю ощущать неприятные приступы дурноты.
— Слушай, будешь сассапариллу? — пытаясь облегчить его страдания, спрашиваю я.
— Сссасссса чё? — мычит он. — Ссосссать не!
Должно быть, Эл все ещё довольно пьян, а может быть в его памяти отложились какие-то отрывки от вчерашнего просмотра гей-порно — невинный хмельной Ликин капризик. К слову, один из многих…
Тогда я встаю, наливаю воды в стакан, бросаю в него несколько кусочков льда и ставлю перед Элом. Он с жадностью каннибала, увидевшего тучную женщину после месячной голодовки, набрасывается на воду и спустя мгновение пустой стакан уже покоится на столе.
В общем-то, несмотря на все свои многочисленные недостатки (кто без них, пусть бросит в меня камень), Эл во всех отношениях мне импонирует. И, я бы даже сказал больше: он — единственный представитель мужского пола, которого я люблю. Вот люблю, и всё! Благодаря своему балагурству, раздолбайству и веселому общительному нраву он идет по жизни, особо не запариваясь на различные темы и не залезая с головой в депрессию, чем, собственно, и цепляет. Никто, ровным счетом никто не может хоть какое-то продолжительное время обижаться на его неприкрытое хамство, пошлый юмор и принцип «говори, что думаешь». И я иногда жалею, что не обладаю подобными его качествами, что не являюсь центром и душой компании, всеобщим любимцем… Безусловно, мне также приходилось видеть депрессняки Эла и просиживать с ним ночи на кухне в разговорах «за жизнь», но всё это скорее опереточное, картонное, наносное — то, что совершенно не вяжется с образом «человека-праздника».
Наверное, о том, каким выглядит Эл сейчас — в состоянии нестояния — было бы лучше не говорить… Но я смотрю на него и мысленно сравниваю со Шкипером. Тот, если и не полная противоположность Элу, то, во всяком случае, на роль брата-близнеца претендовать уж точно никак не может. С первого взгляда кажется, что Шкипер угрюм и замкнут в себе. Более того, я думаю, что многие бы сразу же навесили на него ярлык сноба за привычку высокопарно выражаться. А чужим людям он и подавно напоминает уличного хулигана, благо внешний вид ему это позволяет. Но стоит узнать Шкипера поближе, и понимаешь, насколько это хороший человек. Он всегда готов прийти на выручку, никогда не бросает слов на ветер и разобьется в лепешку, но во что бы то ни стало выполнит то, что обещал. Кроме того, Шкипер удивительно рукастый — он может из подручных средств соорудить практически все что угодно, исключая разве что ядерный реактор, да и то, лишь потому, что не так уж просто в этом мире достать урановый стержень. И, хотя мне очень неприятно это признавать, я знаю, что частенько завидую ему в душе́, восхищаясь его умением брать ответственность на себя, принимать решения, быть лидером и мастером — тем человеком, которым я так отчаянно всегда хотел стать.
Словом… Мои друзья очень и очень разные. Можно сказать — антиподы. И это, кстати, приводит меня в наиполнейший ступор — в башке никак не укладывается следующее: «Почему? Почему люди так кардинально изменяют свои вкусы?». Вначале Лика любит гуляку Эла, отдаваясь ему всецело, посвящая ему стихи, и гуляя с ним по ночным дворам города в одной сорочке. А потом по уши втрескивается в Шкипера и уже рядом с ним вьёт своё семейное гнездышко. Да, ещё! — если прибавить к этому какое-то астрономическое число ее любовников, к которым она тоже наверняка была неравнодушна, получается… Получается, что ничего-то в моих понятиях относительно предмета под названием «адекватный подбор второй половинки» проясняться не хочет. И видимо мне с искренней скорбью придется смириться с этим фактом.
А что касается Лики… Раз уж она меняла мужчин, как чашки из разных сервизов, подбирая вместо разбитой пусть и не похожий, зато крайне оригинальный экземпляр, значит, все они по той или иной причине её не устраивали. А вот почему? Наверное, потому что невозможно сильно хочется найти ту самую сказочную любовь, которой, должно быть, и нет нигде в мире, а вместо нее постоянно напарываешься лишь на боль, равнодушие и мелкие осколки счастья, которые собирать по крупицам с каждым разом становится все сложнее.
* * *
Анна Николаевна домывает посуду. Под струей холодной воды ее руки покраснели и стали похожи на двух небольших кальмаров, пальцами-присосками обхватывающих снежно-белые поверхности тарелок, скользя промеж шапок из мыльной пены. Она моет быстро, проворно, и её движения скупы и точны, как у истинного мастера — ни одного лишнего. Вообще же, я заметил, что женщины удивительные существа — они могут делать кучу вещей не хуже, а зачастую даже лучше мужчин; они в состоянии справляться с любыми проблемами и переносить то, что мужчина никогда не смог бы вытерпеть. Кроме того, если говорить честно, то они добрее, красивее, и, надо признать, умнее таких как я… Не все конечно… Хотя, нет! Конечно, все!
За примером мне ходить далеко не надо. Вот — Анна Николаевна, утром успевшая сбегать за молочком, приготовившая завтрак, пошустрившая по хозяйству, плещется с посудой, мурлыча какой-то ретро-шлягер себе под нос (очень похожий на хит незабвенного Яака Йоалы). А прямо напротив, на другой стороне стола, с видом «пристрелите меня, пока я сам не помер» с помощью куриного бульончика безуспешно пытается прийти в себя Эл. Я вижу, как ему плохо, и даже местами душевно соболезную. Но кто не бывал в подобном состоянии? — Пожалуй, разве что святые. Да и то не факт… Думаю, что это правильно: жизнь дана именно для того, чтобы пробовать — идти и спотыкаться, падать и вставать, искать и находить свой и только свой путь. Ту самую дорогу по которой, пусть не легко, пусть не всегда приятно, но все же можно и нужно идти.
А для того, чтобы идти по ней было легче, нам в помощь даны друзья. Да-да… Те самые, НАСТОЯЩИЕ друзья, которые вчера, глядя на то, как Эла выворачивало наизнанку в кустах, вместо того, чтобы отнять у него бутылку и строгим тоном сказать «тебе хватит!», заливали в него новую порцию с криками: «Пей же! Тысяча чертей, гром и молния! Нам для тебя этого дерьма не жалко!». И в то время пока он пытался найти себя, ухватившись за горлышко бутылки, как цепляется за бакен жертва стихии, НАСТОЯЩИЙ друг Шкипер вскрывал его мозг монологом о своих чувствах к танцующей нимфе, НАСТОЯЩИЙ друг Лика обнимала нас одного за другим и называла «мои птенчики», а НАСТОЯЩИЙ друг я сидел в сторонке и думал: «Воистину, люди удивительные существа».
Внезапно, обрывая нестройный ход моих мыслей, в дверном проеме вырисовывается фигура деда Миши, который, не желая терять драгоценные секунды, тут же подсаживается к столу.
— Будешь? — как заправский фокусник он из пустоты материализует запотевшую бутылку водки. Хорошо бы и мне обладать подобным умением. Хотя есть в нем и один минус — таким образом можно спиться… Причем на раз.
Эл поднимает на него пудовую голову, и остекленевшие глаза смотрят на деду Мишу как будто из тумана. Мне кажется, что я вот-вот услышу тихое «Ё-ё-ё-жы-ы-ык»… Однако Эл находит в себе силу духа вымолвить не слишком членораздельное, но, тем не менее, понятное «бду» и даже кивнуть головой.
Поросшая бородой и перепаханная морщинами физиономия деды Миши расцветает. Следующим движением он кастует на стол три рюмки. Но он только успевает свинтить пробку и беззвучно разлить драгоценную жидкость — за его спиной появляется довольно внушительный в осознании своей правоты облик Анны Николаевны:
— С утра пораньше нализаться решил?
Деда Миша как-то сразу съеживается, уменьшается в размерах и лебезящим голосом мямлит в ответ:
— Мучается ж человек…
— Вот ребятам и налей. А тебе не надо! Кто мне обещал неделю назад дверь в курятнике поправить? Петли там совсем расшатались. А хонориков ты кормил утром? Нет?! Я так и думала! Давай-ка, вставай.
— Я ж за компанию только… — оправдывается деда Миша.
— Вот сейчас на рынок пойдем, мне компанию и составишь. Вставай, вставай!
Анна Николаевна поднимает его за шкирку и, отпустив в нашу сторону дежурную улыбку — мол, «отдыхайте ребята» — выпроваживает его из столовой.
Эл дрожащей рукой дотягивается до рюмки и, активно помогая сам себе, направляет ее в сторону своего рта. Но на полдороге он останавливается и вопросительно смотрит на меня. Я отрицательно качаю головой, пододвигаю свою рюмку к нему и покидаю комнату.
Под сенью нескольких абрикосовых деревьев, вольготно раскинувших свои скрюченные, похожие на пальцы ведьмы ветви, на подвесных качелях удобно устроились Шкипер и Лика. Лика сидит с краю и легонько, носочком босой ноги толкая матушку Землю, раскачивает качели. Шкипер лежит головой у нее на коленях и добивает «пятку». Это вроде бы первый косяк за сегодня, и я не возьмусь сказать, что последний. Наверняка, скоро из потрепанного магнитофона с неблагозвучным лично для моего уха названием «Sanyo» польются звуки различных мантр и тибетских песнопений. Почему Шкипера так торкает именно это музыкальное направление, а не, скажем, регги (что было бы более логично), я — «фиг его знает». Одно мне известно точно — в буддизме он ни в зуб ногой. Видимо по накурке его попросту распирают и плющат всякие там «Ом намах шивайя». Мне же кажется странным, когда человек берет из религий лишь внешнюю атрибутику, не прилагая ни малейшего усилия, дабы попробовать окунуться в нее поглубже. Такой поверхностный взгляд похож на случайный секс — получили удовольствие и разбежались. Для меня это всегда было непонятно — в этом нет ни малейшего смысла, никакой души, и намека на что-то человеческое тоже нет. Ибо Человек, как существо с большой буквы, должен, по идее, не только получать удовольствие, но, взяв его, стараться отдать взамен в этот мир больше гармонии, тепла, уюта и доброты… Но это лишь мое мнение. А так — у каждого в голове свои тараканы. Хотя факт остается фактом: Шкипер слушает мантры, при этом считая себя православным (черт, да он в церковь ходит не чаще, чем я на выборы президента!).
Лика машет мне рукой и зовет присоединиться. Я отвечаю решительным отказом, пытаясь, однако, скрепить его своей самой милой улыбкой, и направляю шаги к времянке… Надо сказать, что времянка — это скорее сарай, нежели жилое помещение: чёрные доски набитые на каркас из бруса и обшитые изнутри оргалитом — вот и всё моё жилище типичного анахорета. Но мне грех жаловаться. Более того — мне бы и не хотелось жить в доме! В скромненькой комнатушке, в которой только и помещаются кровать да стул с тумбочкой, служащей мне одновременно и столом, я чувствую себя гораздо богаче всех султанов и королей вместе взятых. Здесь можно быть абсолютно свободным, оставаясь наедине со своими мыслями; здесь можно быть самим собой и со спокойной душой сбросить все маски, которые, как раньше казалось, намертво приросли к лицу. В конце концов, именно здесь, когда сидишь в тишине, проникаешь в самую суть вещей…
По ночам, в процессе глубоких размышлений, вместе с откровениями меня посещают и комары. Последних отчего-то приходит гораздо больше, и ведут они себя куда более назойливо. Однако в наш век хитрое человечество научилось справляться с этими гадами. И я, следуя в ногу со временем, сжигаю в пепельнице маленькую белую таблетку… Очень жаль, что во времена моего детства таких таблеток не было, а комары, наоборот, ещё как были. Помню, как летом, изнывая от жары, мне приходилось с головой прятаться под белой хэбэшной простыней, служившей одеялом. Как же там было душно — пот лил с меня ручьем, и я нисколько не преувеличу, если скажу, что спустя минут десять простынь запросто можно было выжимать. Но стоило только показать наружу какой-нибудь самый малюсенький кусочек своего тела — пусть даже высунуть кончик носа, как со всех сторон раздавался пронзительный оглушающий писк этих кровососущих двукрылых, посланных нам за какие-то уж очень страшные прегрешения… Мама, однако ж, боролась с ними со всеми присущими женской натуре решительностью и упорством. Перед тем, как погасить свет, она обшаривала углы и стены, осматривала все поверхности на предмет наличия насекомых. И горе тому комару, который попадался ей на глаза! Тем не менее, стоит сказать, что сии скверные создания с поражающей быстротой научились ловко прятаться, и, я не исключаю — мимикрировать под обои, дабы не проститься со своей жалкой жизнью настолько бессмысленно. И нам, как существам с интеллектом, пришлось изобретать новые способы ведения борьбы. После того, как свет был погашен, и воздух наполнялся знакомым характерным звуком, надо было выждать ещё минут пять, а затем мама вновь щёлкала выключателем, и тогда начиналась самая настоящая бойня. Важно было средствами ПВО в виде тапка или сложенной газеты успеть сбить как можно больше неприятельских летательных аппаратов — от этого напрямую зависело спокойствие и здоровье обитателей комнаты. Но не все попадали под раздачу вовремя. И некоторые особо хитрые особи умудрялись укрыться от обстрела и ночью все же напивались живой кровушки. Однако утром их всё же настигало неотвратимое возмездие. И не потому, что они вновь могли укусить, а просто из чувства священной мести. Поэтому потолок и стены нашей светёлки обычно были в кровавых пятнах, напоминая собой в общих чертах творения фовистов и, в частности, «Фруктовый сад» Мориса де Вламинка…
А ещё, когда мы ездили с мамой на юг, к нам в номер однажды залетела самая настоящая летучая мышь. Черт возьми, ну и перепугался я тогда! Ведь, по моему тогдашнему убеждению, все без исключения летучие мыши были вампирами. И когда это рукокрылое, с отвратительнейшей мордой, страшнее которой мне не приходилось видеть за всю свою жизнь, начало активно метаться по комнате, биться о стены и в окна в поисках выхода, я подумал, что вот тут-то и настал мой конец — сейчас оно увидит меня и набросится для того, чтобы сожрать живьём. Панический ужас сковал все члены. Я был не в состоянии не то что броситься наружу, а даже позвать на помощь. И не знаю, сколько бы простоял в полном оцепенении с глазами навыкате и открытым в беззвучном крике ртом, если б в комнату не вошла мама. Конечно, с помощью полотенца она тут же прогнала ужасную тварь, но я ещё долго потом боялся заходить в комнату без нее, или оставаться там в одиночестве…
Не уверен, что я до конца излечился от последствий этой моральной травмы к сегодняшнему дню, но, к сожалению (или, скорее, к счастью), проверить это на практике мне не удастся. Тут хоть и самый настоящий юг, но за всё то время, что я провел здесь, на глаза мне не попалась ни одна летучая мышь. А вот птиц довольно много… К примеру, мне нравится наблюдать утром за ласточками, со звонким щебетом носящимися в поисках завтрака для своего потомства. Их длинные раздвоенные хвосты напоминают мне ту самую «козу», которой в детстве меня защекочивали до приступов колик, при этом приговаривая: «Идёт коза рогатая, за малыми ребятами…». И это так забавно — проводить параллели между своим прошлым и нынешним и удивляться тому, как на самом деле немного всего ты успел пережить и почувствовать, и насколько сильно это «немного» тебя изменило. Да что там говорить — в детстве трава действительно была зеленее, деревья выше, а дни длиннее. Оно было полно надежд на лучшее и ярких эмоций, залито солнцем беззаботности и невыразимого очарования. Детство не знало полумер, фальши и притворства. Оно было чистым, как вода в горном роднике, и искренним, как сердце монашки… И ужасно то, что я сам не оправдал собственных ожиданий — буквально своими руками засыпал живительный ключ, дарующий мне чудо жизни, и теперь вынужден страдать от жажды в бессмысленности собственного бытия.
Но более закостенелости существования меня пугает отсутствие малейшей возможности что-то поменять в жизни. Несбыточность фантазий сама по себе не так страшна — гораздо горше тот момент, когда, решившись на перемены, внезапно обнаруживаешь, что на это элементарно не хватает средств (материального ли состояния, духовного ли задора, поддержки ли со стороны — в сущности, это не важно). Или все обстоит куда как банальней — попросту нет свободного времени. И если большая часть из проблем наносная, и можно самому себе признаться, что это скорее отговорки, нежели реальная помеха для совершения нужного действа, то именно с таким понятием, как «время», дела обстоят гораздо хуже…
Никто не будет спорить, что с возрастом наша жизнь течет все быстрее. Чем старше мы — тем короче становятся дни. Да что там дни?! В детстве что ни день — то год: невероятно долгий период, насыщенный событиями и действиями. И летние каникулы — это ни фига не маленькая жизнь. Это целая эпоха, эра!.. А для взрослого — что такое лето? Две недели отпуска (и то, если повезет), пролетающие с такой космической скоростью, что и моргнуть не успеваешь. За них и отоспаться-то не получится, не то что искупаться. А годы… Годы свистят, как пули. Хотя, я, конечно, сужу по себе. Но, черт, неужели я не прав?
Однако если вдуматься, нет ничего загадочного в этом грустном феномене. Я — маленький, опыта у меня никакого. Всякие там модели поведения, шаблоны восприятия не наработаны, и для психики, всё что происходит вокруг — в новинку. Мир распахивает свои двери настежь. Я живу на всю катушку, по полной, переживая события на добрую сотню процентов и впитывая их, как губка. «Ещё, ещё, ещё», — требует мозг. Каждый момент уникален, каждая секунда неповторима. Всё пригодится. Всё надо запечатлеть на скрижалях памяти.
Но мир приедается. Источник иссыхает. Острота ощущений тает. Рутинный образ взрослого быта — работа-дом-работа-выходной-работа, — отнимающий почти всё время, становится нормой. Жизнь проходит фоном не заполненная яркими впечатлениями и новыми эмоциями, и время начинает субъективно сжиматься. Прошел год, а чего-то более-менее стоящего набирается всего на несколько дней. И кажется, что время ускоряет бег. Но это я сам не даю себе жить: не подпитываю себя свежими чувствами, не пробую того, чего ещё не пробовал. Тону в болоте повседневности по своей же вине, и при этом ещё имею наглость удивляться и сетовать.
Нет уж, пора начать что-то делать со своим тусклым и беспросветным бытием, с невоплощенными желаниями и прочими мечтами всей жизни, которые можно исполнить до конца этой недели. Каждый день открывать что-то новое! Каждый день познавать неизведанное! Каждый день перелистывать страницу! Делать это для себя — чтобы стрелка на часах не крутилась с такой бешеной скоростью, оставляя на душе с каждым оборотом лишь привкус разочарования.
Примерно такие мысли витают у меня в голове поздними вечерами и ранним утром, когда я, лежа в своей постели, радостно прислушиваюсь к робким песням пробудившихся ото сна пернатых. Но сейчас, даже если птицы и щебечут, своей болтовней услаждая людской род, то из-за Шкипера их не слышно. Ушные каналы не только обитателей нашего скромненького кохаузинга, но и, пожалуй, соседей через улицу, а то и через квартал, заполняют всякие Панча-таттвы и Савитри… Я-то, в принципе, спокойно отношусь к различным проявлениям музыкального вкуса и мелодическим пристрастиям людей, но вот громкость, с которой мне подают это блюдо, меня очень сильно напрягает. Однако просить сделать чуть тише бесполезно — сейчас там попросту некого просить. Вот через полчасика, когда их немного отпустит, тогда… А сейчас — хоть берушами пользуйся, честное слово. Кстати, насчет берушей — мне вспоминается одна забавная история:
В пору моей молодости я активно поддерживал связь со всякими там неформальными музыкальными коллективами. И вот одним моим знакомым ребятам позарез понадобился клавишник — у них на носу висело архимегаважное событие в виде концерта. Желание попробовать выразила миленькая, хрупкая, явно не рокенрольного вида девушка. Воспитали ее исключительно на классической музыке, и была она образцово-показательной академической пианисткой до мозга костей. На кой ляд ей понадобилось лезть в алкогольно-трэшевую субкультуру, я сказать не могу, — возможно, гормоны не давали покоя, и душа требовала протеста, а, может быть, она получала свежие впечатления, открывая для себя новые горизонты. Но, так или иначе, назвавшись груздем, она все-таки влезла в кузов…
Ребята возрадовались и в срочном порядке приступили к репетициям. Но неожиданно выяснилось, что девочка не выносит разрывающего барабанные перепонки рокота гитар и оглушительного грохота ударной установки — ей от этого становится плохо в физическом смысле: появляется тошнота, головокружение и потребность немедленно покинуть помещение. А у ребят счет идет на дни — до выступления всего-ничего, и искать ей замену совершенно некогда.
И, когда на общем совете было решено отказываться от музыкального сопровождения в виде синтезатора, кого-то внезапно осенило — предложить ей беруши. Надо отдать должное этому человеку — идея была крайне правильная, потому как всякие там профессиональные музыканты действительно их используют для защиты слуха на громких концертах. Такие штуки хороши тем, что звуки различных частот приглушаются одинаково, что, естественно, не влияет на качество звучания. Вот только никто из них, к сожалению, не догадался объяснить девочке, что беруши эти не простые, а специальные. А сама она не сообразила и, явившись на концерт, вставила в уши те, что приобрела в аптеке. Надо ли говорить о том, что было дальше? Концерт был испорчен, а группа, освистанная и заулюлюканная, с позором покинула сцену, чтобы никогда больше не блистать на небосклоне шоу-бизнеса…
Мне же беруши пришлись бы сейчас очень в тему. Но на нет и суда нет. А оставаться в запертой наглухо времянке — все равно, что прятаться от жары в работающем аэрогриле. Поэтому я, захватив книгу (сегодня это что-то про сны и китайца Чанга), спешу наружу, стараясь не обращать внимания на ритмичные удары таблы. Я направляюсь в свой личный «сад наслаждений» — к гамаку, висящему на отдаленном углу участка. Тут я буду иметь право предаваться разврату тлетворной лени как минимум с полчаса. И лишь одна вещь будет немного напрягать меня — старый гамак с трудом выдерживает мою тучную ширококостную тушку и здорово так поскрипывает… Поэтому, если мне и случится спикировать вниз, покинув уютную обитель своих дум, мне бы не хотелось, чтобы это произошло раньше, чем я постигну то самое откровение, к которому всеми силами стремлюсь здесь.
* * *
В далеком-далеком детстве, которое тянулось бесконечно, а умудрилось пролететь со свистом, как один день, мы вместе с мамой жили летом на съемной даче. Делать там, в общем, было нечего: местная компашка хулиганья щерилась клыками и никак не хотела принимать в свою стаю городского; телевизор там отсутствовал, а до ближайшей речки надо было тащиться пешкодралом часа два. Поэтому я, бесцельно послонявшись по улицам, и убедившись, что кроме уничтожения придорожных одуванчиков мне заняться решительно нечем, плотно засел дома к вящему неудовольствию матушки.
Та, наверное, на своем языке мозоль натерла единственной избитой фразой: «Смотри, какая погода хорошая, сходил бы погулять». Но гулять мне категорически не хотелось! Уж лучше было, выстроив в ряд старые жестяные банки, расстреливать их, не ведая ни жалости, ни пощады, с помощью мелкого гравия, куча которого жила на соседском участке. И, в принципе, то лето так и прошло бы мимо меня, оставшись в памяти очередным примером ярчайшей невыразимой скуки, если б, как назло, не объявился сосед, и боеприпасы брать стало просто неоткуда. Я никак не ожидал от судьбы еще и такой вот подлости, но, видать, мое Дао никогда не было таким уж простым, и мне пришлось искать себе другое занятие. Среди глубокомысленных сократовских поисков истины мне показалось интересным исследовать и чердак дома, до которого по различным причинам мои руки все никак не доходили…
Посреди гор различного, большей частью вышедшего из употребления хлама, я наткнулся на самую настоящую сеть. Сложно даже представить себе степень моего восторга (конечно, если вы — не маленький мальчик, изнывающим от безделья). Сеть означала рыбалку, приключения и свежий дух перемен в моей неописуемо скучной и однообразной дачной жизни. С криками: «Мама, мама! смотри, что я нашел!», — я, основательно извалявшись в пыли, и пару раз нехило навернувшись, все-таки вытянул сеть из-под обильно наваленного на нее барахла.
И, ёлы-палы, на этот раз совершенно невозможно оценить глубину моего разочарования — так как мама, оценив находку, заверила меня в том, что это вовсе не сеть!
— Почему? — воскликнул я, услыхав столь горестную весть. — Ей тоже можно ловить рыбу…
— Нет, нельзя, — спокойно объяснила мне мать. — Видишь, какие у нее здоровенные дырки? Вся рыба через них пройдет. Ни одна не задержится.
— Ну… А самая крупная? Самая большая ведь застрянет? — мой голос выражал мучительную надежду.
— Да, самая большая застрянет, — подтвердила мама. И ее ответ тут же разжег в моем воображении удивительные картины сказочного клева. — Но киты у нас не водятся…
— А, может… — я был настойчивым и, как мне тогда казалось, неглупым мальчиком. И ужасно хотелось все-таки придумать те обстоятельства, при которых можно было бы использовать сеть по назначению. Кроме того, у себя в голове я уже видел лица местных пацанов, вытянувшихся в гримасах удивления при виде меня, шагающего с гигантским уловом.
— Не может! — поправила меня мать. — Потому что это и не сеть вовсе, а гамак! — и тогда взор мой, еще мгновение назад пылавший огнем восторга и разбрасывающий снопы искр неподдельного вожделения, вмиг потух.
— Гамак… — эхом убитой надежды отозвался я. Естественно, гамак не представлял ни малейшей ценности — им нельзя было похвастаться перед друзьями, он никак не годился для торжественного марша победителя по всей деревне. Это было лишь скучным и неудобным первобытным приспособлением для сна.
Уверен, в тот момент на моем лице можно было прочесть всю мировую скорбь, слитую воедино, но мама, видимо, не придала этому значения, а, может быть, она была куда хитрее, нежели я тогда мог себе представить… Но, так или иначе, она невозмутимым тоном произнесла:
— Если хочешь, я могу помочь тебе его повесить. Давай?
Она потрепала меня по плечу и с улыбкой посмотрела прямо в глаза, а я стоял, насупившись букой, и мечтал о том, чтобы она провалилась пропадом вместе со своим гамаком, своей дачей и этим долбанным летом, проходящим впустую: пока я умирал от скуки, мои одноклассники в городе ходили в кино, лопали мороженое от пуза, развлекались на игровых автоматах и, вообще, влипали в разные приключения и различного рода передряги…
Но через неделю, совершенно разбитый ничегонеделанием, я сам пришел к маме с просьбой о помощи. Конечно, она не отказала мне, и даже выдвинула несколько очень хороших идей, касающихся наиболее удобного обустройства моего лежбища. И работа была выполнена на славу — гамак был подвешен по всем правилам и отвечал международным стандартам комфорта, согласуясь с практикой символического построения пространства. Он располагался в тени двух больших вязов, натянутый как тетива — ровно, но податливо. А одеяла и бессчетное множество подушек, наброшенных для мягкости, даровали невероятно удивительное чувство уюта.
Именно там я приобрел привычку читать. На том гамаке я нашел свое убежище от жестокости и несправедливости жизни, от равнодушия и одиночества. Я открывал для себя новые миры, знакомился с отличающимися друг от друга представителями различных эпох и культур, познавал настоящую любовь, боль, счастье и предательство. Книги стали для меня проводниками — настоящим светочем самой сути бытия! Брэдбери, Дюма, Сабатини, Беляев и с десяток других, до того момента вовсе незнакомых мне людей, за пару месяцев лета сумели сделать то, чего учителя не могли бы достичь и годами, — они открыли для меня дверь в настоящую жизнь! И по сей день я с удовольствием уделяю литературе свое свободное время.
Жаль только, что выкроить столь необходимые для сего занятия часы с каждым годом становится всё трудней. Мешают то обыденные дела и заботы; то неожиданно объявившиеся старые друзья, которых уже сто лет не видел; а то и чего похуже — в постепенно дряхлеющих комнатах назревает ремонт, и начатая книга, которую с таким интересом взахлеб читал всю ночь, в итоге надолго отправляется пылиться на полку с закладкой где-нибудь на сотой странице.
Но в данный момент мой распорядок дня целиком и полностью зависит лишь от меня. Внезапно, и как-то даже совсем непреднамеренно, я сам стал хозяином своей судьбы — в один момент исчезли все обязанности и отвлекающие факторы. И грозный облик жертвенного долга, висящий надо мной дамокловым мечом, растворился в окутавшей меня безмятежности. Сейчас, оказавшись в гамаке под руку с волшебным проводником в незнакомый мне мир, я словно попадаю в прошлое. Будто история, моя собственная история, сделав виток, пришла к тому же месту, но на порядок выше… И для меня этот факт более чем удивителен и безоговорочно приятен.
Вообще же, хочется признаться, что поваляться после еды с книжкой на мягком ложе — это классно! Я с трудом могу себе представить более вальяжное времяпрепровождение, способствующее максимальной релаксации организма. Вот ещё найти бы мой осколок бутылки, через который так забавно смотреть на солнце (из пылающего круга, режущего глаза́, оно сразу превращается в милый и приятный кусочек аппликации), и тогда счастью моему уж точно не было бы предела.
Однако постепенно буквы начинают сливаться в линию, я плохо различаю сюжет и узнаю героев и сам не замечаю, как плавно перехожу из реальности в мир грез. И знаете что? Читать и дремать одновременно — это…
* * *
712 год до нашей эры. Исайя уже огласил свое пророчество о будущем обществе, касающееся меча и войны. Тэн и Сё прибыли в Лу для аудиенции у луского гуна. А победитель XIII олимпиады Диокл из Коринфа вместе со своим возлюбленным Филолаем переселились в Фивы… Там же, где спустя две тысячи шестьсот тридцать лет вырастет город, из которого придет человек, призванный молча поправить всё, сейчас лишь могучей стеной стоит то, что впоследствии будет названо «лес», течет то, что будет названо «река», и живут те, о которых никто никогда не узнает.
Полоумный ветер-шут с гиканьем да плясками гоняет по небу пугливые робкие облака; снег, лежащий на лапах вековых сосен, подмигивает искрящимися глазами одуревшему от одиночества солнцу; мурлычет потихоньку свои песни текущая вода, старательно отстирывая камни до чистоты песка; и, разрезая белый свет нестерпимой красотой изумрудной краски, пышно растет сочная чудо-трава… И каждый, кто траву сию в первый раз отведает — счастливым становится, второй раз отведает — умным становится, третий раз отведает — то, чего нет, видит, а с четвертого раза он воли лишается и ничего в рот взять, окромя травы сей, не в силах. И пьет из него соки жизни чудо-трава, и, доколь все не допьет, не будет тому покоя!
Но так не всегда было! Поначалу чудо-трава была чахленькой и невзрачной — забитая пионами да астрами, болеющая и желтоватая, она росла совсем незаметно и тихо, стараясь не попадаться на глаза другим, и никто даже не подозревал о ее существовании. Ели её лишь змеи болотные да прочие гады ползучие, а остальные звери обходили стороной, чуя в сей траве силы темные.
И ничто не предвещало беды, кабы однажды не взбунтовался старый ворчун Ураган, что, как назло, поцапался со своей соседкой Тишью-гладью. Поспорил, метнулся, заорал, что силы было, после чего с вожжой под хвостом, с головой окунулся в неистовый мятеж, какого ещё не видывала земля эта. Рвал он из почвы пионы, метал астры, бил в барабан вышедших из берегов озер палками корабельного леса… Тридцать дней и ночей носился по земле, не ведая ни сна, ни покоя. И лишь к тридцать первому почувствовал легкое покалывание в боку, после чего заметно сник и залез к себе в дом из хрусталя — досыпать сны сумчато-переметные.
Тогда повылезали звери из убежищ своих, глянули на землю обновленную и ахом ахнули. Ни следа не осталось ни от пионов вскуснопахнущих, ни от астр дикорастущих. А на месте дубрав вольностоящих лишь пустыня с пнями да корягами высилась. И созвал Великий Лось совет, и вещал всем:
— Звери дикие и не дикие, ходящие и летающие, рогатые и безрогие, копытные и крылатые, внемлите гласу моему, ибо настала пора трудная. Чует нос мой кожаный, что не продержаться нам зиму лютую, не простоять в год голодный, не выжить без хлеба насущного! Услыхав про беды наши горести, скоро приидут из-за гор ироды Медведи Бурые да изверги Волки Серые и изничтожат нас — существ горемычных. Что же делать нам, окаянным, когда племя вражье на пороге топчется?
И взял слово тогда Филин Мудрый, и молвил:
— Всяк, кто может лететь — лети к югам в сторону моря теплого; всяк, кто может ползти — ползи к берегам песчаным; всяк, кто может идти — следуй за мной, ибо поведу я вас к земле благодатной, в края те, где ещё ни одно живое существо ни разу не было.
И послушались звери, и пошли за Филином во след, и оставили сторону проклятущую. Лишь один Кот Древесный за ними следом не тронулся. Он преспокойненько почивал посреди хаоса и мыслил так: «Что идти, что не идти, всё едино. И на всё воля мироздания». Каждый, проходя мимо него, диву дивился и молил вместе пойти, говоря, что падет Кот смертию лютой; и ежели не от лап жутких извергов, да кошмарных иродов, то уж точно от голода завернётся. А Кот Древесный всё молчал, только знай себе, хвостом покручивал.
Ушли звери. И стало Коту одному не то чтоб боязно, но вельми скучненько. И взгаркнул он голосом громким «Мрмяууууууу!». И от воскрика такого затряслись великаны-горы на горизонте, вспенились моря-окияны, содрогнулось небо светлое. Услыхали тот клич и Медведи Бурые да Волки Серые и обождать идти решили.
А Кот Древесный ходил вокруг да около, да песней своей будил рассвет заспанный. Долго ли ходил, коротко ли, да только забурчало в животе его, забурлило. И смекнул Кот, что правы были звери, и помрет он смертию лютой, ежели пропитания себе не добудет. А как его добыть, когда кругом лишь пустыня да хаос космический? Но на глаз вострый, как назло, попалась ему трава какая-то блёкленькая. «Эх, была не была, — подумал Кот. — Семи смертям не бывать, а одной не миновать», — схватил в пасть раззевущую целый пук и жевать начал. В первый раз пожевал — благодать по чреслам его разлилась да улыбкой обозначилась. Второй раз пожевал — всё, чего знать не знал и ведать не ведывал, в миг себе уяснил. Третий пожевал, да через мгновенье узрел, как бегут стада по небу, сломя голову, как камни срываются вверх и летят на кручи горные, как рыбы в озерах тонут. А на четвертый раз поначалу не происходило ничего, да вдруг почувствовал Кот Древесный, как кишки его заворачиваются, а шерсть из головы пятиглавой растет. И хотел было гаркнуть клич свой именной, да вместо него из горла молодецкого цветы да бабочки потоком полились.
А по зиме всё ж таки пришли изверги Волки Серые да ироды Медведи Бурые, но не нашли Кота Древесного, встретив лишь тень улыбки его, ибо тот растворился в тумане утреннем. А на следующий день он дождем огненным пролился на землю-матушку, стирая с лица мира грешного и траву-чудесницу, и извергов Волков Серых, и иродов Медведей Бурых, дабы даже памяти о них не осталось… Да только чудо-трава на то была и чудо, что спаслась, укрылась и опосля лишь крайне буйным цветом цвести стала да по земле плодиться. Но гласит преданье: с тех пор ветхозаветных в том самом месте, где кот в туман ушел, любого, кто в миг утренний там окажется, холодом морозным овевает и ознобом недюжинным до костей самых всю жизнь трясти будет! И трясет и поныне…
Трясет и трясет, трясет и трясет…
Просыпаюсь, и не сразу же понимаю, где я, и кто я. Среди плотной кроны деревьев, зацепившись за одну из веток, висит назойливое солнце; где-то рядом жужжит газонокосилкой майский жук; а я, неведомо как закрепленный между небом и землей, качаюсь из стороны в сторону, напоминая собой странное подобие маятника, да ещё при этом кто-то трясет меня за плечо… Тру глаза — рядом стоит Лика. Я никак не могу взять в толк, откуда она тут взялась со своей кошачьей улыбкой, и где волки серые да медведи бурые, и причем тут, собственно, я…
— Вставай, пора на рынок идти, — говорит она.
Я плетусь вслед за Ликой по раскаленной добела пустыне вымерших улиц. В это время тут, действительно, как в морге — тишина и полнейшее спокойствие. Все нормальные люди попрятались в дома под кондиционеры и сейчас едят окрошку или пьют морс со льдом… А Лика… Блин, она же ненормальная — для нее это самое излюбленное время похода на рынок — мол, никого в это время туда и плетью не загонишь. И тут уж с ней не поспоришь — хрена лысого я бы тоже туда сейчас пошёл!
Как я ни стараюсь смягчить посылы внутри меня, громко трезвонящие в колокола и собирающие вече моей нервной системы под лозунгом «А давайте пошлем всё на!», у меня ничегошеньки не выходит. В конце концов, то, что я сейчас куда-то иду, всячески противоречит основе моего жизненного принципа, которым с недавнего времени стала практика «недеяния» У-Вэй!.. Но даже если и не вдаваться в глубинные подробности, мне, блин, попросту тяжело переносить эту адову жару и находиться под палящими лучами родного, но беспощадного светила столь продолжительное время.
Главное, что Лике это всё глубоко сиренево — она напялила свою панамку на уши и чешет себе, как слон сквозь джунгли. А на мой стремительно лысеющий череп без жалости валятся пучки фотонов и прочий ультрафиолет. И ведь она знает, как мне нехорошо. Наверняка же знает! Не может она этого не знать! И все равно идет, не оглядываясь.
«Впрочем, стоп, — говорю я себе. — Как бы мне не пожалеть о подобных мыслях… Пройдут годы, и я, скорее всего, с радостью и упоением буду вспоминать и это лето, и это беспощадное солнце. Есть немалая вероятность, к тому же, что я стану молиться о хотя бы частичном его повторении, искренне удивляясь своей ярко выраженной недальновидности и неумению получать сиюминутное удовольствие от настоящего момента, оценивая всю его прелесть лишь много позже».
Словно прочтя мои мысли, Лика оборачивается и, увидев, что я подотстал, останавливается и дожидается меня. Должно быть, всё, что я до этого думал, отчеканено на моей роже с такой прозрачностью, что, как только я подхожу, она тут же обещает первым делом купить мне пива. Спасибо тебе, о женщина! Ты великолепна!
Когда мы проходим по улице, названной в честь какого-то великого деятеля, о котором я никогда ничего не слышал, я замечаю нищенку, прячущуюся в тени. Закутавшись в свое тряпье, она сидит с закрытыми глазами, прижимая младенца к груди. В ее позе нет ни смирения, ни мольбы, а лишь тупое безразличие к происходящему… Я обращаю на нее внимание не только потому, что она в данный момент является единственным представителем человечества на этой безлюдной улице, но и совершенно по другой причине: за время моего пребывания здесь, помимо всего прочего, я обнаружил, что Лика обычно крайне внимательно относится к людям, просящим подаяния. Никогда она не проходит мимо них равнодушной — она либо дает им денег, причем, зачастую не ограничиваясь мелочью, либо всем своим видом выражая презрение, вперяется в них горящим взором. И в подобный момент она вполне может начать читать им лекцию или даже не постесняется прибегнуть к помощи сотрудников правопорядка. И все эти действия она производит с такой невероятной долей уверенности, словно заранее знает, у кого в жизни произошла реальная трагедия, а кто просто-напросто клянчит или строит на этом бизнес. Когда я попробовал уточнить у нее — как так происходит, она лишь пожала плечами — «не знаю». Поэтому внутри себя я сделал вывод, что у нее нюх на такие вот ситуации, и перестал придавать этому значение. Но сейчас огонек интереса отчего-то разгорается во мне с новой силой, видимо, тому способствует жуткое дневное пекло… Мне хочется посмотреть, как поступит Лика теперь, — когда кроме нас троих на улице никого больше нет — потому что грешным делом у меня появилась мысль о том, что она не стесняется играть на публику…
И, точно — Лика проходит мимо, нисколько не обращая на женщину внимания. Да, пожалуй, такого поворота, я никак не ожидал. Признаюсь, я порой позволяю себе думать о людях не с лучшей стороны, но чтобы Лика подтвердила мою случайную догадку и оказалась самой обыкновенной позершей — это было уже чересчур и не лезло ни в какие ворота…
— Лик, а Лик… — с трудом поспевая за ней семенящим шагом, я тормошу ее за руку. — Слушай, а там вон женщина подаяния просила…
— Угу.
— Что «угу»?
— Это значит, что я видела.
— И?
— Что «и»? — настает ее черед переспрашивать.
— Где реакция?
— А какая должна быть реакция? Я должна прыгать от счастья или, свернувшись калачиком, лечь рядом с ней? Я что-то не понимаю…
Эта ее хамская нападка окончательно сбивает меня с толку:
— Не знаю… Ты обычно даешь им денег. Или не даешь… Но тогда делаешь замечание… А в этот раз ты мимо прошла… Вот мне интересно стало.
— Стало интересно — гугли.
— Не, ну что ты сразу злишься-то?
Она смотрит на меня снизу вверх, но под ее взглядом я чувствую обратное — словно я скукоживаюсь до размеров песчинки, а она возвышается надо мной гороподобным великаном:
— Ох… Я не злюсь… Ну, хорошо, я постараюсь объяснить тебе, чтоб ты понял, — вздыхает она. — Понимаешь, нет цели в жизни лучше, чем приносить другим людям пользу… Только польза эта должна быть непременно благой — то есть все твои поступки не должны идти во вред самому человеку. Вот, возьмем в качестве примера наркомана. Прожженного такого… Торчащего уже давно… Ты знаешь, каково это — когда ломка? Нет, откуда ты можешь это знать… Ну, представь себе, что тебе одновременно ломают все кости в организме, выворачивают наружу все внутренности, а сам ты перестаешь существовать, и у тебя остается лишь одно желание — чтобы тебе отрубили башку и положили ее спать на подушку… И это реально нечеловеческое состояние, в котором тебя корежит и долбит. Ты… ты перестаешь быть человеком, а превращаешься в пульсирующий болью беспокойный бессознательный комок синапсов. И, поверь мне, смотреть на кого-то даже чужого, уж не говоря о дорогих и близких тебе людях, в такие моменты без боли невозможно. И первым твоим желанием будет являться — облегчить им страдание. То есть дать им новую дозу, чтобы они не мучились и не переживали подобный ужас… И это желание — оно в корне неверное. Потому что, совершая доброе дело, ты в итоге наносишь непоправимый вред… И то же самое правило можно применить к чему бы то ни было в жизни — даже к подаче милостыни… Для того, чтобы реально помогать людям, надо не только, чтобы они действительно нуждались в твоей помощи, но и видеть, к чему эта помощь приведет. Словом, ты должен стать для них той самой последней чертой, за которой следует обрыв и падение в черную бездну. А иначе и браться за это не надо!
— Слушай, это все здорово, конечно, звучит, но что с этой женщиной не так? Она наркоманка? Или пьянь? Почему ты ей-то не помогла?
— Нет. Она не наркоманка и не пьянь. Просто она спала. Разморило её. А если б я подошла, она бы проснулась.
— И это все? В этом причина? — моему удивлению не остается предела.
— Да, — спокойно отвечает она.
— То есть ты считаешь, что из-за боязни ее разбудить можно отказаться от благого поступка? — ее слова возмущают меня до глубины души.
— Руслан, милый, я так не считаю. Но пускай немного поспит… А мы с тобой на обратном пути обязательно дадим ей денег. Хочешь, даже ты дашь. Непосредственно.
— Да, но… Но она же может уйти куда-нибудь… Ее могут прогнать. Не знаю… Ещё что-нибудь может случиться непредвиденное… В конце концов, мы можем попросту прийти поздно…
— Успокойся! Ничего такого не случится, и никуда она не уйдет, поверь мне. Да и, вообще, делать добро не может быть поздно!
Она произносит это с такой уверенностью и стальной твердостью в голосе, что я с глубоким уважением кидаю взгляд на эту крошечную, но такую неимоверно сильную девушку. «Делать добро не может быть поздно» — и, кажется, эти ее слова отпечатываются в моей голове на всю жизнь.
* * *
Шкипер, его родители, Лика и даже ее сын Арчик кормят меня, терпят и заботятся обо мне так, словно я член их семьи. Душевная сердечность прямо-таки выливается из их поступков, сочится из взглядов, целиком и полностью покрывая меня ореолом спокойствия с головы до ног. В их расположении есть нечто большее, гораздо большее, нежели обыкновенная дружба… Правда, я не берусь давать этому отношению (которое с моей стороны абсолютно взаимно) какое-либо точное определение. Порой, по остаточной эгоцентричной привычке персонализируя все происходящие со мной события, я думаю, что в таком вот человеческом взаимодействии должна быть и доля какой-то моей заслуги. Однако тут же пытаюсь избавиться от этого идиотского навязчивого «я» и более не развивать подобных мыслей.
Но вот от нехорошего чувства стыда, зреющего где-то внутри, мне избавиться не так-то легко. Тем более, на фоне этих возвышенных и во всех смыслах приятных взаимоотношений. Ведь мы с Элом хоть все из себя такие Ликины друзья-друзья, но все же не ближайшие родственники. И мне очень хочется отплатить этим людям хоть чем-нибудь — стать для них полезным и, возможно, в чем-то даже незаменимым…
Воодушевившись этой мыслью, я всячески порывался помогать по дому. Начал я с того, что стал мыть за всеми посуду после еды. Но спустя три дня Анна Николавна, внимательно следившая за мной, не выдержала и тактично, но строго заметила, что дело пятнадцати минут не стоит двух с лишним часов адских мучений, чем крайне меня раздосадовала. Тогда через несколько дней в моей голове созрел новый план, который, тем не менее, потерпел столь же сокрушительное фиаско. Очередная предпринятая попытка казаться нужным заключалась в том, что я старательно и с небывалым рвением начистил до блеска самую большую и грязную сковороду металлической губкой. Сковорода оказалась тефлоновой… С тех пор, дабы, видимо, охладить мой пыл к различного рода «помощи», мне торжественно доверяют выносить мусор. В принципе, доложу вам, это меня устраивает.
Но сегодня, к счастью или к сожалению, звезды сложились так, что выдавшийся день даровал мне возможность снова доказать свою небесполезность. Я имею в виду этот самый поход на рынок! В принципе, Лика обычно не берет меня с собой. Она говорит, что я своей наглой мордой, косой саженью в плечах и громадным ростом распугиваю все скидки. И, в общих чертах, я разделяю ее точку зрения — мне за красивые глаза однозначно ничего не светит. Однако ж выбора у нее нет — Эл ещё, а Шкипер уже не в состоянии составить ей компанию. Поэтому я покорно, как бычок на привязи, тащусь следом за ней по этому адскому пеклу.
К тому моменту, когда мы, наконец, попадаем под стеклянный купол рынка, до тошноты заполненный отвратной эклектикой наслаивающихся друг на друга запахов, моя спина и подмышки становятся темны, словно классический «шварцбир». Но Лика порхает между прилавками, как мотылёк — приценивается, принюхивается, всматривается, иногда пробует. Она словно оказалась в своей стихии, прекрасно чувствуя себя среди разлагающихся фруктовых и мясных трупов. И я еле поспеваю за грациозными движениями ее маленького хрупкого те́льца.
В один из моментов увеличения массы переносимого мной груза путем упаковки в сетку десяти килограммов картофеля я всё-таки умудряюсь поймать ее за локоть:
— Слушай, а у тебя не бывает ощущения, что ты заблудилась?
— Нет, я хорошо ориентируюсь на этом рынке — знаю, где что лежит, и у кого что лучше. Я тут не в первый раз, — начинает тараторить она. С ней всегда так — она то зависает, то куда-то торопится, будто ей кажется, что этой жизни недостаточно, и нужно успеть вобрать в себя как можно больше впечатлений, эмоций и информации. Не терпит она пространных размышлений и лирических отступлений. Вот и теперь, не дослушав мою мысль, начинает излагать то, что ей кажется верным. Но я останавливаю её жестом:
— Нет, я не это имею в виду… Я говорю про чувство гармонии и умиротворения. Про чувство дома, понимаешь? Ну, так, будто ты хочешь вернуться домой, но не знаешь где это…
— Не, у меня такого не бывает. Я везде дома!
— А вот у меня такое чувство постоянно… Знаешь, люди приходят в мою жизнь и уходят. Оставляют после себя незаживающие раны или совсем не запоминаются. Но, так или иначе, никто из них не в силах заполнить моей внутренней пустоты…
— Угу, — Лика с прокрутом срывается с низкого старта, и я снова пытаюсь не отстать от нее, на ходу продолжая начатый диалог:
— Так много людей кругом… Я говорю с людьми… Люди много говорят! Неприлично много… Но никто из них не в силах ответить, зачем он живет. И я все чаще склоняюсь к мысли, что мое пребывание тут тоже бессмысленно. Да и сама по себе жизнь становится тусклой и неинтересной, как заезженная пластинка в давно гастролирующем шапито. Существование сводится к пребыванию внутри себя и перевариванию собственных мыслей и эмоций. А желание разбить эти цепи и вырваться, наконец, на свободу, наружу — туда, где мне будет хорошо — это желание с каждым годом, да что там! — с каждой секундой разрастается в геометрической прогрессии, заполняя все мои рецепторы своим слащавым ядом одиночества. Понимаешь?
— Да, — кивает она, останавливаясь настолько резко, что мне требуются недюжие усилия, дабы не впилиться в нее с размаху. — Слушай, как ты думаешь, надо брать абрикосы или вечером у кого-нибудь в саду нарвем?
Абрикосы??? Какие на хрен абрикосы? Я тут толкую ей про свою жизнь, про своё мировоззрение, а она беспокоится о каких-то там абрикосах. Черт возьми, она вообще меня слушала? Или я разговаривал сам с собой?! Как же некрасиво так поступать… Впрочем, чего ещё ожидать от хорошенькой женщины. Она и вопросом-то таким никогда не задавалась.
— Спасибо, Лика, за совет! — бурчу я. — Абрикосы — это супер. Конечно, они важнее меня… Да и с чего это я взял, что ты хоть что-то смыслишь в одиночестве?!
Сказав это, я жалею, что раскрыл рот. Лика медленно поворачивается ко мне, ее глаза расширяются, а лицо в буквальном смысле багровеет, наливаясь кровью.
— Что я понимаю в одиночестве?! Ты, питекантроп с мозгом трехлетнего малыша, что ты ноешь? Ты ходишь, плачешься, скулишь тогда, когда у тебя всё хорошо. Ты и замечать не хочешь того, что в твоей жизни, в сущности, нет ничего, кроме счастья! Вы только посмотрите на него — трагедия вселенского масштаба, Чальд Гарольд угрюмый-томный. Гамлет, блин! Места он своего в жизни найти не может! Подумаешь, эка проблема… Да ты счастливей, чем девяносто процентов людей на этой планете, и вместо того, чтобы радоваться жизни, сравнивая себя с больными и убогими и благодарить Бога за то, что ты здоров и обеспечен, смотришь на оставшиеся десять процентов с завистью и только ропщешь да жалуешься! Да что ты знаешь о боли? О настоящем одиночестве?.. Знаешь, каково это — жить на пенсию по инвалидности или сидеть с ребенком на улице, потому что тебе некуда пойти, как той женщине? Нет?! Знаешь, каково это — быть избитым камнями, как те собаки, которым я помогаю в приюте? Или, может быть, ты знаешь, что это значит — загибаться в от ломки в пустой, совершенно голой квартире, слыша, как в соседней комнате плачет от голода твой ребенок? Знаешь? А? Может, что-нибудь скажешь об этом? Молчишь?! Вот и молчи! А то нашелся — разнесчастный страдалец. Всё ему плохо…
Мне становится стыдно. Я тут же разом вспоминаю Ликину историю — ее проблемы с наркотиками — то, как в одночасье от нее отвернулись все, кого она когда-то звала своими друзьями. Я вспоминаю ее худые бледные руки и большие, пустые глаза, глядящие в пустоту в тот момент, когда я случайно заметил ее, сидящую в скверике. Сколько лет назад это было? А ведь я тогда не подошел, не спросил, как у нее дела, не помог. Я предпочел отвернуться и поскорее пройти мимо — чтобы она меня не заметила. И никто — ни я, ни Эл, никто, кроме, разве что, Шкипера, не представляет, чего ей стоило родить ребенка, выкормить его, и вытащить себя за волосы из тягучего болота наркотической зависимости. Да я даже не в курсе, от кого она родила его и как жила все эти годы — между той встречей и сегодняшним днем. И то, что она не озлобилась на мир, не прокляла его, а, наоборот, с удвоенной энергией, которую никак не ожидаешь встретить в таком с виду нежном и ранимом существе принялась менять жизнь в лучшую сторону, говорит о многом.
Я вижу, как Лика всё ещё тяжело дышит, как играют на ее лице желваки, и, потупив глаза, говорю примирительным тоном:
— Я с удовольствием нарву тебе абрикосов у соседей через квартал от нас, где злобный пес на цепи. Помнишь, мы мимо них всегда ходим и облизываемся?.. Они, похоже, никогда абрикосы не собирают… Сегодня и нарву!
Лика прыскает хохотом. Ее звонкий смех разносится, как стая голубей, поднимаясь к куполообразному своду рынка.
— Ну что смешного? — на этот раз уже я делаю вид, что дуюсь на нее, но, на самом деле, у меня словно гора с плеч падает, и на душе становится невообразимо легко.
— Ахахах, ты, когда извиняешься… Хахахаха… Становишься похож на слоника из этого мультфильма… Ахаха… Ну, ты помнишь… Хахаха, не могу…
— Да ну тебя, — машу я на нее рукой.
Внезапно она смолкает. И следующие её слова отдают максимальной серьёзностью:
— Не надо к ним лазать. Тебя там собака сожрёт! Она у них, ты не представляешь, до чего злющая… — помолчав, она добавляет. — А вот с тараканами своими тебе разбираться надо. И всерьез.
— Ну и что же мне делать?
— Не знаю… — она пожимает плечами. — Полкило абрикосов, будьте добры…
Я вздыхаю. Чёрт побери, жизнь кажется такой лёгкой, когда на нее смотришь со стороны. В принципе, набор у всех одинаковый: работа, семья, дом, хобби, отпуск… Казалось бы, бери с кого-нибудь пример и лепи свою жизнь по чужому лекалу. Делай то, что этот человек делал, чтобы стать тем, кем он стал, и всё у тебя будет классно: и машина дорогая, и работа престижная, и квартира хорошо обставленная, и жена красивая-умная, и дети золотые, и слава, и почет, и всеобщее обожание и уважение… Важно ведь что — пример стоящий перед глазами иметь!
Но, видно, не всё так просто, не то бы все вокруг так поступали. То ли люди не хотят своими секретами счастья делиться, то ли перенять чужой опыт куда сложнее, чем кажется. Вот и приходится свое счастье по собственному уникальному проекту строить — медленно, по кирпичику. Да глядеть, чтоб дождик его не размочил, да ветерок не сдул…
— Вкусные персики. Будешь?.. — Лика сует мне в рот кусочек фрукта. — Знаешь… А я бы совсем на твоем месте не парилась. Жила бы там, где живу — в городе, в котором ничего не происходит и, слава Богу, никогда не произойдет. Вот только бы бросила твою тупую, монотонную и обезличивающую работу, от которой можно набраться больше нервного беспокойства да прочей душевной нестабильности, нежели денег. Послала бы нахер их тошнотворный корпоративный стиль и всевозможные ублюдочные правила, и пускай всё летит куда подальше… Продай свой дорогой телефон — он тебе ни к чему, это всё понты; выброси к чёртовой бабушке одежду, которую ты не носил больше года — она тебе уже никогда не понадобится; забудь, ради Бога, забудь всё, что с тобой было; и айда в царствие вечно сырой серой промозглости… Ты, кстати, никогда не курил дурь?
— Нет. Меня это как-то не притягивало…
— А вот попробуй! И сразу, тут же, смени имидж и место работы! Ты ж вроде что-то писал… Да не, не программы, а заметки там какие-то… Ну, вот и валяй — мальчиком на побегушках в какой-нибудь заштатный копеечный журнал для нищих. Купишь себе китайские кроссовки за три копейки, джинсики на распродаже, фуфайку едкого цвета в сэконд-хэнде… И непременно, непременно чёрное пальто. Длинное! Станешь загадочным, как Джеймс Бонд… Ездить, значит, будешь обязательно на трамвае — где ранним утром станешь похмеляться «Чёрным парусом» из горла… А вечерами, вернувшись в редакцию и пропустив стопку-другую чая, ты будешь трахать в сортире толстомясую Любку из бухгалтерии… Ну… Как картина?
— Гадостно, — морщусь я.
— Да ну, брось ты. Вроде, так… очень живенько… Ну, давай ещё пару штришков для полноты… Ты щаз где живешь? С мамой?! В жопу родителей, ты уже взрослый мальчик! Сними себе комнату в классической коммуналке в центре — так, чтобы потолок высотой за три метра и непременно с подтеками, а лучше даже с плесенью; чтобы из соседей — бабушка, ходящая под себя, пропитая в ноль тётка-алкашка и ее сожитель, избивающий ее каждую ночь часа в три, а также малолетняя ширяющаяся дура в неполные двадцать годков; да, чтобы ещё обязательно горячей воды там не было, и в сортир с ведром ходить, чтоб за собой смывать… Ты вначале будешь кривить нос от вони, а потом привыкнешь, затем дашь пару раз в морду сожителю и подружишься с девочкой, которую после, как-то даже неожиданно для самого себя, трахнешь. И вы вдвоем будете холодными мерзкими февральскими утрами дрожать под тонким, насквозь влажным, стеганым одеялом. Она — от ломки, а ты — от въевшегося в кости ледяного озноба бессилия. Ты и сам не заметишь, как влюбишься в нее и будешь ждать ночами у входа в парадную, а она за новую дозу будет где-нибудь на частной квартире в спальном районе давать в жопу дилеру. И ты ничего с этим не сможешь поделать… Ты будешь беситься, запирать ее, устраивать сцены, а потом вы будете мириться, заниматься безудержным сексом по пять раз подряд, лежа голыми на столетнем дубовом паркете, по которому ходило бесчисленное множество ног, носящих тела тех, у кого когда-то тоже были свои желания, мечты, мысли, а теперь они все преспокойно спят в могилах… И девочка, вроде как, будет тебе благодарна — ты будешь постить ваши фотки в инстаграм и рисовать углем ее длинные пальцы… Не умеешь рисовать? Да ты вообще хоть что-нибудь умеешь, одноклеточное?.. Имбециииил… Ладно, хрен с тобой, не будешь рисовать. Будешь таскать ее на своих плечах по центральному проспекту, и вы оба будете отражаться блеклыми тенями в мрачных лужах. А над вашими головами будет висеть неподвижное и безразличное ко всему земному, грязное, заблеванное, истоптанное небо. И мысли ваши будут наполняться протяжным воем голодного, затравленного и бесконечно одинокого волка…
Лика замолкает. Я тоже не в силах вымолвить хоть слово. Так мы и стоим посреди алычи, клубники, черешни и персиков — фруктов всех красок и мастей, посреди самого торжества жизни, объятые непонятой и необъяснимой хандрой…
Наконец, я прихожу в себя от этой жуткой дремы наяву:
— А что будет дальше?
— А?.. — Лика вздрагивает, услышав мой голос. Словно мы не на рынке, и нас вовсе не окружает толпа снующих туда-сюда людей. Она удивленно смотрит кругом, будто за секунду до этого сидела в пустыне совсем одна, а теперь вдруг очутилась посреди незнакомого ей места, и внезапный чужой мужской голос, выдернувший ее оттуда, является голосом самой преисподней.
— Лик, с тобой всё хорошо? — я ставлю сумки и кладу ей руку на плечо. Она смотрит мне в глаза, и я ощущаю какой-то запредельный холод. Мне становится страшно и вовсе не хочется опускаться туда, но что-то в ней манит и манит, словно мифическая русалка волшебным голосом зовет меня за собой.
— Да, хорошо… — она отводит взгляд. — Ты спрашиваешь, что будет дальше?.. Дальше всё будет так: одним утром ты проснешься, а ее рядом нет. Ты будешь ждать ее час, два, потом потихоньку пройдет день, следом за ним ещё один, потом неделя. Ты бросишься ее искать — по общим знакомым… хотя, откуда у вас знакомые? Ну да черт с ним… По моргам, ментовским, по больницам… Ты не сможешь найти себе места, будешь рыдать навзрыд и молиться всем богам на свете, лишь бы те вернули ее. Но боги глухи… Ты так никогда и не узнаешь, что случилось с твоей юной вечной любовью. Может быть, она уехала к маме на юг, как давно планировала и как часто рассказывала тебе, хотя ты не верил в существование подобной мамы, наивно полагая, что все это наркотические фантазии воспаленного разума… А, может быть, она загнулась от передоза, и ее труп был выброшен в лесу на трассе, по которой со скоростью журавлиного клина летят длинные, как жизнь, фуры, груженые всяческим дерьмом, которое раньше было для тебя так важно, и до которого тебе теперь не будет никакого дела…
Снова в воздухе зависает неловкое молчание. Я чувствую, что надо как-то разрядить обстановку, но мне попросту не найти нужных слов.
— Вот такая вот история, — печально произносит она.
— Да уж… Очень оптимистично, — соглашаюсь я. — Жизнерадостно и жизнеутвердительно. После такого хочется петь, плясать и улыбаться.
— Не юродствуй!.. Это проза жизни — не больше…
— Угу. Помогла ты мне своей прозой. Так помогла… Ничего не скажешь…
— Нет, а ты чего хотел? — удивляется она. — Чтоб я за тебя решила, как тебе жить нужно? Нет уж, фиг тебе! Это — твоя жизнь, вот ты с ней сам и разбирайся. Никто не решит за тебя, как ее прожить. Никто не скажет, что вот в этот момент ты должен быть счастлив, а вот в этот скорбеть и плакать… Хватит уже держаться за маменькину юбку!
— А почему нет?! Неужели так сложно сказать, в каком направлении мне стоит двигаться? Что, язык от этого отвалится?
— Нет, Русланчик… Конечно не отвалится… Но, понимаешь… Ну, как бы тебе объяснить…
— Ты постарайся теперь без этой чернухи…
— Для кого чернуха, милый, а для кого и жизнь…
— То есть ты реально желаешь мне такой жизни?
— Ох… Как с тобой сложно…
— А с тобой легко? Вот ты сама стала бы жить такой жизнью?
— Да дело тут не во мне! Даже если бы я на всё сейчас забила, а это невозможно, как ты понимаешь… даже если бы мне резко стало на всё насрать, и я бы захотела так жить — я бы попросту уже не смогла!
— А я, значит, смогу? Ну, спасибо!
— Идиот! Господи, какой же ты идиот!
Неожиданно я всё понимаю. И на меня будто сверху что-то падает и придавливает своей массой к земле. Мне ни вздохнуть, ни пошевелиться, не произнести ни слова.
— Ну, послушай меня, — добавляет она после паузы. — Ты всегда был защищён — словно в панцире. Твоя мама всегда за тебя всё решала. Ты не ведал ни проблем, ни забот… Но так не может длиться вечно. Настала пора вылезать из этой скорлупы, вылупляться, если хочешь… Набивай себе шишки, совершай ошибки, делай что-то не так… Это важно, понимаешь? Нельзя всю жизнь в конуре прожить. Да — там комфортно! Да — тепло и уютно! Но это не жизнь, а какое-то её подобие. Симуляция!
— А с ошибками, выходит — жизнь?..
— Да, черт подери! Да!.. Жизнь — это не скафандр, это выход в открытый космос! Это приключение. И тем цена ее выше, чем больше в ней разных событий. И пускай это будет неправильно в глазах общества, неправильно с точки зрения семьи и прочего… Поступай так, как велит твое сердце, а не как общественная мораль! Важно, чтобы жизнь была насыщенной! Важно, чтобы каждый момент — он был, как последний. Чтобы ты радовался, что дышишь. Каждой секунде радовался, понимаешь?.. А сейчас ты так не можешь… Но ведь ты на это способен. У тебя есть все необходимое… Ты пока свободен, ничем не ограничен и, срань Господня, это же так классно — быть самому себе хозяином! Не смей перекладывать этот кайф на чужие плечи! Бери и делай сам! Делай так, чтобы о любом мало-мальски значимом моменте ты мог написать целую статью! Да что там статью — книгу! И не смей ныть и разбрасываться самым ценным, что у тебя есть — временем. Успеешь спустить всё на ветер, когда на пенсию выйдешь или станешь жить, как я!
Последние слова она произносит с усмешкой.
Я улыбаюсь ей в ответ:
— Спасибо, Лика! Вот ты одна умеешь сказать так, что после этого всё в башке на свои полочки раскладывается. Удивительно, как ты только умудряешься? Наверное, потому что ты дико талантливая и красивая.
— Да-да-да! Говорите мне комплименты, — смеется она.
— С превеликим удовольствием. Вот только у меня будет к тебе ещё одна просьба.
— Какая ещё просьба?.. Руслан, ты задрал меня уже со своими проблемами…
— Не, она маленькая и несущественная…
— Нннну…
— Давай купим здесь ещё сосисок. Или сарделек… Они тут такие необыкновенно нежные и вкусные… Не то что дома — вата с говном! От местных у меня аж ушные мочки щекочет — вот, до чего они хороши.
— Сосиски, говоришь?.. Ххе!.. — и она хитро ухмыляется.
И следом за её ухмылкой улыбаюсь и я. И жизнь тут же снова становится простой и беззаботной, а счастье легко достижимым. И дорога из жёлтого кирпича напрямую ведёт меня к исполнению моих заветных желаний.
* * *
Говорят, молчание — золото. Старая, избитая временем фраза, но ничего точнее я, да и, пожалуй, никто придумать не сможет. Вот, к примеру, если б я стал печатать свою книгу, то, по большому счету, все страницы в ней должны были быть пустыми. И издатель в обязательном порядке снабдил бы её комментарием из разряда «смотреть по пять минут на страницу, пока не почувствуете полное умиротворение и гармонию, что приводит к пониманию того, что текст Вам уже не нужен». Этакий психодиагностический тест для исследования личности и снятия стресса. Хотя, должно быть, нечто похожее уже кто-нибудь обязательно придумал…
Но, так как я, в общем-то, не писатель, мне приходится довольствоваться лишь наблюдением за собственной скромной персоной. И порой мне страстно хочется отчитать и пожурить себя за то, что я не могу брать пример с Великого Сфинкса. Это существо свято следует правилу «промолчи — за умного сойдёшь» — не зря же его испокон веков записывают в мудрецы. Хотя, положа руку на сердце, хочется отметить, что лично мне всегда казалось, что сфинкс ни фига не умён, а лишь удачно косит под такого. И, даже более того, сомневаюсь, чтобы он знал что-нибудь, кроме фразочки «Wrong. Absolutely»…
Вот так и я после возвращения с рынка вместо того, чтоб спокойно промолчать в ответ на вопрос «а кто сводит ребёнка в ботанический сад?», услышал фразу, произносимую своим собственным ртом: «В ботанический сад? Ребята, это ж здорово. Давайте сходим!». И эта самая, одна единственная фраза, в отличие от бесконечных попыток казаться нужным, наконец, позволила мне почувствовать себя таковым и прибавить ещё одно занятие к довольно краткому перечню, состоящему исключительно из сплю/читаю/потею/пью вино.
Естественно, ни у кого, кроме меня, не хватило энтузиазма на аналогичный подвиг, и только ритмичный бой Шкипера по джембе, вероятно, призванный знаменовать собой «Прощание славянки», проводил нас до калитки. И вот уже мы с Арчиком покинули уютную и гостеприимную пристань двора, дабы пуститься в открытое плаванье к заколдованной Terra Incognita.
По пути ребенок клянчит мороженое, и я, прекрасно понимая, что потакаю его слабостям и где-то даже поступаю неправильно, конечно же, не могу ему отказать… Странное всё ж таки сейчас настало время. Лично я не могу пожаловаться на своё детство. Оно у меня было вполне себе вменяемым и даже счастливым, хотя я рос в эпоху тотального дефицита, а взрослел во времена глобального беспредела… Какие-то игрушки у меня были, какие-то капризы мои исполнялись, и мама всегда находила возможность купить мне что-то новое и желанное. Но я думаю, что я ничем не отличался от большинства своих сверстников. Я был похож на Ваську из третьего подъезда, а он напоминал Петьку из дома напротив… Мы росли вместе, у нас были одинаковые интересы и общие игры, и провалиться мне на этом самом месте, если нам было ведомо такое чувство, как зависть.
Всегда было солнце. Это единственное, что я точно помню. Нет, конечно, с точки зрения вероятности дожди тоже должны были идти, но они совершенно не запомнились. А солнце — ослепительное теплое солнце, ласковое, как мамины руки — оно отложилось в памяти на всю жизнь.
Всегда было лето. И чистое, светлое небо, на котором ни облачка. И зеленая, высокая — выше роста — трава, в которой так интересно играть в прятки, с опаской (а вдруг змея?) забираясь в самую глубину заросшего луга.
Всегда была мама. Высокая, умная, молодая и красивая. Та, что никогда не ошибается. Та, что совершенно безболезненно вырвет ниткой молочный зуб. Та, что ласково приговаривая, забинтует и обработает кровоточащую рану, когда ребята принесут меня на руках домой после того, как я на чердаке насквозь распорю ногу большим ржавым гвоздем.
Всегда был я. Во всяком случае, я не помню, когда меня не было. И рядом со мной всегда были друзья. Мальчишки, жившие рядом. Мы играли вместе, а потом забегали друг к другу попить воды, обедали в гостях, заходили утром или кричали с улицы в окна: «Давай, выходи!».
Целыми днями мы торчали на улице. Целыми днями мы шлялись черт знает где. Целыми днями мы бросали камни в лужи, играли в пятнашки, войнушку и «выше ноги от земли», лазали по подвалам, забирались на верхушки самых высоких деревьев и оттуда кричали: «Привет, мир!».
А ещё мы собирали вкладыши «Турбо». «Понтиаки», «Доджи», «Шевроле» — все эти машины мы видели только на картинках и даже мечтать не могли, что однажды кто-то из нас будет иметь шанс сесть за руль или, тем более, стать обладателем такого автомобиля… Свою коллекцию я хранил в жестяной коробке из-под леденцов. И когда я доставал пачку картинок, заботливо перетянутых толстой черной резинкой, мне в нос всегда бил аромат барбариса.
А дома на кухне была отведена специальная полочка, куда я ставил всякие заморские банки из-под пива и газировки. Я находил их на улице или выменивал на фантики, марки и монеты. Банки были особым предметом моей гордости. И уже совсем другие банки мне поставила на спину мама, когда я, перекупавшись в ледяной речке, начал громко и долго кашлять. Мама поджигала намотанную на карандаш вату, и стеклянный сосуд с чавкающим звуком надежно прилипал к натертой детской мазью спине. А потом мама тихим голосом читала мне Булычева, а на полке под самым потолком горел ночник в виде белого голубя.
А двоюродный брат притащил откуда-то три большущих плаката. На одном Рэмбо-Сталлоне держал в руках здоровенный нож, на втором был кадр со стреляющим во врагов Робокопом, а на третьем, одетый в камуфляж, ухмылялся Арни из «Коммандо». Я доставал брата с вопросами, не сможет ли он принести ещё плакаты с Чаком Норрисом и Ван Даммом. Они, конечно, по нашим мальчишечьим понятиям были не очень круты, но для полноты коллекции вполне сгодились бы. И мы ночами, задолго до «Неудержимых», спорили, кто бы победил, если бы все они снимались в одном фильме.
Утром я ел кашу, чего всегда стеснялся. Мне казалось, что только маленькие мальчики едят кашу, а взрослые предпочитают «ром, свиную грудинку и яичницу». Ну, или что-то в этом духе… Днем мама просила меня сходить с ней в магазин. Там моя основная миссия заключалась в том, чтобы стоять в очереди. Я всегда очень переживал, что моя очередь подойдет, а мамы не окажется рядом, потому что у меня не было денег платить за кефир в стеклянной бутылке, заклеенной зеленой крышкой, или за теплый, мягкий, дышащий хлеб, взятый с деревянного лотка. Вечером мама вешала на дверь простыню, заправляла пленку в проектор и гасила свет. И, пока она стирала или готовила ужин, я под неизменный стрекот следил за тем, как волк напрасно старается поймать зайца.
Сейчас же всё как-то не так… Не хотелось бы мне показаться бубнящим дедом, вспоминающим о том, что в его-то время молодежь была «не то, что нынешнее племя», но все же… Айфоны, айпэды, фильмы в 3D, радиоуправляемые копии настоящих самолетов и яхт, конструкторы любой степени сложности, портативные игровые консоли и кучи игр для них — мир предлагает детям тысячи вариантов развлечений. Подобное и не снилось нашему поколению. И это, появившись так неожиданно, тут же стало обыденностью. Мне начинает казаться, что повзрослев, я на самом деле только устарел. Но, имея гораздо больше, чем им самим надо для жизни, становятся ли теперешние дети от этого счастливее?..
Мы подходим к лотку с мороженым… Когда мама спрашивала меня, какое я буду, я говорил, что хочу эскимо. Да и что я, в принципе, мог сказать? Выбор был весьма невелик: пломбир, крем-брюле и шоколадное в вафельном или бумажном стаканчике. Поэтому из-за желания выделяться, я всегда предпочитал кусочек счастья именно на палочке. И с тех самых пор этот сорт мороженого является для меня наилюбимейшим… Сейчас же, как я в простоте своей душевной полагаю, обильное количество всевозможных вкусов и марок могут поставить в тупик неокрепший детский разум. И вследствие этих размышлений я без задней мысли прошу дать нам два эскимо. К моему удивлению, ребенок от эскимо решительно отказывается и просит купить ему ятис. На мой резонный вопрос «что это?», — он с невозмутимостью мамонта, миллион лет назад замерзшего во льдах, отвечает: «Мороженое».
Беру его за руку, и мы возвращаемся к лотку.
— Девушка, извините, у Вас есть ятис? — с наивной верой в лучшее спрашиваю я. В конце концов, черт их тут знает, как они могут называть мороженое.
— Что есть? — переспрашивает она.
— Ятис.
Она смотрит на меня такими глазами, будто я свалился с луны, и отрицательно качает головой.
— Видишь, — обращаюсь я к Арчику. — У них нет ятиса. Так что не расстраивайся и ешь эскимо. Оно тоже очень вкусное.
— Нееееет! Хочу яяяааааатиииииис! — канючит он. — Хочуууууууууу…
«Да что ж это такое?! — возмущаюсь я про себя. — Я ведь даже слов таких не знаю! Черт бы подрал эту Лику! Я, конечно, понимаю, что она по образованию филолог, но это уже перебор».
— Пойдем, — говорю я ему и тяну за руку.
Арчика же такой поворот событий нисколько не устраивает, и он почти готов закатить мне самую настоящую истерику. Мне стоит огромных трудов уговорить его на замороженный сок. Сраный выпендрежник! Небось сейчас попросит сок из какой-нибудь айвы или мушмулы. После выходок с ятисом я уже не удивлюсь и этому… Но в этом вопросе он оказывается на удивление консервативен и удовлетворяется соком киви. Однако эти глаза с присущей им хитрецой и до боли знакомые ярко-рыжие волосы зарождают во мне определенные догадки…
Быстро расправившись со своими двумя эскимо, я веду Арчика в ботанический сад, по пути размышляя о том, насколько много могут рассказать о нашем характере с первого взгляда совершенно несущественные пристрастия. И если о маленьком хозяине Камелота и любителе ятиса, весело держащем свой путь рядом со мной, говорить ещё рано, то обо мне, вроде как, в самый раз. Вот, спрашивается, почему из всех напитков в мире я больше всего люблю грейпфрутовый сок? Да потому что он целиком и полностью соответствует мне! Люблю я, когда тепло, когда солнце, когда море рядом — и фрукт этот тоже так любит. Вещи я выбираю подстать ему — обязательно яркие, сочные, броские и одновременно мягкие. Друзья рядом со мной — не просто вода, а непременно с мякотью, с послевкусием, снаружи одного «цвета», а внутри совсем другие, и с «Мартини» хорошо идут. И я хочу, чтобы вся моя жизнь была такой же: чтобы кривился, чтобы глаза слезились от кислости, но всё равно не остановиться, не отказаться… Чтобы до дна выпить и впитать удовольствие до последней капли!..
Тем временем мы, наконец, добираемся до нашего пункта назначения. Ступив под прохладную тень раскинувшейся кругом листвы неизвестных мне деревьев, я поражаюсь удивительному спокойствию, буквально растекающемуся по всему этому месту. Честно говоря, я вовсе не ожидал увидеть нечто подобное. То есть ВООБЩЕ НИКАК не ожидал!
Для меня, типично городского жителя северных широт, ботанический сад — это такой стеклянный купол, закрывающий площадь в несколько тысяч квадратных метров, под которым в условиях, максимально приближенных к субэкваториальным, под бдительным присмотром сотрудников-флорофилов растут всякие цветочки и кустарнички. И, по правде сказать, одного похода туда в далеком-далеком детстве хватило мне на всю жизнь… Я тогда даже ещё не учился в школе и очутился там не то чтобы случайно, но, как говорится, за компанию. Дело в том, что класс моего двоюродного брата отправлялся туда на экскурсию, и мама, видимо, напрочь устав уделять внимание моей бесконечно требовательной и надоедливой персоне, отправила меня вместе с ними, чтобы ребенок наглядно познакомился с удивительным миром живой природы.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.