
Бесплатный фрагмент - Первый Апокриф
Артур Григорян
ПЕРВЫЙ АПОКРИФ
Он так и не узнает, что спустя годы его назовут Спасителем, Помазанником, Богом. В эти последние минуты, в ожидании неотвратимого, непознаваемого, он пытается осмыслить свой земной путь, поднявший его на Голгофу. Это исповедь на пороге смерти, это Первый Апокриф от рабби Йехошуа Бар-Йосэфа из городка Нацрат, что в Ха-Галиле.
Пролог. Геташен
Мотор чихнул разок, глухо откашлялся, прочистив механическое горло, и, наконец, ровно и мощно загудел. Вертолёт подобрался, как на низком старте.
— Вуй, астуц! — мелким стежком перекрестилась ближайшая старушка и, развернув сухонькую кисть, наложила крёстное знамение на внутреннюю обшивку. Она ещё что-то добавила, мелкой рябью замутив изюмину лица, наверное, какой-то соответствующий случаю оберег, но грохот авиатурбин и свист рассекающих воздух лопастей, быстро набрав разгон, заполнил все частоты эфира.
Я облокотился на объёмистые тюки поклажи и повернулся к тусклому пятну иллюминатора, намереваясь, за неимением камеры, запечатлеть полет в анналах памяти.
Ну всё, оторвались! Следующая станция — Геташен! Полоса земли косо ушла вниз и взагиб, мелькнули разлапистые стрекозябры соседних вертолётов, и навалилось дымчатое, с прожилками облаков, небо. Набрав высоту, машина выровнялась, легла на курс; земля всплыла в нижние этажи заоконной панорамы.
Я с детства неровно дышу к картам. Градация высот, магия пространств и каббалистика условных обозначений завораживают меня. Страницы атласов — что порталы в иной мир, в мой личный, приватный Neverland, где можно воевать и путешествовать под любым обличьем. В семье пеняли на гены (отец был учителем географии, хотя таковым почти и не поработал, рано продвинувшись по партийной линии), и теперь, прильнув к мутному стеклу в немом восхищении, я инстинктивно пытался угадать и наложить реальный мир с высоты птичьего полета на испещрённые топографическими козявками схемы, вдоль и поперёк заюзанные детскими войнушками и виртуальными путешествиями.
Внизу перекатывались волны гор, раскрашенные проплешинами деревень и опоясанные путами дорог. Вот промелькнули белёсые червячки ледников на отрогах самого высокого хребта, не таявшие даже в жаркие летние месяцы, а за ними блеснуло стальное лезвие Севана. Мы пролетали над южной оконечностью озера; противоположный берег, стремительно надвигающийся — уже граница того обмылка, что остался от Армении. Дальше простираются земли, когда-то тоже бывшие ею, где ещё совсем недавно, особенно в горных и труднодоступных селениях, слышна была армянская речь. Недавно, но уже «была». Десятки опустевших деревень, разрушенные и испоганенные церкви, толпы беженцев… Кто ждал, что пробудившийся призрак извечного врага вновь, в несчётный раз, накроет тенью исстрадавшийся народ мой? Лишь несколько упрямых островков посреди вспенившегося тюркского моря ещё цепляются за эту землю, вгрызаются в неё зубами и стоят насмерть. Надолго ли? Туда и летим, в один из этих осколков.
Всё имеет свой конец, и полёт наш тоже не исключение. Приземлились, выгрузились — а меня уже ждут. Шутка ли? Новый доктор приехал! Почётный эскорт в лице фельдшера по имени Татул (классический типаж бородача-ополченца) закинул мои вещи в старенький, раздолбанный УАЗик, и мы рванули, озонируя хрустальный горный воздух клубами выхлопов. Редкая по ухабистости дорога выдалась, надо признаться. Оценил, взбодрился телесами.
В деревенской больнице, переоборудованной под военные нужды, лежали несколько раненых разной степени тяжести — фидаинов да селян. Обойдя с начальником госпиталя — немолодым уже местным уроженцем — нехитрое больничное хозяйство и беглым взглядом оценив условия работы на ближайшие месяцы, я вернулся в ординаторскую, куда до поры до времени скинул вещи. Пока производился обход, Татул, с которым мы приехали — как оказалось, молодой ветврач из Апарана, исполнявший обязанности фельдшера и помощника широкого профиля (широта его профиля особенно бросалась в глаза под определенным ракурсом), договорился насчет моего размещения. Село раньше было весьма густонаселённым, но после начала необъявленной войны, когда часть народа съехала, многие дома пустовали и использовались для военных, хозяйственных нужд или, как в моём случае, для размещения добровольцев.
Закинув видавший виды рюкзак за плечи и по-братски разделив с Татулом, взявшимся меня сопровождать к моему биваку, оставшуюся ручную кладь, я углубился в лабиринт тропинок и переулков. Да, Геташен был создан для пеших прогулок! Из тряского окна УАЗика я не уловил и сотой доли его колорита, что теперь поглощал с жадностью оголодавшего по пасторальным красотам жителя хрущёвки из спального района.
Село широкой полосой растянулось по котловине меж грядами невысоких гор под шумный аккомпанемент порожистого Кюрака. Дома попадались все больше добротные, внушительные, иные не без претензии на вкус. Перейдя звонкоголосую речку по мостику с деревянным настилом, сквозь прохудившиеся доски которого просвечивала его проржавевшая анатомия, мы одолели подъём по кривоколенной улочке, поминутно перемахивая через ручей посередине. Минут через пятнадцать миновали шикарный особняк с деревянными колоннами редкой красоты. Капители их широкой дельтой разветвлялись чуть ли не с середины высоты, почти смыкаясь наверху эдакими арками. Немного дальше высилась церковь — бескупольная средневековая базилика, довольно внушительная, но без архитектурных изысков. Лишь узкие арочные окна оживляли её аскетичный фасад, да солнечные часы на освещённом торце неубедительно претендовали на статус декора. Прямо под стеной насупил строгий портик родник — ниша с каменной чашей, из отбитого края которой пробивалась наискось струйка. Вход был завешан потемневшими деревянными воротами.
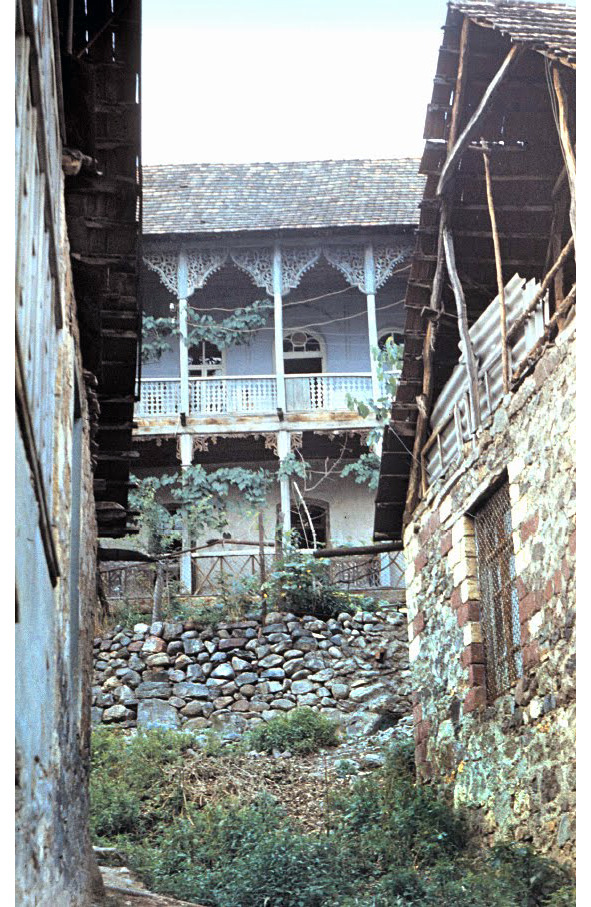
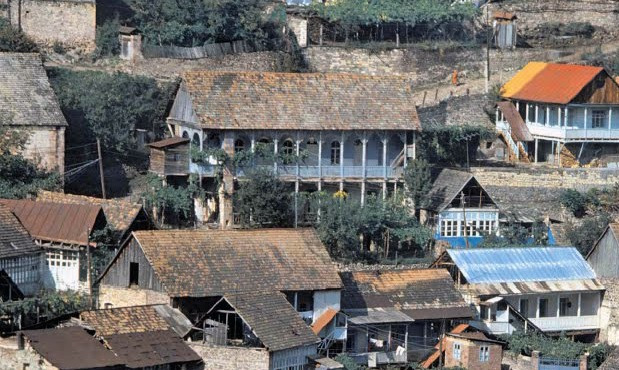
Я притормозил, чтобы лучше рассмотреть церковь и соседний особнячок. Татул же, воспользовавшись паузой, достал сигарету и присел на каменную плиту, глубоко увязшую в рыхлой почве. Над нами, напротив церковных ворот, широко раскинула ветви гигантская шелковица, густо усеяв всё подножие перезрелыми тутовыми ягодами. В тени дерева, у невысокой ограды, выглядывая из зелени, подмигивал нам белёсый хачкар, а ажурный узор бликов света, пробивающегося сквозь мозаику листвы, перекликался с затейливой резьбой по камню.
— Ещё успеешь насмотреться, доктор, мы уже почти пришли. Осталось только этот последний подъём преодолеть, и вон там, на пригорке, твой дом видать.
— А что это за палаты рядом с церковью?
— Я вроде слышал, что священника тутошнего. Его так и называют, Терунц тон.
— Разве церковь действующая?
— Да нет, конечно. Тут ещё в царское время священник жил, вот по старой памяти и называют по сию пору. Только тут уже не живёт никто.
— А там, где я буду жить, кто живёт?
— Тоже никого. Вся молодёжь ещё до войны разъехалась кто куда, жили только старики, да и они то ли съехали, то ли померли. Про них уже несколько лет как ни слуху ни духу, и дом пустой. Так что обживайся, мешать никто не будет.
— А ну как хозяева приедут?
— И что? Думаешь, они не обрадуются, что у них в доме доктор живёт? Все мы одно дело делаем, так что ежели они и прилетят, то и им работёнка найдётся. Только никто не приедет. Тяжко тут, мало кто готов остаться воевать.
Татул докурил, вжал окурок в плиту, на которой устроился, и щелчком отправил его подальше в высокую траву, заставив меня поморщиться. Всегда коробила свобода мусорить где попало, столь характерная для многих моих соотечественников. Словно пытаясь восстановить нарушенный баланс, я поковырял в месте, где была потушена сигарета, как бы очищая белёсую поверхность от незваного табачного пепла. Только сейчас я обратил внимание, что плита цветом и фактурой напоминала спрятавшийся невдалеке хачкар.
— Ну-ка, помоги мне, — деловито предложил я Татулу, нащупывая пальцами шероховатости вдоль ребра блока.
Повозившись вдвоем минут десять и измазав руки в жирной земле, мы оторвали глубоко зарывшуюся в почву плиту от влажного ложа и поставили её на попа, окатив солнцем семейство дождевых червей, приветствовавших нас яростными коленцами. Татул сначала было скривился скептически, но потом сам загорелся и, после того как плита прислонилась к ограде, сделал несколько пробежек к роднику, пригоршнями, а потом и выуженной из рюкзака чашкой поливая её замшелый фасад. Наконец нашему взору предстал ещё один хачкар в пару к тому, первому, который удивлённо наблюдал за нашей суетой из своего убежища, моргая тенью волнующейся на лёгком ветру листвы.
На нас испуганно смотрели два тоненьких, хрупких, каких-то девичьих креста, стоявших рядом на одном хачкаре — будто дети, взявшиеся за руки. Нижняя часть откололась и находилась тут же, неподалёку, словно какой-то изверг перебил ноги деткам, оставив их песню недопетой. Он ещё был мокрым и грязным, ещё не вся земля, забившаяся в поры узора, отлила разводами по его изысканному лицу, но уже сейчас можно было оценить красоту и изящество рисунка — каменной вязи столь редкого для хачкаров парного креста молочно-белого оттенка.
Полюбовавшись на спасённую святыню, мы опять потянулись по дороге. Едва обогнули угол церкви, как Татул обратил моё внимание на появившийся слева на пригорке открытый балкон, возвышающийся над глухой, циклопической кладки, стеной из круглых булыжников метров пяти высотой.
— Вон твои хоромы. Говорю же — рукой подать.
Я с любопытством новосёла присмотрелся к своим «хоромам». Признаться, после всех палат, мимо которых мы успели проследовать, дом не произвёл впечатления. Ни яркостью красок, ни размерами он не отличался. Ещё пара минут подъёма, разворот на сто восемьдесят — и вот мы уже идём вдоль стены, которая тянется в гору, теряя в высоте. Когда же булыжная кладка, наконец, сравнялась с дорогой, мы завернули к покосившимся деревянным воротам (на местном диалекте «дрбаза»), стоявшим торцом. Перед ними был пятачок площадки со свежим бельмом коровьей лепешки, затенённой виноградной лозой по навесу. Татул, гремя связкой, поколдовал с висячим замком калитки, распахнул её, и мы прошли внутрь.
Тропинка пылила между засохшим малинником по правую руку и невысокой, по грудь, насыпью слева, выложенной аккуратной булыжной кладкой по фасаду. Над ней, насупив набухшие плодами ветки, уныло клонились сливы в томлении невостребованности, а меж кривыми их стволами виднелись руины ульев — осколки некогда процветавшей пчелиной государственности. Интересно, приносит ли кто-либо из чудом выживших потомков пыльцу памяти на могилки погибших цариц?
Сам дом был какой-то пожилой, из «раньшего времени», как говаривал старина Паниковский, но, несмотря на относительную ветхость, выглядел элегантно и как-то удивительно натурально — словно благородный представитель обедневшего рода в поношенной одежде со следами былого благополучия, случайно затесавшийся в толпу напыщенных нуворишей. Первое ощущение досады сменилось симпатией к его неброскому очарованию антикварной старины, которую бронзовой чеканке придаёт патина.

Тропинка заканчивалась небольшой площадкой, некогда зацементированной, а теперь изъеденной коростой и островками упрямой зелени, за которой была открытая веранда по периметру дома. Над нею нависала щербатая черепичная крыша, поддерживаемая рядом деревянных колонн, увенчанных резными капителями в псевдомавританском стиле — попроще, конечно, чем у Терунц тона. Когда-то белая, но сильно облупленная и покосившаяся дверь в дом была также закрыта. Татул открыл и её, и мы прошли внутрь, скинув вещи на тахту в комнате.
— Ну, доктор, располагайся, обживайся, вот тебе ключи. Завтра привезу баллон с газом, привинтим к плите — готовить сможешь. А пока — во дворе очаг есть, ну и дров целый малинник, жги — не хочу.
Я поблагодарил Татула, и он, пообещав завтра зайти с утра проводить до больницы, ушёл, оставив меня одного.
Я молча стоял в темноте, прислушиваясь к собственному дыханию. Незаметно подкралось и вдруг накрыло ощущение одиночества и покинутости. Я чувствовал, что неуместен в самодостаточной тишине дома. Нарушить её своим голосом, чужим для этих стен, казалось таким же невозможным, как расписать пульку в музее или врубить попсу в склепе. Но выбора нет: придётся принять гнёт неизбежного новоселья, притереться к совершенно чужим вещам, страдать от бессонницы на этой тахте. Полумрак и сырость нагнетали хандру, и я поспешил выйти на балкон, распахнув все двери и окна, надеясь заместить настороженную атмосферу свежестью и ароматом июльского вечера.
Вся деревня, лежащая в котловине Кюрака, расстилалась словно с амфитеатра вплоть до крайних домов, усыпавших подножие горы, зелёные склоны которой, перемежаясь скальными породами, заканчивались лесистой шапкой. Гора тянулась по обе стороны зелёным гребнем; но если влево он уплощался, а лес редел, разрываясь островками, то вправо, напротив, склоны поднимались выше, лесная шапка становилась сплошным покровом и терялась в далёкой дымке, где, как я знал, прячется местная жемчужина — озеро Гёк-Гёль. Над этой частью хребта, в самом правом углу открывающейся панорамы, растворив подножие в небесной сини, зависла седая шапка Кяпаза.


Внизу, в микроскопическом разрыве меж нагромождением домов, уместился угол моста с весёлым язычком реки. Склон, спускающийся к реке, прятался под мозаикой черепичных крыш. Церковь, стоявшая справа, была настолько ниже по уровню основания, что её кровля шла вровень с дорогой, идущей под стеной моего дома. Левее широко и надменно, с полным осознанием своей неотразимости, развернулась колоннада дома священника, за которым устремлялся в небо гигантский чинар. Прямо под стеной бил родник, выведенный из ржавой трубы, и вода, весело журча, уходила вниз, к церкви, через буйные заросли крапивы. Сотни ласточек гроздями усеяли окрестные провода и крыши.
Налюбовавшись вволю на эту красоту, которая меньше всего вязалась с реалиями войны, я вернулся в дом. Пожалуй, о нём надо рассказать подробнее.
За вычетом прихожей и чулана, на нижнем этаже было всего две жилых комнаты. Обе они окнами выходили на веранду, одна — в сторону двора и малинника, другая — в сторону горы. Сунулся я было и на верхний этаж, но он был весь заставлен старыми ульями, вощёными рамками да прочей пасечной белибердой.
В первой комнате стояла древняя тахта, заваленная подушками свалявшихся неаппетитных цветов, стол, кровать, над которой висел характерный совковый гобелен — олени на водопое, фасад печи цвета воронёной стали во всю высоту стены со множеством непонятных отсеков, расхристанный остов гардероба с покосившимися дверями, но без задней стенки, и, пожалуй, всё.
Больше меня привлекла вторая комната — что-то вроде спальни, зарешёченные окна которой выходили на заднюю половину балкона с видом на гору. Между окнами, на желтоватой отштукатуренной стене, ощерившейся ухмылкой диагональной трещины, висел коллаж старых семейных фотографий в массивной раме, как принято в патриархальных деревенских домах. Центр занимала большая старинная фотография молодого красавца с закрученными усами в высокой папахе и черкеске. Её по периметру окружали с десяток снимков поменьше, таких же лохматых годов, на которых уместились другие представители рода.

Под коллажем стоял изящный туалетный столик, тоже старинный, на высоких резных ножках в виде виноградной лозы, увешанной спелыми гроздьями. Правую и левую стены подпирали старые скрипучие кровати с пузырьками света в круглых набалдашниках. В дальнем углу, под низким окном, красовалась весьма изящная швейная машинка с ножным приводом. Моему удивлению не было предела, когда на её чёрной, чуть облупленной лакированной подставке я прочёл SINGER и дату 1898. Раритет, однако. Наконец, слева, у двери, стоял покосившийся, словно страдающий сколиозом, старинный комод — весь в дореволюционных вензелях, с помятыми железными углами.
Интересно, где они сейчас — наследники и потомки? Ведь тут, в этом старом родовом гнезде, в тех же фотографиях, смотрящих на меня со стены, находятся их истоки. Всё это оставлено — быть может, навсегда; и я — непрошеный, в общем-то, гость, становлюсь последним свидетелем гибели этих корней. Я чувствовал себя героем «Марсианских рассказов» Брэдбери, наблюдающим последние дни неземной цивилизации с сентиментальным привкусом сопричастности.
Как оказалось, самое интересное меня ждало внутри комода. На моё счастье, он не был заперт, и содержимое его ящиков пролило некоторый свет на бывших хозяев, их историю.
А с домом мы поладили. Он ещё какое-то время настороженно присматривался ко мне, принюхивался, перепрятывая ночами свой стариковский скарб по углам и сусекам, шаркая иссохшимися половицами да скрипя разболтавшимися створками дверей. Но это поначалу. Недели не прошло, и он притёрся к моему присутствию, доверился, и мало-помалу, шаг за шагом, впустил меня в свой бережно и чутко хранимый мир, в святая святых.
Однако же вернёмся к комоду. Поверху он был задрапирован ажурной рукотворной скатертью. Два старинных литых подсвечника с оплывшими огарками самодельных свечек были водружены на потрёпанные книги по пчеловодству. Пристенный угол подпирала мутная, потрескавшаяся икона, на которой, наперекор бликам и разводам, можно было ещё угадать контуры Богородицы с младенцем.
Ниже было три ящика во всю ширину комода. Верхний был доверху заполнен разноформатными фотографиями, лежащими в нескольких стопках, завёрнутых в пожелтевшие газеты периода развитого социализма.
Ближайшие две стопки содержали относительно недавние снимки, судя по датировкам — хрущёвских годов и более поздние. На тыльной стороне большинства из них аккуратно и убористо были написаны имена и даже степень родства с писавшим — как я понял, последним хозяином, что позволило мне не просто смотреть на безымянные лики, но и укладывать в некое подобие генеалогического древа. Так, я уже знал, что фамилия хозяев была Епископосян. Судя по обилию фотографий, он был довольно большим даже для того времени, когда многодетность была нормой среди армян. Судьба раскидала потомков по всей стране: там были, кроме местных фотографий, также кировабадские и бакинские, ереванские и тифлисские, даже московские и махачкалинские, и ещё из многих других мест без каких-либо опознавательных знаков.
Пересмотрев первую группу снимков и аккуратно сложив обратно, я перешёл к средней стопке, тоже отдельно собранной и завёрнутой в пожелтевший газетный листок времён царя Гороха. Это оказались довоенные и ранние послевоенные фотографии — где-то до конца пятидесятых годов, и их было относительно немного. На тонкой некачественной бумаге, некоторые помятые и даже порванные, они наглядно живописали крестьянский быт хозяев. Не имитация, не режиссёрская отретушированная постановка — подлинные исторические хроники, настолько разнящиеся от моего представления о том времени, насколько фильмы «Чапаев», или там, скажем, «Неуловимые мстители» отличаются от реалий и ужасов Гражданской войны. Не то чтобы на фотографиях были ужасы — нет, они скорее поражали пронзительной, безыскусной искренностью.
Вот деревенский класс, в котором училась одна из девочек. Простые, если не сказать убогие, одежды не по росту и не по размеру, грубые туфли, домотканые жакеты и шали, обветренные худенькие лица, и на этом фоне глаза, живые и умные глаза детей.
А вот фотография двух девочек, стоящих здесь же, во дворе около малинника. Погодки и, похоже, сёстры, может быть двоюродные, они застенчиво стоят, взявшись за руки в постановочной позе и смотрят в камеру — одна исподлобья, другая прямо и как-то вдохновенно. Детские косички торчат вразнобой; лет им по пять-шесть. У снимка отодрана нижняя часть, словно какой-то изверг обезножил их, и вся композиция до боли напоминает наш спасённый хачкар. Этих девочек я уже свободно могу узнать и на фотографиях из класса. Вот ещё одна, и ещё. А вот они же с родителями и бабушкой. Позади фотографии читаю их имена: Ева и Соня, и словно представляюсь сам. Будем знакомы. Простите, что потревожил ваш покой.
Ещё и ещё фотографии. Страницы истории этого рода с такой звучной и редкой фамилией раскрываются передо мной в череде снимков: всё генеалогическое древо с многочисленными ответвлениями, как лента киноплёнки в обратном порядке.
Наконец я перешёл к самой дальней стопке, которая была не в пример больше по формату. Она лежала не просто завёрнутая в газеты, а ещё и повязанная ветхой бечёвкой, разрезав которую, я раскрыл эти бесценные реликвии.
Там хранились студийные работы, великолепно исполненные профессионалами на толстой мелованной бумаге того особо выразительного цвета сепии, характерного для дореволюционных фотографий. По краям их обрамляли вензеля и витиеватые надписи со смешными «ять» и твёрдыми знаками, обрубающими концовки. Только там, на этих снимках я увидел того, кто смотрел на меня со стены, и смог узнать его имя: Михаил. Похоже, он был главой семьи до революции, потому как самые поздние снимки датировались 1914 годом; но, судя по тому что на последующих его уже не было, этой черты — роковой как для Российской империи, так и для армян — он, скорее всего, не переступил. Какая трагедия произошла в этой семье, с какими потерями она вышла из горнила гражданской смуты, можно было только гадать. Фотографии об этом молчали.
Он, Михаил, был на многих снимках — и отдельно, и с разными другими людьми, о которых также можно было прочитать. Вот он с молодым офицером Императорской армии, черты которого по-родственному схожи с его собственными. Надпись позади фотографии гласила, что это брат Михаила — Егиш.
Вот тот же Михаил с женой. Постановочный студийный снимок, семейная фотография: Михаил сидит на стуле, а жена Ольга стоит рядом в полный рост. Оба молодые, красивые, в богатой одежде. Ольга… Где-то я уже встречал это имя. Перелистал предыдущую стопку, и нашёл — да-да, вот же она! Черты неузнаваемо изменились, морщины избороздили лицо, но глаза остались прежние. Это она — бабушка тех самых детей, которые были на школьных фотографиях. Похоже, в послереволюционные годы именно ей пришлось взвалить на себя бремя главы семьи.

Род был зажиточный, процветающий: представители занимали высокие чиновничьи посты, носили офицерские погоны. Контраст между дореволюционными богатыми, даже в чём-то аристократическими образами и последующим дауншифтингом до полунищего крестьянства был разителен.
А вот, похоже, самая старая фотография. Небольшая, но довольно качественная, изображающая человека скорее пожилого. Я бы мог принять его за постаревшего Михаила, если бы не год — 1899, и не подпись — Арустам. Это было самое раннее лицо, которое было доступно для знакомства. Там же был обрывок листка тифлисского «Мшака» от 1913 года — ломкого, жёлто-бурого, почти истлевшего, где с грехом пополам удалось разобрать, что, мол, такого-то числа состоялись похороны старосты села Геташен Арустама Епископосяна, под управлением которого… дальше неразборчиво.

Наконец вся стопка окончательно пересмотрена и бережно отложена в сторону. Я завернул её в новую газету и, аккуратно сложив на своё место в верхний ящик комода, перешёл к дальнейшему исследованию его недр.
Средний ящик был завален книгами, изжелта-волнистые страницы которых прятались за фасадом изъеденных временем плотных переплётов. По молодости лет они ещё могли меряться пестротой красок, теперь же приобрели единый картонный оттенок, лишь полунамёком выдающий прежний колер. Чего там только не было! «Самвел», «Вардананк», «Геворк Марзпетуни», «Раны Армении» и прочее в том же духе: почти всё — армянских авторов, хоть и в русском переводе, с историко-патриотическим душком. Кроме них, там была Библия на армянском в красивом переплёте, но тоже зачитанная до дыр.
Я с собой книг не брал, кроме парочки медицинских, и боялся, что без чтива будет скучновато коротать вечера — так что эта находка меня очень обрадовала. Почти всё я уже читал, за редким исключением, но перечитать интересную книгу никогда не считал для себя зазорным.
Однако прежде мне хотелось обследовать все отсеки моего хранилища, и я, сложив до поры книги стопкой на столе, попытался выдвинуть последний, нижний ящик. К моему удивлению, это мне не удалось. Я прикладывался и так и эдак, дёргал неожиданными рывками под разными углами, пытаясь застать противника врасплох — всё напрасно. Попробовал сдвинуть комод с места — тоже безрезультатно.
Молчаливая упёртость мебельного патриарха разозлила не на шутку. Ни силой меня Бог не обидел, ни комод не казался таким уж тяжеленным. Ладно, упрямец, мы пойдём другим путем. Я вытащил два верхних ящика, но, к моему удивлению, доступ к нижнему не открылся: поверх него была приколочена толстая доска, полностью скрывающая содержимое.
Любопытство моё разгоралось всё сильнее. Щедрая фантазия, отягощённая бременем эрудиции, рисовала клады, которые могли быть спрятаны — от алмазов мадам Петуховой до сокровищ Агры. И хотя законность моих претензий на наследство была более чем сомнительной, я успокаивал себя тем, что кроме меня, скорее всего, никому эта тайна уже не откроется. Безжалостно раздавив в себе червячка сомнения, я с фонариком в руках полез внутрь комода, чтобы обследовать его заднюю стенку и понять, почему так и не удалось его отодвинуть. Как и ожидалось, секрет объяснялся просто: комод был намертво приколочен к стене. Отодрать вековые гвозди не было никакой возможности, да и незачем: секрет-то, похоже, внутри последнего ящика.
Из пыльного чулана натащил кучу инструментов — молотков, топоров, ломов и ещё каких-то девайсов, названий и назначений которых не помнил. Сложив всё на полу в художественном беспорядке, взялся отдирать переднюю стенку ящика. Скоро тяжёлая створка, отгибая нижние гвозди, заскрипела вниз, и я, скорчившись в три погибели, жадно заглянул внутрь сокровищницы, подсвечивая себе фонариком.
С минуту я внимательно пялился в щель, потом сел на пол в полной фрустрации. Ящик был абсолютно пуст. Опять опустился и, взяв фонарик в зубы, обеими руками залез внутрь узкой полости. Не доверяя собственным глазам, внимательно обшарил все углы, куда мог дотянуться, прошёлся пальцами по швам и граням, потыкал палочкой в заднюю стенку — ничего.
Нокаут. Фантазии о несметных бриллиантах рассыпались в дым. От обиды за то, каким глупцом оказался, даже не стал убираться, а, оставив всё как есть, завалился спать, не раздеваясь.
Утром, пытаясь не смотреть в сторону погрома, учинённого накануне, я быстро собрался и отправился в больницу. Ближе к вечеру, покончив с делами, вернулся опять в Храмину — как я, с лёгкой руки старины Умберто, стал называть свой дом.
Выпив чаю и пораскинув мозгами, я решил уж докончить начатое, чтобы не было мучительно больно за бесцельно раздербаненный комод.
Доска, закрывающая нижний ящик, вскоре также была отодрана, и его пустота обнажилась передо мной во всю безнадёжную ширь. Ничего нового. Единственное, что было необычного — прожжённая на дне, прямо посередине, фигура, которую при некотором воображении можно было принять за стрелку, направленную к стене. Я было подумал о «двойном дне» и простукал дно ящика, а также оценил на глазок пространство под его нижней стенкой: двойного дна не было.
Лишь медицинская дотошность позволила напасть на след. У меня с институтских времён сложился профессиональный навык: смотреть больного не только на предмет явно видимой патологии, но и не пренебрегать общим осмотром, несмотря на то, что в большинстве случаев он был простой формальностью. Привычка — вторая натура. Так и здесь: простукав дно, я не остановился на этом и почти машинально побарабанил по всем стенкам комода.
За прибитой задней стенкой — там, где должна была находиться стена — явственно угадывалась пустота, гулкая полость. Она занимала не всю поверхность, и именно отличие в звуке перкуссии заставило меня обратить на это внимание. Я внимательно простукал ещё раз и карандашом обозначил границы тимпанита. Получился прямоугольник прямо по центру задней стенки, чуть выше уровня пола, высотой сантиметров сорок и в ширину около семидесяти. Остальная поверхность тупила несомненной стеной.
Я обошёл стенку, чтобы оценить её с обратной стороны, из другой комнаты. Там, в глубине гардероба, в котором, как я уже упоминал, отсутствовала задняя стенка, в подтверждение предположения был массивный выступ стены.
С замиранием сердца я вновь вернулся к комоду, поплевал на ладони, взялся за топор, размахнулся и нанёс удар. Инструмент с трудом вгрызался в толстое дерево, и я провозился с ним немало, пока наконец кончиком лезвия не провалился в пустоту. Ещё несколько не особо метких ударов, и туда уже можно бросить взгляд. Я жадно припал к получившемуся отверстию, подсвечивая фонариком. Там действительно что-то откликалось металлическим блеском, и это придало мне новые силы. «Чем не Индиана Джонс в сокровищнице?» — мелькала восторженная мысль.
Топор и пила сделали свое дело, невзирая на мою косорукость. Ниша наконец открылась, позволив, слегка ободрав пальцы, вытащить на свет божий содержимое: невысокий деревянный сундучок с обитыми железом краями, закрытый на ржавый замок. Он занимал почти всю нишу, не оставляя свободного пространства. Ничего примечательного больше не было.
Восторг и азарт кладоискателя в такой степени охватили меня, что руки дрожали. Замок, на который сундучок был заперт, оказался настолько старым и ржавым, что серьёзным препятствием не представлялся. Пара ловких движений стамеской, ювелирный удар молотком — и он сорван. А я, едва сдерживая восторженное повизгивание, осторожно и нежно, как ребёнка, поднимаю его крышку.
То, что предстало моим глазам, мало напоминало клад в обычном представлении. Ни дублоны да пиастры, ни бриллианты с топазами не бросились в глаза, и где-то с минуту я просто таращился на содержимое, стараясь притушить недоуменное разочарование.
Сундук был разделён поперечной перегородкой на две неравные части. Слева лежали какие-то странные цилиндры — груда толстеньких удивительно ветхих свитков грязно-жёлтого, почти серого цвета, накрученных на стержни, со следами едва различимых, полустёршихся каракулей. Там же, в отдельном крохотном отсеке, были потемневшие до черноты деревянные то ли чётки, то ли бусы, на среднем, самом крупном звене которых была загогулина типа запятой.
Справа же лежало нечто, прикрытое сверху бурым, с зеленцой, сукном с вышитым скромным крестом. Я снял эту ткань и под ней обнаружил книгу в коричневом кожаном переплёте без каких-либо опознавательных знаков или записей на обложке. Бережно раскрыл. Она не настолько обветшала, как свитки, и не начала разваливаться у меня в руках. Более того, вглядевшись повнимательнее, я уверился, что язык её больших трудностей не представляет. Это был церковно-армянский: буквы были всё те же, маштоцевские, язык несколько архаичный, но я в своё время осилил Библию на староармянском и решил, что уж что-что, а эту книгу понять сумею. Книга была рукописная, листы прошиты; на моё счастье, чернила не стёрлись и четко выделялись на пожелтевших листах. Едва ли она была очень уж древней, если даже язык, как показалось, вполне был понятен мне, современному человеку.
Я всегда интересовался древней историей, и находка меня обрадовала намного больше, чем могло показаться с первого взгляда. Старые книги и рукописи, хранящиеся в Матенадаране, похоже, пополнятся весьма интересным экземпляром. Во всяком случае, с книгой сомнений не было. Загадку представляли свитки, разгадать или даже осмотреть которые не было пока никакой возможности — они просто разваливались в труху при попытке развернуть. Из тайников памяти всплыли иллюстрации к древнеантичным письменам, но это было бы настолько большой удачей, что я на всякий случай не стал обольщаться авансом. Тайну их можно будет разгадать в Ереване, по возвращении, и куда более компетентными людьми, а не мной, дилетантом. Кроме того, была надежда, что ключ хранится в книге, которая вполне была мне по зубам.
Аккуратно сложив хрупкие цилиндры обратно в сундучок, я закрыл его и обратился к книге. Судя по объёму, читать её мне придется не один день, а понимать — ещё дольше. Для упрощения процесса я решил переводить прочитанное на более привычный мне русский и записывать в отдельную тетрадь. Забегая вперёд, признаюсь, что несколько переусердствовал, обновляя древний текст, и в приведённом мной варианте он выглядит совсем по-современному, с терминами и оборотами, которые никак не могли звучать в описываемую эпоху. Мне было важнее передать смысл, а не форму, и я постарался максимально отдалиться от архаизмов грабара.
Я бережно положил книгу на стол, поставил рядом тетрадь для записей, удобно расположился на тахте, подкрутил фитилёк лампы и раскрыл первую страницу. Повествование началось.

Милостию божией я, дпир Мовсес, мыслю предначати сию книжицу, кия суть переклад на язык армянский древних свитков, что исперва свенитися в монастире нашем, Гехарде. Реликвии сии, суть свитки пергаментни, а такожде сулица святаго Лонгина, ныне нельзя боле набдети в стенах сих, понеже султан Ахмед Османлу на земли Араратские поспешаху. Аще беда не минет монастиря нашего, то горе нам и умаление. Темже помыслили мы разумением свои во спасение тяжкоценних реликвий сулицу святаго Лонгина вослати в Эчмиадзинскую обитель, тер-хайр Аствацатуру, а свитки с перекладом, кий я уповаю совершати — в Гандзасар, тер-хайр Есаи, дабы избавити от поругания святыни под сенью святых престолов. Писано в лето 1171 года дпиром Мовсесом, во стенах монастиря Гехард.

КНИГА 1. ИСКУШЕНИЕ
Глава I. В темнице
За спиной скрипнула тяжёлая дверь, оставив меня одного в полутёмной каморке, в подвале, где мне предстоит пережить эти несколько дней. Пережить… О чём я, Господи? Пережить их мне уже не удастся. Прожить бы. Дней осталось мало — слишком мало, чтобы… Чтобы что? Не знаю.
Тишина в каморке звенящая, только в левом углу звучит тихонько: кап, кап… Полновесные капли начали обратный отсчёт. Сколько их мне осталось? Обхватываю голову занемевшими, будто чужими, руками; крепко сжимаю виски. Под пальцами тугой жилкой пульсируют капли — отливаются в слова, бьют в уши пудовыми волнами.
— Приговариваю… Распять! — слова префекта — будничные, скучающие, небрежно брошенные из холёных его уст, перечёркивают всё и звенят, всё звенят в голове.
Как? Меня? Меня — такого живого, полного сил, надежд, со всеми моими идеями, мыслями, всем тем, что во мне живёт, дышит и пульсирует, взять и просто прибить гвоздями к деревяшкам! Кто это решил? Почему без меня? Почему никто не спросил меня, что я, я думаю об этом?! Это моя жизнь — моя, а не тех, незнакомых мне людей! Они же не знают ничего. Ведь во мне целый мир — безбрежный, бездонный; как же они смеют перечеркнуть его? И что теперь? Он пропадёт? Разве такое возможно? Разве миры пропадают просто так, по мановению чьей-то воли?!
Кап, кап… Бесстрастный хронометр, не обращая внимания на моё отчаяние, продолжает отсчитывать одному ему известный срок. Звуки, отражаясь от серых стен каморки — этого просторного склепа, ставшего для меня предтечей погребального — тысячекратно усиливаясь, гудят набатным звоном.
Руки, с силой сжавшие виски, возвращают меня к действительности. Набат словно отдаляется. Хаос несвязных обрывков мыслей отступает на какое-то время, втянувшись в небольшой, нервно пульсирующий кокон. Открываю глаза и оглядываюсь, оценивая своё последнее пристанище. Сырая, полутёмная каморка для смертников. Левый угол тонет в полумраке, правый рассечён парной диагональю озарённой пыли, нарисовавшей на полу удивлённый пятачок света. Лучи пробиваются сквозь два небольших полукруглых окна, закрытых толстыми ржавыми решётками.
Сумасшедшая мысль мелькает в голове. Я бросаюсь к этому спасительному свету, к зияющему зеву окна, хватаюсь за решётки и изо всех сил пытаюсь сдвинуть или хотя бы расшатать. Тщетные потуги: я едва могу до них дотянуться. Собственное бессилие чуть не высекает слёзы отчаяния. Собрав силы, подтягиваюсь повыше и, зажмурившись от бьющего в глаза предзакатного солнца, бросаю взгляд сквозь решётки. За окном сереет двор Преториума — желтоватая стена, идущая по периметру. Какой прок, если бы удалось даже расшатать прутья? Отсюда не выбраться. Путь к спасению наглухо заперт.

Сзади натужно скрипнула дверь, заставив отпустить решётку и обернуться. Темнокожий нубиец с клеймом на щеке, с охапкой соломы в руках, пригнувшись, входит в каморку, а сзади в дверях маячит бликами легионер. Раб складывает солому в правом сухом углу и молча выходит. Это моя постель? Недурно. Мелькает мысль, что моё предсмертное ложе куда мягче тех, которыми я зачастую пользовался на свободе. Заставляет улыбнуться даже. Я тяжело опускаюсь на солому, закрываю глаза. Усталость набегает прибойной волной — напряжение последних часов даёт о себе знать. Под убаюкивающий ритм капели медленно впадаю в тревожную полудрёму.
Жалобный скрежет петель заставляет меня встрепенуться и сесть на ложе. Входит тот же раб, держа в руках невысокий, грубо сколоченный столик, также молча ставит его в центре каморки на освещённый пятачок, водрузив на него масляную лампадку, и выходит. Но я остаюсь не один. В каморке ещё кто-то, вошедший вслед за рабом. Подслеповато прищурившись, отмечаю в полутьме высокий гребень кентуриона, венчающий силуэт в проёме дверей. Зачем он здесь? Может, меня опять поведут к префекту? Может, что-то изменилось?
Вошедший, стоя в полумраке, молчит и, кажется, внимательно присматривается ко мне. Молчу и я. Наконец кентурион проходит в центр каморки на освещённое место, блеснув массивными фалерами, и тяжело усаживается на приземистый столик, оставленный рабом, сняв шлем с поперечным гребнем и положив рядом с собой.
— Ты помнишь меня, иудей? — были его первые слова, казалось, прозвучавшие не из его уст, а гулко заполнившие всю каморку.
Странная речь. Я пристально вглядываюсь в чеканное лицо, освещённое косыми лучами. Ну-ка, ну-ка? Ах да, конечно! Память на лица и события у меня отменная, в отличие от имён, тем более что общаться с кентурионами приходилось не так уж часто. Как же его звали? Ладенос? Лагинус?
— Помню, кентурион, — отвечаю и замираю, не узнав собственного голоса. Что-то странное со звуками происходит в этой темнице — они как-то насыщаются утробностью и тут же гаснут в вязкой атмосфере, словно говоришь в кувшин, плотно прижатый к губам.
Как всё повернулось-то! Тогда, в нашу первую встречу, он практически молился, чтобы моим рукам сопутствовала удача, а теперь оказался в рядах тех, кто собирается пресечь мой жизненный путь.
Тягостное молчание затянулось. Зачем он здесь? Что ему нужно от меня?
— Как здоровье отца? Рана затянулась? — спрашиваю, только чтобы нарушить тишину и перебить невыносимый звук капели.
— Давно уже. Шрам остался, и рука побаливает, когда поднимает, но он уже привык. Правая-то всё равно у него сильнее.
— Как его звали, кентурион?
— Пандерос.
— Да, да. Пандерос. А твоё имя… — слегка растягиваю окончание фразы, давая понять кентуриону, что требуется напомнить.
— Лонгинус. Корнелиус Лонгинус. А ты Йехошуа Бар-Йосэф, — скорее утверждающе, чем вопросительно заканчивает он.
Как-то невесело звучит голос кентуриона. Если бы это не выглядело странно, можно было предположить, что даже где-то и виновато. А может, всё дело в странной акустике помещения.
— Йехошуа, я начальник стражи Преториума. В эти дни, пока ты будешь ждать исполнения приговора, мои легионеры будут охранять тебя. Мне жаль, что приходится отвечать на твоё благодеяние подобным образом. Поверь, меньше всего я бы хотел, чтобы ты находился тут.
— Забавное совпадение. Не поверишь, но мне ещё меньше хотелось бы находиться тут, — усмехаюсь я.
Интересно, что даже в такой ситуации ещё остаются силы шутить, хотя получается не очень-то весело. Чёрный юмор — не худшее убежище от ужаса действительности.
— Что я могу для тебя сделать? Не проси только того, что противоречило бы моему долгу солдата.
Смеётся он, что ли? Что мне может понадобиться? Какой бессмысленный вопрос для того, кто через несколько дней предстанет перед Господом. Что ещё может мне понадобиться, чего я не успел дополучить за три с половиной десятка лет земного бытия? То, что мне действительно нужно — это жизнь. Жизнь! Жизнь и свобода! Вон из этих серых стен, просторным саркофагом окруживших меня, прочь из этой безысходности и ужаса! Но именно этого он не может дать. А остальное… Да что мне с того?
Я молчу. Лонгинус также не нарушает тишины в ожидании ответа. Капель. Сырость. Мигающее пламя свечи. Наконец он встаёт с жалобно скрипнувшего столика и надевает шлем.
— Ты подумай, Йехошуа. Если что-нибудь надумаешь, постучи и попроси охранников позвать меня. Я их предупредил, чтобы дали мне знать незамедлительно. Всё, что в моих силах, сделаю.
Кентурион ушёл. За дверью стихают тяжёлые шаги и вновь гнетущая тишина, отмериваемая эхом расплющенных о камень полновесных капель, повисает в каморке. Этот мерный звук, похоже, окрасит все мои последние дни, став аккомпанементом мыслям и чувствам до самой смерти.
Смерть… Что это такое — смерть? Как было спокойно рассуждать об этом где-нибудь вдали отсюда, в окружении учеников и слушателей; и как страшно сейчас, когда она почти осязаема. Она живёт со мной в этой пустой комнате — незримо присутствует, как бесплотный дух, ждёт лишь несколько отмеренных по каплям дней и затем материализуется, заполнив собой всё пространство вовне и внутри меня. Не будет ни этого мира, ни комнаты, ни Преториума, ни Йерушалаима, ни Эрец-Йехуда — ничего уже не будет реальностью, а будет только она — необъятная, непостижимая.
Как я шагну туда, за эту грань? Грань? Шаг? Не надо упрощать, Йехошуа. Будет больно, очень больно. И очень долго. Хотя, может, повезёт, и я впаду в забытьё. Каково оно — быть распятым, что ощущаешь на кресте? Вспоминаю свои детские страхи — приватный свой кошмар, преследующий меня с тех пор, как впервые увидел казнённых канаим, и содрогаюсь. Вот оно! Вот что будет со мной. Бесформенная масса нагой и окровавленной плоти, иссыхающая под палящим йерушалаимским солнцем.
И что потом? Что ждёт меня за этим порогом, который всё ближе? Может, там будет ожидать чистое, пустое небо, и душа моя воспарит над бездной, свободная и счастливая, освободившись от бренной плоти, которая сгниёт в земной юдоли?! Может, меня будет ждать свет, море света, захватывающая дух чистота и свежесть, заполняющая грудь?! Какую грудь? Я же освобожусь от этого тела, не увижу его больше; ни я ему не буду принадлежать, ни оно мне.
С интересом смотрю на свои руки, будто увидев их впервые и готовясь расстаться с ними сию же минуту. Это же я! Это тоже часть меня — такая же неотъемлемая, как и душа! Буду ли свободен и счастлив, лишившись этого тела, этих рук? Сколько раз дух мой был счастлив за то, что могли сотворить руки, сколько раз меня распирала радость, что Бог даровал им талант лечить людей! А глаза? Ведь они позволяют смотреть на этот прекрасный мир. Я зажмурился и вновь открыл их, но вместо затхлых стен каморки перед затуманенным взором зазеленели берега Йардена, Ям-Кинерет на утренней заре и Мидбар-Йехуда с причудливыми желтоватыми скалами, теряющимися вдали. И этой красоты я буду лишён! Мир, с такой любовью сотворенный Ашемом, будет навсегда мне недоступен! Разве может это быть во благо, принесёт ли освобождение?
Я вновь зажмурился. Темнота и пустота. А вдруг там тоже будет темнота, и во сто раз чернее? Не море света, но бездна темноты, непроглядного мрака — безбрежного, безнадёжного, а дух мой неупокоенный будет тщетно искать выхода из этого мира? Кап, кап… Господи, опять он — этот холодный звук!
А может, всё-таки, души возвращаются? Что, если моей душе предстоит освободиться от всего, что было в этой жизни, очиститься и омыться, и вновь, прозрачной и юной, вселиться в невинное дитя и не помнить ни единого мига этой жизни? Боже, дай знание, что ждёт меня! Дай знак! Пошли видение! Я хочу знать и в то же время… я боюсь этого знания.
Что станется после смерти? Тело сгниёт и будет пожрано червями, но не это меня страшит. Хотя и это тоже. Но тут хоть всё понятно, а что будет с тем бездонным миром, что есть в каждом человеке, и который делает его именно тем, кем он есть? Чем я останусь на земле после смерти? Лишь образом, оттиском в памяти живущих, следом в песке. Говорят, мы живы пока нас помнят; но каким запомнят меня? Кто может понять меня так, как понимаю себя я сам? Мать моя и братья? Я давно с ними расстался, да и не было их рядом в самые важные минуты — что они могут сохранить, кроме смутных воспоминаний? Ученики? А что они? Разве они знают меня? Да, я пытался донести до них своё понимание мира, но разве то, что они услышали, сделало их мной, заставило взглянуть на меня моими глазами? Да и возможно ли это?
Какой сумбур в голове. Словно в разворошённом улье, где пчёлы суматошно мечутся, утерявшие цель, лишившиеся царицы. Обрывки мыслей блуждают в усталом мозгу, но никак не удаётся их оформить в стройную концепцию. Естественный вывод ускользает, хотя кажется, вот только протяни руку — и он тут. Видимо, пережитое за день слишком тяжким грузом легло на мой разум. Но надо доосмыслить, надо найти в себе силы освободиться от всепоглощающей доминанты отчаяния. Это важно, я чувствую!
Что есть я, Йехошуа, на самом деле? Разве моё восприятие себя истинно? Каждый из моего окружения видит меня по-своему, преломив сквозь призму своего мировосприятия. А мой образ формируется из всего этого, поверх которого тонким слоем идёт мой собственный взгляд на себя. Но мой взгляд — нечто конечное, ему предстоит быть запертым в этих стенах ещё несколько дней и безвозвратно уйти в небытие. А что потом? Кем я буду через неделю, месяц, год? Безумным рабби, устроившим погром в Бейт а-Микдаше, которого кто-то провозгласил Машиахом, или человеком, ищущим свою истину и своего Бога, преступником, распятым на кресте, или колдуном, оживляющим мертвецов? А ведь я и не смогу повлиять на то, кем останусь в глазах потомков.
Если предположить, что память обо мне переживёт современников, откуда, из каких источников она будет складываться? Из воспоминаний случайных знакомых, пересказанных теми, кто меня ни разу не видел? Невесело усмехаюсь: какая незавидная участь! Сколько искажений, сколько чудовищных нелепостей будет нагромождено. И в этих досужих сплетнях, в этих измышлениях незнакомых людей память обо мне растворится, исказится и трансформируется, может, даже до полной моей противоположности! А если каким-то чудом удалось бы услышать, что говорят обо мне через много лет, я бы, наверное, сам себя не узнал. Ужасная участь. Во сто крат лучше забвение, чем таким образом выродиться в чудовище, которое меня сегодняшнего может ужаснуть.
Забвение… Всё моё существо восстаёт против этого. Как — умереть и сгинуть? Я не хочу забвения, но и боюсь той памяти, которая меня ждёт. Ужасный выбор, безнадёжная дилемма. Выбор? О каком выборе я говорю? Разве он у меня есть? Он же произойдёт без моего участия, и памяти или небытию только и останется пассивно подчиниться неизбежному. Неужели я бессилен что-либо изменить, хотя бы в столь малом? Да, приговор неумолим, судьба в этом предопределена, и едва ли посчастливится избегнуть смерти, но память?
Довольно! Надо отвлечься, иначе я сойду с ума ещё до казни. Окидываю взором серые стены. Что там? Ну-ка, ну-ка, посмотрим, посветим лампадкой.
Левый угол узилища сырой, с влажными разводами по стене. В самом углу с потемневшего потолка, то ли попадая в такт биению моего сердца, то ли навязывая его, капает вода. Интереснее правая стена — сухая и чуть более освещённая. На ней можно разобрать нацарапанные письмена. Их много — на арамейском, греческом, даже латиницей. Имена, имена — Цадок, Моше, Шауль, ещё и ещё, их едва можно разобрать. Наверное, эти несчастные так же, как и я, боялись быть преданными забвению и хотели хотя бы тут оставить корявый и жалкий след для потомков, оттиск себя на земле, покидаемой безвозвратно.
А вот более развёрнутая надпись: «Бог Авраама, покарай Рим!» Вот ещё: «Да сгинет префект Валериус Гратус!» И добавлено неприличное.
Такие же люди, как и ты, из плоти и крови, тоже со своими мыслями и чувствами. И каждый из них — это также был целый мир, не менее твоего. Чем они остались? Смутными воспоминаниями друзей, которые помянут их раз-другой в год, всё реже и реже, и вот этими нацарапанными на стене каракулями, которые сотрутся через несколько лет. Незавидная участь.
Боже, а это что?! Я аж содрогнулся. Крест, нанесённый глубокими бороздами, на котором несколькими грубыми штрихами изображён распятый.
Отшатнулся, потрясённый.
Что? Страшно? И это тоже память, Йехошуа. Даже этот вопль отчаяния, безмолвный ужас настенных росписей, предсмертный автограф замученных узников — даже он имеет право на суд потомков. Кто знает, чему суждено сохраниться в веках — этим ли каракулям или величественному Бейт а-Микдашу? А чем останешься ты? Таким же криком отчаяния на холодной стене, который суждено будет прочесть лишь следующим смертникам?
Да хоть бы и на стене! Или даже… Ну да, конечно! На свитке! Отобразить себя таким, каким я себя знаю, избавить свой образ от последующих искажений и перерождений. Вот оно! Вот что надо сделать! Выразить, выплеснуть себя в эти несколько дней, подаренных мне судьбой перед смертью, словно для какой-то миссии. Кто я? Откуда я пришёл к такому концу, как и почему? Весь путь, все перипетии, мой мир моими глазами, всё то, что позволит мне и после того, как тело сгниёт в могиле, остаться силой своего слова, своей мысли на земле. И именно в этом мне может помочь кентурион!
Я подошёл к двери темницы и постучал. Ответа долго не было, и я барабанил все громче, пока откуда-то издалека не послышался раздражённый голос караульного:
— Кто там шумит, чего тебе?
— Позови кентуриона Лонгинуса! — кричу я.
За дверью слышится недовольное ворчание. Похоже, караульный раздосадован, что какой-то иудей, без пяти минут покойник, смеет звать самого кентуриона, тем самым отвлекая его, легионера Римской Империи, от таких важнейших занятий, как игра в кости или ковыряние в носу. Но распоряжения начальника — закон, а тот прямо приказал звать его незамедлительно, коли я выкажу такое желание. Потому, для порядка посетовав на наглость этих варваров, он удаляется, и через некоторое время слышится тяжёлая поступь двоих, приближающаяся к двери.
Входит Лонгинус, а сзади немым укором маячит долговязая фигура караульного.
— Ты звал меня, Йехошуа?
— Да, кентурион. Я подумал над тем, что мне может понадобиться. Можешь ли ты приказать принести чистые свитки и все необходимое для письма?
— Это легко. Что ещё?
— Больше ничего, кентурион — этого будет достаточно. Разве что, — я прикидываю, сколько осталось дней, — мне нужно много, много свитков. Я хочу много писать. И ещё одно: надо бы масло в лампадке менять, когда будет заканчиваться.
— Я прикажу принести тебе двадцать пергаментных свитков и тростниковых стилусов для письма, сколько нужно, — повернувшись к легионеру, Лонгинус отдаёт необходимые распоряжения и вновь обращается ко мне: — Зачем тебе столько? Ты хочешь написать префекту, Вителлиусу, или, может, самому Кесарю, божественному Тибериусу? Хочешь, чтобы пересмотрели твое дело?
— Нет, кентурион. Я не буду писать никому из власть имущих. Я лишь хочу отразить в свитках самого себя.
Лонгинус удивлённо задерживается на мне долгим взглядом.
— Ты меня опять удивляешь, иудей. Но это твоё дело. Скажи, что делать с твоими записями?
Я замялся: этого вопроса я себе ещё не задавал.
— Если это возможно, я бы ещё подумал, а потом уже сообщил бы тебе.
— Конечно. У тебя несколько дней: есть время и написать, и распорядиться написанным.
— Спасибо тебе, кентурион. Пусть Бог, в которого ты веруешь, ниспошлёт тебе благословение за твою доброту, — склоняю я голову с благодарностью.
— Позови меня, если ещё что понадобится, — кентурион поворачивается и, обронив ещё несколько слов караульному, выходит, гремя поножами.
Через некоторое время является тот же темнокожий невольник с небольшим ящиком, заполненным свитками, в отдельном отсеке — сосуд с чернилами и несколько стилусов. Также он приносит алабастрон масла для лампады и ещё парочку лампад, про запас.
Свитки пергаментные, хорошего качества, в несколько локтей длиной. Кентурион не поскупился, и я ещё раз возблагодарил Бога за удачу, пославшую мне этого доброго человека в столь нужный момент.
Итак, вот он — мой шанс! Вот она — единственная возможность обмануть смерть, возродить себя из небытия, сохранить от искажений друзей и наветов врагов. И то, чем я останусь на этой земле, теперь напрямую зависит от того, что и как я напишу. Моё собственное слово сможет стать против слова обо мне, исторгнутого из чужих уст, и свидетельство от первого лица перевесит груз пересказов и легенд.
Легенд… Какие амбиции! А ждут ли меня эти пресловутые легенды? Сколько людей погибло на крестах с тех пор, как легионы Помпеуса впервые ступили на землю Эрец-Йехуда? А сколько их ещё будет воздвигнуто? Так с чего я решил, что именно мне не дано сгинуть, раствориться в людской памяти и навсегда пропасть во мраке забвения? Но и этому я тоже противопоставлю своё слово. И в слове своём обрету я жизнь вечную, так как читающий его будет постигать меня, живого, хоть и давным-давно покинувшего мир. Почему я не делал прежде записей? Почему только сейчас, на пороге смерти, посетила меня жажда бессмертия?
Я присаживаюсь на холодный пол перед столиком, стараясь не заслонять света, и разворачиваю первый свиток. Страх перед чистым листом на мгновение охватывает меня. Смогу ли совершить задуманное, не всуе ли будут мои потуги? Наверное, любой творец хоть раз в жизни испытывает подобный страх: писатель перед пустой страницей, скульптор перед глыбой мрамора. Что же испытывал Ашем в первый день творения, взирая на первозданный хаос?
Мысленно помолившись Творцу и испросив его благословения, берусь за стилус. Слова под отвыкшими от письма руками побежали наперегонки по пергаментному свитку, лежащему передо мной.
Глава II. На склонах Тавора

Багровый туман медленно клубится, возбухая волнами, наплывая на горизонт. Он переливается, играет оттенками, вот уже зафиолетовел, наливаясь по краям густой и вязкой синевой. Он так величественен в своей первозданной, дикой мощи, что я себе кажусь песчинкой; хуже того, меня просто нет — нет ни моего тела, ни рук, ни ног, а есть лишь одно обнажённое и беззащитное зрение — испуганный взгляд из ничего. Страшно наблюдать его вздымающиеся валы, оторопь берет от одной только близости к стихии, но и не отпускает, завораживает — гипноз восхитительного ужаса. Я не могу отвернуться, даже зажмуриться не в состоянии. Да и чем жмуриться? Из тумана выплывает лик в ослепительном сиянии. Черт не вижу, пытаюсь всмотреться сквозь яркий свет, пробивающий синевато-багровое марево, и лишь слепну в дымчатом тумане. Но я точно уверен: это он, Йоханан. Сияние все ближе, вся ярче высветляет изнутри тучи, протягивает ко мне тонкие лучи-щупальца. Вот они уже касаются моей руки. Ощущение настолько реально, что я вздрагиваю и открываю глаза.
С руки, откинутой во сне, мягко шелестя, юркнула ящерица, спасаясь между камнями. Сон не спешит отпустить меня из цепких объятий. Какое-то время ещё лежу, полузакрыв глаза, готовый вновь погрузиться в гипнотизирующий омут своих грёз. Но утренняя прохлада да овечье блеяние на фоне многоголосого щебетания, никак не вписывающиеся в канву сновидения, возвращают меня к реальности. Слегка приподнимаюсь, оторвав затёкшее тело от земли, где провёл ночь — первую ночь своего путешествия, и с удовольствием потягиваюсь, скрипнув суставами.
Над равниной Ха-Галиля, расстилающейся передо мной со склона Тавора, разгорается утро. Солнце уже подмигнуло над краем холмистой гряды. В утренней дымке серая полоса Ям-Кинерета опалесцирует лёгкой рябью. Вдалеке, в предрассветном тумане, вырисовывается Рамат Ха-Голан, за которым лежит далекая Сирия.

Рядом, всего в каких-нибудь двадцати шагах, по пологому склону рассыпалась небольшая отара овец — голов тридцать, не больше, между которыми затесалось несколько коз. Они поглощены едой; лишь самые ближайшие порой обращают ко мне наивные морды, смешно качая вислыми ушами, смотрят удивлённо и негромко блеют. Выговорившись, вновь ныряют носом в сочную траву. Старый длиннобородый козёл, подобравшийся ближе прочих, тоже поднимает горбоносую, почти седую голову, но избегает смотреть в упор — скользит взглядом куда-то мимо, не переставая жевать. Однако, присмотревшись, можно заметить, что шальной глаз старого прохиндея косится именно в мою сторону, а ехидная ухмылка авгура кривит его плутоватую морду.
Краем глаза цепляю движение в траве — там божья коровка деловито семенит по стеблю какого-то безымянного злака. Срываю его и с интересом наблюдаю за насекомьим бегом, переворачивая стебелёк то одним концом вверх, то другим. Какое-то время жучок безропотно терпит мои чудачества, но не так чтобы долго. Возмущённо расправив крапчатые крылья с прозрачным исподом, божье создание взмывает в воздух и растворяется в пёстром разнотравье, в котором я продолжаю нежиться на постеленной с вечера симле, слегка отсыревшей от утренней росы.
Облокотившись, кидаю взор окрест. Оказывается, овцы и козы — не единственные, кто составляет мне компанию. Неподалёку, прислонившись к кривому стволу, сидит чумазый босоногий пастушок и на первый взгляд что-то деловито мастерит. Присмотрелся — вроде как веточку стругает, как бы не замечая меня, скользя рассеянным взглядом мимо (в точности, как старый козёл из его стада), и точно также нет-нет да и бросит украдкой в мою сторону мимолётный взгляд из-под сурово насупленных бровей. Своим независимым видом и, в общем-то, ненужным, но трудоёмким делом он доказывает мне, себе, своему стаду и всему миру, что он — не двенадцатилетний деревенский пастушок, а взрослый, серьёзный и деловитый человек, у которого нет времени отвлекаться на каких-то бездельников, развалившихся посреди травы и играющих с жучками. Я вспомнил себя в его же возрасте — как торопился повзрослеть, обгоняя свои годы — и не смог сдержать улыбки.
Ничто так не возбуждает аппетита, как ночёвка на свежем воздухе, и я нырнул в недра своей котомки в поисках чего-нибудь съедобного. Еды пока было вдоволь, так как не прошло и суток, как я покинул дом, и потому, достав лепёшку, головку козьего сыра и пучок свежей зелени, я окликнул моего сурового соседа:
— Тебя как звать, бахур?
Мальчонка при этих словах неторопливо и с достоинством почесал чумазой пятернёй чёрную от грязи пятку, смерил меня взглядом и, наконец решив, что ответив мне, он не потеряет ни на йоту своей значительности, откликнулся низким, взрослым баском:
— Бен-Шимон. А тебя?
Ишь, какой! Суров, слов нет. Оно понятно — чтоб повзрослей да попредставительней. Имя — это для детишек да бездельников типа меня, а его, работящего человека, изволь величать по батюшке — строго и значительно.
— Меня — Иешу! Кушать будешь, Бен-Шимон? — пригласил я его к своей скромной трапезе.
По глазам было видно, что паренёк не прочь и присоединиться, но роль, которую он навязал себе, не позволяла так легко соблазниться приглашением. Он не должен, как какой-то мальчишка, бросаться на еду по первому зову — нет-нет, кто угодно, только не он, Бен-Шимон, пастырь своего стада.
— Я не голоден, — ломающимся тенорком ответил пастушок, не удержав планки низкого баса, хотя глаза его, войдя в непримиримое противоречие с его же словами, пожирали еду, которую я раскладывал перед собой.
— Ты думаешь, я хочу есть? Просто заставляю себя позавтракать, а то идти далеко, и проще нести жратву в желудке, чем на хребте. Ты, если не голоден, просто сделай вид, что ешь, а то мне одному скучно жевать. Глядишь, и поможешь мне расправиться с этой горой снеди.
«Гора» явно не дотягивала до сколь-нибудь значительной кочки, но мой тон растопил лёд. Ковырнув для порядка проворным пальцем в носу и щелчком отправив козявку в неблизкий полет, без ущерба для собственного статуса, как бы уступая моим неоднократным просьбам, паренёк присоединился к столу. Вскоре добрая треть моей «горы» скрылась у него во рту, доказывая, что помогать мне он решил, не халтуря.
— Бени, а что — стадо твоё собственное? — я решил, что после совместной трапезы можно перейти на менее официальный вариант обращения к пастушку.
— Элиэзер меня зовут, — смилостивился пастушок, — а стадо хозяйское. Хозяин у меня из Эйн-Дора, что под горой, — махнул он в сторону своей деревеньки.
— А-а-а, понятно, бывал я у вас не раз. А я из Нацрата, — махнул я в противоположном направлении, — меня ещё рофэ Йехошуа кличут, слышал?
На секунду прервав работу челюстей, Элиэзер наморщил лоб, пытаясь переварить полученную информацию, потом, с трудом проглотив недожёванное, спросил:
— Это не ты в прошлый хешван лечил старого Ицхака из Эйн-Дора, что сломал ногу, упав с мула?
— В хешван, говоришь? Помню, был такой Ицхак, а ты его знаешь?
— Как не знать? Он наш сосед, за два дома от нас живёт. Я ему ещё помогал с хозяйством управиться, пока он хворал, — похвастался Элиэзер и заинтересованно посмотрел на меня: — Ицхак говорил, ты большой мастер.
— Как он теперь? Что нога? — поинтересовался я.
— Да что ему сделается? Ходит с клюкой — не хуже, чем раньше ходил. А уж если ему под горячую руку подвернёшься, то этим костылём так огреет, что только уноси ноги. Вот, гляди! — подняв подол, Элиэзер показал мне продолговатый синяк на спине — судя по виду, довольно болезненный. — Третьего дня меня так огрел, пень старый, и ведь ни за что!
— Да уж, неслабо тебе досталось, — посочувствовал я.
Элиэзер, довольный, что кто-то по достоинству оценил его боевые шрамы, пустился в пространный рассказ про свои взаимоотношения со старым Ицхаком, с прочими односельчанами, про какую-то поездку прошлой осенью в Цфат, куда он сопровождал хозяина и ещё про кучу всякой всячины. Я лишь поддакивал, а большего ему от меня и не нужно было. Доверчивый слушатель мог бы подумать, что за свою недолгую жизнь паренёк пережил раза в три больше, чем обычно выпадает на долю любого смертного, дожившего до седых волос. Но прерывать мальца мне не хотелось, и, усмехаясь в бороду, я слушал эти полубайки, густо приправленные феерическим трёпом. Совсем как Яаков, братишка мой меньшой!
Яаков, надо признаться, точно также не знает меры в приукрашивании своих приключений, если таковые случались быть. Если же нет, то он беззастенчиво присваивал чужие, наделяя себя ролью главного героя. Пойманный с поличным на небылицах, он, ничтоже сумняшеся, оправдывался обычно тем, что иначе рассказ был бы скучный и серый, а так его и рассказать не стыдно, и послушать интересно.
Яаков, Йехуда, мама, сёстры… Когда я ещё увижу вас снова? Он ещё даже не скрылся из виду; отсюда, со склона Тавора, мой родной Нацрат лежит, как на ладони, утопая в оливковых и миртовых садах. Ещё есть шанс одуматься, как просила меня мать, вернуться, оставив глупости, и спокойно и даже в достатке продолжать жить плотницким ремеслом, доставшимся мне от покойного отца, и своим талантом рофэ, которому я был обязан дяде Саба-Давиду из Александрии, что в Мицраиме.
Зачем я здесь? Куда иду? Что заставило меня бросить спокойную колею, по которой текла неспешно моя жизнь, ради поиска чего-то такого, чего я и сам не мог себе объяснить? Хочу найти свою судьбу — как я сказал вчера плачущей матери, которая, уже понимая, что я не отступлюсь от своего намерения, роняя слёзы, собирала меня в дорогу. Как весомо звучала эта мысль во мне и как она обесценилась, как только я её озвучил матери: пустой звук, сотрясение воздуха, не более, без смысла, без содержания, с привкусом фальши и фарса. А может, просто захотелось вырваться из этого обывательского быта, из спокойной, тусклой жизни, которая, обволакивая изо дня в день сиюминутными проблемами и бытовой рутиной, засасывала не хуже болота? Сеть, сотканная из отчего дома, из людей, которым ты дорог и которые дороги тебе, из предугаданного и такого понятного пути, который вместо тебя, но для тебя уже начертали жизненные обстоятельства. Преемственность и инерция привычки — она давила на плечи, стесняла грудь, требовала почти физического освобождения. Теперь свободен — наконец-то с Божьей помощью проторю свою колею, собственный, никем не предписанный путь!
Свой путь… Как пафосно и комично звучит. И что мне в нём? Кто мне сказал, что этот путь будет лучше, чем тот, что я оставил? Какие люди будут рядом со мной на этом пути? Разве станут они ближе мне, чем родные мать, братья и сёстры? Странно — ещё вчера, отправляясь в дорогу, был полон решимости; но прошёл всего день — и вот уже сомнения обступают меня. Вот он — рубеж, который мне предстоит перешагнуть, и дальше уже нет возврата. Рубеж, который я сам себе избрал, сделав изрядный крюк, чтобы напоследок бросить взгляд на Нацрат и Ям-Кинерет с вершины Тавора, запечатлеть на долгую дорогу и лишь потом двинуться на юг, через Шомрон в Эрец-Йехуда, и дальше, к устью Йардена, где надеюсь найти Йоханана.
Йоханан Ха-Матбиль! Это имя я повторяю всё чаще и чаще, как молитву. Он мне уже и во снах представляется в виде какого-то демиурга. Мне кажется… нет, не так. Я уверен, что он, именно он объяснит всё, что меня волнует, что не даёт спокойно плотничать в тиши отцовского дома в Нацрате. Он ответит на все вопросы, что теснятся в моей голове, будят среди ночи, заставляя ворочаться с боку на бок в попытке успокоить и усыпить мозг.
Почему он? Почему не кто-либо ещё? Это сейчас, обогащённый опытом прошедших лет, могу спросить себя и задуматься над ответом. А тогда, под волной запоздалого юношеского максимализма, вдруг накатившего на меня, сама постановка вопроса казалась нелепицей. Интересно, что бы я делал, случись мне вернуться в те дни с контрабандным знанием грядущих событий? Повторил бы свои же ошибки на новый лад или наделал бы новых, неизмеримо худших — кто знает?
Слава йоханановых проповедей не первый год гремела по Эрец-Исраэлю; отдалённые раскаты её достигали и нашей Богом забытой деревушки. Чудовищно раздутая народная молва, цену которой я лишь потом осознал, уже на собственном примере, убеждала меня, что в его лице возродились древние неви Танаха, и именно его слово отражает в себе незамутнённую Божью искру, что растерял и разменял богоизбранный народ.
И всё же, всё же… В памяти опять всплывает заплаканное лицо мамы, Мириам, которая одна, потеряв мужа такой молодой, подняла всех нас — весь выводок детей; которую я всегда привык воспринимать такой сильной, волевой и решительной, спокойной и рассудительной, вдруг в одночасье ставшей заплаканной, маленькой и жалкой, когда вдруг по сети морщин вокруг глаз и припорошённым сединой вискам замечаешь, как же она постарела. Именно эти тихие слёзы уже смирившейся с неизбежной потерей пожилой женщины чуть было не заставили меня передумать, плюнуть на всё и остаться. Ничто так не обезоруживает нас, как слёзы матери.
Мама, мама, любимый мой человечек. Почему я не в силах осушить солёные капельки на твоих глазах? Похоже, ты пропустила момент, когда твой маленький, любимый Иешу стал взрослым, способным и готовым решать свою судьбу — и вдруг оказалось, что он её видит совсем другой, чем, как тебе казалось, для его же пользы видела ты. И теперь стоишь, растерянная и жалкая, бессильная что-либо изменить; и именно в этот момент своей беспомощности обретаешь надо мной ту власть, которую бы не смогла получить никаким другим образом. Если бы ты знала цену собственных слёз, мама! Ты собираешь мою котомку в дорогу, роняя их и даже не замечая; но каждая, словно раскалённый сплав, обжигает меня. Чувствую свою вину за них, понимаю, что именно я и моё решение стали причиной этой маленькой драмы — такой маленькой в масштабах одной лишь семьи, но такой большой, просто вселенской для нас обоих. Прячу глаза, не в силах смотреть; к горлу подкатывает волна неприязни к самому себе, и я стараюсь как можно быстрее оставить всё это позади — весь мучительный ритуал проводов, скребущий щербатым лезвием по неспокойной совести.
И вот уже на пороге, вот напоследок, имитируя безмятежность, обнимаю мать, братьев, сестёр, закидываю котомку за плечи и, не оглядываясь, боясь, что предательские слёзы и у меня брызнут из глаз, удаляюсь по пыльной дороге. Лишь один раз, уже у развилки, за которой, как я знал, наш дом должен был скрыться из глаз, не выдержал и оглянулся. Наш старый, серый дом с облупившимися стенами в тени платанов, змеящаяся пыльная дорога и маленький силуэт матери, всё ещё стоявшей на пороге, не сводившей глаз с моей удаляющейся фигуры — эта картина всё так же свежа в памяти; как оказалось, на всю отмеренную мне жизнь.
Голос Элиэзера, что-то продолжавшего увлечённо рассказывать, вернул меня вновь на склон Тавора. Я взглянул на довольно высоко поднявшееся над горизонтом светило. Пора, пора! Несмотря на все переживания и сомнения, обратной дороги для меня нет. Так быстрее, вперёд, пересечь этот невидимый рубеж, точку невозврата, чтобы и мысли не посещали о подобной возможности. Я засобирался в дорогу, складывая котомку.
— Что ж, Элиэзер Бен-Шимон, друг мой! Спасибо тебе за компанию, за интересные и правдивые истории, — я не особо старался скрыть иронию, — лехитраот. Даст Бог, ещё увидимся. Привет старому Ицхаку!
— Ну, бывай с Богом, — вновь напустив на себя важность, степенно пробасил паренёк.
Оставив пастушка со своими подопечными, я решительно повернулся спиной к призывно пестревшему внизу Нацрату и, преодолевая соблазн оглянуться, двинулся на юг.
Глава III. Йоханан Ха-Матбиль
За несколько дней пути я оставил за спиной плодородную долину Эмек Харод и, перевалив за кряж Гильбоа, вступил в Шомрон — чужой и незнакомый; всё дальше отдаляясь от Ха-Галиля. С каждым днем всё реже и тише звучали миноры в душе, отодвинутые весёлой авантюрностью моего анабасиса.
Ещё немного пыльных дорог Шомрона, парочка лунных, цикадноголосых ночей — и передо мной Йарден, главная река Эрец-Исраэля. Хотя даже здесь, в среднем своем течении, он не идёт ни в какое сравнение с Ханилусом — великой рекой Мицраима, который мне довелось увидеть ещё отроком. Как не согласуется высокопарная торжественность легенд и преданий с уютной, домашней картиной, открывающейся взору! Берега Йардена густо зеленеют свежей листвой деревьев и высокой травой, подступающей к самой воде. В их тени он медленно и торжественно несёт свои воды на юг, к Ям-Амелаху, задумчиво отражая в своём зеленоватом зеркале склонившиеся ветви. Самый берег здесь болотистый, и дорога тянется вдоль реки на некотором отдалении, позволяя любоваться сменяющимися пасторальными этюдами, не замочив ног. Йарден, застенчиво кокетничая, красуется передо мной, разворачивая пейзаж за пейзажем, и каждый претендует на звание живописнейшего из всего, что я видел, ровно до момента, когда за очередной петлёй он не преподнесёт следующий шедевр.

Всё ближе цель моего путешествия; вот уже дорога свернула влево, к реке, по ту сторону которой лежит Бейт-Абара– деревушка на излучине Йардена, в окрестностях которой, по дошедшим до меня слухам, и располагалась община Йоханана Ха-Матбиля.
Сойдя с дороги около приземистого моста, раскинувшегося в несколько пролётов меж берегами, я спустился к реке, чтобы перевести дух и обмыть усталые ноги. Словно ждавший моего появления соловей, прячущийся в прибрежных зарослях, свистнул пару раз, прочистив горло, и рассыпался витиеватой трелью. Интересно, как он встретит меня? Попробую представить.
Он высокий, обязательно высокий (почему никто не представляет великих людей коротышками?), с лучистыми, пронзительными глазами, от углов которых разбегаются веером морщинки. Вот он обводит взором толпу благоговейно внимающих послушников и сразу замечает меня. Улыбка трогает его уста, взгляд теплеет, и он по-дружески подзывает меня рукой. Толпа расступается, а я, повинуясь ободряющему жесту, приближаюсь. Что там дальше? Я что-то говорю, он отвечает… Или он сам начнёт? Нет, первый разговор наш не даётся: всё тает в багровом тумане стыда, пресытившись патокой либо угловатой, косноязычной неловкостью.
Порыв ветра доносит приглушённые расстоянием голоса. Повернувшись на звуки, вижу двоих, идущих по мосту со стороны селения, занятых беседой. Надо бы спросить у них, где можно найти Йоханана, но до чего же неохота прерывать блаженство омовения! Ну может, свернут в мою сторону? Подожду.
Один — чернобородый, плотно сбитый, с коробом на шее — нёс в руках небольшой куль, в то время как второй — повыше и похудосочнее — взвалил себе за плечи объёмистый мешок поклажи. Незнакомцы, пройдя по мосту до дороги, повернули влево, удаляясь. Я вскочил на ноги, торопливо обув сандалии на мокрые ступни, и бросился вдогонку, не замечая крупных песчинок, впивающихся в пятки.
— Шалом вам, добрые люди! — окликнул я их ещё издали. — Не подскажете ли, где могу найти праведного неви Йоханана Ха-Матбиля?
Незнакомцы дружно, как по команде, повернулись ко мне, но именно синхронность движения подчеркнула их несхожесть. Чернобородый развернулся резко, ловко, крутанувшись на носке одной ноги, с какой-то кошачьей пластикой, в то время как второй потерял при своём движении равновесие, и лишь спасительная рука товарища избавила его от перспективы сковырнуться с ног. Я подошёл к ним почти вплотную, что позволило мне рассмотреть их получше.
Чернобородый, прищурившись, царапнул меня цепким взглядом, и углы его чуть полноватого, чувственного рта тронула усмешка. Он был примерно моего возраста, хотя ранние залысины на висках, раздающие вширь его и так высокий лоб, накидывали ему годков пять, если не больше. Тонкий, с лёгкой горбинкой нос и слегка вывернутые ноздри придавали его облику что-то от хищной птицы. Во всём его облике чувствовалась порода, как в ином племенном жеребце, которых по баснословной цене бедуины да арабы продавали на торжищах.
Второй, помоложе, воспользовавшись оказией передохнуть, опустил мешок на землю, застенчиво улыбнулся, склонив голову, и кинул на меня взгляд слегка исподлобья. Рыжеватая редкая поросль не прикрывала ни длинного, невнятного подбородка, ни изрытых оспинами щек. Голова его была удлинённой формы, с жидкими космами волос того же ржавого оттенка, а плавная дуга довольно крупного носа, особенно печально загнутый книзу кончик, добавляла его образу изрядную порцию сентиментальной грусти. Он был настолько неказист и неловок, особенно на фоне видного товарища, что поверхностный наблюдатель мог бы сразу отвернуться безо всякого интереса и был бы неправ: весь этот невразумительный облик искупался лучистым, удивительно мягким взглядом тёплых, зеленоватых, чуть ли не бархатных глаз.
— Ха-Матбиля? — переспросил чернобородый. — А зачем он тебе?
— Мне надо поговорить с ним, — ответил я бесхитростно, стараясь не замечать нотку насмешки — не столько даже в его голосе, сколько в уголках карих, с хитрецой, глаз, уставившихся на меня оценивающе.
— Вот как! Поговорить, значит. А надо ли ему самому, чтобы ты с ним поговорил? — вдруг ехидно и белозубо осклабившись, спросил он, чем вызвал смешок у молодого, который тот, смутившись, прикрыл ладонью. — Может, Ха-Матбиль и не горит желанием вступать с тобой в беседу?
— Это уже моё дело — моё и Ха-Матбиля, захотим мы беседовать или нет, — вспыхнул я. — Я вас всего лишь попросил указать мне дорогу, если знаете, где его найти. А не знаете, так не отнимайте ни у меня, ни у себя времени, упражняясь в остроумии.
— Ух ты, ух ты! Какие мы обидчивые! Прямо и спросить нельзя, — вновь расплылся в улыбке чернобородый, что меня уже окончательно вывело из себя.
Но прежде чем я успел повернуться к насмешнику спиной или грубо ответить, в разговор вступил второй:
— Да ладно тебе, Йехуда, что ты пристал к человеку? Видишь, что обижается, а продолжаешь, — после чего повернулся ко мне: — Тебе повезло, брат, мы сами из его послушников и как раз держим путь к лагерю, так что можешь пойти с нами. Это недалеко, пониже по течению.
Я смутился, поняв, что чуть не разругался со своими будущими братьями-послушниками, в ряды которых и стремился попасть. Вспыльчив я, что греха таить. Работаю над собой, работаю… Нет, получше, конечно. Раньше, бывало, распалюсь в азарте — глаза искрят, эмоции навыпуск, режу глаголом с оттяжкой, наговорю лишнего, потом себя же и ем поедом. Пытаясь скрыть замешательство, поспешил с предложением:
— Давайте тогда я помогу вам донести вещи. Вы, наверное, устали?
— Не откажусь, — улыбнулся молодой, — понесём мешок по очереди. Тебя как зовут?
— Йехошуа Бар-Йосэф. Я из Нацрата, что в Ха-Галиле.
— Ты тоже из Ха-Галиля? — обрадовался тот. — Мы земляки — и я оттуда, из Кфар-Нахума, что на берегу Кинерета. Меня Андреас зовут, Андреас Бар-Иона.
— Только ты мог не заметить его галильского говора с первого слова, — ввернул ехидно его спутник.
— Рад знакомству, Андреас, — улыбнулся я в ответ, сразу почувствовав симпатию к нему и за добрые слова, и за подкупающе открытую улыбку, осветившую лицо, и даже за то, что мы с ним оказались земляками.
— А это — Йехуда Иш-Крайот, — представил он чернобородого, который всё с той же полунасмешливой улыбочкой кивнул мне. — Ты на него не обижайся, Йехошуа. Он, правда, колюч на язык, но так-то по жизни добрый малый.
— Ага, добрейшей души человек, мягкий и пушистый, как гамла, — опять сострил Йехуда.
— Да я уже понял, что надо быть гамалем, чтобы оценить твои остроты по достоинству, — не удержался я от ответной шпильки.
К моему удивлению, Йехуда разразился заразительным, весёлым гоготом, который подхватили и мы с Андреасом.
— Ха-ха-ха! Признайся, Йехуда, утёрли тебе нос твоим же оружием, — утирая слёзы, выступившие из глаз от смеха, сказал Андреас.
— Да уж — я смотрю, тебе, Йехошуа, палец в рот не клади! — весело и беззлобно ответил Йехуда. — Ну, пойдём, а то братья с голоду опухнут, пока мы тут лясы точим.
Я взвалил на себя мешок, Андреас взял куль из рук Йехуды, а тот — мою котомку, и мы двинулись в дорогу. Андреас по дороге рассказал, что они с Йехудой, который был казначеем общины, возвращаются из Бейт-Абары, где закупили еды на всех. Где-то на полпути мы опять перетасовали поклажу. Так, весело и непринуждённо беседуя, словно со старыми приятелями, мы и дошли до лагеря.
Первое, что я почувствовал при виде его — недоуменное разочарование. Мне даже показалось, что меня не туда привели. Разве это нищее кочевье может быть местом проповедей неви Йоханана? Разве в таком месте Божественные откровения должны достигать ушей алчущих правды? Все так буднично, так просто и неброско: груда скомканных котомок и затасканных тюков под раскидистым деревом, куда и мы сложили свою поклажу, да парочка навесов, натянутых меж стволами, под которыми наслаждались тенью стайки послушников. Ни дать, ни взять — бедуинское кочевье или временный лагерь нищих паломников, что двигались нескончаемыми группами мимо Нацрата в дни праздников, направляясь в Йерушалаим.
А не надо было понукать фантазию, рисуя себе в мечтах кущи, где самый воздух насыщен святостью и величием откровения. Реальность не обязана следовать мечте, и мне остаётся лишь принять её такой, какова она есть, либо отвернуться и продолжать строить замки из песка, сетуя на то, что жизнь обманула высокие ожидания. Да, тут всё просто, всё обыденно, и именно здесь нужно найти то, что я ищу. Всё, что нужно мне — это уста, чтобы произнести слова истины, уши, чтобы услышать, голова, чтобы понять услышанное, и сердце, чтобы принять его. Остальное — лишь оболочка, скорлупа, и наивен тот, кто судит о содержимом по расцветке оной.
Мои спутники подошли к прочим послушникам. Я же, слегка робея, остался на месте, у тюков. Неподалёку человек пятнадцать собрались вокруг высокого мужчины старше средних лет, сидящего на валуне, и именно к нему и направились Андреас с Йехудой. Неужели это он самый и есть? Он был центром этой группы, выделяясь не только своим ростом, но и громким, властным голосом, активной жестикуляцией и особенно тем вниманием, с которым остальные его слушали, лишь иногда короткими репликами вмешиваясь в горячий монолог. В волнении я даже не заметил, что между божественным светом, который мне виделся во сне, светлым образом доброго мудрого старца, излучающего покой и благодать, и этим импульсивным оратором с горящими глазами мало общего. Он скорее был похож на ту грозовую тучу из сна — клубящуюся, багровую, полную первозданной мощи.
Мужчина был высок — выше любого в этой группе, худ и жилист. Открытый, бугристый лоб, длинные спутанные волосы, ввалившиеся щёки, простая накидка через плечо из верблюжьей шерсти, перепоясанная широким кожаным поясом. Но первое, что притягивало взор — его глаза. Слегка выпуклые, как бы навыкате, горящие почти болезненным светом, они впивались в собеседников, буравили насквозь, искали что-то в глубине, в потаённых закромах души, нащупывали, обнажали, отметая барьеры и стены. Под их взглядом было неуютно, холодно даже в этот жаркий день и немного страшно, до мурашек. Действие взгляда подкреплялось бурной, порывистой жестикуляцией Йоханана: вот он сжал кулаки, вот всем телом рванул куда-то, а тут взмахнул рукой, будто отправив в подкрепление слов волну силы, чтобы аргумент был не просто весом, но смёл бы оппонента. И при всём этом он умудрялся не спускать глаз с того, к кому обращался — фанатичных, горящих глаз. Йоханан впечатлял! Это был вождь, пророк. Я будто увидел воочию Элияху неви, как представлял себе, и это соответствие хоть с каким-то из моих умозрительных образов примирило меня с невзрачностью обстановки и будничностью окружения.
Андреас с Йехудой, подойдя к Йоханану и дождавшись подходящего момента, что-то негромко сказали ему, указывая на меня, и он тотчас повернулся.
— Подойди сюда, брат мой, — подозвал он.
Я в волнении приблизился, раздвинув стену послушников собой, как Моше воды моря. Стоя рядом с Ха-Матбилем, ещё раз оценил его рост — а он на полголовы был выше, хоть я и сам для иудея был довольно высок. Горящие глаза впились в меня. Показалось, что сейчас этот взгляд прожжёт во мне дыру, выйдет через затылок и, нырнув в реку позади, поднимет столб пара. Но я, глубоко вдохнув и плотно сжав челюсти, выдержал его, даже не моргнув.
— Шалом тебе, рабби! — обратился я к нему взволнованно отрепетированной фразой. — Прими меня, недостойного, вкусить от источника мудрости твоей и стать твоим послушником.
Йоханан продолжал буравить меня, и под его шероховатым взглядом мне стало как-то не по себе, а из головы вдруг вылетели все остальные заготовки, хоть было их ой как немало!
— Нет у меня ничего из того, что мог бы ты вкусить. Не место тут явану — ни тут, ни где-либо на земле, обетованной сынам Авраама, Ицхака, Яакова.
Ответ будто пощёчиной хлестнул по лицу. Как — меня, десять дней месившего пыль дорог Ха-Галиля, Шомрона и Эрец-Йехуда только для того, чтобы встретиться с ним, и, наконец, нашедшего, вот так выгнать, как мальчишку, прилюдно отчитав и оскорбив, причем незаслуженно? Кровь прихлынула к щекам от обиды и несправедливости; и едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на что-нибудь такое, после чего мне действительно ничего не останется, как уйти отсюда с позором, я ответил Йоханану:
— Я не грек, учитель. Меня зовут Йехошуа Бар-Йосэф. Я из Нацрата, из Ха-Галиля. Я плоть от плоти отца моего, иудея, и сам иудей от рождения. За что ты гонишь меня?
Йоханан помолчал, не спуская с меня колючих глаз. Затем взгляд его несколько смягчился; наконец он величественным жестом взял меня за плечи и миролюбиво приобнял.
— Брат мой, если ты наш, если Бог Авраама — твой Бог, то присоединяйся к братьям своим. Но прежде чем стать моим учеником, ты должен омыться от всего, что наполняло тебя до сего дня — от грехов и нечисти, от суеты мирской; и, чистый и невинный, лишь тогда будешь готов встать в наши ряды. Да будет Йарден тебе миквой. Иди за мной.
Гнев и обида ещё жгли мне щёки огнём, а ноги уже последовали за Йохананом. Мы спустились к реке. На берегу я, повинуясь Ха-Матбилю, скинул сандалии и симлу и в одном кетонете вошёл за ним в реку по пояс. Он же, возложив мне на голову свои большие, тяжёлые руки, трижды окунул меня в прохладную воду Йардена с макушкой. Я едва успел зажмуриться и задержать дыхание.
— Очистишься ты сими водами от смрада и нечисти грешного мира, отринешь сомнения, чтобы с чистой душой встретить грядущего Машиаха. Слово Божье, моими устами произнесённое, да будет услышано тобой. А теперь иди, Йехошуа. Отныне ты один из нас, брат мой.
Я открыл глаза. Вода стекала с мокрых волос по лицу, приятно охладив горящие щёки. Обида ушла, уступив место ликованию. Ведомый за руку Йохананом, я вышел на берег. Я один из них! Эта мысль била ключом, фонтанировала радостью и одаряла всё окружающее своей частичкой. Неприятный осадок от первого приёма отступил куда-то далеко, скрывшись в глубинах подсознания. Наверное, я выглядел довольно комично, стоя на берегу в прилипшем к телу кетонете, глупо и счастливо улыбаясь, пока с меня струйками стекала вода. В этот миг весь мир мне казался родным и близким: и Андреас, дружески улыбающийся в ответ, и Йехуда, заговорщически подмигивающий, и незнакомые бородачи, окружающие меня, с этого момента ставшие моими назваными братьями.
Остаток дня помню уже смутно. Переполнявшие эмоции не давали сконцентрироваться ни на разговорах и проповедях, которые ещё были в тот день, ни на нехитрых хозяйственных хлопотах.
Незаметно подкрался вечер. Разговоры у костра медленно угасали, народ по одному расходился спать. Мне же всё не спалось — уж слишком насыщен был день впечатлениями. Я отрешённо наблюдал за языками пламени, лениво пожиравшими сухие ветки и принесённую кем-то толстую сучковатую колоду, весь во власти эмоций, когда ко мне подсел кто-то. Повернувшись, я малость оробел, увидев Йоханана Ха-Матбиля. Но сейчас он был спокоен и умиротворён, с улыбкой наблюдая за костром и ловко перебирая правой деревянные чётки.
— Удивительная вещь — огонь, — неожиданно негромко, словно обращаясь к самому себе, проговорил Йоханан. — Сколько ни смотришь на пламя, никогда не устают глаза. На него можно любоваться так же бесконечно, как и на водопад. Но есть одно «но». Иногда огонь — это знак Божий. Огненный столб вёл наш народ в пустыне, спасая из плена мицраимского. А порой — порождение врага рода человеческого. Он прельщает, но он же и губит, как когда-то прельстил змей Адама и Хаву, и понять, от какого источника исходит он — от Господа или от врага — дано не каждому, — Йоханан отвернулся от костра, посмотрев на меня: — Признайся, Йехошуа, ты был не на шутку уязвлён, когда я назвал тебя яваном.
С наигранным спокойствием я длинной веткой дотянулся до крайних угольков и помешал их, стараясь сконцентрироваться на оранжевых отблесках, мерцающих из-под белой золы.
— Нет, рабби — не уязвлён, а лишь удивлён несправедливостью этого обвинения.
— Несправедливость? Ты судишь о том, что есть справедливость, а что нет, лишь по тому, насколько это согласуется с твоим пониманием справедливости?
— Но ведь я иудей, рабби, по крови и по духу. Если меня называют яваном, то я имею право судить, справедливо это высказывание или нет, не так ли?
— Судить? Ты имеешь право лишь иметь своё мнение, но судить! Ведь тот, кто судит, наделён также правом выносить приговор, карать и поощрять, не так ли? Судья ли ты, Йехошуа? Разве можешь ты, со своим скудным пониманием мира, назваться им? Согласись, что право судить этот мир лишь у того, кто и создал его, кто является высшим благом, абсолютом; другими словами — у Ашема и у тех, на кого он сам укажет. Уж не хочешь ли ты оспорить его права, Йехошуа?
— Нет, учитель. Право высшего суда над деяниями людскими, конечно же, в руках Господа нашего; и ни мне, ни кому другому не оспорить этого. Но чем руководствоваться нам, смертным, чтобы понять, что есть правда, а что кривда на нашем уровне, в повседневной жизни?
— Воля Господа — вот единственный критерий, который отделяет для нас благое и правое дело от неблагого. Всё, что сказано и сделано во славу Господа, всё, что случилось по воле Всевышнего — есть благо. И, напротив, любое деяние, которое даже если и кажется тебе благим, но не по воле Господней сотворено — суть зло, и за него будет взыскано.
— Учитель, разве не всё, что происходит в мире, происходит по воле Господа? Так как же может случиться что-либо против его воли, что бы требовало наказания?
— Человек обладает свободной волей. Он волен выбирать, на какой путь становиться: на путь, указанный Господом, или начертанный Ха-Сатаном. И только Ашему дано судить, насколько человек преуспел в исполнении воли его, а насколько — в неправедном пути. Лишь праведники спасутся в день прихода Машиаха — а он не за горами, этот день. Кто же берёт на себя смелость самому судить деяния людские, тот берёт на себя дела Божьи, и кара ждёт его.
— Иначе говоря, учитель, — попытался я обобщить, — не суди, да не судим будешь?
Йоханан удивлённо посмотрел на меня, словно пробуя на зуб сказанное мной.
— Именно так, Йехошуа! А ты молодец — быстро схватываешь, хорошо говоришь и умеешь делать ёмкие и ясные выводы. Я вижу, ты далеко пойдёшь. Добро пожаловать в общину, Йехошуа.
— Спасибо, учитель, — отозвался я, польщённый.
Йоханан отошёл, оставив меня переваривать всё вышесказанное. Я же, посидев ещё немного, лёг рядом с Андреасом, ровное дыхание которого выдавало, что он спит здоровым, крепким сном, характерным для молодости. Мне же не спалось. У меня перед глазами всё мелькали эпизоды сегодняшнего, насыщенного событиями и эмоциями дня; и никак не приходило успокоение. Именно теперь, в сгустившейся вокруг меня тишине ночи с маленькой щелью для треска цикад, было достаточно времени переосмыслить случившееся. Из глубины подсознания всплыла загнанная туда обида, пробившись сквозь пласты радости и душевного подъёма, которыми я наспех завалил её. «Нет тут места явану!» — зазвучало вновь в ушах громовым йоханановым голосом, и это вновь заставило вспыхнуть мои щеки. Почему? Почему он именно так меня принял?
Память возвращает меня в далёкое детство. Вот мне девять лет, и мы мальчишками играем в окрестностях Нацрата в канаим и римлян. Все хотят быть зелотами, а соседский Моше, сын Гэршома — крупный мальчик, обычно бравший на себя роль заводилы и вожака — играет за Йехуду Гавлонита и распределяет роли, кто кем будет. Никто не хочет играть на стороне римлян.
— Я тоже хочу быть канаем! — кричу я, как и остальные, пытаясь перекричать других.
— Ты мамзер, ты будешь легионером! — раздаётся пренебрежительный голос, в котором звучит вызов и презрение.
Я оборачиваюсь на голос и вижу Моше, смотрящего на меня с ухмылочкой, ждущего мою реакцию. Он на голову выше, на два года старше и намного сильнее. Но разве могу я проглотить такие слова? На такое отвечать надо сразу, иначе — конец; иначе моя мальчишеская репутация будет уничтожена, и во всех наших забавах мной будут помыкать, над безответным будут издеваться даже те, кто слабее. Мальчишки всегда жестоки по отношению к робким и беззащитным.
И я, не затевавший никогда драк и не любивший в них участвовать, даже не посмотрев, кто стоит рядом с Моше (а его всегда окружала парочка прихлебал, готовых поддержать любое слово), бросаюсь на него с разбегу, валю на спину и, не давая опомниться, начинаю наносить удары кулачками. Он явно не ожидает от меня такой прыти, но приятели его тут же накидываются на меня, и в небольшой получившейся куче-мале, катаясь в пыли, мы как следует мутузим друг друга, пока остальные не растаскивают нас.
— Ты кого назвал мамзером, хазир? — плача, пытаюсь я вырваться из рук держащих меня, сплёвывая кровь из разбитой губы.
Моше, никак не ожидавший, что его, признанного лидера мальчишеской компании, вот так вот отмутузит тот, кто заведомо слабее, тоже плача и размазывая по лицу кровь, хлещущую из носа, кричит в ответ: «Ты мамзер, ты яванский подкидыш! Мне отец рассказал! Легионерский ублюдок!»
От обиды и несправедливости я убегаю домой и, найдя свою мать, хлопотавшую в доме по хозяйству, реву, уткнувшись ей в подол.
Я действительно не очень был похож на своих родных братьев и сестёр — круглолицых, черноглазых и кудрявых, бывших будто уменьшенной копией моего отца Йосэфа. Худощавый и рослый для своих лет, со светло-карими, с зеленцой, глазами и светлыми волнистыми волосами, я резко отличался от них внешне, и это не могло не бросаться в глаза. Правда, с годами волосы у меня слегка потемнели. Но глаза, высокий лоб и светло-каштановые волнистые усы и борода, отросшие годам к двадцати — всё это было так нетипично для окружающих нас детей авраамовых, что нет-нет, да и заставляло соседей сравнивать меня с яванами Декаполиса и туманно намекать на мое незаконное рождение, что меня сильно обижало. Эти полунамёки были для меня болевой точкой с детства — быть может, потому также, что я и сам смутно сознавал их небеспочвенность, но тут же, краснея от стыда, гнал от себя эти сомнения. Мне казалось, что даже тень подобных мыслей смертельно оскорбляет мать. Именно потому захлестнули эмоции, когда совершенно незнакомый человек — Йоханан, мой кумир, вдруг с первых же слов чуть не отправил меня с позором восвояси, попутно разбередив незаживающую рану.
Незаметно я перешагнул невидимую границу, отделяющую воспоминания ото сна. Казалось, вот я ещё вижу Моше с испуганными глазами, пытающегося остановить кровь — и вот он уже стремительно уносится вниз; а я не бегу, а будто взмываю над Нацратом, влекомый невидимой силой и обретший крылья. Я часто летаю во сне; это удивительное ощущение настолько реально, что, проснувшись, порой не могу понять, что было сном, а что явью. И теперь я снова парил в вышине, видя внизу маленькие суетящиеся фигурки приятелей и недругов детства. Потом взгляд оторвался от них, и открылась гладь Ям-Кинерета.
— Иешу, Иешу! — издалека слышится знакомый голос.
Мама, Мириам! Она зовёт меня туда — вверх; и я вдруг, взмыв над облаками, закрывшими земную твердь, вижу перед собой толпу наших соседей, непонятно как оказавшихся тут. Я будто скольжу между ними, не задевая, хотя стоят плотной стеной. А они даже не замечают меня, смотрят куда-то в одну сторону на то, чего мне ещё не видно, и глаза у них полны ужаса и боли. И вдруг передо мной открывается каменистый холм на западной окраине Нацрата, возвышающийся прямо из облаков. На холме, отбрасывая длинные тени почти к самым моим ногам, стоят кресты, под которыми скучают под лучами садящегося солнца римские легионеры. Я уже знаю, что увижу дальше; не хочу этого, но не в силах сопротивляться. Медленно, с нарастающим ужасом безысходности, поднимаю глаза к крестам. Там они — незнакомые мне люди с распухшими, безвольно склонившимися на грудь лицами, усеянными жирными мухами, с широко раскинутыми в стороны руками, прибитые огромными гвоздями к перекладинам, безобразно нагие, с неестественно вывернутыми ногами. Они страшны, они чудовищны. Хочу отвернуться, но не могу; будто загипнотизированный, смотрю в лицо ближайшему, и вдруг в его искажённых болью чертах узнаю Йосэфа — своего престарелого отца.
— Иешу, не смотри, отвернись! — едва слышится в ушах голос матери. Медленно, будто пятясь, начинаю отдаляться от крестов и вдруг, не отрывая от них взора, теряю опору и падаю. Падаю с той самой высоты, на которую только что поднимался, падаю вниз, и всё ближе земля, всё неумолимей…
Просыпаюсь, тяжело дыша, будто действительно свалившись с высоты. Ощущение настолько реально, что даже ломит тело. В висках стучит барабанной дробью, часто-часто, но предутренняя прохлада и мерное дыхание спящего рядом Андреаса возвращают меня в реальность. Спать уже не хочется, и я, накинув на себя покрывало, чтобы уберечься от свежего ветерка, спускаюсь к реке. Там, примостившись на прибрежном стволе ракиты, решаю встретить рассвет и успокоиться.
Этот сон — воспоминание об ужасе детства — повторялся вновь и вновь. После того как было потоплено в крови восстание Йехуды Гавлонита и Цадока, по всему Ха-Галилю стояли кресты — квинтэссенция римского правосудия, на которых приняли мучительную смерть тысячи иудеев. И то, что мне довелось тогда увидеть на каменистом холме под Нацратом, кошмаром преследует меня; слава Богу, последнее время нечасто. Но сегодня ощущение было очень, просто пугающе реальным.
Между тем ночь постепенно таяла, размываясь предутренними сумерками. Прямо передо мной, за Йарденом, за полосой невысоких деревьев и кустов, возвышался слоистый холм. Песчаные слои пологим зиккуратом поднимались к вершине, заканчиваясь группой небольших скал. Над их зазубренным краем медленно серело небо — всё светлее и светлее, пока из-за правого уголка этой гряды осторожным оранжево-красным язычком не блеснуло солнце. И сразу зарозовели слоистые облака, тонкими полосками обозначенные чуть выше горизонта. Мне, притулившемуся на сыром от росы стволе, улыбнулось ещё сонное, едва пробудившееся утро — первое утро моего послушания в общине Йоханана Ха-Матбиля.
Глава IV. В начале было слово
Нас было немного — человек тридцать, составлявших основной костяк общины Йоханана. И был ещё неиссякающий поток паломников, что приходили послушать проповеди, получали очищение в водах Йардена и вновь покидали общину. Кое-кто задерживался на пару дней, но большинство уходило сразу же после омовения. Ритуал, определённый порядок движений, обрамлённых заученным текстом — вот что для многих подменяет собой суть и содержание. Таковых можно было насчитать от пяти до тридцати человек ежедневно, так что проповеди Йоханана всегда проходили при довольно большом скоплении народа.
Что влекло их — слава ли Йоханана или жажда истины, бегство ли от ужаса бытия, от жестокостей нашего смутного времени, или поиск горнего мира? У каждого был свой путь к Господу и свои мотивы. Я же, словно забыв собственные ожидания, вначале черпал удовольствие от одного только наблюдения за процессом — сходное, наверное, с тем, что получают зрители стадионов или амфитеатров. И ведь было на что посмотреть!
Йоханан, величественный в своей патриаршей простоте, с развевающимися на ветру волосами, стоял по обыкновению на каком-нибудь возвышении, окружённый толпой, словно царя над ней, и произносил проповеди с таким пылом и напором, что никто из слушателей не был разочарован в своих ожиданиях. Он был неподражаем: эдакий воскресший пророк, будто шагнувший в наш мир прямо со строк писания, а громовые вибрации его голоса заряжали толпу своей энергетикой. Как буря, разразившаяся в пустыне, он насыщал пространство вокруг себя неистовым порывом, нематериальным ощущением стихии, зажатой в тесных границах его естества и послушной воле.
Но минули первые дни полудетского восторга сопричастности — и я начал слушать, а потом уже и вслушиваться, пытаться понять, прочувствовать услышанное. Пока учитель вещал, я, словно губка, впитывал в себя каждое слово, и, казалось, ничто не могло заставить усомниться в единственно верном его понимании истины. Но наступал вечер, я уединялся на берегу Йардена; и тут-то, неподвластный обаянию йохананового присутствия, освободившись от гипнотизирующей магии его голоса, другими глазами смотрел на вещи. Слова Ха-Матбиля я пытался пронести через разум и сердце и всё чаще спотыкался о противоречия, вступая с ним — моим учителем — в безмолвный диалог.
Сначала это меня коробило, так как ни в ком из окружающих я не замечал подобных шатаний. Другие братья, я видел, довольствовались тем, что слова пророка из первых уст, без искажений, достигают их слуха, и не желали большего. Может, что-то не так во мне, и моё восприятие ущербно? Но однажды я осторожно поделился некоторыми мыслями с Андреасом, с которым мы близко сошлись; к удивлению, оказалось, что и он уже некоторое время как снедаем смутными сомнениями, которыми он в свою очередь делится с Йехудой. Так, втроём, мы составили костяк оппозиции — вначале тайной, тихой и робкой, пугавшейся собственных мыслей, таящейся за саму себя, но с каждым днем всё больше набиравшей силу, обраставшей плотью, обретавшей голос. Голос этот был в основном мой: дискуссии с Йохананом затевал именно я, а Андреас и Йехуда предпочитали закулисное обсуждение, тушуясь перед авторитетом учителя. Но эти споры чем дальше, тем всё больше привлекали других. Вокруг нас с Ха-Матбилем в такие моменты собирались слушатели и, не прерывая, внимали нам.
Что двигало мной? Что заставляло простого послушника, прибывшего из захолустной провинции ко двору знаменитейшего законоучителя, поднимать свой голос, раз за разом вовлекая того в острые дискуссии? Почему я не довольствовался такой простой ролью «чуткого уха», по примеру других? Наверное, не последнюю роль в этом сыграли и мои амбиции: в глубине души, чуть ли не боясь себе признаться, я чувствовал себя ничуть не менее достойным божественного откровения. В какой-то момент, замирая от собственной смелости, я сказал себе, что мой разум, моя мысль и моё слово, возможно, не менее самоценно, чем слово учителя; что авторитет Ха-Матбиля или кого бы то ни было не может стать препятствием для вдумчивого осмысления услышанного и прочитанного; что не тот достоин уважения, кто поёт с чужого голоса, пусть даже божественно, а кто сам, ошибаясь и совершенствуясь, шлифует свою сольную партию. Я понял, что хочу такой истины, в которой мне не придётся идти на скользкие компромиссы с совестью. Тщеславие, скажете вы? Да, пожалуй, и оно тоже. Юношеский максимализм? Неумение или нежелание искать лёгкий путь? Не спорю. Errare humanum est, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
О чём же мы спорили? В основном о Писании, конечно же: о его толковании и о понимании жизни, которое следовало из оного толкования. Вот, в качестве примера, один из первых наших диалогов — о сыновнем долге. Уже не помню, что послужило толчком, но это был чуть ли не самый первый мой диспут с Ха-Матбилем — так сказать, проба пера.
— Скажи, учитель, — это я обращаюсь к Йоханану, — ведь даны Господом нашим на горе Синай заповеди для народа Исраэля, и в числе их завет: «Чти отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которую Ашем даёт тебе». Есть ли случаи, когда можно отступить от этой заповеди?
— Как может человек со своим куцым умишком отступить от закона Божьего, данного праотцам нашим самим Ашемом? Проклят он будет, и проклято будет потомство его, и за вину отцов карать его будет Господь до третьего и четвёртого колена, как сказано в тех же заповедях.
— Не в том ещё мой вопрос заключался, учитель. Это лишь предвопрос, а вопрос мой следующий. Когда Ицхак состарился и глаза его ослабли, то призвал он своего старшего сына Эйсава, чтобы благословить его, а Яаков по наущению своей матери Ривки обманул его. Он отнял хитростью благословение у брата своего, обманул отца, которого был обязан почитать, и тем опозорил себя. Почему же Господь не наказал его, не осудил и даже слова поперёк не сказал, а напротив, благословил его со всем потомством? Как оценишь ты поведение Яакова, чем оправдаешь и как объяснишь отношение Господа?
Лицо Йоханана потемнело. Подножка, которая таилась в моем вопросе, заставляла его противоречить даже не мне, а самому себе, своему прежнему постулату. Он не спешил с ответом, а какое-то время сверлил меня своим тяжёлым, в добрый талант, взглядом, словно впервые увидел. Наконец произнёс внушительно и раздельно, и каждое его слово, казалось, тоже весило не меньше десятка мин:
— Господь не нуждается ни в оправданиях моих, ни в объяснениях. Он — высшая власть, мы же лишь рабы и черви у его трона. Это предответ, Йехошуа; ответ же мой следующий. Ты забыл, что раньше этого Эйсав сам продал Яакову право первородства за чечевичную похлёбку? Стало быть, и благословение должно было перейти к нему как к обладателю этого права.
— Учитель, как же так? Ведь если брат мой пришёл домой и попросил еды, так как он устал и голоден, а я ему не дам поесть, пока он не отдаст мне права первородства, то кто будет виноват и на ком будет грех? Тогда можно и у пьяного или больного отнять первородство, имущество, благословение — да что угодно, и всё это за хлеб насущный, за жалкую миску похлёбки! Разве это дело, достойное брата? Да что брата! Разве оно достойно честного человека? Разве отнимающий у ближнего своего даже малую толику в нужде его не повинен в грехе куда большем, чем тот, кто, не осознавая ценности, разбрасывается своим добром?
— Яаков не согрешил, ибо не нарушил послушания Господу, и завет тот заключил именно с ним и потомством его. Уже одно то, что Всевышний не обвинил его, свидетельствует, что Яаков невиновен перед ним. А невинный перед Господом не может быть виновен ни перед людьми, ни перед отцом, ни перед братом!
— Так значит, можно нарушить заповедь, данную Господом нашим? Можно обмануть отца и брата или совершить другое подлое деяние, и если не постигнет тебя за это кара, значит, нет на тебе вины? И Господь не просто простит нас, но даже не увидит греха, как это было с Яаковом? Значит, единственное мерило правильности деяния — это отношение к нему Господа нашего, даже если это деяние противоречит заповедям, данным им самим?
— Йехошуа, странны мысли твои, и кривыми улочками блуждает твой разум вместо прямого пути истины.
— Учитель, я просто продолжил твою же мысль, что если действие не подверглось осуждению Господнему, то оно не может быть грехом. И бессмысленно ссылаться на заповеди, так как воля Господа выше его собственных законов.
— Господу решать, какое деяние считать грехом, а какое прощать, кого карать, кого миловать, а кого и награждать! Он сам — Закон! Ни тебе, ни кому другому из смертных не постичь деяний и целей Господних!
— Как же нам, простым людям, понять, какими путями и какими деяниями заслужить благословение Господне и избежать его карающей длани? Нам, смертным, это недостижимо, как ты утверждаешь. Так чем же руководствоваться, если даже заповедям Господним не во всех случаях можно верить, ибо у Господа могут быть другие планы, о которых он нас не посчитал нужным поставить в известность?
— Слово Господне звучит в устах праведников и пророков! Не меряй свои либо ещё чьи деяния с деяниями патриархов и не сопоставляй мысли Господа нашего с мыслями своими. Не измерить человеческой меркой замыслов Господних, как не исчерпать пригоршней Ям-Амелах!
Слова Йоханана звучат всё громче; всё явственнее гнев слышится в его речах, и я умолкаю. Но в уме я всё ещё продолжаю дискуссию. Ну не убеждает меня то, что я слышу. Не вижу в словах Йоханана истины, не ощущаю за ними эха Господня.
Вечером мы с Андреасом и Йехудой уединились под старым дубом, что склонился над небольшим отрогом, довольно круто спускавшимся к берегу. Я и Йехуда устроились на узловатых корневищах, обнажившихся из-под осыпавшейся земли, в то время как Андреас свесил худые ноги с толстой горизонтальной ветви напротив, придавив её своим весом почти до самой земли. С некоторых пор у нас появилась традиция обсуждать здесь переговоренное за день, и у каждого было своё излюбленное место.
— Что-то учитель наш сегодня рассердился не на шутку, — скучающим голосом начал Йехуда, бросив на нас хитрый взгляд из-под картинно полузакрытых век. — Ты бы, Йехошуа, чем изводить его своими въедливыми вопросами, сварганил бы нам скамью. Ты же плотник, тебе это — раз плюнуть, а то сидим, как птицы на насесте. Андреас, того и гляди, навернётся на голову, а он не неё и так слабоват.
— А я соглашусь с Йехошуа, — беззлобно улыбнулся Андреас, не обращая внимания на привычные подколки Йехуды. — То, что сделал Яаков — это бесчестный поступок. Он оскорбил своего брата, отца, а значит, и Господа.
— Ну, подумай сам, Андреас — как он может оскорбить Господа, — возразил Йехуда, — если дальше говорится, что Господь благословил Яакова и всё потомство его? Значит, если кто и был оскорблён, то это точно не Господь.
— А вот теперь не соглашусь уже я, Йехуда, — ответил я за Андреаса. — Господь — это совершенство, и все дела его безупречны. Однако мы видим поступок, который оцениваем как неблаговидный, даже подлый, и далее нам говорят, что поступок одобрен Господом и потому он оправдан. Из этого следует одно из двух. Или у нас Господь, избирательно благословляющий подлые поступки, пристрастный и далёкий от справедливости, если дело касается его любимцев. Или совершение подлых дел вовсе не является преступлением — ни в глазах Господа, ни в глазах людей, — тогда заповеди Господни превращаются в фарс, бессмысленную беллетристику.
— И что ты выберешь для себя, Йехошуа? Какое объяснение тебе ближе? — спросил Йехуда, опять полуприкрыв веки с наигранно утомлённым видом.
— Есть ещё один вариант, кроме тех, что я озвучил. Возможно также, что Господь и не благословлял Яакова, но нас ввели в заблуждение.
— То есть как в заблуждение? — Йехуда даже открыл глаза, забыв свою роль скучающего сибарита. — Ты же знаешь, что так написано в Торе!
— А я и не оспариваю, что так написано в Торе, — ответил я. — Я лишь сомневаюсь, что в этом эпизоде Тора не искажена и не исключаю, что истинная Тора, истинное слово Божье, должна звучать по-другому.
От неожиданности Андреас даже потерял равновесие на своем зыбком насесте и вынужден был спрыгнуть на пологий склон, едва удержавшись. Ветвь, отряхиваясь от его веса, закачалась у него за спиной.
— То есть как — сомневаешься?
— Видишь ли, Андреас, у меня за мою жизнь сформировалось некое понимание степени добра и меры зла в происходящем. Оно может быть ошибочным, незрелым, может изменяться и трансформироваться со временем — но оно есть, и от этого факта никуда не деться. И когда я оцениваю то или иное деяние, то исхожу именно из этого своего понимания, а не из того, кем совершён поступок или кто его одобрил. Чтобы признать, что подлое деяние было благословлено Господом, я должен допустить, что Господь и сам несовершенен, если не сказать более. Эта мысль для меня ещё более абсурдна, чем допущение, что Тора, приписывающая Богу несвойственные ему деяния, в чём-то ошибается. А что выберешь ты для себя? Несправедливого Бога или искажённую Тору?
— Иногда ты говоришь такие кощунственные вещи, Йехошуа, что я едва удерживаюсь от того чтобы не донести на тебя в Санхедрин за богохульство, — серьёзно смотря на меня, сказал Йехуда. — Ты сомневаешься в слове Господнем, озвученном в Торе?
— А в Господнем ли? Слово написано человеком, а человеку свойственно ошибаться, как говорит римский мудрец Сенека.
— Кто-кто?
— Луциус Сенека. Его любил цитировать мой мицраимский наставник Саба-Давид.
— Но ведь и ты человек, Йехошуа, — возразил мне Андреас. — И тебе также свойственно ошибаться! А что, если ты неправ в своих выводах?
— Я этого не исключаю, Андреас. Кто знает, что есть истина?
Андреас с Йехудой молчали, слегка напуганные моими словами. Я их понимал, так как и сам не вдруг нашёл силы переступить через веками вдалбливаемые в поколения предков аксиомы, а главное — рискнул назвать вещи своими именами. Первый шок, страх птенца, впервые вылетевшего из спасительного гнезда, у них пройдёт — я знал по себе, и они ещё могут обрести свободу мысли. А как она необходима — как воздух — тем единицам, которым посчастливилось достичь или хотя бы коснуться её!
Были и другие дискуссии, и помаленьку я набирался смелости всё острее возражать Ха-Матбилю, всё дальше заходить в своих публичных рассуждениях. Вот ещё один эпизод:
— Учитель, позволь спросить: когда Моше просил Паро позволить вывести народ Исраэля из земли Эрец-Мицраим в землю обетованную, хотел ли того же Господь наш?
— Конечно, хотел! Странный вопрос, Йехошуа. Разве ты не знаешь, что Господь сам направил Моше и Ахарона к своему народу, чтобы спасти его из рабства Мицраима? И были чудеса и знамения сотворены руками Моше, дабы понял Исраэль, как любит Господь народ свой и как наказывает врагов его!
— Так значит, Господь спешил спасти народ Исраэля из-под гнёта. Тогда почему же он каждый раз укреплял сердце Паро, чтобы тот не выпускал народа в землю обетованную? Ведь он мог как укрепить его сердце, так и смягчить, и тем спас бы Мицраим от многих напастей!
— Какое нам дело до Мицраима? Господь укрепил сердце Паро, дабы смог он руками Моше умножить свои чудеса и знамения над землей Мицраима, чтобы постигли все мощь и славу Адонай! Мицраим согрешил многократно и заслужил свою участь.
— Но ведь Адонай — создатель всего живого и всех людей! Он — отец и пастырь и Исраэля, и Мицраима. Так неужто наказания, ниспосланные на Мицраим, умножат его славу? Какую славу он умножил, какое чувство к себе вызвал? Страх и ужас по земле Паро и казни мицраимские — вот чего он добился! Разве страха ждёт Господь от детей своих, а не любви и почитания?
— Кто ты такой, Йехошуа, чтобы мерить справедливость и целесообразность деяний Творца своей меркой? Как дерзнул ты человеческим разумением пытаться понять Господни мысли? Исраэль — избранный народ. Не надо ставить его на одну плоскость с язычниками Мицраима — гонителями народа Божьего, достойными всяческих бед.
— Я лишь пытаюсь найти Господа нашего в деяниях его, и отделить дела Божьи от дел человечьих. Скажи мне ещё, учитель: последняя казнь Мицраима, что наслал Господь — когда умер всякий первенец, от первенца Паро и до первенца рабыни, что сидит за жерновами, и от всего скота — как, чем оправдать это злодеяние? Ведь убиты были невинные дети за грехи отцов их, а грехи эти в том и были, что Паро не выпускал Исраэль из страны своей. Не выпускал же он их потому, что сам Адонай укрепил ему сердце. Получается, что грех Паро на совести Господа, а наказал он за него весь народ Мицраима?
— Кощунственны твои слова, Ха-Ноцри! — загремел голос Йоханана, и глаза его сверкнули из-под кустистых бровей. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что я уже переполнил чашу его терпения. Йоханан выпрямился во весь рост и даже поднял над собой мосластые руки, потрясая ими в возмущении. Его фигура нависла надо мной почти угрожающе. — Человек — это червь, раб Божий, и единственное предназначение его — служить Господу. А ты своё рабское слово смеешь ставить против божественного и судить дела его? Покайся, несчастный, пока не настигла тебя кара Господня! Не истины ты ищешь, а одержим Ха-Сатаном в речах и мыслях!
Я вновь умолкаю, не продолжая спор; но внутри меня всё восстаёт против услышанного. Опять доводы сводятся к одному: любой поступок, любое событие оценивается не с точки зрения добра или зла, а с точки зрения угодности Богу. Но может ли быть угодным Господу то, что мне кажется злым и недостойным? Что, если Господу приписывается деяние, которое является просто чудовищным — как избиение первенцев в Мицраиме? И для чего? Для какой высшей цели это было сделано? Чтобы спасти Исраэль? Нет. Этого Адонай мог добиться много проще, смягчив сердце Паро; но он сделал ровно наоборот. Так зачем, для чего? Ответ есть — он звучит и в Торе, и его же приводит Йоханан. Чтобы умножить славу свою в глазах Исраэля и устрашить врагов его! Получается, Господь добивался страха и ужаса от созданий своих, чтобы потешить своё самолюбие? Чтобы одни уверовали в него при виде тех чудовищных злодеяний, которые ему по силам, а другие были бы уничтожены? И это Господь наш?
Нет! Не навязывайте мне такого Господа! Иначе не Ашемом бы он звался, а Ха-Сатаном. Не может такой Отец Небесный внушать любовь, обожание и почитание к себе. Не Божьи то дела, а людские, которые именем святым прикрывают свои грехи. Не принимаем ли мы веками за свет истины лишь его отражение в грязной луже?
*****
Этим вечером к нашей троице присоединился неожиданный собеседник. Первым его заметил Андреас, в замешательстве спрыгнувший со своей ветки. Проследив за его взглядом, мы с Йехудой обернулись и удивлённо поднялись на ноги, приветствуя гостя. Йоханан сел между мной и Йехудой, прислонился к стволу и спокойно, достав свои любимые чётки, начал их перебирать привычным движением.
— Не помешаю, братья? — начал он, с улыбкой наблюдая наше замешательство.
— Нет, учитель, мы всегда тебе рады, — первым нашёлся я, в то время как Андреас и Йехуда выглядели так, будто их застали за какой-то шалостью.
— Я уже давно заметил, что вы тут уединяетесь и секретничаете. Дай, думаю, присоединюсь — может, чего полезного для себя услышу, — дружелюбно продолжал Ха-Матбиль.
Его негромкий голос успокоил нас. Йоханан же обратился ко мне:
— Йехошуа, ты прости, что накричал на тебя давеча. Человек я горячий, могу и вспылить; но отходчив, зла не держу, тем более на своих братьев. Надеюсь, и ты не затаил на меня обиду?
— Да я и не думал обижаться, учитель, — улыбнулся я в ответ. — Я ведь тоже погорячился малость. Если что не так, ты уж извини меня тоже.
— Ладно, по рукам, — протянул мне ладонь Йоханан. — Договоримся, что впредь, как бы в спорах не горячились, не ожесточали бы сердец и оставались бы добрыми друзьями.
Я с облегчением пожал ему руку, а с души у меня словно камень упал. Последнее время я боялся, что мои эскапады и словесные дуэли не по душе учителю.
— Ну, раз уж с этим всё понятно, давай продолжим наш спор в более спокойной тональности, — продолжил Йоханан, — как смотришь? Раз уж вы так и так собрались, чтобы перемыть всем косточки. Ведь так?
— Пожалуй, что так, — улыбнулся я. — Не скрою, учитель, что твои слова не убедили меня. Казни мицраимские не укладываются в моё понимание Бога.
— Вон ты куда копнул, Йехошуа — в твоё понимание Бога! Тогда вот что я отвечу тебе. Если твоё понимание Бога противоречит тому, что преподносится нам Танахом, то, скорее всего, в пересмотре нуждается именно твоё понимание, а никак не Танах.
— В том-то всё и дело, что Танах преподносит нам Господа двояко, местами противореча своим же строкам: иногда как доброго, любящего, великодушного, а порой как жестокого, нетерпимого, страшного. Этот Бог не внушает любви — он внушает страх. Я же вижу Господа милосердного, которого хочу полюбить за дела его. Но тогда придётся признать, что Танах в чём-то ошибается, выдавая чёрное за белое, а человеческим подменяя божественное.
— Однако! — Йоханан с удивлением повернулся ко мне, словно впервые увидел. — Ты говоришь очень смелые вещи, Йехошуа; слишком смелые, чтобы быть безопасными для тебя. Хорошо, что это слышат только твои друзья и я; но не произноси таких мыслей людям, которым ты не можешь довериться полностью.
— Так потому-то я и говорю это именно тебе, здесь и сейчас, учитель, чтобы услышать твоё мнение.
Йоханан помолчал немного, пожевав по-стариковски губами.
— Видишь ли, Йехошуа, я и сам когда-то был немало смущён некоторыми главами Торы. Но подумай вот о чём. Тора — это не просто святая книга народа Исраэля. Она формирует само понятие «иудейский мир», является хребтом избранного народа. Она помогла нам выжить в годы скитаний, позволила вновь обрести утерянную родину. К чему может привести твоё желание пересмотреть Тору, переписав и переделав её под себя и своё понимание? Ведь если ты допускаешь, что какая-то её часть искажена, то, значит, искажённым может быть и целое? А если каждый начнёт прогибать Тору под своё понимание? Народ лишится своей основы, фундамента, и рухнет всё строение, как рухнет дерево, лишённое корней. Сотни народов растворились, так и не сумев сохранить себя, а мы живём наперекор всем бедам и врагам. Ты думаешь, благодаря чему? А я отвечу: именно Тора сохранила нас. Это одна сторона вопроса. И вот тебе другая, не менее важная. Человек слаб и несовершенен, и далеко не каждый наделён столь высоким пониманием добра и зла, чтобы ориентироваться в мире без помощи тех аксиом и заповедей, которые нам даны Торой. Люди видят прежде всего свою выгоду, а в погоне за ней они способны на самые ужасные, самые жестокие дела. И единственное, что позволяет сдержать их дикие инстинкты, сдержать зверя, спрятанного в каждом из нас — это страх. Страх перед неминуемым наказанием за дурные поступки, за совершённое зло. И этот страх зиждется на Торе: на осознании того, что она божественна, и обещанное воздаяние или наказание неумолимо. Я скажу более: неважно, насколько Тора искажена, насколько истинное понимание Господа далеко от него. Она необходима! И именно в своей богоданной и неизменной форме.
— Ты хочешь сказать, учитель, что Тора необходима для того, чтобы контролировать и управлять людьми? Что цель — удержание человека от дурных поступков, оправдывает средство — искажение представления о Господе? А не думаешь ли ты, что, преподнося злое и несправедливое дело как сотворённое по благословению Господню, Тора сама побуждает так же действовать и человека? И мир, основанный на ней, может породить чудовищ? Что ты скажешь, если эти чудовища будут ссылаться на святые тексты? Отвернёшься и скажешь, что Тора ни при чем, а всё это — лишь очередное искажение? Или наберёшься смелости признать, что искажён сам первоисточник?
— Ты хочешь взвалить ответственность за существование зла на земле на священные тексты? Зло всегда было и всегда будет. Не Тора породила его. Какая разница, чем зло будет прикрываться — священными ли текстами или неуёмной алчностью и природной жестокостью?
— Мне кажется, учитель, что если коза вскормит волчонка, то она будет ответственна за то, что подросший волк передушит всё стадо. Так и священные тексты ответственны за деяния, порождённые толкователями этих текстов, как бы мы ни пытались списать это на вечность зла под разными обличиями или искажение истинного смысла.
— Искажение? А почему ты решил, что твоё понимание не искажено? Ты видишь лишь малую толику картины мира, камушек в стене храма, а хочешь судить по увиденному обо всём строении. Лишь Господь, создавший храм, видит всё. И не нам, ничтожным пигмеям, дано понять величие замыслов Божьих и смысл его Книги. Быть может, именно ты ошибаешься, а Танах прав в каждой своей букве. А истина — лишь в правильном толковании Божьего слова.
— Не знаю, учитель. Может быть, и так. Я лишь не готов принять эти противоречия со спокойной душой.
Я, насупившись, замолчал, машинально наблюдая за тем, как ловко Йоханан перебирал свои чётки, перебрасывая их в руке. Заметив мой взгляд, он улыбнулся:
— Это подарок. Мне его преподнесли в Кумране — сам меваккер Цадок, глава общины, когда я был там послушником. Смотри, тут даже некоторые звенья выточены в форме магендавида. Ты, кстати, иногда чем-то мне напоминаешь ессея-кумранита, Йехошуа, — Йоханан встал, надев чётки двойной восьмёркой себе на ладонь, проведя малую петлю через большой палец и, прищурившись, посмотрел на темнеющий небосклон. — Поздно уже, братья, потом как-нибудь продолжим разговор, — с этими словами он отошёл, оставив нас одних.
— Я боялся, вы опять начнёте горячиться и разругаетесь вдрызг, — подождав, когда Йоханан достаточно удалится, тихонько сказал Андреас.
— Ага, а у тебя, небось, душа в пятки ушла, как увидел его, — съязвил Йехуда.
— А сам-то, сам-то! — парировал Андреас. — Видать, язык проглотил, как он подошёл!
— Да ладно вам ругаться-то, горячие головы, — улыбнулся я. — Нормально пообщались. Учитель у нас — что надо!
— А то! — с оттенком отеческой гордости резюмировал Йехуда.
С тех пор Йоханан нет-нет и присоединялся к нашей троице в вечерних посиделках; частенько после особенно горячих споров, которых впоследствии было ещё немало.
Глава V. Призвание
Эти двое были мелкими торговцами из Хеброна. Приехали по торговым делам в Бейт-Абару, остановившись на постой у местного габая, которому приходились неблизкой роднёй в мудрёном колене. Это я уж потом выяснил, а пока в моих глазах они были обычные залётные паломники — одни из многих. Соблюдая ритуал, искупались в Йардене, очистились и засобирались в обратный путь, да что-то замешкались. Один, который повыше, скукожился, привалившись к стволу на самой окраине лагеря, и постанывал, обняв щёку. Второй — уютный, румяный толстячок с лысиной тыквенного оттенка, потоптавшись вокруг него бестолково, вернулся к нам, где полюднее, и теперь растерянно перебегал глазками с одного лица на другое, словно не решаясь, к кому обратиться. Я облегчил ему задачу, обратившись сам:
— Шалом тебе, почтенный. Скажи, в чём причина страданий твоего спутника?
— И не спрашивай, уважаемый! Уже третий день мучается. Зуб у него разболелся — да так, что последнюю ночь он даже глаз не сомкнул, несчастный. И как назло, ни одного зубодёра в пути! Вот и здесь, в Бейт-Абаре, похоже, тоже не судьба. Конюх, дерущий зубы, появится не раньше чем через два дня, а пока придётся только Господу молиться да терпения набраться.
— Я могу помочь этому горю, не надо ждать конюха. Если твой приятель согласится, то я сейчас же и вырву ему зуб.
— Ты? Ой, помоги ему, добрый человек — жалко же, так мучается. Просто сил нет! — обрадовался мой собеседник, и, схватив меня за рукав пухлой кистью с миниатюрными, почти женскими пальцами, словно боялся, что я убегу, засеменил к бедолаге.
— Элиэзер, тебе повезло! Этот добрый человек взялся вырвать тебе зуб!
Страдалец скосил мутный взор, просеянный сквозь частокол пальцев в мою сторону. Головы не повернул. Показалось даже, что и не расслышал толком.
Попросил его открыть рот и показать мне источник боли, что тот и сделал, со стоном распахнув пасть. Кривые, пожелтевшие зубы в червоточинах и тяжёлый, затхлый дух — и почему я не удивлён? Болевший зуб ютился где-то в верхнеправом уезде, и десна на этой стороне заметно припухла. Раздумывать не о чем — надо удалять, не впервой. Инструменты, прощальный подарок Саба-Давида, я прихватил с собой, отправившись в путь из Нацрата (куда ж я без них?), и, порывшись в котомке, подобрал подходящие клещи. Затем свернул тряпку в толстый валик, чтобы не дать несчастному от страха и боли захлопнуть рот, и попросил толстяка и Андреаса держать страдальца. Перспектива получить пинок или оплеуху в самый ответственный момент меня не особенно прельщала.
Ну, дай мне Бог удачи! Рука-то у меня уверенная, да и опыт немалый, но большой перерыв в практике немного волновал: последний раз я зубодёрил месяцев пять тому как, ещё в Нацрате. Стараясь своим голосом внушить спокойствие, я обратился к страдальцу:
— Не бойся, это не страшно. Тебе уже вырывали зубы?
Несчастный, сложив брови домиком и сморщив лицо в трагическую маску, закивал. Похоже, эти воспоминания его не слишком вдохновляют.
Я уложил больного на плед, тюками под спину перевёл в полусидячее. Велел толстяку навалиться ему на грудь и крепко держать за руки, а Андреаса — зафиксировать голову, слегка повернув её вправо. Самому больному, от страха впавшему в ступор, велел широко открыть рот и ни в коем случае не закрывать без приказа; что он и сделал, бессмысленно закатив глаза. Расположившись рядом и подложив поближе миску воды для полоскания, в левый угол рта я загнал тряпичный валик, после чего осторожно простучал по ряду верхних зубов, пока Элиэзер не откликнулся глухим рыком. Шестой от середины, как я и думал. Небольшая червоточинка чернела где-то на щербатом хребте и шла глубоко в недра. К счастью, зуб не настолько сгнил, чтобы раскрошиться у меня под инструментом.
Мысленно попросив Ашема помочь мне, я наложил на зуб клещи. Толстяк при виде этого побледнел, зажмурился и, не удовлетворившись этим, отвернулся. Подумалось — была бы у него ещё пара рук про запас, он бы и уши себе заткнул. Андреас же, напротив, во все глаза уставился на мои руки.
Старательно наложив на больной зуб щёчки инструмента, я ухватился обеими руками за рукоять и осторожно, без резких движений, но с ощутимой силой, качнул зуб немного вниз, потом вверх. Ага, уже рычишь, дорогой; ну ещё чуток потерпи. Тут не столько боль, сколько страх, но без этого уже никуда. Боль была неизбежна, и только скорость и чёткость моих движений могла принести ему облегчение. Ну, ещё чуток! Раздался мягкий хруст разрываемой связки у корня зуба, и он, к моей радости, заелозил в своем ложе. Я, положив левую на лоб страдальца, правой осторожно, но уверенно вытянул зуб со всеми тремя корнями, не сломав ни единого. Сдерживая ликование, готовое прорваться победным криком, я толкнул локтем толстяка, который все ещё лежал, навалившись всем своим мягким телом на страдальца, отвернув голову.
— Усадите его!
Толстяк, похоже, даже не услышал. Но Андреас, жадно следивший за каждым моим движением, понял, что всё закончилось; и, преодолевая тяжесть и пациента, и толстого ассистента, усадил беднягу. Я поднёс страдальцу миску к губам:
— Сполосни рот! И открой уже глаза, что ли.
Бедняга торопливо хлебнул воды и, подчиняясь приказу, начал старательно надувать щёки, звучно перегоняя глоток слева направо. Постепенно осмысленное выражение проступало сквозь искажённые страданием черты, и он как на какое-то чудо уставился на свой собственный зуб в моих руках, который всё ещё был зажат клещами. А рот-то всё полощет и полощет. Сплюнуть хоть догадается? Или отдельно приказать? Фу, догадался, слава Богу!
Казалось, Элиэзер не верил, что такое ничтожество, как этот крошечный костный прыщ, мог мучать его с такой силой, и что вот так, играючи, за какую-то минуту, я избавил его от многодневной пытки. Тем временем Андреас и толстячок развязали путы, и через мгновение рёбра мои захрустели в медвежьих объятиях.
— Волшебник! Барух! Как ты смог так быстро его вырвать? — возбуждённо частил он, шепелявя, и его радость передавалась мне по каким-то невидимым волнам.
Я всегда любил эти минуты. Видеть благодарные глаза того, кто ещё недавно страдал, а теперь излечился благодаря твоим усилиям, слышать его похвалу — что может сравниться с таким чудом? К этому добавлялась щепотка гордости за своё умение. Ведь как же ювелирно мне удалось проделать непростую манипуляцию, не посрамив Саба-Давида!
*****
Слух о чудесном исцелении Элиэзера быстро распространился, словно круги по воде. Андреас рассказал братьям (не исключено, что и приукрасив малость), а торговцы расхвалили меня на всю Бейт-Абару. И вскоре я почувствовал силу людских слухов, лавиной покатившихся со склона. Прошло не так много времени, а я уже оказался придавлен их тяжестью. Ко мне потянулся народ из близлежащих селений со своими болячками, и с каждым новым исцелённым слухи о моем умении получали новую пищу. Я и сам удивлялся, когда тот или иной больной или просто путник, разговорившись, пересказывал мне россказни обо мне же, дошедшие до его слуха. Поистине, если бы я умел хоть пятую часть из того, что мне приписывала народная молва, то слава моя затмила бы Асклепиоса. Сначала это меня лишь удивляло и забавляло. Позднее даже появилось смутное раздражение, когда я слышал очередную небылицу. Эти байки словно обязывали меня к чему-то, устанавливали планку, которую мне приходилось каждый раз преодолевать, и не скажу, что я так уж был счастлив столь щедро расточаемым авансам. Я-то лучше любого знал, что мне действительно по зубам, а что выше моих сил, и боялся, что рано или поздно ошибусь или просто не оправдаю возложенных надежд и упаду с вершины, куда меня незаслуженно вознесли.
В последующие дни, словно отголоском отвечая на народную молву, изменилось и отношение ко мне Андреаса и Йехуды. Начал проявляться и день ото дня все более укреплялся какой-то их особый пиетет ко мне, замеченный ещё в самом начале наших вечерних посиделок, но особенно усилившийся после того, как я начал лечить. Они добровольно признали моё превосходство и вознесли на некий пьедестал наставника — авторитета, которого они слушали едва ли с меньшим вниманием, чем Ха-Матбиля, но с которым не чурались свободно спорить и дискутировать. Йоханана они только слушали, редко позволяя себе вопросы или реплики, но со мной они говорили спокойно. Накопленные за день и не высказанные мысли лились рекой; и я сам, избегающий слишком давить на Йоханана, опасаясь перегнуть палку, тоже был рад возможности излить себя.
Не то с Йохананом. В наших отношениях всё больше нарастало напряжение. Оно просто звенело в воздухе, когда мы начинали обсуждать очередной поднятый мною вопрос, и это, я видел, порой выводило Ха-Матбиля из равновесия, как он ни пытался скрыть. Он не привык, чтобы к его словам относились критически, не воспринимал обсуждение и даже не предполагал его. Слово, произнесённое им, не заключало в себе приглашения к дискуссии. Оно было самодостаточно, исключало обмен мнениями, само по себе было итогом, подводящим черту, и всеми братьями это именно так и воспринималось. Кроме меня.
Всё чаще я развивал свою мысль, которая звучала в пику йоханановой, всё реже останавливал себя, всё глубже заходил в своей аргументации. И это новое для Йоханана ощущение некоего противостояния, бесконечной дуэли, напрягало его, создавая опасный прецедент крамолы. Его авторитет ставился под сомнение, а бурные, гремящие речи, несущиеся всепобеждающим потоком, вдруг разбивались о встречные, порой не менее весомые аргументы.
*****
Месяца через три после моего дебюта в общине в качестве рофэ весь наш лагерь был охвачен небывалым волнением. Со стороны могло показаться, что планируется что-то глобальное, сравнимое разве что с исходом Исраэля из Мицраима. Но масштабы ожидаемого никак не соответствовали степени царящей суеты. Всё объяснялось проще: в прибрежных зарослях вокруг лагеря завелись змеи, и Йоханан, от греха подальше, решил перенести стоянку с западного берега Йардена на восточный, в Гильад, или Перею, как её называли греки.
Был йом-шиши, и мы старались закончить с переездом засветло, не нарушая шабата. В лагере царила бестолковая суета — неизбежная, даже если планируется перекочевать всего на десяток стадий. Весёлые и взбудораженные всей этой кутерьмой, братья помоложе собирали пожитки. Старожилы же, у которых за плечами был не один подобный переезд, со спокойствием и невозмутимостью сфинксов раздавали ценные указания, которые должны были продемонстрировать всем их огромный опыт в подобных делах; однако мало кто из них спешил подкрепить их действиями.
Наконец всё позади. Мы перешли мост и расположились всего в получасе пешего ходу от нашей прежней стоянки, на вытянутой вдоль реки поляне в тени деревьев. И уже здесь, на новом месте, братья разбрелись окрест, облюбовав себе приглянувшиеся уголки. Я предпочёл устроиться поближе к воде, так как бессонница была у меня частым гостем, и я любил провожать закаты и встречать восходы на берегу. Не хотелось будить собратьев, возвращаясь среди ночи и укладываясь спать. Андреас и Йехуда расположились поблизости, ибо зачастую они составляли мне компанию в этих ночных бдениях.
Пока мы занимались обустройством нашего нового пристанища, из-за деревьев показались и приблизились к нам две разнокалиберных фигуры. Одна из них, подолговязее, показалась мне смутно знакомой. Ну конечно! Элиэзер — мой давнишний пациент, первенец, так сказать, неузнаваемо изменившийся, улыбающийся и немного запыхавшийся. Его спутник был мне незнаком: какой-то представительный пожилой бородач. Миновав наших собратьев сложным зигзагом, стараясь не перешагивать через разложенные вещи (дурная примета), они направились прямо ко мне.
— Мы ищем вас с самого утра! — воскликнул Элиэзер и обратился к своему спутнику. — Вот он, Эзра: вот тот самый человек, который избавил меня тогда от страданий за какую-то минуту, да будут благословенны его руки! Он достоин всяческих наград; я рекомендую тебе его, — и, обращаясь ко мне, добавил: — Поприветствуй габая Бейт-Абары — почтенного Эзру, Йехошуа. Он лично хотел увидеть тебя и поблагодарить за благодеяние, оказанное его другу.
Я скользнул по габаю взглядом, успев отметить, что внешность его сразу располагала к себе собеседника. В глазах искрился острый ум, а доброжелательная улыбка, прячущаяся в густой, едва тронутой сединой бороде, смягчала дородную степенность облика. Голову защищала от солнца белая куфия с витиеватым чёрным орнаментом. За левым ухом, спускаясь на шею, багровело крупное родимое пятно с фестончатыми краями.
— Воистину тебя возлюбил Господь, что наградил столь благословенным, чудесным талантом! — обратился ко мне габай густым тенором с богатыми модуляциями.
— Благодарю тебя, почтенный Эзра, за добрые слова. Только чуда здесь нет — всего лишь лёгкая рука и не более. Позволь узнать, Элиэзер, как твой зуб? Не беспокоил с тех пор?
Элиэзер, счастливо улыбаясь, широко раскрыл рот, продемонстрировав миру свои кривые, пожелтевшие зубы и щербинку на месте вырванного мучителя, чтобы все могли оценить воочию чудо его исцеления.
— Всё прекрасно, Йехошуа, брат мой, всё просто прекрасно! И в знак благодарности за моё избавление прими этот скромный дар, — и он протянул мне сочно звякнувший мешочек.
Я, учтиво склонив голову, взял его, слегка удивившись столь запоздалому презенту. Хотя мне-то какая разница — когда? Не за этот мешочек я трудился, но и принять благодарность за хорошую работу зазорным не считал, тем более что у нас всё шло в общинную казну, которая была в ведении Йехуды Иш-Крайота.
— Почтенный Йехошуа, — обратился ко мне Эзра, — мы искали тебя не только ради слов благодарности, которых ты, несомненно, достоин, но и по делу. Мой конюх — тот самый, что тогда должен был лечить зуб Элиэзеру, вчера упал и повредил руку. Боюсь, у нас в Бейт-Абаре никто так хорошо не разбирается в лечении подобных недугов; а будет жаль, если он останется калекой. Он хоть и грубиян, каких мало, но толковый в своем деле — и коваль, и зубодёр к тому же. Не согласишься ли ты осмотреть его? Мы бы проводили тебя, если ты не занят, конечно. А сегодня вечером ты мой гость, почтеннейший Йехошуа.
Когда меня зовут к больному, то отказываться не в моих правилах. И потому, взяв свой узелок с инструментами, я отправился за моими спутниками.
Бейт-Абара — небольшой городок, раскинувшийся на гильадском берегу Йардена, со смешанным иудейско-идумейским населением, небольшим набатейским кварталом и лепящимися по окраинам нищими лачугами. Стена, окаймлявшая его когда-то по периметру, была практически сведена на нет: что-то разрушило время, что-то разобрали местные жители на свои нужды. В центре, на небольшой площади, стоял каменный колодец под сенью олив и шелковиц — место посиделок местных стариков, ведущих бесконечные разговоры. Но там мы не задержались, сразу свернув вправо, в одну из боковых улочек — узких, как канава; и пересекли наискось всё селение. Габай жил на южной окраине, за пределами собственно посёлка, в довольно зажиточном поместье с несколькими пристройками.
— Элиэзер, друг мой, попроси Сару накрывать на стол, пока вернёмся, — обратился габай к своему другу и повернулся ко мне: — А мы пока пойдём прямо к больному.
Мы с Эзрой свернули в небольшую пристройку, в которой по характерному амбре безошибочно можно было угадать конюшню. Пройдя по коридору, по правую руку которого в денниках стояли несколько лошадей, провожавших нас печальными взглядами своих выразительных, с поволокой, глаз, мы дошли до каморки конюха, где на груде сена, потников и каких-то тряпок лежал сам больной, угрюмо косящийся на нас исподлобья.
— Натан, я привёл тебе рофэ, — молвил Эзра и обратился ко мне: — Начинайте пока, а я пойду в дом и пришлю вам слугу. Если что-нибудь понадобится, отправь его ко мне, — сказав это, он направился к выходу.
Я повернулся к Натану, который, скособочившись, лежал на правом боку, держа левую руку на весу и явно щадя её.
— Расскажи, Натан, что случилось?
Передать речь Натана дословно у меня рука не поднимается. Он просто фонтанировал сквернословием, умудряясь при этом не отклоняться от сути вопроса. Я почти с восхищением слушал его перлы: всегда приятно наблюдать за работой мастера, а в этом он был, безусловно, виртуоз. Своеобразный эффект обратного эвфемизма, когда почти каждое слово заменяется матерным аналогом, выражающим ту же мысль, был доведён им до вершин искусства. Видимо, Натан не сильно впечатлился тем, что я пришёл в сопровождении хозяина; а может, его собственное умение выдирать зубы делало меня ровней ему, собратом по ремеслу, и он не счёл нужным менять свой привычный стиль общения. Но суть сказанного была проста: Натан упал с лошади на доски и повредил себе руку. Теперь требовалось разобраться, что с ней: перелом, растяжение, вывих, просто ушиб или весь букет.
— Хорошо, Натан, я понял; теперь посмотрим её. Давай попробуем снять с тебя рубашку, чтобы рассмотреть всё как следует.
— Да разве, так его и растак, я смогу снять рубашку? Мне и пошевелить-то рукой больно, а ты говоришь — рубашку снять!
Далее следовал длинный пассаж, живописующий сложные и предосудительные взаимоотношения между Натаном, рубашкой, создателем рубашки с вовлечением его ближайших родственников. Я только языком цокнул от восхищения, ибо моё воображение было куда беднее предложенной Натаном версии событий.
— Я помогу тебе, только дождёмся помощника, — успокоил я Натана.
Через пару минут появился и ассистент — чернявый, лупоглазый мальчишка лет двенадцати. Не Бог весть какая помощь, но для начала вполне достаточно. Вдвоём мы стянули с Натана рубашку, открыв худой и жилистый торс. Вид левой руки страдальца был весьма характерен: неестественная форма плеча, деформация сустава и западение под лопаткой — всё указывало на вывих. Ощупав руку, я не обнаружил других значимых болячек — похоже, обошлось без переломов.
Я напряг память, вспоминая советы Саба-Давида при вывихах, и по привычке обратился к Всевышнему с просьбой о помощи. Только бы не пропустить трещину или перелом, а то последствия могут быть ужасны! Я поморщился, вспомнив, как однажды в Александрии был свидетелем такой ошибки моего учителя, и как долго потом пришлось исправлять её.
Предупредив Натана, что будет больно, и предложив ему отвести душу, но не мешать мне, я взялся за дело. Уложив его на спину, я разулся, сел слева от страдальца и двумя руками взялся за его кисть. Под витиеватый фонтан сквернословия, которым конюх щедро орошал мои действия, я упёрся пяткой ему в подмышку, где нащупал сместившуюся головку плечевой кости, и со всей силы потянул руку на себя по оси. После нескольких рывков послышался лёгкий щелчок, который я уловил даже сквозь аккомпанемент натановых семиэтажных, и плечо встало на место.
Я послал мальчика за хозяином (хотелось похвастаться своей работой), а сам, накрутив валик из лежащих тряпок, подложил Натану под плечо, чтобы рука была несколько отведена в сторону, после чего тряпкой же примотал последнюю к туловищу, зафиксировав её в таком положении.
Вскоре появился сам хозяин, вопросительным взглядом скользнув по Натану, мне и замотанной руке.
— Всё нормально, почтенный Эзра, я вправил вывих. Её надо будет подержать в таком положении дней пятнадцать-двадцать и потом ещё месяц не нагружать сильно. После этого она будет как новенькая.
— Чтобы мне провалиться в лошадиное подхвостье, если этот малый не волшебник, так его и растак! — радостно осклабился Натан. — До чего он ловко мне вправил руку — я даже выругать его не успел по-человечески!
— Ещё успеешь, — также улыбнулся я.
— Попридержи язык, Натан, — пытаясь выглядеть строгим, насупился Эзра. — А ты, почтенный Йехошуа, действительно мастер своего дела. Элиэзер не напрасно пел тебе дифирамбы! Отужинай же с нами чем Бог послал и будь на сегодня моим гостем. Завтра утром вернёшься к своим собратьям.
— Благодарю тебя, почтенный габай. От приглашения к столу грех отказаться.
Мы пошли к дому, в то время как Натан, восхищённо цокая и поругиваясь вполголоса себе под нос, с интересом осматривал свою замотанную руку.
Трапеза показалась мне по-царски роскошной по сравнению с обычным лагерным меню. Во главе стола на богато вышитых подушках возлежал сам хозяин с младшим сынишкой одесную, меня же как почётного гостя он усадил слева от себя. Рядом со мной возлежал зять габая — зажиточный ремесленник из Киликийского Тарсоса по имени Биньямин, приехавший по торговым делам, а также его жена и сын, а габаю, соответственно, внук — юноша лет двадцати по имени Шауль. По другую сторону от нас, за габаевым сынишкой — пятилетним вертлявым пацанёнком (как оказалось, поздним и единственным мальчиком в длинной череде отпрысков Эзры), сидела жена габая — дородная матрона с властным, дебелым лицом, сохранившим отголоски былой красоты, а также Элиэзер — мой бывший пациент. Многочисленные дочери габая шустро подавали нам на стол и шумной стайкой щебетали по соседству.
Блюда дымились, как жерла вулканов, сквозь дым которых едва можно было угадать сидящих напротив сотрапезников, и лишь голоса позволяли определить авторство той или иной реплики. За столом не уставали нахваливать моё мастерство, в подтверждение которого Элиэзер в сотый раз разевал рот, демонстрируя всему окружению дырку от зуба, и вновь пересказывал в подробностях все свои мучения трёхмесячной давности, вспоминая новые детали.
— И вот он начинает болеть аж с самого Хеброна! Я ещё подумал, что зря так легкомысленно отправился в дорогу; но разве может какой-то зуб помешать делу?
— Да уж, Элиэзер — это ты, конечно, зря рисковал. Знали бы вы, как он меня напугал, когда появился на пороге моего дома с таким вот лицом!
— Подумать только! Маленький зуб, меньше ногтя! И делать-то ему нечего, кроме как жевать! Костяшка крохотная! А человека лишает покоя и сна, мучает не хуже неоплаченных налогов мытарю! — под общий смех добавил Элиэзер. — Хотя оплаченные порой мучают куда больше. А ведь это уже пятый зуб, который мне выдирали! Знали бы вы, как тяжело мне дались четыре предыдущих! Упаси меня Господь от таких мучений!
— Поистине, в руках Йехошуа благословение Господне! — подхватил Эзра. — Видели бы вы, как он быстро вправил руку моему конюху! Я даже не успел омыть ноги с дороги, как малец прибежал и сказал, что лекарь зовёт меня. Я ещё подумал: наверное, ему что-то понадобилось, придётся за чем-нибудь послать, что-то приготовить. Ан нет — оказалось, что всё уже закончилось.
— Слава Богу, что Гедеон уговорил меня тогда завернуть к Йоханану Ха-Матбилю, как только мы приехали в Бейт-Абару!
— Да уж, это он правильно придумал. Кстати, Йехошуа, друг мой, раз уж ты сегодня с нами, расскажи немного о Йоханане. О чём он говорит, что проповедует? Какие разговоры у вас ведутся в общине? Люди рассказывают разное — не знаешь, чему верить, а чему нет, — обратился ко мне Эзра.
Я замялся. Как здесь, за вечерней трапезой, среди застольных бесед, умудриться в немногих словах затронуть темы, что мы обсуждаем в общине — да так, чтобы это было к месту? Как передать слова и мысли Ха-Матбиля, но не его голосом — полным страсти, а своим — спокойным и негромким? Мысль Йоханана, которая в его устах сияет непреложной истиной, из моих уст будет лишь фальшивым бликом. Мне нужны свои слова, положенные на музыку своего голоса; и, в конце концов, свои же и мысли, выстраданные мною лично, чтобы слушатель поверил, проникся; а пока сказать мне было нечего. Я попытался было замять тему:
— Почтенный Эзра, этого не расскажешь в двух словах. Все, что я ни скажу о Йоханане, будет или слишком мало, или не совсем то.
Слова, как я ни пытался уронить их небрежно, с улыбкой, прозвучали несколько натянуто, словно я намеренно уходил от ответа — что, впрочем, соответствовало действительности. Мне почему-то не хотелось вдаваться в подробности наших диспутов с Йохананом, но Эзра не дал замять разговор и перевести его на другие темы:
— Расскажи же, прошу тебя, поподробнее. У меня нет времени посещать его проповеди, но мне и самому хочется приобщиться к его мудрости.
И мало-помалу, разгоняясь по ходу собственной речи, я начал рассказывать о проповедях, об общине и даже о моих с Йохананом противоречиях. И чем глубже я копал, тем свободнее лилась моя речь, словно мне удалось поймать за хвост вдохновение; и тем больший интерес пробуждался в глазах слушателей, блестевших за гастрономическим дымком, низко стелющимся по помещению. Особенно зацепило габаева внука — Шауля, набравшего до того полную миску еды, да так и забывшего про неё. Да и сам Эзра, взяв наевшегося сынишку себе на колени и любовно ероша ему курчавые волосы, всё продолжал и продолжал свои расспросы, заставляя в подробностях, почти дословно, вспоминать наши разговоры в общине.
Наконец женщины собрали со стола и пригласили меня в комнату неподалёку, в небольшой пристройке, где было постелено на мягком топчане. Я умиротворённо закрыл глаза, медленно погружаясь в волну незнакомых запахов этого помещения и усыпляющую мягкость постели.
Странная вещь — сон. Есть сны, которые запоминаешь навсегда; их образы уже не вытравишь, а иные могут отпечататься в памяти ярче, чем реальные события. След их настолько глубок, что люди даже свое будущее ставят в зависимость от них. Хотя, а не лукавлю ли я, говоря о том, что сны можно восстановить в памяти? Разве всю палитру красок и глубину полутонов, которыми пропитано сновидение, в состоянии воспроизвести наше убогое воображение после пробуждения? То, что получается — не более, чем плоский, двумерный силуэт, нищая реставрация, угловатые грани которой ничто по сравнению с богатством первозданных образов, всплывающих легко и плавно из глубин подсознания на протяжении сна. А бывает и так, что самого сна ты не помнишь, но остаётся какое-то послевкусие — фантомная память об увиденном, чего уже никак не восстановишь в памяти, но которое настроило тебя на свою волну.
Так и в этот раз. Я не помнил отчётливо, что же мне снилось: какой-то огромный костёр посреди пустыни и липкий страх от него волнами… Нет, не вспомню уже, но проснуться мне довелось со смутным ощущением тревоги, растущей оттуда, из этих странных предутренних образов. Где это я? Топчан, подушки… Ах да, я же в гостях у габая! Значит, всё нормально. Или… ан нет, что-то не так. Какая-то странность держала напряжение за ускользающие фалды, не давая ему улетучиться. И тут, с лёгким отставанием, до меня дошло, что именно: необычный звук. Сначала я принял его то ли за кудахтанье кур, то ли за далёкие голоса перекликающихся женщин. Несколько секунд отрешённо внимал ему, и вдруг ясно услышал причитания и плач. Неожиданность этого, а также безотчётный инстинкт идти туда, где случилась беда, заставили меня вскочить со своего ложа и поспешить наружу.
Во дворе я сразу был ослеплён солнцем, ярко залившим весь двор. Но сквозь прищур всё же успел заметить, как от дома влево метнулась чья-то тень, и последовал за нею. У дверей конюшни, где вчера лечил Натана, толпились люди — точнее, как мне сначала показалось, одни женщины. Некоторые из них голосили, заламывая руки, другие суетились над чем-то, чего мне ещё не было видно, прямо у распахнутых ворот. Я протиснулся поближе, бесцеремонно растолкав собравшихся.
На грязной охапке сена вперемешку с опилками, у самого входа, уже изрядно пропитав всё вокруг кровью, лежал мальчишка лет пяти, лицо которого казалось сплошной кровавой маской. Грязными кулачками он размазывал по лицу кровяные разводы, слабо отбиваясь от бестолковых рук склонившихся над ним людей, в одном из которых я узнал Натана. Мальчонка даже не кричал, а как-то навзрыд поскуливал, беспомощно толкая чью-то руку, прижимавшую ему рану на виске, из которой пульсировала кровь, стекая на грязную попону. Лишь Натан, действовавший единственной своей рукой, и ещё какой-то старик склонились над ним, пытаясь хоть что-то сделать; остальные только причитали и суетились.
Сколько раз я уже наблюдал такую вот ошарашенную толпу, которая или бездействовала, или бестолковой, а порой и вредной суетой только мешала! Им нужен человек, который возьмёт на себя смелость быть главным — спокойно и со знанием дела раздаст указания, твёрдой рукой совершит необходимые действия, и тогда его уверенность передастся толпе. За годы, прошедшие со времён моего ученичества у Саба-Давида, я привык брать эту роль на себя, подсознательно, до мелочей, копируя своего александрийского учителя — от интонации голоса и выражения лица до выверенных, ловких движений и скупых, ёмких оборотов. Иногда приходилось эту роль играть, так как далеко не всегда и не вдруг я понимал, с чем имею дело; но даже в этих случаях я излучал уверенность и спокойствие. В конечном итоге это помогало делу.
Так и теперь: я немедленно растолкал толпу и склонился над малышом. Отодвинув руку старика, который безуспешно пытался остановить кровь, я оценил рану. Ага, над левым ухом, полукруглой формы, а из нижнего лоскута толчками бьет тёплая, алая кровь. Похоже, полетел крупный сосуд. Сейчас остановим, не страшно. Правильно наложив на рану пальцы и прижав артерию, я повысил голос и приказал толпе замолчать, а говорить только тому, кто знает, что произошло. Испуганный Натан в наступившей тишине дрожащим голосом, даже забыв свой обычный стиль (может же шельма толково говорить!), в двух словах рассказал, что малыш пробрался в денник к диковатому коню-трехлётку, и тот его лягнул. Значит, это след копыта. Теперь главное, чтобы малыш не успел истечь кровью, ну и чтобы кость оказалась цела.
Я послал девушек приготовить и принести в комнату, где я ночевал, тёплой воды и множество чистых тряпок, а сам велел Натану и старику поднять попону с ребёнком, в то время как сам прижимал его рану, и нести туда же. Получив ясные и чёткие указания, женщины поспешили к дому, а мы перенесли малыша и уложили на топчане. Я показал старику, как правильно прижимать рану, чтобы она не кровила; а сам, наскоро сполоснув руки, бросился к своей котомке, внутренне возблагодарив Бога, что у меня с собой всё, что мне может понадобиться.
В комнату, кроме нас, вошло также несколько женщин постарше — из габаевой то ли родни, то ли прислуги, намереваясь, похоже, остаться и посмотреть; но это никак не совпадало с моими планами. Мне только публики не хватает, с их причитаниями и обмороками. Я их поспешил выставить за дверь. Тут прибежал сам Эзра — всклокоченный, заикающийся, с искажённым от страха лицом; но увидев, что я деловито занимаюсь его сынишкой, молча присел рядом. Надо бы и его выставить — он мне только мешать будет, но как-то язык не поворачивается попросить хозяина выйти вон. Слава Богу, он и сам, не выдержав, вышел на шатающихся, словно сдувшись в объёмах. Все эти перемещения происходили где-то за скобками; основное же внимание моё было поглощено малышом. Я приготовил иглу, ножницы, пинцет и суровую нитку и, смочив в теплой воде тряпку, промыл и очистил кожу вокруг раны от слипшихся волос и крови.
— Старик, давай-ка, держи ему голову — да так, чтобы не вырвался! Да смотри, рану не зацепи! Натан, ты держи руки мальчика. Одна рука, говоришь? Ну, так держи одной обе его руки — как раз и удержишь их в своей клешне. Третьего помощника тут и поставить некуда. Так что давайте, родимые, давайте!
Пока те, пыхтя и отдуваясь, устаканили свои позиции, поняв, что от них требуется, я ждал, крепко прижимая пальцами края раны. Сейчас главный мой враг — кровопотеря. Наконец всё готово, и я сделал быстрый вкол иглой у края раны. Малыш, который удивительно тихо вёл себя до сих пор, лишь поскуливая, тут уже огласил комнату громкими криками и попытался дёрнуться. Слава Богу, старик с Натаном держали его крепко, да и сам он уже так ослаб, что мне удалось быстро, невзирая на его громогласные протесты, дошить рану, особым швом крепко затянув кровивший сосуд. На крик малыша забежали почти все, кого я выставил. Но, увидев, что я спокойно и уверенно продолжаю работать, они по-одному вновь растворились за порогом.
Ну, кажись, всё! Сопоставление кожи в целом приемлемое, рана не кровит, пора бы и повязку сообразить. Её надо сделать максимально давящей, чтобы под кожным лоскутом не скопились сгустки. Я попросил старика смыть кровь с лица у малыша, а сам пока разодрал вдоль приготовленные женщинами тряпки, сделав длинные полоски. Попросив того же старика подержать под подбородком габаева наследника одну натянутую тряпку, остальными ловко намотал то, что Саба-Давид называл «шапочкой Гиппократа». Получилось вполне достойно, и я с удовлетворением подумал, что и тут не посрамил своего учителя ни на полпальца.
Наконец я отошёл от малыша, и домочадцы тут же окружили его с причитаниями и радостными возгласами. Я улыбнулся, впитывая всем телом эту атмосферу всеобщего ликования, соавтором которого, наряду с Творцом, был и я, хоть руки и подрагивали от напряжения. Люблю я всё же эти моменты! Кто знает — чего больше в этой жадности до людской благодарности: альтруизма или эгоизма? Как-нибудь, на досуге, подумаю над этим.
Малыша унесли в дом, а мы со стариком и Натаном пошли во двор, полить друг другу воды на руки. Через некоторое время габай, возбуждённо размахивая воздетыми кверху руками, заспешил к нам от дома, громогласно восхваляя меня:
— Сам Господь послал тебя, святой человек, ко мне в дом в этот день! Ведь ты мог уйти ещё вчера, и я бы потерял моего единственного сына! Воистину, Господь простёр свою руку над тобой и через тебя благословил мой дом!
— Ну-ну, почтенный Эзра — я лишь сделал то, чему обучался, и что сделал бы любой, кто это умеет, — заскромничал я, хоть похвалы мне грели душу.
— Нет, святой человек! Ведь ты помог моему сыну в шабат! Ты не побоялся навлечь на себя гнев Господень, нарушив Закон, дабы спасти мальчика! Да умножатся лета твои, и да перейдёт твой грех на мою голову, Йехошуа — целитель от Бога!
Шабат! А ведь верно. Вот оно как, Йехошуа: ты нынче согрешил, и согрешил крупно. Как я мог забыть про шабат? А, собственно, что бы изменилось, с другой стороны, помни я про него? Да практически ничего! Я сделал бы всё то же, не усомнившись ни на секунду. «Но ведь это же прямое нарушение заповедей Господних!» — воскликнул во мне чей-то чужой голос, хоть и до неприличия похожий на мой собственный. «И что? — отвечал я ему (себе же). — Какая чаша весов бы перевесила: буква закона или жизнь мальчишки?» Я вдруг смутился, запутавшись в противоречиях.
Эзра неверно прочёл замешательство на моём лице и, подумав, наверное, что я уже жалею о своем поступке, заторопился с объяснениями:
— Не беспокойся, Йехошуа, и не жалей о своем деянии. Этот твой грех да падёт на мою голову! Я возьму твой проступок на себя, и если будет угодно Господу наказать за него, то пусть его наказание коснётся только меня, недостойного!
— Почтенный Эзра, я верю, что Господь не пожелает наказывать за это деяние, ибо оно было во благо, а добрые дела не наказываются нашим Творцом. Он возрадуется, увидев, что спасена чья-то жизнь, тем более жизнь невинного ребёнка.
Ему ли я говорил, себя ли убеждал? Голос у меня был уверенный, но внутри грыз червяк сомнений: это противоречие требовало более глубокого осмысления.
Габай упросил меня остаться на трапезу, наверное желая, чтобы я какое-то время был под рукой, мало ли что. Но малыш спокойно спал, лёжа на белоснежных подушках и сам едва ли не сливаясь с ними своей бледностью.
После трапезы, договорившись, что завтра я вновь приду посмотреть рану малыша и заменить повязку, я, провожаемый хозяином до самых ворот, отправился в обратный путь. Сердечно простившись со мной в воротах, почтенный габай уверил меня, что я всегда желанный гость в его доме, и отправил со мной старика-слугу — того самого, который мне помогал, с корзиной, полной снеди для всей общины.
Старик оказался разговорчивым греком. Как его звали, правда, вылетело у меня из головы — то ли Филиппос, то ли Теофилос; имя прочно забылось, оставив оттиском в памяти лишь тему любви. Для него помогать мне в шабат грехом не являлось, и он тащил корзину, скрашивая дорогу непрерывной болтовней о габае, хозяйке, Натане, остальных домочадцах. Он был так словоохотлив, что не нуждался в собеседнике, успевая сам и ставить вопросы, и отвечать на них, да ещё и смеяться над собственными шутками. У меня же мысли были заняты совсем другим.
Я действительно нарушил одну из главных заповедей Божьих. Как там в Торе? «Помни день шабат, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякое дело твоё. А день седьмой — шабат — Господу Богу твоему: не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих». Да, я нарушил её, пусть даже не осознавая; но разве осознание поменяло бы что в моих действиях? Ответ был для меня очевиден. Так может, мы неверно толкуем эти строки? Ведь не может же Божья заповедь предписывать оставлять ребёнка без помощи, обрекая на смерть!
Может, мои действия не называются «делом», и требуется изыскать иное определение? Или, скажем, во фразе «святить его» скрыт другой смысл? А чем же тогда это называется? Мне, как какому-то крючкотвору, лицемерно искать лазейку в Законе? Недостойное занятие. Я как будто пытаюсь надуть то ли Бога, то ли самого себя. Уж не считаю ли я его — Творца всего сущего, которому видны все наши мысли и мотивы — за наивного глупца, которого можно обвести вокруг пальца тем, что, например, слова «во вратах» буду толковать как человека, стоящего буквально на пороге дверей?
Тут что-то иное. Опять, уже в который раз, я вижу кончик раздвоенного языка за, казалось бы, божественными строками; замечаю прямое противоречие между тем, что велит мне делать совесть и тем, что велит Господь, если следовать буквально написанному в Танахе. Да так ли это важно и значимо для Ашема, чтобы в этот день всё, что позволялось делать, это лишь святить его, Господа? И что вкладывается в это слово — «святить»? Можно ли святить Творца и в то же время позволить маленькому человечку умереть у всех на глазах? Мог ли милосердный Отец наш требовать от меня такого своего почитания?
Эти сомнения мучили меня всю дорогу до нашей стоянки. Наконец мы добрались до места, и я, попросив старика оставить корзину под навесом, где были сложены общие вещи (дежурных по лагерю в шабат не было), принялся искать Андреаса с Йехудой, с которыми мне хотелось поделиться моими приключениями. Я нашёл их ближе к берегу, где они сидели, любуясь неторопливым течением Йардена. Примостившись рядом, я рассказал им с юмором вчерашние и сегодняшние события, не касаясь тех сомнений, что переполняли меня на обратном пути, и мало-помалу сам за весёлым разговором отвлёкся от этих мыслей. Поболтав и посмеявшись, мы с Андреасом в хорошем расположении духа вернулись к остальным собратьям, оставив Йехуду на берегу, не подозревая, что нас уже ожидает гроза.
Глава VI. Что есть истина?
Как выяснилось позже, словоохотливый грек не только донёс корзинку, но и не упустил возможности в подробностях рассказать собратьям о моих подвигах, и слова эти достигли ушей Йоханана Ха-Матбиля.
Когда мы с Андреасом подошли к группе, собравшейся вокруг учителя, их разговор вдруг затих. Некоторые из братьев попытались спрятать глаза, другие — наоборот, уставились на меня в упор. Напряжение, повисшее в воздухе, безошибочно дало понять, что разговор шёл обо мне. Если и могли быть какие-то сомнения, то обжигающий взгляд Йоханана и его первые же слова отмели их:
— Йехошуа, брат мой! Что нам рассказал этот грек, что пришёл с тобой? — голос Йоханана ещё негромок, но в нём уже звенят нотки грядущего шторма, как в набухающей на горизонте туче ощущается скорый разгул стихий. — Он поведал нам, что ты сегодня лечил мальчишку. Не ошибся ли он — этот язычник, не возвёл ли на тебя напраслину?
Так вот откуда дует ветер! И словно забытая рана, которая вдруг от малейшего напряжения вновь наполняется болью, эти слова заставили меня чуть ли не физически ощутить оскомину на зубах.
— Я не слышал, что и как рассказал старик, — ответил я осторожно, — но если вы говорите о сегодняшнем дне, то дело было так.
Я вкратце рассказал о событиях утра, намеренно пропустив тему шабата, хоть и понимал, что она всё равно сейчас будет затронута. Пусть хоть не с моей подачи. Я ещё не был настолько подкован в острых дебатах, чтобы оседлать тактику нападения, которая, как известно, есть лучшая защита.
Тем не менее, мой рассказ тронул слушателей. Я видел по глазам, что многие из тех, что смотрели на меня осуждающе, прониклись страданиями мальчишки и были растроганы. Однако Йоханан, похоже, не собирался так легко отпускать меня. Давно, очень давно уже он искал такой повод. Моя строптивость в наших диалогах выводила его из себя, а спокойствие и терпимость не были в числе его достоинств. Раздражение накапливалось, чтобы когда-нибудь обрушиться на меня. Он ждал подходящего случая, который дал бы возможность провести сокрушительную атаку, дискредитировать и развенчать меня. Такой повод я ему подарил, и упускать его он не собирался. Экзекуция должна была стать показательной и научить других.
— Йехошуа, ты, конечно, пропустил одну важную деталь в своем рассказе, что и неудивительно, — вкрадчиво произнёс он, словно кот, заманивающий мышь в ловушку. — А именно — что сегодня шабат. Помнил ли ты об этом, когда делал своё дело? Или разум твой пребывал в замутнении из-за естественного волнения при виде детской крови, и ты согрешил по неведению и забывчивости?
— Согрешил? Учитель, я не вижу за собой греха: разве может быть грехом то, что сделано от всего сердца, во благо человека и по велению совести? Не человек для шабата, но шабат для человека. Напротив — не сделай я этого, то согрешил бы против совести, а значит и против Бога, ибо он есть высшая совесть и высшее благо.
— Слепец! Значит, ты признаёшь, что осознанно пошёл на этот грех, нарушил заповедь Господню и даже теперь не чувствуешь раскаяния?
— Учитель, а скажи, что бы сделал ты? Как бы ты поступил на моем месте, видя в шабат ребёнка, умирающего на твоих глазах, которому ты в силах помочь? Ты бы оставил его умирать? И это бы было сообразно твоей совести и твоему Богу?
— Ты сомневаешься в божественном предназначении? Если бы Господь пожелал, чтобы сей ребёнок жил, то он бы жил и без твоего греха. Если же ему суждено умереть, как смеешь ты нарушить умысел Господний своими нечистыми действиями?
— А как я, человек, могу своей волей нарушить умысел Господний? Он исполнится, невзирая на все попытки противодействовать ему. И если ребёнок выживет благодаря мне, значит, Господь пожелал, чтобы я помог ему в шабат, а также чтобы моя помощь не была всуе. И напротив, если бы Господь желал смерти ребёнка, то любые мои действия, будь я даже трижды Гиппократом, не спасли бы его. Так что бы сделал ты, учитель, на моем месте?
— Я бы вознес молитву Господу нашему и молился бы за спасение ребёнка. Не мне вмешиваться в его деяния и не мне греховным своим действием, содеянным в запретный день, осквернять себя.
— Так что же это за Бог, который требует от своих почитателей такого послушания, что не позволяет делать добро в шабат? Разве спасение мальчика не является делом богоугодным, не осчастливит его семью, не наполнит радостью сердце того, кто этому содействовал? Не может быть Бога, одобряющего смерть и обрекающего на неё невинного ребёнка! Разве совесть твоя, учитель, была бы спокойна при виде его кончины и горя его родителей? Или ритуал тебе дороже жизни? А может, совесть твоя не в ладах с Богом, которого ты чтишь?
— Ты забыл, Йехошуа, Тору, а я тебе напомню. «Когда сыны Исраэля были в пустыне, нашли раз человека, собиравшего дрова в шабат. И те, которые нашли его собирающим дрова, привели его к Моше и Ахарону и ко всей общине. И Господь сказал Моше: смерти да предан будет человек сей; забросать его камнями всей общине за пределами стана. И вывела его вся община за стан, и забросала его камнями, и умер он, как повелел Господь Моше.» Так как же ты можешь, поступая так же, как и этот человек, не ведать за собой греха?
— Не от Бога слова эти в Писании. Нет, учитель — не может Господь всемогущий быть тем, кем ты хочешь его представить. Ты преподносишь нам ревнивого самодура, кровавого деспота, палача детей своих и пытаешься уверить нас, что это и есть Творец? Прости меня, учитель, но слеп ты или близорук, и не Божье нам вещаешь, а человеческое, не совершенное, а греховное, и имя Божье там лишь ширма, за которой нет истины, а есть лишь грешные люди и их бессмысленные ритуалы.
Таких слов не ожидал никто! Вместо оправданий я перешёл к обвинениям, и никто не мог предугадать, чем всё закончится. И странное дело — на лице Йоханана промелькнуло недоумение, чуть ли не замешательство. Вместо виноватого лепета, которого он ожидал и даже, наверное, на которое рассчитывал, ему пришлось столкнуться с волей не менее твёрдой, словом не менее весомым, чем его собственное. Он напоминал полководца, который, разработав план сражения с заведомо слабым противником, вдруг, в пылу атаки, понимает, что вооружение его войска — лишь деревянные мечи да палки, а неприятель вдруг ощетинился несгибаемой фалангой.
Но это длилось не более секунды. Гнев Ха-Матбиля вспенился мутной волной, перекосившей его черты яростью, и грянул гром!
— Не мир я принес на землю, а меч! — загремел он. — Я Бог гнева, говорит Господь! И реки крови прольются, и рука его настигнет всякого, кто ослушался и отступился, кто не успел покаяться. Будет суд Всевышний, и спасутся лишь те, кто сядут со мной, остальным же гореть вечно, и не будет им покоя на все времена! Уже и секира наточена и лежит при корнях; всякое дерево, не приносящее добрых плодов, должно срубить и бросить в огонь!
— Нет, учитель! Нет в твоих словах Бога. Не может быть Господа в крови, в чаде пожарищ, в мучениях и истязаниях созданий Божьих! И не в страхе перед карой надо искать Господа. Не рабами безвольными, не палачами, прячущимися за его именем, и не безликой толпой, бессмысленно повторяющей и чтящей пустые ритуалы, создал нас Господь. Дух Божий, суть веры — не в противоречивых строках Писания! Нет в них истины, не там живёт мой Бог!
— Как смеешь ты глас свой дерзкий поднимать против моего слова, ставить своего Бога против моего? Вот он — глас Всевышнего, и нет Бога другого, кроме того, кто говорит устами пророков и строками Писания! Что есть твоя истина, Ха-Ноцри? Что есть твой Бог?
— Любовь! Бог есть любовь, и всяк, познавший любовь и поселивший её в сердце своем, познает Ашема! Не меч он карающий, не плаха, не огонь всесожжения и не деспот кровавый, а добрый пастырь. Он любит свои создания, всех без исключения: от былинки и мотылька до человека, что есть образ его и подобие! И любит он их всей душой. Все создания, в которые он вдохнул жизнь, любит отеческой любовью, скорбит их горестям, радуется их благу! Все мы — дети Божьи, и воистину прекрасно творение рук его! Прекрасен мир, созданный божественным вдохновением, широко его сердце, и всем есть место в нём! Бог истинный любит свои чада и радуется, когда и его любят в ответ! Посели в сердце своем любовь к творению Божьему, и ты приблизишься и к самому Господу!
Слова лились из меня рекой. Ушла куда-то скованность перед лицом самого Йоханана, перед многочисленными слушателями, которые, окружив нас плотным кольцом, пытались не пропустить ни единого слова во вдруг наступившей тишине, где ещё звенело эхо моих слов. И даже сам Йоханан смотрел удивлённо, словно не мог понять, откуда оно во мне; что это за лавина, под обломками которой его слова вдруг потеряли свой обычный вес, раскололись и рассыпались штукатурным прахом.
В глазах окружающих я увидел что-то новое. Я вдруг ощутил силу собственного слова; нет, даже не так — силу мысли, облечённой в слово. Моё слово! И сам Ха-Матбиль это почувствовал. Я вновь уловил тень сомнения, мелькнувшую на его обычно столь грозном лице. Гнев, страсть, порыв — все эти привычные для него эмоции сменились теперь неуверенностью, смятением. Он словно пытался найти привычное к его длани знамя, с которым вёл за собой толпу, а рука нащупывала лишь обломок древка, лишившегося полотнища.
Весь вечер Йоханан избегал меня. Создавшееся положение было для него непривычно, да и мне было нелегко: смутное чувство вины довлело надо мной в присутствии учителя. Чтобы укрыться от него, я ретировался на берег Йардена, подальше от всех, где, устроившись в тени раскидистого дуба, встретил закат.
Идиллия, царившая в природе, как всегда настроила меня на философский лад. Это отличное время для раздумий и переосмысления произошедшего. Я опять и опять спрашивал себя: прав ли в своем упорстве, что не признаю за собой вины? Поступил бы я также, случись все это пережить ещё раз? С одной стороны, совесть моя была спокойна, я не сомневался в богоугодности и правильности своих действий. Но вот Йоханан… В отношении именно его, из-за спора, вышедшего за рамки обычных наших дискуссий, я терзался угрызениями совести.
А что мне оставалось делать? Как было избежать этого разговора? Или, быть может, надо было склонить виновато голову, хоть и поступая по-своему? Ведь это тоже выход! Я поступаю так, как считаю нужным, а на словах смиренно признаю свою вину, лишь для того, чтобы не портить отношения с Ха-Матбилем. Всё равно сделанного не изменить, и страдать будет только моё самолюбие, да ещё, пожалуй, врожденная любовь к искренности. Многие бы так и поступили, и я бы даже не осудил их. Ложь? Да, но ложь не бессмысленная и не вредная по сути, а лишь направленная на компромисс с обстоятельствами и совестью. Лёгкий путь, широкие врата. Если бы я был готов пойти на это, как проще бы мне было! Но, к сожалению или к счастью, этот путь не для меня; только и остаётся, что продираться сквозь игольное ушко. Потому-то наша стычка с Йохананом была неизбежна. Рано ли, поздно ли, но если я не готов лицемерить, то медленно зревший нарыв прорвался бы.
Почему же всё так повернулось? Мог ли я предположить такое ещё полгода назад, когда только покинул Нацрат? Ведь я шёл сюда совсем с другими надеждами. Я же ждал, что он примирит противоречия Танаха с голосом моего сердца, укажет широкую аллею, которая приведет к Богу, к истине, а что получилось? Я вижу узкую, кривую колею, по которой не могу следовать; её не расширить, ни проложить рядом новую. А самое страшное, что уже сомневаюсь, туда ли собственно идёт эта дорога.
А может, проблема в другом? Может, меня обуяла гордыня и себялюбие? И я, вместо того чтобы учтиво слушать речи мудрых, прежде чем пытаться в своем невежестве им возразить, всё глубже погрязаю в заблуждениях? А что, если все споры с Йохананом — это всего лишь дерзость непокорного и самоуверенного неуча, не терпящего над собой авторитета старшего, умудрённого опытом учителя? Ведь столько людей, многие из которых старше и умнее меня, слушают и внимают, не прекословя! И ведь слова Йоханана основываются на Танахе — на писании, священном для каждого иудея! А что я могу противопоставить этому? В конечном итоге я же не с ним, не с Ха-Матбилем веду спор, а с Богом, который говорит его устами со страниц Танаха, с тысячелетним законом!
Словно чей-то чужой голос, испуганный и робкий, но удивительно похожий на мой собственный, вдруг начал нашёптывать: «Кто ты, Йехошуа, что позволяешь себе такую прыть? Что ты представляешь собой — сын плотника из Ха-Галиля, рофэ-недоучка и вольнодумец, что пытаешься прыгнуть выше головы? Зачем тебе все эти споры и сомнения? Тысячи лет иудеи жили по этой книге до тебя и ещё тысячи лет будут жить по ней после. Так для чего, ради какой высшей цели ты свой жалкий голос поднимаешь, усомнившись в её мудрости? Твоё дело — лечить людей, строгать столы и соблюдать Закон. Куда ты полез, в какие споры? Какой „твой Бог“, какая „истина“? Шёл бы ты, юноша, к себе в Нацрат — здоровее будешь».
Этот вкрадчивый, трусливый голос был мне противен, но особенно было неприятно осознавать его сродство с собой. Моя теневая сторона, маленький и тщедушный человечек, живущий во мне, пытался сейчас взять верх надо мной обычным — таким, каким я себя видел или хотел бы видеть. Ещё в детстве я придумал ему имя: Шуки. При всём моём к нему омерзении он был неотделим от меня, и победить его можно было только самому, без чьей-либо помощи. Как бы я хотел, чтобы он умолк навсегда! Но с годами ко мне пришло осознание, что полностью избавиться от него не удастся. В тяжелые моменты внутренних терзаний и дилемм он поднимал голову, и я, хоть со стороны казался цельным, на самом деле зачастую раздваивался, полемизировал с самим собой; точнее, одна ипостась — как я её представлял, светлая — боролась с тёмной, с Шуки. И признаться, к собственному стыду, бывали случаи, когда Шуки брал верх. Эти минуты я не любил вспоминать: они заставляли меня краснеть перед собой; но справедливость не позволяла похоронить их в глубинах памяти.
Тихий шорох отвлёк меня от раздумий. Обернувшись, я увидел Андреаса, тихонько присевшего невдалеке и тоже смотрящего на догорающее пламя заката.
— Не помешаю, Йехошуа?
— Конечно, нет, Андреас. Садись — берег большой, места всем хватит, и ты знаешь, что тебе я всегда рад.
Мы помолчали какое-то время. Синеватые вечерние тени окутали берега Йардена. Свежий речной ветерок приятно холодил голову после дневного зноя, придавая мыслям мягкий и неторопливый ход.
— Ты знаешь, Йехошуа, — голос Андреаса дрожал от волнения, — я не сказал этого там, пока вы спорили, но сейчас хочу признаться. Мне кажется, что ты прав. Твой Господь, любящий свои чада, мне ближе, чем грозный владыка, карающий за ослушание. Я завидую тебе: ты не побоялся так спорить с Йохананом, в то время как я не осмелился даже на полслова поддержки. Но вот что я тебе скажу! Может, остальные и побоятся признаться в этом, но многим твои слова кажутся весомее и ближе к истине, чем сказанное Йохананом. Я думаю, что если бы не авторитет Ха-Матбиля, то не меньше половины наших послушников одобрило бы тебя и твои действия вслух.
— Вот как? Интересно. Спасибо тебе, Андреас, что ты делишься со мной. И ты говоришь, что моё слово нашло отклик у послушников? И даже переважило слово учителя?
— Да, Йехошуа! В том-то и дело, что многие на твоей стороне. Но авторитет учителя мешает это признать, открыто поддержать тебя. И даже я не имею столько храбрости, чтобы возразить ему, а тем более поднять, как и ты, свой голос против Писания. Это для меня звучит кощунственно, и я боюсь этих мыслей. А ты не боишься! Я завидую тебе, Йехошуа — завидую и восхищаюсь!
— Спасибо тебе ещё раз, Андреас. Ты снял у меня с груди немалый груз своими словами.
Андреас замолчал, видя мою немногословность, и я опять погрузился в свои мысли.
Что мне делать после случившегося: уйти или остаться? Если всё же уйти, то куда? Если остаться, как себя вести? Углублять ли свою колею, всё дальше отходя от Йоханана и расширяя трещину до непреодолимой пропасти, или всё же попытаться вновь сблизиться с ним, найдя точки соприкосновения?
Уходить не хотелось. Хотя я уже понимал, что когда-нибудь этого не избежать, но пока не был готов к столь радикальному шагу. У меня всё ещё больше вопросов, чем ответов на них, и я предпочёл остаться. Но, по возможности избегая прямой конфронтации с учителем, я всё же решил искать истину, руководствуясь собственным пониманием добра и зла. А дальнейших дискуссий решил не избегать, так как чувствовал, что споры с Ха-Матбилем, хоть и давались они нам обоим нелегко, позволяют мне яснее и чётче очертить свою колею, свой путь к Богу.
*****
С этого дня моё пребывание в лагере Йоханана качественно изменилось. Я словно отделил себя от него — своего учителя, тонкой канавкой, и щель эта день ото дня становилась все шире. Мы продолжали жить вместе, делили пищу и кров, всё было вроде бы по-прежнему, но появилось новое ощущение собственной независимости.
Но изменился не только я, изменился и Йоханан. У нас ещё не раз и не два были острые дискуссии, но никогда уже я не ощущал с его стороны попытки разгромить меня наголову в споре. Он скрестил со мной оружие и, поняв, что против него достойный соперник, решил впредь не искушать судьбу. Я также, со своей стороны, избегал обострения: мне не хотелось загонять его в угол и вновь испытать горький вкус победы с привкусом угрызений. Мы оба останавливались у какой-то черты, словно по взаимной договорённости, но плоды этих дискуссий с каждым днем давали о себе знать. Всё чаще я ловил заинтересованные взгляды собратьев, всё чаще к нам с Андреасом и Йехудой, продолжавшим диалоги на берегу Йардена, присоединялся тот или иной из них. А порой ради дискуссии со мной кто-то отрывался от группы слушателей Ха-Матбиля, и тогда я ловил ревнивый взгляд самого Йоханана.
Мало-помалу я окреп в этих спорах, прояснил и отшлифовал свою позицию. Мои аргументы обрели плоть; слово стало сильнее, увереннее. Справедливости ради признаюсь, что я многому научился у Йоханана — как в приёмах, позволяющих увлечь аудиторию, так и в мастерстве красноречия.
Была ещё причина, по которой ко мне стекались люди со всей округи и даже из дальних мест — это распространявшиеся из уст в уста слухи о моем таланте рофэ. Рассказы моих пациентов, одаривающие меня неземной силой исцеления, принесли плоды в виде нескончаемого потока страдальцев, ждущих чудесного излечения. Иногда мы прерывали дискуссии, чтобы оказать помощь тому или иному гостю.
Я ещё несколько раз навещал моих пациентов у габая Эзры, и вскоре мы по-настоящему сблизились с самим габаем. Он был мне в высшей степени благодарен за сына и всегда был рад видеть, радушен и хлебосолен. И даже после того как мальчик полностью излечился, швы были сняты, а Натан окончательно поправился, я продолжал по поводу и без оного заходить к ним в гости и даже оставался на ночь в той самой гостевой комнате, где был в первый раз. Вечерами мы с Эзрой и другими его гостями обсуждали вопросы, которые были темой моих споров с Йохананом и братией; и Эзра, как мне казалось, был серьёзно увлечён.
*****
Через некоторое время, месяцы спустя, тетрарх Переи, в которой мы находились, Хордус Антипа, разведясь с набатеянкой, взял в супруги жену сводного брата Иродиаду, которая к тому же приходилась ему племянницей. Это очередное кровосмешение, хоть оно было и не первым в монаршей идумейской семье, возмутило всех правоверных иудеев. Многие в приватных разговорах, а порой и публично, осуждали этих еретиков, получивших власть над троном Давидовым.
Йоханан, который не раз уже до этого сетовал на принятие Эдома в лоно истинной религии, а также порой высказывался зло и едко в отношении династии, теперь же просто был взбешён. Он поносил в речах тетрарха, громил самого Хордуса Великого, захватившего с помощью Рима Йерушалаим, весь его безбожный род, а по поводу самого брака разражался просто бурей проклятий.
Именно эта тема, в которой наши взгляды не сильно различались, стала той самой каплей, которая, переполнив чашу, привела в действие цепь событий, сыгравших роковую роль — как в моей судьбе, так и в судьбе самого Йоханана и братьев.
В этот день мы собрались вокруг Ха-Матбиля, слушая его проповедь, и разговор в очередной раз зашел об Антипе и его браке. Йоханан поносил их, не жалея пыла и ярости, под всеобщее одобрение:
— Это греховная семья; и они — эти язычники — сидят на троне Давидовом! Убийцы детей своих и кровосмесители, дети блудниц и сами рождены во блуде — вот кто они такие. Да и могло ли быть иначе: ведь они даже не принадлежат к колену Исраэля! Попомните мои слова: за этот грех, за обращение идумеев в истинную религию, с нас ещё не раз взыщется! Это деяние, лежащее на совести Гиркана Йоханана, обернулось против нас самих. Наказание за отступление от закона — за то, что идумеи введены в лоно народа избранного, падёт на головы наши и потомков наших до седьмого колена!
— Позволь сказать, учитель, — подал я голос. — Я хотел уточнить один вопрос, который ты затронул, осуждая, и справедливо осуждая, кровосмешение на троне. Но вот что касаемо обращению идумеев в истинную религию. Значит ли это, что Господь наш не готов принять в лоно истины никого, кроме избранного народа Исраэля? А если истина будет раскрыта иному народу или иноплеменнику, и будет он соблюдать заветы Господни, вести жизнь праведную и захочет приобщиться к плодам, должно ли нам захлопнуть перед ним врата истины только потому, что он не из колена Авраамова, Ицхакова, Яакова?
— Да, Йехошуа, именно так и надо сделать. Обет заключен между Господом и коленом Яакова, и никто больше к обету этому отношения иметь не может. Новообращённый настолько же далёк от истинного иудея, как язычник от новообращённого.
— Но обет между Господом и народом — это одно, а почитание Господа — другое. Разве Бог не един для всех народов, и не все ли они — его чада? И если иноплеменник ведёт жизнь праведную, а иудей из колена Яакова грешит, то кто перед лицом Ашема достойнее?
— Забыл ты, Йехошуа, слова писания. А я напомню тебе книгу Эзры — как народ Исраэля вернулся из Бавела милостью Корэша, царя Параса, и увидел их Эзра: «Так как брали они дочерей их в жёны для себя и для сынов своих, и смешали семя священное с народами других земель; и рука главных и старших была первой в этом беззаконии». И далее, слова пророка Эзры: «Со времён отцов наших по сей день мы в большой вине; и за прегрешения наши отданы были мы, цари наши, священники наши во власть царей других стран — меча, плена, грабежа и позора, как это ныне». И далее им же сказано: «Вы совершили беззаконие: взяли вы жён иных народов, увеличив вину Исраэля. А теперь признайте вину свою перед Господом отцов ваших и исполните волю Его: отделитесь от народов страны и от жён чужеземных». Так и сейчас должно поступить с идумеянами: отделить их грешное семя от священного семени, дабы вернуть истинному народу милость перед глазами Ашема, и дабы не постигло нас наказание.
— И снова не соглашусь я ни с тобой, учитель, ни с книгой Эзры. Ашем един, и всё человечество — его дети. Все они ему дороги, независимо от колена или языка. И скорбит он о греховных поступках эллина, римлянина или идумея так же, как и иудея из колена Давидова. И радуется он, когда даже самый малый из детей его находит путь к нему и к истине. Разве станет любящий отец выделять одного сына и потомство его, лишая остальных тепла своей любви? Разве тот, кто поступит так, будет ли справедлив в наших глазах? Так можно ли Богу приписывать поступки, которые нам кажутся несправедливыми?
— Господь выделил народ Исраэля своим особым благословением. Не равняй языческие племена с избранным семенем Яакова: лишь нам уготована высшая благодать. Ты же вновь поступки Божьи судишь по меркам человеческим, Йехошуа, а мысли его тебе недоступны. То, что делает он, и есть благо. И что бы он ни сделал, должно нам, рабам его, принять со смирением, ибо он Бог.
— Возражу тебе вновь, учитель. Не потому его деяния благо, что он Бог, а потому, что он Бог, то есть высшая справедливость, он не способен на неправедное дело. Не в его божественности надо искать оправдания злому или несправедливому деянию, а напротив, кощунственно приписывать Ашему преступные или несправедливые дела. И не иудейский это Бог, не приватный Господь народа Исраэля, и обет между нами — не привилегия, недоступная иным. Господь наш един для всех языков, и всех он любит не меньше, чем нас. А обет с Исраэлем возлагает на нас, на народ Исраэля, требования выше, чем к другим племенам, ибо нам своими делами и помыслами надо быть достойными божественного избрания, на которое мы претендуем. Не избрание делает нас выше, а дела наши, которыми и должны мы возвыситься. И если другие народы найдут свой путь к истине, то не должно нам ревновать или бояться кары Господней, а следует возрадоваться, как радуется Отец небесный, принимая в лоно своё новых любящих детей.
Йоханан не стал мне возражать, хотя последнее слово, и слово весомое, осталось за мной. А между тем я ожидал отпора, был готов к борьбе. Учитель это понял. Он увидел мою готовность, силу моей позиции, осознал, что его слова и аргументы недостаточны, и просто ушёл от дискуссии. Йоханан Ха-Матбиль решил отступить с наименьшими для себя потерями, оставив меня во всеоружии на поле и фактически лишив сокрушительной победы, но заодно и обезопасив себя от столь же сокрушительного поражения. Я это почувствовал, явственно почувствовал, но это ещё полбеды. Йоханан также заметил, что я осознал свою силу и превосходство над ним. Да и остальные братья, столпившиеся вокруг, восприняли уход от борьбы Йоханана как проявление слабости, предвестник капитуляции. У меня заскребли кошки на сердце от дурных предчувствий, и они не замедлили оправдаться.
В тот же вечер, когда я, по обыкновению, предавался размышлениям на берегу, на некотором отдалении от лагеря, рядом послышались шаги. Я подумал, что это, как обычно, Андреас, Йехуда либо ещё кто из братии, и даже не повернул головы.
— Закаты здесь бесподобны, Йехошуа, — услышал я знакомый голос. — Ты неравнодушен к ним, как я заметил.
— Да, учитель, они позволяют восхищаться красотой божественного замысла, — ответил я, повернувшись к Йоханану.
Да, это был именно он. Йоханан Ха-Матбиль собственной персоной пришёл составить мне компанию, чего уже давно не случалось. Я понимал, что предстоит разговор, и разговор непростой. Он сел рядом, достав неизменные чётки.
— Тебя, наверное, удивят мои слова, Йехошуа, но ты мне нравишься. Более того, ты нравишься мне куда больше любого из нашей братии, много больше самых верных моих учеников и преданных послушников. Я вижу в тебе волю, вижу личность, достойного человека, который крепок духом и смел разумом. Никто из братьев не смеет поднять свой голос, не имеет силы возразить, даже если они что-либо не принимают. Но не ты! Не ты. Я хочу, чтобы ты знал: я отдаю должное твоему мужеству, твоему разуму и твоему упорству. И что бы между нами ни было, как бы ни сложились наши отношения, помни, что моё уважение к тебе останется непоколебимым.
— Благодарю тебя, учитель. Твои слова дорогого стоят. Ничья похвала бы не была мне так ценна, как твоя, — я не мог понять, к чему клонит Йоханан, но как бы мы ни расходились в наших взглядах, было лестно услышать подобные слова именно из его уст, и в этом я не лукавил.
— Я не сразу оценил тебя, Йехошуа. Но с каждым нашим спором всё больше понимал, что ты — достойный соперник; мне всё явственнее открывалось, что в тебе есть то, чего нет ни в одном из нашей братии. Рука Господня простёрлась над тобой. Ты целитель от Бога. Ты умён, и воля у тебя железная; упорству и страсти можно только позавидовать. Я хочу, чтобы ты стал мне союзником. Я протягиваю тебе свою руку. Вдвоём мы умножим нашу мощь, наше слово: моя страсть и твой разум — вместе мы перевернём горы! Подумай об этом, Йехошуа. Подумай над моим предложением. Встань под моё знамя, и ты будешь вторым человеком после меня. Не торопись с ответом.
Я задумался. Йоханан действительно озадачил меня, и я понимал, что от моего ответа многое зависит. Многое прежде всего для меня, хотя и для него тоже. Йоханан Ха-Матбиль, чьё имя гремит по всему Эрец-Йехуду и Ха-Галилю, по Гильаду и Декаполису, предлагает мне свою руку и зовёт меня стать одесную его. Мог ли я надеяться на это ещё десять месяцев назад, когда только покинул отцовский дом? Йоханан задел струну моего самолюбия, и весьма ощутимо.
Сам учитель ждал моего ответа, сидя рядом и неторопливо, привычным движением перебирая свои неизменные чётки.
Вторым после него… А разве есть разница — вторым ли, пятым ли, сотым ли? Что это даст мне? Ведь не места я пришел искать себе и не привилегии стать тенью йоханановой. Быть вторым при нём значит потерять себя. Ведь то, чему учит Ха-Матбиль, что он проповедует, не принимает моё сердце. Так неужто все наши споры и противоречия — это была лишь фикция, позёрство, чтобы доказать собственную значимость и получить завидную возможность стать одесную учителя? И чем больше я думал, тем яснее понимал, что этот шаг для меня неприемлем. Как бы ни льстило отношение Йоханана, но променять самого себя на сомнительную честь стать тенью Ха-Матбиля — на это я пойти не мог. Да, не стоит ни себя обманывать, ни учителя вводить в заблуждение. Эта роль не по мне.
— Позволь ответить тебе, учитель, и заранее прости, если мои слова не понравятся тебе, — наконец решившись, произнёс я. — Ты предлагаешь мне стать вторым после тебя. Не скрою, это мне очень льстит. Но подумай, что это означает для меня? Ведь не места пришел я искать и не признания, пусть даже и твоего, а себя самого. Себя я пытаюсь познать и найти в себе Бога. Могу ли я встать на твой путь и потерять его?
Йоханан не поднимал головы, словно увидел что-то занимательное у себя под ногами. И только сейчас, когда я закончил, пристально посмотрел мне в глаза. Лицо у него было усталое, разочарованное и какое-то помятое.
— Я боялся такого ответа, Йехошуа; и всё-таки я его получил. Ты не хочешь быть вторым. Ты решил стать первым. Я недооценил тебя.
Лёгкая усмешка, прозвучавшая в голосе, даже больше чем смысл сказанного заставила вспыхнуть мое лицо. Такое «прочтение» моих слов обожгло как пощёчина.
— Ты несправедлив ко мне, учитель, или неверно понял. Не лидерства я ищу, и не амбиции мной движут. Я действительно был бы рад найти в тебе человека, каждое слово которого находило бы отклик в моей душе, и именно за этим и пришёл к тебе. Не моя то вина, что не нашёл я того, что искал. Да и ничьей вины тут нет. Мы те, кем нас сотворил Господь.
Йоханан молчал; молчал и я. Лишь вечерний треск цикад да шелест листвы нарушали звенящую тишину, набухшую меж нами тяжёлыми гроздьями. Мягко постукивали чётки Йоханана, которые он машинально продолжал перебирать. Чувствовалось, что Ха-Матбилю есть что сказать, но он оттягивает это — даёт мне шанс передумать, пойти на попятную. Не дождался.
— Йехошуа, я не хотел, чтобы зашло так далеко, но ты не оставляешь мне выбора. Тесно нам двоим в одной общине: нет места двум пророкам, и двум правдам рядом не ужиться. Это моя братия, моё детище, и потому, Йехошуа, хоть видит Бог — и не хотел я этого, а может быть, и ты не хотел, но придётся тебе покинуть нас.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
