
Бесплатный фрагмент - ПЦ постмодернизму
Роман, рассказы
Графоман
роман
Посвящается всем, кому проклятый социум так и не дал реализовать свою индивидуальность в литературе.
Часть первая.
Никто
Сознавая, что это порок, каждый раз, где бы он ни был, когда его бог внезапно вселялся в него, каждый раз он клялся себе, что это последний, последний, и грозился убить своего бога, предать его раз навсегда, и снова, и снова, отданный на растерзание, извергал Слово, будь то салфетка в кафе или дверь в общественном туалете, или единый билет, носовой платок, кирпичная стена, мусорный бак, на котором можно чиркать гвоздем, как на асфальте — мелом. Что это было? Что за осколки невидимой поверхности, к которой он прикоснуться пытался в своей странной молитве? То, чего быть не должно. Сознавая, что это порок… И, как каждый порок, рано или поздно это должно было его разрушить, даруя лишь миг наслаждения, ввергая потом в бездну отчаяния.
Он понял с утра, что будет тот самый день, начнется, как и другие, в которые он спотыкался, как, например, тогда (может быть, это было вчера, может быть, год или два назад), а закончится… Тогда он сидел в кафе, разжевывая кольцо коржика, кроша его незапломбированными зубами, запивая суррогатным кофе, стол пах пельменями, он жевал и смотрел на какого-то типа в мастеровитой кепке, который стоял в очереди со своей «теткой», придерживая ее за голубую рыхлую руку повыше локтя большим и перстневым пальцами, средним и указательным постукивая в такт музыке, тра-ля-ля пела певица. Он жевал и смотрел, и вдруг почувствовал снова, как и тогда, что дело не в этом типе с мастеровитой кепкой (тот уже ее снял и, держа под мышкой, приглаживал редкие длинные волоски аккуратно, ребром ладони), и не в его спутнице, и не в душном кафе, где вентилятор крутится вместе с мухами, мертво сидящими на остро отточенных лопастях, не в этом во всем дело, и, может, ничего этого нет, а есть теперь только бог, его бог, который вновь приближается сзади неслышно, трогает позвоночник, начинает играть и казнить, шепчет: ну, же, вот салфетки в стакане, что тебе стоит, возьми, согреши, брось и уйди, я подскажу тебе, что написать в этот раз. Тогда снова (может быть, это было вчера, а, может быть, и неделю назад) это словно блеснуло в крови, поднялось упругим жгутом и ударило в мозг, ослепляя. И он написал на салфетке:
«Но если их убил я, я убил отца своего и мать, значит, я сделал это вместо кого-то другого, кто отца своего и мать теперь никогда уже не убьет».
Скомкал и бросил под стол, поднялся и вышел, не глядя на этого типа с окровавленным червяком слипшихся волосинок, с кепкой в авоське, с вздрюченным, словно выдавленным из тюбика, лицом, не глядя на его обвислую отечную спутницу с безжизненным молоком глаз и серой сметаной подбородка, с голубовато-черными ляжками повыше локтей. Вышел, чувствуя в горле поднимающиеся комки непроваренных пельменей и черный (без молока) суррогат раскаяния. Зачем он сделал это? Эдипов комплекс? Чушь собачья. Где же добро? И тогда, повинуясь неведомому ветру инстинкта, он бросился в метро и поехал к матери в Бирюлево, он был так ласков и внимателен к ней в тот вечер, что она спросила его, не заболел ли он, и он ответил, нет, просто он понял, что очень любит ее. Тогда. А в это утро солнце, поднявшись из-за тополей, кажется еще не проснувшимся ребенком, нет еще его жаркого беспощадного крика, плавящего асфальт, в это утро, когда он еще только проснулся, его бес снова здесь, он чувствует его пребывание во всем, в стакане воды на столе, в блеске тополиной листвы за окном, в скрипящей детской коляске и в невозмутимости автомобиля, который просто стоит и не едет. Что случится сегодня и как настигнет его его бес? И можно ли с ним бороться? Не брать с собой ручку? Но ведь тогда, без ручки, пронзенный все той же отравленной стрелой, он все равно не выдержал и написал мелом на железной стене гаража, думая, что его никто не видит, он написал:
«Я был последним любовником Аллы Пугачевой, и то, что я сейчас расскажу, возможно, немного шокирует вас, но я хочу признаться, хочу признаться и облегчить себе, ночи…»
И какой-то человек, неслышно подкравшийся сзади, положил ему руку на плечо, когда он уже ставил последние точки в этой никчемной записке, в этом послании неизвестно кому и зачем, не избавляясь от огня вожделения и не призывая его, нет, не понимая сам, зачем делает это, и кто заставляет его поднять кусок мела из кучи битого щебня и написать именно это. Оставить еще одно семя, теперь на железной стене, где-то в городе, в котором живет, и где уже много посеяно им этих плевел, избавиться от себя, он хочет сам, чтобы это осталось где-то, и было все же кем-то прочитано, а может быть, и не хочет, это все тайные мысли, которых не думают головой, которые сами живут в той слепой и голодной кишке отчаяния, которая тоже когда-то хотела… и вдруг кто-то неслышно подходит сзади, кладет ему руку на плечо, да это могло случиться, а могло и не случиться, кто этот человек, стоит ли оборачиваться, он замер тогда, напрягая мускулы спины, чтобы тот человек понял — пружина может внезапно разжаться, подобно змее, но человек за спиной, снимая руку с его плеча, вдруг засмеялся, сказал добродушно, ты клевый малый, ставлю четыре пива, пойдем, покалякаем, наври мне про Алку, люблю, когда талантливо врут… А он? Почему он не обернулся, ведь это был, наверное, очень хороший человек, не придающий словам слишком много значения, быть может, летчик-испытатель… А он? Он сжимался все туже и туже, не оборачиваясь, и тот, другой человек, его случайный добродушный читатель, любитель «Колоса», женщин и баек, завсегдатай автостоянок, где мужики вечерами подсаживаются на корточки друг к другу, спрашивая, не надо ли чего, тот просто хмыкнул, не оскорбил, нет, он ничего не сказал, просто хмыкнул и пошел своей дорогой, скрипя ботинками по битому щебню, осколкам стекла, сухой штукатурке, всему тому хламу, который валяется у задней стены гаража, где только мальчишки носятся, срубая прутьями лопухи, да забегают помочиться бездомные собаки. А он сам? Почему он не обернулся? В чем причина? Нет, не то, что подумал тот случайный любитель пива, и, может быть, не то, что он внушал себе сам, сознавая в себе своего беса, называя его богом, поддаваясь ему, нет, дело было совсем не в том, что он сам про себя называл пороком, нет, а в том, что это были всего лишь осколки, только осколки, а самого стекла не существовало, ему нечего было сказать тому случайному человеку, кроме того, что он написал, может быть, когда-нибудь они и сомкнутся, эти осколки, подобравшись, друг к другу по форме, когда их будет очень и очень много, когда он засеет ими этот город, когда уборщицы не будут успевать заметать скомканные и брошенные им в скверах и кафе салфетки, милиция не будет успевать смывать надписи на кафельных стенах, а толпа затирать, зашаркивать мел на асфальте. Но и после того случая с человекам, положившим руку ему на плечо, пережив страх, а потом тоску одиночества, он все же рисковал иногда, снова в преддверии ужаса, это была мучительно, но он продолжал оставлять следы своего безумия, ввергаемый своим бесом во внезапное ослепление. Но какой жертвы он потребует от него сегодня, что должен будет он написать и где? Ему кажется, что будет очень и очень жарко, он проснулся, потому что птицы спешили петь, пока чума жары не загипнотизировала их в листве тополей, превращая в обугленные, безжизненные наросты. Значит, ты все же проснулся и выпил стакан пока еще прохладной воды? Он или ты? Какая разница, ведь он — это и есть ты, а ты — это, конечно же, он. Только так ты спасался, читая книгу, только так грешил, только так ты умирал вместо кого-то. И сегодня — это тихое утро, полное жизни, которую ему суждено утратить, принося себя в жертву своему бесу, преломляясь в осколке, оставаясь частью, чтобы потом, когда-нибудь, кто-то, неизменно следящий за ним, соединил его концы и начала, расставил его фразы по строкам, размотал и раскрасил его сюжеты, сделал другую, ремесленную работу, оставляя ему только то, что он сам хочет взять на себя, — его церковь, влагалище ада, алтарь мерзких грехов, хлеб и вино отвратительного порока, — говоря от первого лица, называя себя по имени… Откуда же в нем это чувство необъятной вины за то, что совершают другие? Эта странная радость быть губкой для грязи? Когда святой начинает развратничать, делает ли он это во славу божию? И кто имеет право взять на себя такой грех? Но утро уже одевается в саван жары, он должен начать, и, наверное, с самого конца, если он знает, что это последний день. Если он никогда не вернется в эту комнату, то он может написать на ее стене ручкой или кистью, неважно:
«Когда я уже стал известным писателем, нажив миллионы нечистыми спекуляциями на чьей-то боли и тоске по справедливости, притворившись губкой для чьей-то несчастной души (о, я делал это искусно!), когда, уже обезопасив себя именем, мог многое себе позволить, например, напившись пьяным, упасть в лужу в белом костюме или неожиданно раздеться в гостях с криком „я гениален, смотрите!“, когда… но однажды я получил странное письмо. Мне написала девушка. Она просила иллюзии. „Зачем тебе иллюзия? — ответил я. — Ты несчастна, но так было со многими. В жизни правды нет. Но она есть в книгах, в том числе и в моих. Читай эти книги“. „Но я хочу иллюзии, — ответила мне она, — хочу забыться в книге, а не увидеть в ней свое страдающее отражение. Я не хочу 6ороться, побеждать или проигрывать, ведь это одно и то же. Я хочу любви“. Тогда, что я сделал тогда? Нет, я не написал для нее книги о любви, наверное, потому что в любовь я никогда и не верил. Я просто назначил этой девочке встречу в своем загородном доме. Она приехала, и я долго говорил ей о справедливости, а потом напоил ее чаем со снотворными таблетками, а потом… я просто изнасиловал спящую. Я сделал это очень аккуратно».
Господи, Боже, прости его, грешника, приготовь для него казнь очищающую, сожги его помыслы сейчас, пока он одевается, пока еще не успел выйти на улицу, чтобы разбрасывать семена дьявола, сеять зубы дракона, сеять ветер, сеять бурю. Чего он хочет? И кто говорит через его смрадные уста? Сколько их — бесов? Что он задумал, и есть ли у него угрызения совести? Ведь с каждым извержением он чувствует все меньше раскаяния, и он уже не поедет плакаться к матери. Он выйдет на улицу, он дождется язвящей жары. Будет ли он разбрасывать салфетки? Неужели он думает, что кто-то его простит? Кто-то, кто всю жизнь проводит в заботе о своих детях, а потом о своих стареющих родителях? Кто все еще верит в книгу, которая хранит чистоту и возвышенность, ведь где-то это должно оставаться, раз этого в жизни нет. Этот кто-то, конечно, его не простит. Так казни лучше сейчас его, Господи, нашли на него столбняк, ударь молнией, ввергни его в геенну огненную, в Коцит и в Джудекку, ибо через него совершается совращение. Не верит он в Тебя, Господи, оставляет в себе лишь своего беса, втайне называя его богом. О, Господи, не дай ему выйти! Пусть изменится утро, пусть не будет жары, это должен быть пасмурный день, холодный. Дождь вместо солнца. Дождь, омывающий тротуары и стены, поток, уносящий мусор с площадей и улиц.
За этим странным человеком профессор наблюдал уже с полчаса. «Этот тип, может быть, и гениален, но он явно попал не туда», — думал профессор, лениво переходя от картины к картине, шаг назад, общий план, композиция, шаг вперед, разглядеть детали, как это делают культурные люди вокруг, еще шаг вперед, обратить внимание на мазок, нагнуться, прочесть название, внимательно оглядеть багет, прислушаться к чьей-то умной фразе о том, что искусство с холста постепенно уходит на раму, кто-то видел и резные деревянные, и металлические, и мраморные, и обычные широкие, но с вделанными бутылочками и кувшинчиками, и рамы из бревен, и из канатов, рамы светящиеся и рамы из свернутой колючей проволоки, из черствых батонов черного хлеба, аквариумные рамы в виде стеклянного полого бублика с настоящей водой и настоящими золотыми рыбками, да и сам профессор теперь вот, только что видел в соседнем зале рамы, просто покрытые живописью, обрамляющие нетронутые холсты, и именно рядом с ними он заметил этого странного человека, который подходил к этим чистым холстам вплотную, но почему-то совсем не разглядывал рамы, как другие, но подходил очень близко, на расстояние вытянутой руки, словно сам был художником, вдруг замирал и с какой-то маниакальной неподвижностью устремлял свой взгляд в самую сердцевину пустого холста, как будто провидел там новую живопись.
Собственно говоря, и сам профессор попал на эту выставку почти случайно. Если бы не восторги прыщавого капиталиста Джона каким-то Моранди, профессор прошел бы мимо, не обращая на афишу никакого внимания. Он был, пожалуй, слишком счастлив, чтобы часто посещать выставки и концертные залы, чтобы читать книги. Ему хватало его задач, радости внезапного понимания («ноу хау»), ему хватало его жажды жизни, он любил деньги, вино и подводную охоту, реальную плоть, а не вымышленную, его бог был в земле, его бог не был в какой-то там абсолютной истине, и сам он никогда не умалчивал об этом, потому что давно уже смеялся над теми, кто ищет эту абсолютную истину в век политики, выгоды и спонтанного нарушения симметрии. В душе профессор был изобретатель и бизнесмен, что отличало и стиль его научных работ, и часто, смеясь, он говорил своим аспирантам: «Человечество сделало три великих изобретения — колесо, которое само на себя опирается, и это есть цикл в обобщении, алкоголь, который есть концентрированная радость, и деньги — они освобождают». Иногда, одеваясь простолюдином, в кепку и старый поношенный пиджак, профессор любил путешествовать по пивным, натягивая, таким образом, пуповину, связывавшую его с землею, созерцая мать свою в неприглядном виде, этот гул: «где размен?», «ты попробуй за три ее сдай», «чашечка не освободилась у вас?», «да за нее и полкуска не дадут», «бери-ка целый поднос и сосисок на трешник»; кто-то спит уже, отвалившись на подоконник, головою уткнувшись в угол стола, старичок в синих кедах с красной резиной подошв играет на самодельной домре, и с другими он тоже, профессор, осоловело глядит на этого старика, грубо и нежно подвигая ему свою кружку — «на, попей», с благодарностью ощущая безмерность того, что их разделяет.
Но здесь, в выставочных залах, он чувствовал себя не очень уютно, ему захотелось вдруг крикнуть: «Я профессор!» Почему эти люди здесь ходят с такими умными лицами, ставят там что-то из себя, как будто что-то там понимают? О, эти культурные люди, не могут ведь сами-то ни фига, только повторять, повторять, делать вид, что придумали сами. Но все же разговор о рамах был интересен, в самом деле, ведь это тоже был путь изобретений, так же, как изогнутые картины Раушенберга из соседнего зала, которые, пожалуй, понравились профессору больше всего, эти полотна-газеты-двери-раскладушки, выходящие из плоскости, выходящие из живописи, по крайней мере, они развлекают, можно и самому придумывать в том же плане, не будучи при этом живописцем. А зачем она, живопись, такая, например, как у этого, как его, Моранди, в чей зал профессор не заметил, как перешел? Похоже, что этот Моранди рисовал всю жизнь лишь одни натюрморты, на протяжении десятилетий одну и ту же дюжину предметов, меняя лишь положение одного из кувшинчиков, а то и вовсе поворачивая его ручкой слева направо. Или вот эти карандашные наброски — всего две-три корявые линии. Нет, профессор не понимает, почему Джон восторгался Моранди, почему за этими «каляками-маляками», как сказал бы его, профессора, сынишка, гоняются коллекционеры, платят бешеные деньги, нет, он не видит, не хочет видеть в этом вот, например, карандашном рисунке никакого бога, он не хочет слушать другой случайный разговор о простоте, о скрытой метафизике композиции, о, эти культурные людишки… «Смотри, Моранди решает свои задачи, этот синий кувшин за белыми чашками, для устойчивости Моранди добавляет синее пятно и слева от чашек, хотя кувшин там и не просматривается, скрытая симметрия, она существует, и дело совсем не во внешней эффектности или нарядности, дело не в изобретенном приеме, который потом легко тиражировать, а в глубине видения, идти в глубь простых вещей — это и есть новизна, Моранди ищет своего бога». Нет, он не понимает, не хочет этого понимать, этой, на его взгляд, патологической тяги к плотно поставленным банкам, буханкам, молочницам примерно одной высоты, примерно цилиндрической формы или к этим изящным кувшинам с длинными шеями, похожими на подсвечники, расставленными, наоборот, очень редко. Чего он хочет, этот художник? О чем он рассказывает, этот Моранди? О чем вообще могут рассказать картины? Разве это путешествия? Нет, зря он зашел сюда, это все из-за Джона Киргстайна, но надо же как-то поддерживать личный контакт, черт бы побрал эти манерные разговоры об искусстве, почему богатые люди всегда хотят слыть знатоками музыки, литературы, живописи, или они несчастны, эти миллионеры, он, профессор, всегда считал, что искусство существует для тех, у кого нет своей жизни, нет, «пивные прекраснее», они проще живописи Моранди и выше, разве только вот эти рамы еще из соседнего зала, но все равно пивные прекраснее: «эй, парень, не трогай его, пусть бренчит», «а я и не трогаю, я только пива хотел ему дать», «на тебе яблоко, отстань от него». Вульгарная пуповина, ум как обман, профессор-охотник, отдыхающий в трактире.
…толкнул его в эти стеклянные двери. Купить билет, потому что под рукой нет салфетки? Купить, и войти в эти двери, и увидеть эту белую стену, освещенную ярче у самого верха, и это пустое бордовое кресло в подножии, разве это само по себе не картина? Или это нетронутая страница? Страница для угля, который есть сожженное дерево, сожженная жизнь, так и он, сжигаемый своим бесом (богом?), он должен оставить где-то обугленные следы. Но если снова начать здесь, на этой стене, в этом храме, где рассеяны осколки другого искусства, ведь фразы, которые он так внезапно видит, это тоже по сути картины, они самодостаточны, эти фразы, время остановлено в них, и зачем позволять ему снова бежать, чтобы что-то происходило, остановлен порок и схвачен, зачем отпускать его, давать ему огнедышащую волю, эвкалиптовый завлекающий запах, завораживающее касание тела, электрический ток, металлоломную внезапную силу, нет, словно громоотвод, он принимает в себя этого беса, и его бог помогает держать ему его беса. Всё же эти слова — лишь пар, предохранительный клапан? Или это тропинка к ужасному, которое ждет его черной каплей в конце написанной строчки? Проклятие словом, гипноз и самогипноз. Облегчение участи? Но здесь, в этом храме, он не станет кощунствовать, он никого не изнасилует здесь и не убьет, он оставит здесь лишь свое покаяние, он раскается в преступлении, которое совершит потом, еще не зная тела, над которым он надругается, и в которое войдет потом его нож. Напишет ли он на белой стене или только в своем воображении, в конце концов, это не так уж и важно, и что это будет — письмо в какую из высоких инстанций, в конце концов, это не так уж и важно, только бы повернуть стрелу времени, позволить ему течь в раскаянии, и, может быть, тогда он достигнет поверхности, бесконечной поверхности. И тогда на нее можно будет опереться. Бесконечной белой стеклянной поверхности… Белая стена, освещенная сверху софитом, бордовая раковина пустого кресла, чистая, неисписанная страница. Пусть это будет письмо:
«Многоуважаемый……… Когда уже нет надежды, остается только вера, абсурдная вера лицом к стене. Приговор вынесен — блестящие бутылки «Боржоми» на столе у Председателя, они будут выпиты, сданы и снова наполнены на заводе минеральных вод; «железнодорожная» форма, ее снимет вечером прокурор и повесит до следующего раза в шкаф, и в одном носке, смеясь, сядет с семьей за мягкие баклажаны; часовой с бородавкой на ухе будет по-прежнему стоять за барьером, и видеть больше кружку холодного пива, чем возможный внезапный прыжок подсудимого. Приговор вынесен… Его, подсудимого, конченая жизнь. Теперь уже не только в воображении. Ведь теперь к приговору подшита свинцовая подкладка реальности.
Меня уже нет.
Я буду писать о себе в третьем лице. «Я» не должно существовать, только «он». Так легче. Убивал он, и теперь убьют его. Его, не меня. А мне какое дело до того, что у него на душе сейчас. Я же не убивал.
Простите ему эти последние филологические штучки. Теперь, после стрижки наголо теплой машинкой, которая нагрелась скорее от его головы, а не от маленького тупого моторчика, и не от безразличной (как будто стрижет уже мертвое тело) руки тюремного парикмахера. Теперь, после…»
К чертовой матери эти картины. Значит, лучше в пивную? Да нет, конечно, он не дурак, все-таки он как-никак профессор, и он понимает — искусство существует на самом деле, но если откровенно, то он все же его не понимает, в конце концов, самому себе он может признаться в этом. Конечно, он выскажет при первой же встрече с Джоном какие-нибудь закругленные афоризмы, прибавит то, что слышал о рамах, добавит свои старые штучки о великих изобретениях, которые сделало человечество, и, может быть, похвалит этого чертова Моранди, чтобы не прослыть дураком. Но в глубине своего существа он чувствует, что все же это какой-то обман — то, что они называют искусством. Обманывают его, человека обмана. А эти культурные люди вокруг, они платят деньги, чтобы смотреть на эти картины. Но кто из них, например, способен заплатить деньги ему, профессору, если он расскажет о задачах, которые сам придумал и сам решил? Искусство обманывает науку. И зачем оно существует, ему остается непонятно. Ведь развлекаться в пивной гораздо естественней. Ведь на самом деле все очень просто. Зачем они усложняют мир с помощью своего искусства? О, эти культурные люди, они делают вид, будто что-то здесь понимают. Да, как и он, ни черта они здесь не понимают. Они слишком слабы и просто загораживаются этим от жизни, от пивных и от подводной охоты, от людей ума, ведь нет никакой души, и мораль они выдумали, чтобы защититься от охотников, и искусство, наверное, затем же, они хотят спрятаться в высокое, которого нет. Нет никакого высокого, есть только земное. «Эй, скажи-ка, здесь продают пиво в буфете?» Козий испуганный взгляд, зрачки, как помет, и сам тощий с жиденькой бороденкой, нет, собрался, надулся, это же не пивная, здесь не ударят. «Это вам не пивная!» Подумайте, какое высокомерие, какая оскорбленная честь. Сунуть ему, что ли, под нос свое профессорское удостоверение? Да черт с ним, с этим газетным червем. В буфет, в буфет, есть там пиво или нет там пива, а может, там есть коньяк, он спустится сам и узнает. Этот его новый деловой партнер, черт бы побрал этого Джона с его разговорами об искусстве, но профессор же сам ввязался в это дело. Или ему мстит наука, которой он занимается все меньше и меньше? Но ведь теперь невыгодно решать задачи, это можно было делать в эпоху застоя, работать, изобретать и разряжаться в пивной. А теперь, когда открылись такие возможности, когда иностранные фирмы сами суют тебе доллары… грех теперь не уйти в бизнес. Грех, конечно, и уйти из науки. Да, собственно, он же все сделал уже. Кто бы рассказал его жизнь. Ему есть чем гордиться. Он доктор, профессор, его любят ученики. В конце концов, бизнес — это тоже наука, надо учиться изобретать крупные деньги, свои заводы и дирижабли, ведь ум — это выгода, а заводы выгоднее отвлеченных задач, да нет, он не предает своего бога, он просто просит его подождать, да, он хочет стать миллионером. А что в этом плохого? Капитал поддерживает прогресс. Большие деньги, большие идеи, большие друзья, заокеанские партнеры, софт уэар. Черт бы побрал этого Джона с его прекрасным разговорным русским, с его тягой к искусству, но ведь нужно заключить договор с этим Джоном, это выход на Запад, это доллар, независимость и Гавайи, сказочный взлет, сколько можно гнить каким-то профессором, черт бы побрал этого Джона с его разговорами. Что за мода такая? «О, искусство, это, может быть, все ради него, наши фирмы, наши проекты, наши репрессии против талантливых одиночек, пытающихся без нашего ведома модернизировать бэйсик. Моя дочь вложила двадцать миллионов в свою коллекцию живописи. А вы, дружище профессор, предпочитаете ли вы Моранди или Лотрека?» — «Как вам сказать, с точки зрения изобретений…» В буфет, в буфет, прийти хоть немного в себя, первый зал, второй, третий, зал Моранди, зал с рамами, этот странный тип все стоит и смотрит в пустоту незагрунтованного холста, тоже бедняга попал не туда. Пригласить его выпить?
«…теперь после холода, ярко освещенного натриевого коридора, который, ему кажется, стал ближе из-за снятия волос, после одевания в немнущуюся, на размер больше, неструганную полосатую одежду смертника (аккуратно сложенная, ожидающая его на табуретке, она показалась ему даже красивой, но только окрик лейтенанта заставил его одеть ее), теперь, после холодных (они отняли носки) и чересчур свободных, словно последняя издевка, галош, теперь, когда его уже не раздражает бесконечное звяканье ключей и щелканье замков (а раньше, после допросов, ему казалось, что продолжают ковыряться в нем, в нем), теперь после… теперь когда… нет, он не сошел с ума, как другие, и его мысль не теряется за последней чертой… Это письмо, зачем он пишет его?»
— Послушайте, я наблюдаю за вами уже с полчаса, вы стоите и смотрите в эту пустую картину, мм-м, извините, что я так спонтанно, я профессор, мм-м, не хотите ли спуститься в буфет? Я угощаю, вы мне симпатичны.
Профессор подошел очень близко, ему хотелось заглянуть в лицо этого человека. Действительно ли он будет ему симпатичен или это останется только словами? Другое лицо, часть тела, не защищенная одеждой, которая говорит о человеке все, даже если этого до конца и не понимаешь и опускаешь взгляд на незащищенные руки, но ведь руки больше говорят о том, чего хочет тело, и только лицо…
«Он, — сказал про себя профессор, когда человек медленно, как будто пустота холста была вязкой и не только притягивала, но и обволакивала, не отпуская его целиком, когда этот человек медленно повернул голову и открыл лицо. — Он ангел. Светится аж, детская, мягкая, всасывающая физиономия, студент, наверное. Рентген словно всасывает, а мягкий видимый свет излучает. Нет, он мне действительно симпатичен. Но почему он не отвечает? Врезался, что ли, в кого и видит в этой раме только свою принцессу?» Профессор постарался развеселиться, и заговорил немного быстрее, немного вульгарнее, ощущая себя самим собою.
— Вы мне действительно очень симпатичны. Эти рамы, тут один тип сказал, что в двадцатом веке искусство переходит с холста на раму…
— Простите.
«Голос странный. Что значит это его „простите?“» — профессор сразу осекся, но, собравшись, все же переспросил:
— Что-что?
Но человек, стоящий перед пустой картиной, молчал, и профессор словно почувствовал, что тот отделен от него какой-то невидимой оболочкой, которая существует, быть может, только для него самого, и лишь по ту сторону рождает это право на обособленность. Но все же надо было как-то выйти из положения, и профессор снова повторил:
— Мм-м, я приглашаю в буфет, пойдемте, поговорим, я люблю так, случайно, вы мне действительно симпатичны… Студенты любят меня.
Не отвечая представившемуся профессором, тот смотрел теперь вниз, на паркет, на эти деревянные, одна к одной таблички, разделенные узкими черными полосками, и его слова, начавшиеся однажды…
«Как человек, еще не потерявший рассудка, он понимает, что всякое серьезное сопоставление, остающееся в пределах ума, которое попытается выразить разницу в общественном положении между прокурором и осужденным на смерть преступником, будет или банальным, или кощунственным. А юмор висельника (он мог бы его себе позволить) оскорбит теперь лишь часового, или в лучшем случае начальника тюрьмы, люди все погонами побогаче только усмехнутся за шторками суженых век и, покачав головами, может быть, скажут что-нибудь вроде: бедняга, поскорее бы привели приговор в исполнение, как мучительно, должно быть, проводить ночи в ожидании казни».
Не заходить ни в какой буфет, а выйти скорее на улицу, на свежий воздух. Этот странный тип, его лицо стоит перед глазами, пожалуй, он все еще ему симпатичен. Да, в конце концов, он, профессор, достаточно великодушен, чтобы придавать значение пустякам. И разве он, по-прежнему не самый сильный, не самый мощный? Картина его души все так же неуязвима, и рама стала даже немного крепче, странный все-таки этот ангел, нет, он не из этой культурной публики, которая тоже здесь ни шиша не понимает, а только делает вид. Что он там видел в этой пустоте? А может, этот тип сумасшедший? Но он, профессор, и сам сумасшедший, о-хох. О, он, профессор, очень любит сумасшедших. Да здравствуют сумасшедшие! В пивную, в пивную! Охотники смеются (спускаясь по лестнице, профессор заулыбался, настроение его вновь поднималось), их нельзя победить, испортить им настроение. Будут заводы и дирижабли. Мы достаточно сильные, да, мы думаем о собственной выгоде, но, делая лучше себе, мы в первую очередь делаем хорошо всем. Этот вальяжный прыщавый Джон с его комплексом большого искусства, ладно, потерпим, ведь нам нужны выходы за границу. На софт уэар мы сделаем капитал. А потом… (подходя к гардеробу, профессор не смог сдержаться и рассмеялся), потом мы построим завод эректоров и закроем картинные галереи. О, эректор, четвертое из величайших изобретений человечества! Слабые будут возбуждены, им не нужны будут книги и концертные залы, они будут счастливы, их женщины будут, наконец, удовлетворены, их женщины сделают его, профессора, миллионером. Профессор достал номерок и подал его за барьер аккуратной старушке с евангелическим значком на отвороте халата, она взяла его маленькими руками в натянутых фиолетовых перчатках, она посмотрела профессору в глаза, этот взгляд непризнанной поэтессы что-то неясно напомнил ему, странная печаль оттенила его вознесшуюся было радость. И в какое-то мгновение, пока гардеробщица снимала с крючка его плащ, ему показалось, что стоит он не здесь, а где-то под холодным солнцем на каменных ступеньках и смотрит, как маленький смерч на площади одевается в бессмертный мусор, и смотрит он на безруких голубей, толкущихся у монастырской стены, где маленькие старушки бросают им хлеб, стоит, не стесняясь своих грязных волос и рваной одежды, протягивая полусогнутую руку, и Ангел с мягкими лучами, исходящими от лица его, неслышно проходит мимо и шепчет: ничего ведь не надо, нет… Прочь, наваждение! Разве мы не самые сильные, самые мощные? Он встряхнул на себе плащ и уверенно сунул руки в карманы, глядя, как гардеробщица собирает белые и красные номерки с вешалки и нанизывает их на толстую алюминиевую проволоку в грязно — белой оплетке. «Зачем она делает это, — подумал он. — Завтра ведь развешивать снова?»
— Вам интересно, зачем я это делаю? — неожиданно спросила она. — Завтра меня не будет, в музее выходной день. Но придут те, кто здесь работает, они повесят одежду на вешалки, могут взять номерок, а потом забыть его повесить обратно…
— В пивную, в пивную, — пробормотал профессор, резко поворачиваясь к стеклянным дверям.
Остаться стоять здесь, перед этой пустой картиной, перед этим зеркалом, перед этим автопортретом, впасть в аутогипноз, выйти из пространства и оставить себе лишь время, ведь время — это и есть подлинное пространство, а то пространство, другое, — неподлинное, ведь отныне его смысл только в том, чтобы принести к его узкому бритвенному ножу его жертву. Так что же, остаться стоять? Этот человек, назвавшийся профессором, который и пришел, и ушел… Пространство все равно движется, даже если остаешься стоять. Оно обтекает тебя. Он пошел медленно вдоль ряда картин, из зала в зал, эти цветные прямоугольники и квадраты в простых и замысловатых рамах, части единой поверхности, собранные здесь, и он, случайно оказавшийся среди них, несущий в себе свои осколки — обрывки полей газет, куски стен и асфальта, манжеты, листья тополя (когда-то он писал на них фломастером, по слову на каждом листе). Эти картины, одни из них словно вонзались в него, а другие — входили осторожно. Иногда сам себя он вдруг ощущал картиной, другой картиной, которая движется вдоль стены, на которой они висели.
Картина, разглядывающая картины. Он знает, что он сумасшедший. Картины… Вот яркие сочные губы, черные чулки, вульгарные розовые резинки, изящные пышные пачки — яркая зовущая плоть, полуодетая в изысканную грустную линию рисунка. Вот кровь вместо красок, горит от отчаяния, рушится в бездну, евангелические сюжеты, фарс проституток, первобытная казнь… Из зала в зал, спонтанный, как броуновская частица, движется этот человек — он (ты), обжигаемый одними полотнами, успокаиваемый другими, на которых предметы стоят очень плотно или, наоборот, расставлены далеко друг от друга — те кувшины с длинными шеями — и снова приоткрывается пустота холста, его (твой) взгляд останавливается, мечется вновь. И снова он движется дальше. Он не прислушивается к тому, что говорят знатоки. Ведь он сам картина, салфетка, дверь в кабинке туалета, часть поверхности для кого-то. О чем он думает, спускаясь по лестнице в буфет, разглядывая лица, эта тень от решетчатого потолка, которая их покрывает, или это чья-то насмешка, разве они заключенные?
«…теперь, глядя на этот водопроводный кран в камере, он понимает, что смерть — в каких бы одеждах она ни приходила — это единственное, что имеет значение. Он открывает и не пьет, он просто глядит на струение воды, отвлекаясь от ее дребезжащего падения в раковину».
Напиться, напиться пивом. Наполнить резервуар своего тела лучистой, блестящей, пенной струей, услышать вульгарные шутки шоферов, захохотать, ковыряя вилкой в сосиске, выпить еще и еще, покачиваясь, отойти: «скажи-ка, дружок, чтоб не становились тут, сейчас я вернусь»; с кайфом опорожнить резервуар, радуясь напору струи, пытаясь сбить зазевавшуюся муху: «разве мы не самые сильные, не самые мощные?» — легким, как воздушный шар, снова вернуться и снова наполнить десять кружек, пятнадцать и двадцать, смыть к чертовой матери этот музей, гардеробщицу в фиолетовых перчатках, нет никаких ангелов, возрадуйся, Вакх, посмотри на эти пунцовые морды вокруг: «мокрый, а мокрый, а два барана смог бы ты разрубить?», «подумаешь, ерунда, ну даже если и засадят лет на восемь, ее же не расстреляют», «а я назло ему животом штангу в сто двадцать рву». Крикнуть им, что ли: «Я профессор, ребята! Я ваш профессор!» Крикнуть, свалиться под стол, шевелиться в этих объедках, рыбьих костях, бумажных тарелочках, среди ног их шуршать целлофаном, теряя глаза, хвататься за железные стойки, чтобы остановить этот круговорот, прав был Галилей, она вертится, вертится, значит, надо мычать: «Я лл-л-юбб-б-лю вв-а-ас, ду-у-ррр-а-ки! Я жже п-рр-офффе-е-ссо-рр!!!»
В пивную, конечно, в пивную. Только кто понесет его тело обратно, кто возвратит его бренное тело жене? Привезет на машине и доплатит шоферу за пьяную брань, поднимет на лифте, поможет доплыть в том шторме до лодки-постели, спустит левую ногу на твердое дно, поможет вцепиться в борта, чтобы не перевернуло, нн-е пп-пе-рревер-н-у-ллло? Кто? Конечно, Авдеев. Зря он что ли взял его в аспирантуру? Этот убогий, но физически крепкий Авдеев, к тому же он бывший мотоциклист, конечно, он донесет, ведь он, профессор, изобрел Авдееву хорошую задачку, и научил, как посчитать интеграл, и даже не стал себя вписывать в соавторы, хотя это же все его, конечно, его, но ведь нужны же рабы, перед собой зачем лицемерить. «Умный опирается на других и только потому не стареет». И потом, если Авдеев не будет его носить, то, следовательно, он не сможет пить. А если он не сможет пить, то он не сможет и заниматься наукой, потому что это единый процесс разрядки-зарядки. Кто же тогда будет двигать вперед науку? И кто изобретет Авдееву диссертацию? Нет, он сделает Авдеева кандидатом, и Авдеев будет носить, а если в милицию попадем (мало ли что), можно сбросить вину на Авдеева, а за это, если все обойдется, продвинуть его в доценты. Все это, конечно, задние, черные мысли, профессор совсем не думает их, наоборот, сам он «передний», добрый, светлый, хороший, сильный и мощный, и с аспирантами он «на ты», все любят его, а с авдеевыми это все почему-то само так выходит, ведь жизнь — это целостная штука, и все компенсируется в природе, и обмен существует, каждый меняет, что есть у него, чем владеет. Авдеев, Авдеев, как иначе тебе стать кандидатом? И кто сделает из тебя бизнесмена потом, кто поможет продать компьютер, наварить пару тысяч за вечер, ведь твои будущие кандидатские корочки — достижение только для твоей жены, и денег они совсем не стоят.
— Алло, Авдеев, привет, это Толик, твой научный руководитель, о-хох. Я тут забрел в какой-то дурацкий музей. Короче, не хочешь ли выпить?.. Что-что? Да брось ты, дети у всех. Один раз живем… Что? Давай на Таганке… О'кей, давай через час.

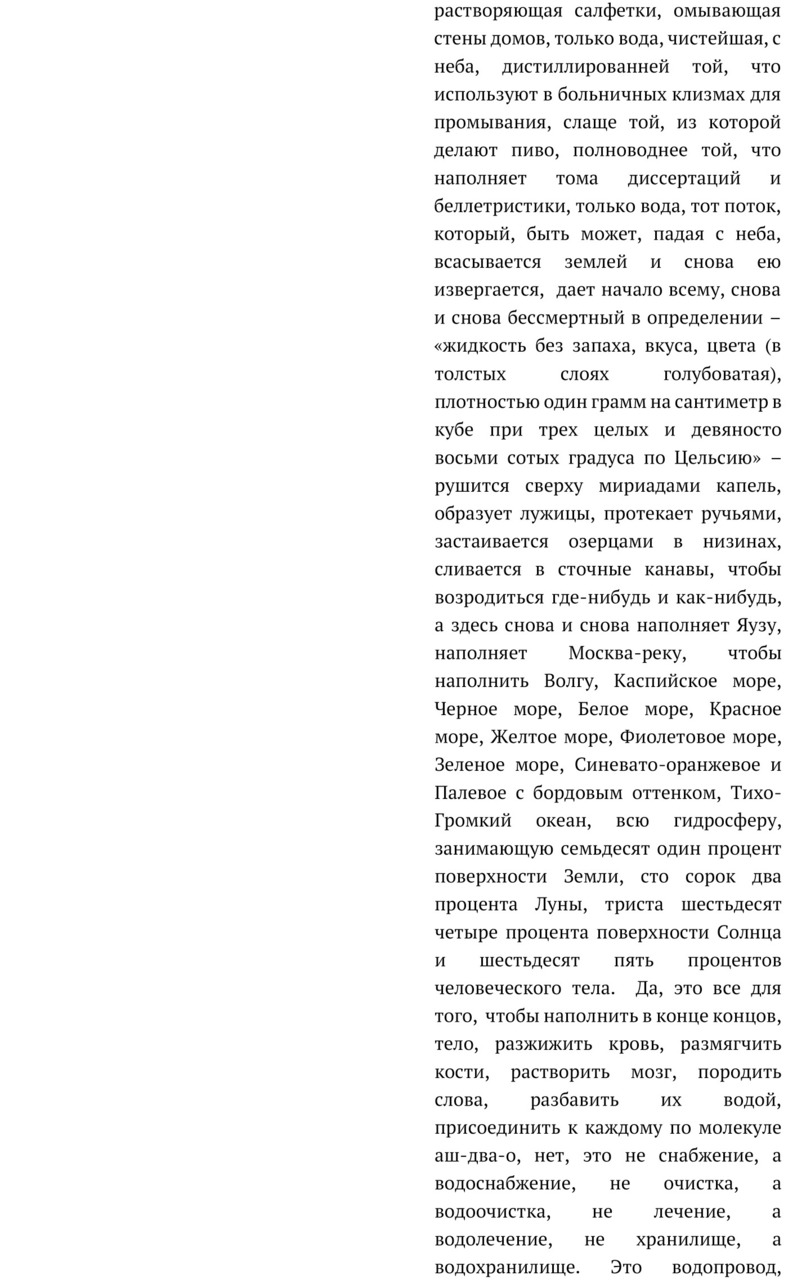
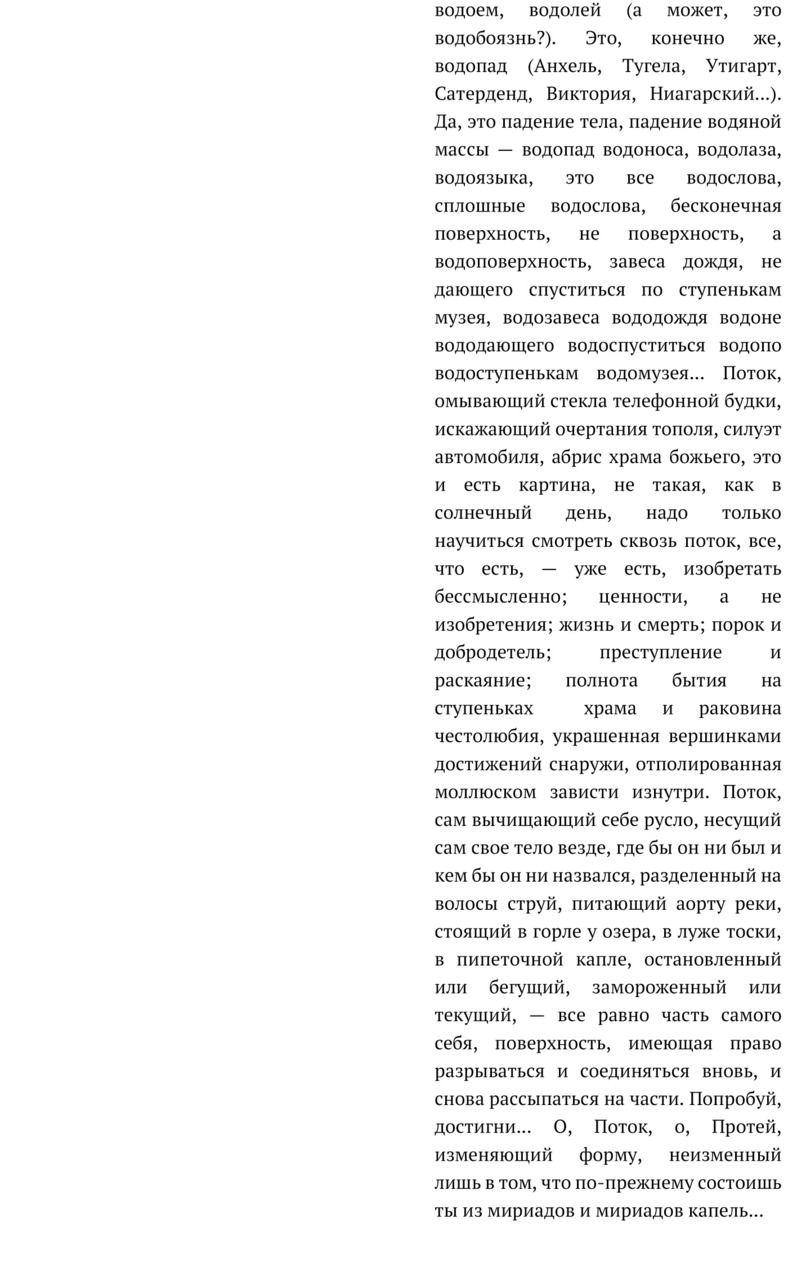
Авдеев остался в высотном доме. Но кончился дождь — люди-букашки выползли на мокрые тротуары. Скоро выйдет и он, Авдеев, а пока еще смотрит, кусая ногти, в окно с высокого этажа. Да нет же, дождь кончился, придется ехать. Трогательная кафедральная любовь к самому лучшему в мире профессору наливается трогательной многоэтажной ненавистью ко всякого рода барам, пивным, ресторациям и кафулям. Все течет, все наливается. Наливаешь белое, оказывается черное. Хочешь стать кандидатом — и путешествуешь по забегаловкам, ненавидимым с детства (отрицательный пример отца алкоголика и правильное воспитание матери). Слышишь сладострастный, словно из гроба, шепот жены, ощущаешь ее жаркие ниже пояса ласки: «Поезжай, поезжай, цель оправдывает средства, кандидат — это как-никак, это выше… не забудь ввернуть про компьютер, бизнес — это тоже как-никак». Эх, а хотел побегать трусцой, поподтягиваться на перекладине, поехать на работу и добросовестно посчитать (раз, два, три…) на персональном компьютере фирмы Ай Би Эм, общественно полезно потрудиться в профкоме (распределить, наконец, эти импортные туфли, пальто, сумки и свитера между страждущими сотрудниками). Черт бы побрал этого Толика с его выпивонами, опять тащить его на себе. И вечер тоже будет потерян, а хотел хоть немного пожить без семьи, запереться в шестьсот первой, когда все уйдут, отзвониться жене: «Лапочка, я еще немного задержусь на работе, надо кое-что еще Толику посчитать. Поцелуй бэбика в носик». И снова включить «пи-си», вставить дискетку с волшебной игрой и только пальцами, одними пальцами по клавишам заставить раздеться мультипликационную красотку Джейн (да почему мультипликационную? она же играет с тобой, как живая!), заставить ее и так, и сяк… Господи, какое это счастье — быть властелином в телевизионном пространстве, которое столько лет тебя гипнотизировало, а теперь и ты, и все только пальцами, с виртуозностью пианиста, и так, и сяк, а хочешь — убей: Alt-f — вызов палача; f4, Сtrl-k, f7 — и на экране меню: выбор средств от топора до специального велосипеда с бритвенно острым седлом; f8-Еnter — ну-ка, Джейн, прокатись напоследок… Авдеев — хороший, он любит семью, он любит газеты, он будет кандидатом, он будет бизнесменом, он будет начальником, а маленькие грешки, у кого же их не бывает, да ведь это все только игра, это даже не книга, воображаемое пространство, совсем не реальное, куда-то надо сбрасывать ненависть, может, это не Джейн, а Толик едет на велосипеде (кстати, можно ввести в компьютер его фотографию), вжик-вжик, смотри, натурально, как входит седло… Кончился дождь, снова звонит телефон: А, Толик, привет. У нас кончился тоже, сейчас выхожу. Что-что? Да с чего ты взял, что я занят? Один раз живем. С женой все о'кей. Что? Да самому давно уже хочется напиться в какой-нибудь забегаловке, к черту мундиры, только на этой неделе было четыре распродажи в профкоме. А? Конечно, самые мощные!»
Спуститься по ступеням, потому что кончился дождь, наверное, жарко не станет, но надо идти. Куда? Неизвестно. Но это, если оно существует (если существует судьба), найдет его само. Дождь кончился, жаль, он был в этом дожде другим, время дождя в нем протекало без слов, и чем-то иным, не словами, он почувствовал или ему показалось, или увидел вдруг в одной из капель, как на повороте, сразу весь вид: смешно и нелепо это его разбрасывание никчемных фраз, эти инфантильные игры, которым он предается по чьей-то воле, это бессмысленное сжигание времени, которое можно было бы отдать какому-нибудь делу, общей пользе, денежной выгоде, выращиванию семьи, всему тому, чем заполняют свою жизнь люди. Но дождь кончился, видение исчезло, остались лишь дыры луж в небо и ощущение измены самому себе, которое настигало и пронизывало новым бессмысленным потоком слов. Или его раскаяние осталось за спиной, там, за стеклянными дверями на белой стене с бордовым, словно облитым густеющей кровью, креслом в подножии? Словно тяжелый нож гильотины упал с высоты, и осталась лишь белая освещенная поверхность — не надо смотреть вниз, на окровавленное… нет, это не кресло. Что же осталось и что ждет впереди? Последняя стена с последними словами.
«В ночь после вынесения приговора он почувствовал, что если не закричит, то сойдет с ума от неизбежности, и он закричал ртом, и они вошли и просто ударили его кулаком в затылок, чтобы не будил тюрьму. Он споткнулся о парашу, врезался головой в нары и замолчал, он понял, что никто уже не услышит в этом „предтрупном“ зверином крике страждущего зова его разъятой души. Но он не хочет уходить, не раскаявшись. Да, он раскаивается. Он достоин смерти, и он примет ее. Но эта стена — белый последний лист для него, пусть останется последней абсурдной верой, что все, что случилось с ним, случилось не по его вине. Он обращается к вам, многоуважаемый …, не с просьбой о помиловании. Он просто хочет сообщить вам нечто, о чем умолчал на суде. Он хочет сообщить, что это ужасное убийство, которое он совершил… он сделал это и по вашей незримой воле, ведь и суду нужны преступники, а иначе кого же судить? Значит, он нужен был многим, он нужен был обществу, ведь кто-то должен быть преступником, чтобы другие сказали „не я“, а теперь этим же людям в личине суда он нужен, чтобы они казнили его. И потому в эту ночь на этой стене он пишет свои последние слова…».
Он спустился по ступеням, прошел по дорожке, оставил в лужах круги, исказившие отражение музея, подошел к киоску, постоял, словно завороженный новой стеклянной картиной-скульптурой, купил блокнот. Писать отныне имеет лишь смысл для того или той, в чье тело войдет его нож. Писать лишь для своей жертвы, во имя ее, в поиске ее.
Писать просто — не отпугивая, а заманивая. Пообещать ей… Что? Что может он пообещать в нелепой записке, брошенной на тротуар, и кто поднимет ее? Но если бог (или бес) существует и толкает его, значит, его дело лишь написать. Он пишет, он пишет, он пишет:
«Кто, как не я, острым резцом высечет тебя из хаоса твоей жизни, отбросив сор и оставив лишь тебя самого. Кто, как не я, обессмертит тебя в другом параллельном времени, кто расскажет, каким ты видишь себя в пространстве веры, какой ты есть на самом деле? Только я, только я твой последний шанс, только я смогу написать о тебе и оставить тебя. Где же ты?»
Вот телефонная будка, голос в трубке, состоящий из слов, говорит последнее и отпускает. Дверь открывается, а он, дописав, аккуратно складывает и бросает, он не смотрит, кто выходит из будки, ему все равно, но он слышит, как скрипит, открываясь, дверь, словно лезвие ножа неудачно попало, и входит в тело теперь, карябая пряжку ремня. Он все же видит высокую женщину с жестким узлом волос, стягивающим назад ее лицо, это натянутое на голову лицо, словно последняя гримаса, попытка увидеть, что же там, за спиной. Высокая женщина в фиолетовых чулках, которая обгоняет его. Конечно, она видела, как он уронил записку, ведь это она вышла из телефонной будки. Она косится на него камбалой, обгоняя. Достает из сумочки книгу и снова прячет ее (зачем этот жест?). Она проходит мимо, идет к остановке троллейбуса, подходит троллейбус, она в нем исчезает. Обернуться? Поднять записку? Идти дальше. Каждое семя должно быть новым. Новые жертвы требуют новых семян. Он идет дальше по черному, блестящему, как спина кита, асфальту, проходит сквер, направляясь к церкви, останавливается, пишет в блокноте, снова, не оглядываясь, бросает листок:
«Если ты подняла эту записку и начала читать, то нам надо поговорить, не правда ли? Тебе есть, что рассказать, и я внимательно выслушаю. Тебе станет легче, и я не возьму с тебя платы».
И снова идет дальше. Не смотрит в лица, которые обтекают его. Они не знают, кто он, а он не знает, кто они. Это их дело поднять или не поднять. И ему все равно, кто поднимет. А может, и лучше, если не поднимет никто, если это останется только игрой в слова, одним из ее вариантов, бумажный бог, бумажный бес, слово как высшая форма самоудовлетворения.
— Извините… Мм-м. Я опять вот наблюдаю за вами.
— У-эээ! — он вскрикнул от неожиданности, поворачиваясь к человеку, который ногтями пальцев тронул его за плечо и который должен был стать теперь его жертвой.
— Я поднимал ваши записки, шел по следам. Я хоть и профессор, люблю сумасшедших. Да я и сам сумасшедший. Сам девочек ловил в свое время, не таким, конечно, изысканным способом, это ты здорово придумал. Я еще там, в выставочном зале, понял, что вы гений. А ловишь сразу с литературным уклоном? Хох!
Не отвечать, просто посмотреть на него. Да, это он, он подходил на выставке и, представившись профессором, приглашал в буфет. Да, это он — бородатый здоровяк с глицериновым лицом, с жизнерадостными бычьими ноздрями, с плутоватыми маслинами глаз, со ртом, наверное, любящим рыбу. Это он. Сколько в нем литров крови? Восемь? Нож в это тело, наверное, будет входить радостно и легко, и, может, этот здоровяк сам будет радоваться своей смерти, будет смеяться, немного давясь в самом конце, с удивлением глядя, как его жизнь из него вытекает, как она равнодушна к нему, подчиняясь лишь законам тяжести, законам текучести.
— Нет, — тихо ответил молодой человек с мягким всасывающим лицом. — Мне все равно. Любой.
— Что значит любой? О-хох-хах! Та дамочка в фиолетовых чулках была ничего, а? Длинные ножки…
— Вы не совсем правильно меня поняли, — еще тише ответил он.
— Не совсем правильно, не совсем правильно. Послушайте, давайте «на ты». Не люблю, когда «выкают». Эти все чистюли с их выпендрежем, культурные людишки, ни черта не понимающие в жизни. Ты же не такой, я вижу. Называй меня просто Толей. А тебя как?
— Я никто.
— Вова?
— Ну, если хотите, Вова.
— Так вот, Вова, ты мне действительно симпатичен. И ты мне нужен, Вова, не знаю зачем, но нужен, эти твои записочки… Ты студент?
— Нет… Да.
— О-хох! Короче, давай отметим знакомство. Я богатый, хороший профессор, самый сильный и самый мощный. Все оплачу. Поехали? Мне есть, что рассказать, и ты внимательно выслушаешь, да?
— Да.
— Да ты не бойся, я не убийца и не гомосексуалист, я действительно профессор кафедры физической химии, занимаюсь автокаталитическими процессами. Не веришь? «Нет. Да». О-хох-хах! Что ты на меня так смотришь? А может, я действительно убийца? Я же люблю подводную охоту!
— Верю, что вы профессор, — ответил снова он тихо.
Толик рассмеялся вульгарно, как в пивной, словно ощущая, что его подводное ружье совершило еще один удачный выстрел. Потом достал из кармана маленькую красненькую книжечку:
— Да вот мое профессорское удостоверение.
Молодой человек не ответил.
— А ты всё же кто, Вова?
— Никто.
— А-а, о-хох, ну хорошо, поехали.
Странноватый тип, может, и вправду сумасшедший? Да черт с ним. Профессорский ум — ноу хау — поможет. Охотник знает, как отрезать. И сейчас Толик запросто может остановить это такси, сказав шоферу: «Притормози-ка». И вышвырнуть этого типа на тротуар: «Убирайся, я передумал!» Или: «Подлец, как он смеет, еще хотел меня ударить, я же профессор!» И сунуть шоферу красненькое под нос, и сделать это с шофером вдвоем. Это его, профессора, социальное право. Но зачем об этом думать сейчас? «Он может все, что хочет». Но сейчас профессор хочет этого мягкого молодого человека. Зачем-то он нужен ему. Может быть, просто в кабине слишком жарко, и надо лишь сказать шоферу: «Выключи печку». А может, он, Толик, и вправду скрытый гомосексуалист? Хох! Да, может, и так. Профессор на все имеет право. Разве он не самый сильный, не самый мощный? Словами он и так уже подмял под себя это мягкое, всасывающее. Его поток, его либидо мощнее. Все, чего мы хотим, это чтобы наше либидо в кого-то вошло. О, наше упругое либидо, этот наш отталкиватель, эректор, этот наш возноситель! Зачем лицемерить? Лишь чувство собственного превосходства над другими, — вот все, что должно двигать мужчиной в общении с другими мужчинами. Да нет, все так и не так, этот мальчишка на заднем сиденье прекрасен (Толик обернулся и подмигнул молодому человеку). А как он стоял перед той дурацкой картиной? А потом эти душевные записочки — идет и разбрасывает. Действительно ли девочек ловит? Что-то не похож вроде на донжуана. Засмущался, когда он, Толик, об этом спросил. Ладно, он, Толик, выпустит и для Вовы эректор. Все-таки что же это за тип?
— А ты не священник, Вова? — спросил, еще раз обернувшись, Толик, его темноватые глаза добродушно улыбались.
— Может, и священник, — ответил без улыбки молодой человек и посмотрел на движущуюся аллею деревьев.
— Ну, хорошо, в пивной разберемся, кто ты, — отвернулся Толик. — Пока ты мне еще симпатичен. Не хочешь говорить, не говори. Слушай, — снова повернулся профессор, — а может, ты писатель? Эти записочки? Студент из какого-нибудь Литинститута? А может, ты графоман?
— Я никто. Нам с вами лучше условиться, что я никто, — ответил на этот раз мягко молодой человек после паузы, но в глаза профессору так и не посмотрел.
— Ну, хорошо, — весело сказал Толик. — Ты совсем вспотел, бедняга. А я страшно люблю священников. Я великий грешник, самый сильный и самый мощный. Я тебе когда-нибудь исповедуюсь. Может, ты мне за этим и нужен, о-хох. Эти твои записочки.
Вот эти слова, которые он произносил вслух: «Мне все равно… Любой… Вы не совсем правильно меня поняли… Нет… Да…» Делали ли они его другим? Кабина, в которой почему-то очень жарко, а вовне прохладный после дождя несущийся навстречу воздух. Широкая спина в чешуйчатом плаще откинулась на сиденье впереди. Чешуйки пряжек. Это профессор. Куда он едет с профессором? К месту казни? Шевелится спина рыбы, и профессор поворачивается снова: «А может, ты писатель? Эти записочки. Студент из какого-нибудь Литинститута? А, может, ты графоман?» ГРАФОМАН. Язвящая жара, она настигает в закрытой кабине, в специальной кабине, из которой не выйти, в специально разогнанной для этого кабине. Это слово, которое он гнал от себя так давно, рано или поздно оно должно было его настигнуть. ГРАФОМАН. Или это и есть одна из тех отравленных стрел, которые он извергал вслепую, оскверняя небо, и сейчас, впитав в себя капли дождя, она возвращается? Одно, всего лишь одно слово. Падает в бездну и множит насмешливый хор: «Графоман! Графоман!! Графоман!!!». Обычная кабина с кожаными сиденьями, жаркая кабина с плотно закрытыми дверями, с профессором в рыбьем плаще, который его убивает вот так, задевая нечаянно. Нет острого бритвенного ножа, а есть лишь длинная черная ручка — шариковый карандаш с белыми полосками по ребрам. И не мягкое тело, а коробка блокнота. И все, что он может, это лишь написать: «Я твой убийца, твой убийца, твой будущий убийца». Свернуть этот куцый листочек в трубку, полый бумажный цилиндрик, беззвучно ткнуть в эту спину. Значит, он просто ничтожество в раме этой машины, которая, ускоряясь, снова являет собой лишь закон сохранения, выведенный когда-то софистом. И убийство оборачивается самоубийством. Что же, значит, только слова? Вцепиться в кожаное сиденье ногтями, прижать ляжками кисти рук, смахнуть кивком головы капли пота со лба, не дать скользнуть своим рукам к блудилищу карандаша и блокнота, не написать. Скрывая напряжение в руках, он должен размягчить свое лицо и сказать, добродушно сказать, глядя жертве в глаза: «Я никто. Нам с вами лучше условиться, что я никто».
Белые скатерти на прямоугольных столах, белые скатерти в синеньких рамках, они впитывают соус и жир, пролитую водку, бульон, чью-то слюну. Белые скатерти для непрожеванных жил, раздробленных костей, мякишей хлеба, кусков мяса, случайно выскользнувших из тарелок при расчленении антрекотов, белые скатерти, о которые незаметно вытирают сальные пальцы, по которым хлопают в экстазе ладошами, которые прожигают окурками. Белые скатерти для измятых салфеток с оральными отпечатками. Белые скатерти для затупленных вилок и острых ножей, для плотно поставленных соусниц и салатниц цилиндрической формы, для наполненных кровавым морсом кувшинчиков и страусных графинов с пшеничной.
— Бб-е-е-ллую скка-а-терть, понял, говно! — крикнул профессор, удовлетворенно наблюдая сквозь дымчатую алкогольную линзу, как оскорбление мечется, пережевывая лицо нечаянно пролившего соус официанта. — Чис-с-стую, скотина!
— Толик, прошу тебя, не заводись, ерунда же, — нараспев душевно сказал Авдеев, глядя, как мелкая дрожь затрясла мелкие чернявые волоски на мускулистом гофрированном пальце, сжимающем ручку соусницы.
Пытаясь загнать судорогу с лица в горло, официант вежливо извинился, он сказал, что скатертей больше нет.
Профессор откинулся на спинку стула, спокойно рассматривая его крупную фигуру:
— Мудила ты, а я профессор, вот так, до-р-р-огуша. Б-бе-лл-ую ск-а-а-терть и еще бутылку водки, понял? — он покачал головой.
Официант прикрыл глаза, щеки его поднялись, а сжатые губы удлинились, потом он взял соусницу и, не говоря ни слова, отошел от столика.
— Послушай, Никто, — самодовольно повернулся профессор к молодому человеку, молчаливо наблюдавшему всю сцену с края, — ты знаешь, кто самый мощный в мире профессор?
— Толик, конечно же, ты, — ответил вместо молодого человека Авдеев, провожая взглядом официанта. — За это я ручаюсь головой. Только, ради бога, не затевай скандал, посмотри, какие у него кулачищи. А еще тот, в гардеробе. Пожалей хоть меня, отче.
— А что в гардеробе? Мы самые сильные, мы самые мощные! — выкрикнул профессор, наливая себе еще полрюмки. — Чего мне тебя-то жалеть? Я мать-то свою не жалел, царствие ей небесное, — он как-то странно засмеялся. — И за что она меня, поросенка такого, родила? — добавил он вполголоса, выпил один и, не закусывая, снова закричал:
— Я тебе диссертацию изобрел или нет?
— Почти, — осклабился Авдеев.
Профессор снова откинулся:
— Почти. Никто, ты слышал?! Набрал я себе нахалов в аспирантуру. Дураки! — он попытался подняться, наваливаясь животом на стол. — Нет, в пивной гораздо приятней. И на скатерть никто и ничего не проливает. Не то, что в этом дурацком ресторане.
Подошел официант и молча поставил бутылку водки.
— Где белая ск-а-а-терть, свинья, — снова спросил профессор.
— Какая скатерть? — деланно удивился официант, пытаясь удержать деревянное лицо.
— Кто изгадил нам стол, соб-а-а-ка?! Говно ты вонючее! Козел! Тупая рожа!
— Мм-м, — промычал официант, пытаясь разлепить губы и снова не в силах удержать падающую деревянную маску.
— Дрянь, скотина безмозглая!
— Толик!
Губы официанта наконец разлепились. Глотая слюну, он проговорил глухо:
— Ну, прошу же вас, не надо же так.
— Толик, кончай.
— Три, нет пятнадцать салатов, семнадцать бутылок водки и бе-е-ллую ск-а-а-терть, скотина!
— Не обращайте на него внимания, он пьян, — ласково сказал Авдеев и попытался дотронуться до руки официанта.
— Я хозяин! — рявкнул Толик.
Официант застыл. Авдеев прикрыл глаза. Только молодой человек не изменил позы.
— Хорошо, я принесу, — произнес официант, не сводя с профессора сладковатого, с пеной ненависти, взгляда.
— И б-е-е-лую ска-а-терть, свинья!
Официант быстро отвернулся и быстро отошел.
— Толик, сколько у тебя с собой денег? Эти скоты нас отсюда не выпустят, — заговорил, оглядываясь на официанта, Авдеев, потом полез в карман. У меня червонец.
Профессор захохотал:
— Выпустят, еще как выпустят, правда, Никто? Мы будем драться!
— Драться? Но я не умею драться, — сказал Авдеев. — Я, конечно, буду махать руками, но этот, да еще тот из гардероба, Толик, это же тумбы, они же нас сразу убьют.
Авдеев взял свою рюмку и выпил залпом, закидывая голову:
— Не хочу я драться.
— Все равно надо драться, — нажал невозмутимо Толик, наливая всем еще по рюмке. — Ну, убьет и убьет. А кто же будет драться? Я толстый, старый, седой профессор. А это вот у нас Никто, ему тоже никак. Он вдобавок молчит, неизвестно, что там у него на уме.
Профессор выпил, не чокаясь, свою рюмку и задержал ее в руке.
— Слушай, Авдеев, — сказал он, отводя взгляд, — я подумал, в твоей задаче надо же просто кор отталкивательный ввести в потенциал, и дело с концом, — и поставил рюмку рядом с соусным пятном, постепенно расплывающимся по скатерти, а потом вдруг снова расхохотался, развернулся, задевая локтем за бутылку лимонада и опрокидывая ее.
— Эй, Авдеев, а хочешь быть директором этого ресторана? Я скоро его куплю, о-хох! Мне нужен свой ресторан. У меня есть заокеанские друзья. Где же мне их принимать? У Джона Киргстайна, прыщавого и прекрасно разговаривающего по-русски Джона Киргстайна, любителя женщин, картин, лошадей, путешествий, вот у него есть свой ресторан там, а у меня здесь нет. Это же несправедливо, а, Авдеев? О-хох! Эй, Авдеев, не дрейфь, мы скоро купим с тобой этот ресторан. Да все давным-давно продается и покупается, и это — великое изобретение человечества, недаром Маркс написал свой «Капитал». Свобода нашей эпохи — в деньгах. Не жалей то, что продаешь, будь сильнее. Деньги, колесо и алкоголь — наши великие изобретения. А продается и покупается все: заводы, рестораны, картины, лошади, убеждения, жены, идеи, дети, родина — все, все продается. Зачем лицемерить? Только что-то за двести рублей, а что-то за миллион или больше, что-то откровенно, а что-то с кривлянием, разница только в том — как. Будь сильнее, только слабый мучает себя совестью из-за этого.
Авдеев молча поднял опрокинутую бутылку, потом так же молча налил себе рюмку водки и снова выпил залпом.
— А наш Никто почему-то ничего не говорит, — продекламировал, разворачиваясь к молодому человеку, профессор. — Настоящие мужчины не болтуны? Нет, тебе надо обязательно с нами познакомиться. А иначе кто же о нас напишет? Кто расскажет о наших грехах? А, Никто? О-хох! Ты! Ты должен написать так: «Кто самый сильный? Кто самый мощный? Кто самый лучший в мире профессор и самый веселый пьяница, муж самой красивой и самой молодой жены, самый добрый научный руководитель? Кто изобрел одиннадцать кандидатских и три докторских своим ученикам? А кто однажды августовским вечером за бутылкой водки на даче у академика Бубубова задал три вопроса, взрастивших трех китов, на которых стоит отныне новое направление в кристаллохимии? А кто раздел на конференции в семьдесят девятом году самого Козлевского, а кто надругался над докторской знаменитого Осипяна? Кто самый сильный, самый мощный? И кто скоро станет самым богатым, кто станет миллионером на софт уэар?» Верно, Никто? Напиши обо мне роман, Никто. Я люблю жизнь, я люблю себя, я люблю свое дело, я хочу остаться… Напиши о нас роман, и ты тоже станешь богатым, а потом мы вместе откроем новое дело, построим самый гигантский в мире завод по производству эректоров. Ты знаешь, что эректор изобрели два ленинградца? Дай-ка салфетку, я нарисую тебе, как устроен этот прибор, а то ты, наверное, и не знаешь, что это такое. Вот здесь специальная растягивающая пружина…
«…белая скатерть, тупой ресторанный нож. Кто я? Графоман? Они говорят, я молчу. Я молчу, и, значит, я слушаю. И, значит, я и есть эта белая скатерть, для них промокашка. Священник в запятнанной одежде совершает богослужение, нечистыми пальцами касается алтарных врат, входит, не крестясь, потной ладонью протирает икону, совершает преступление, не совершая, берет на себя чью-то вину и казнит сам себя. Это они наделяют виной другого, убивая его. Если не ты, то я. Им нужны самоубийцы, как молоту нужна наковальня. Кто я? Белая скатерть или острый бритвенный нож?»
— Вот, как заказывали, господин профессор, пятнадцать салатов и семнадцать бутылок водки, — жадно как-то и весело-печально сказал официант, подкатив нагруженную тележку.
— А где белая скатерть, говно?! Нагадил здесь соусом, разлил лимонад! Я что тебе, в грязи буду барахтаться? Увози обратно, дурак.
— Занесено в счет, расплатитесь!
— Позови сюда мэтра, козел! Вот этот спортсмен будет завтра твоим директором!
— Скажи своему профессору, чтобы он перестал меня оскорблять! — официант чуть не ударил Авдеева дернувшейся рукой.
— Толик!
— Мэтра сюда!!
— Я сейчас вернусь, — сказал Авдеев, нетвердо поднялся и твердой походкой пошел из зала.
Сдерживая дрожь, официант упрямо расставил по столу пятнадцать салатов, потом стал выставлять с нижнего этажа каталки одну за другой бутылки с водкой.
— Никто, бей его!
«Зачем я встаю? Ведь это не я встаю. Эти блестящие бутылки на столе. Белая грязная скатерть. Лучше уйди, просто уйди отсюда, как Авдеев. Не трогай этот нож, не нащупывай его рукою. Не сжимай лезвие в ладони поперек линии жизни. Они кричат, я не слышу, и, значит, их нет. Только я за стеклянной стеною. Остаться за этой прозрачной защитой. Я должен остаться, и я остаюсь. Значит, не я. Он встает, он берет не за лезвие, за рукоятку, чтобы остаться самим собою. Две тюрьмы: та или эта. Ему не все ли равно, на стене, которой из них расписаться в том, что он существует? Ударить в лицо. В блестящую щеку, там, где она уже зарастает, клубясь бородой, прорезать насквозь, и лезвие скользнет по влажному нёбу, сдирая розоватый нежный эпителий, к темненьким маленьким горловым пещеркам, срежет основание языка. Ударить. Тупым ресторанным ножом ударить вперед. Не белая грязная скатерть, а острый бритвенный нож. Когда будет падать, он потянет ее на себя, чтобы зажать кровоточащую рану».
«Не я, не я, слава тебе, боженька. Как догадался подняться все же, разыгрывая пьяного, и выйти в сортир? Как чувствовал, что дело кончится плохо. Убили, убили, моего профессора убили, Толика убили. Ну почему же так хочется смеяться? Не могу прямо. О-хох! Это его. Он так смеялся — о-хох. Мы самые сильные, мы самые мощные. Ой, грех это, наверное, ну все равно, не могу. Как же хорошо-то, когда жинка моя сзади жаркая обнимает, вот так же хорошо, когда ручка ее ласковая змейкой скользит к моему волосатому заповеднику, ради чего жить только и стоит. Не могу, наслаждение кислородное какое-то, как шампанское пузырьками радужными впитывается в мозги. Господи, кажется, никогда так хорошо в жизни не было. Толика убили, Толика убили, в рот ему прямо ножом ударил, в десятку, что называется, а сидел-то рядом со мной, кошмар. Я как чувствовал, что что-то произойдет. В туалете пол кафельный. Я еще этому типу лысому в окошечке с вентилятором тридцать копеек дал вместо двадцати. А гробовщик этот, гардеробщик то есть, рядом мочился, меня все трясло от соседства, я все гусиный вид делал, будто зиппер не могу расстегнуть, а то что же стоять и не, никак, в это время же и ударить может вполне неожиданно — такая тумба, а я беззащитный совсем, руки заняты. И вдруг крик этот дикий, словно кожу на морозе сдирают бритвой опасной. Визг бабий из зала: „Уби-и-и-ли! Уби-и-и-ли!!“ И я в это время достал, и у меня получилось. Я сразу понял, что это его, Толика, убили. Я солнце на кафельной стене увидел. И уверенность во мне поднялась. Все словно в этот визг ушло, весь мой страх подспудный перед мразью этой официантской. Я ему плюнул, гардеробщику, в спину, когда он на крик побежал, я даже от писсуара не отошел, не прервал потока, только голову повернул и плюнул. Слава тебе, боженька, что не я. А что мне будет? Ничего мне не будет, я же ни в чем не виноват. Я в туалет выходил, и баста, а этого типа с ангельским личиком я первый раз в жизни видел. Баста. Все, забываем пока. Итак, значит, все дело в коре, надо ввести в потенциал отталкивательный кор. На компьютере я это за час просмотрю. Конечно, это и есть последняя точка. Интуиция все же была у Толика потрясающая. Талантливый, гад. Значит, дисер есть. Текст напишу за лето. А кто же руководитель теперь? Ладно, Бубубов назначит, это же надо и ему, всей нашей школе это надо — умножить ряды. Мы их возьмем числом, Осипянов этих, Козлевских. Жалко, конечно, Толика, неплохой был мужик. Не везет мне с бизнесом, черт, родненькую, персоналку, не успел толкнуть через его контору, десять процентов посреднических от восьмидесяти тысяч, с Джоном так и не познакомился. Этот — как он его называл — никто поганый, скотина, чтоб его там на велосипедике прокатили с острым седлом, мразь, шизофреник, подлый убийца. Убить профессора! И это сейчас, когда мы говорим о правовом государстве, когда вся страна напрягается в борьбе с преступностью, с бюрократией, с правыми силами, с коррупцией. Когда перед нами, быть может, единственный шанс не умереть, не погибнуть!»
Часть вторая.
Профессор
Где ты? Стол, привинченный к полу болтами. Железные нары. Морговый запах ржавой параши, который раньше мешал, а теперь уже не мешает. То, что когда-то увидел на чистом холсте, можно потрогать рукою, теперь не называя. Холод. Неумолимый холод, пьющий твое тепло. Безмерность холода и твое ничтожество. Айсберг справедливости с толстыми прутьями решеток. Не шевелись. Нет тепла для тебя. Только чувство вины — отныне в нем твоя жизнь. Что ж — эта белая стопка листов на столе. Они разрешили тебе писать, чтобы казнил сам себя? Умерщвляющий сам себя преступник. Только откуда в тебе эта трезвость, от холода? Эта белая стопка листов на столе. Тебе разрешили писать. Близость смерти излечивает от безумия. Что ж, по крайней мере нет этой настигающей, как в машине, жары. Да, был безумен. Но твое ли это было безумие? Ведь все связаны, как острова под водой. Да, я убийца, но ты был безумен. Не письмо, он пишет теперь не письмо. Он не раскаивается. Он о чем-то рассказывает — не о своей жизни, словно выплачивает долг. Он знает, что умрет. Они признают убийство преднамеренным, они постараются, найдут, к чему прицепиться, эти авдеевы, скажут, что он был знаком с профессором давно. Они отомстят преступнику. Они отомстят ему. Они отомстят тебе. Они не отменят смертную казнь. Они соберут вещественные доказательства — выдолбят куски асфальта, достанут из урн скомканные салфетки, вырежут автогеном куски гаража, выломают стену в его комнате, они соберут все это — кучу хлама, чтобы положить на весы правосудия. И еще, быть может, они вырвут из него «царицу доказательств» — признание, переведя в общую камеру, где его, как шавку, будут насиловать «товарищи», — жестокая реальность, данная не в блокноте, а в безымянном кошмаре боли. Что же, пока он один, он мог бы, подобно Сизифу, забыть о тягостном камне. И если вменяем теперь — написать о радости жизни (в преддверии ада). О том, что было — о матери, оставшейся там, в Бирюлево, в длинном бараке, напротив железной дороги, ведь он любил и любит ее (будет любить?). Вечерами, когда солнце садилось там, за товарной станцией, и диспетчерши говорили по радио на всю округу не только о составах, отправленных с сортировки «на первый» или подданных «на второй», но и просто так, ни о чем, скипел ли чайник, придет ли Иван, вечерами мать смеялась иногда, готовя блины, поглядывая в окно на шуршащую в закате листву, прислушиваясь к голосам. Она словно становилась моложе, и он смеялся вместе с ней, он чувствовал вдруг себя еще ближе — ее сыном, смех как повадка, по которой животное узнает свою кровь, текущую в другом теле. Ведь любишь свое. Теперь заточенный в сырые холодные стены с железной дверью вместо окна, он мог бы увидеть на белом листе и то, что любил, и то, что будет любить после… ведь он не умрет, он всего лишь изменится. Кем родится? Он знает теперь (те раскиданные бумажки, эта стопка белых листов), он знает теперь: то, что написано, — есть, и то, что напишет, — будет. Бог или дьявол? Для них, наверное, повод для издевательств. Успеть, пока не придут с полным набором «кухонных принадлежностей». Выплатить долг перед будущей жизнью. Кто-то хотел портрета в парадном мундире. Чтобы повесить на стену. Чтобы портрет следил за ним взглядом: «Я не меняюсь. А ты, смотрящий теперь на меня, можешь позволить себе все, что хочешь». Он выплатит долг. Не защита, не оправдание… Такая цена. Но откуда он знает жизнь того, кто стал его жертвой? Ведь профессор ничего не успел ему рассказать? Эти разрозненные листки… Еще одна попытка достичь поверхности? Воображение как память.
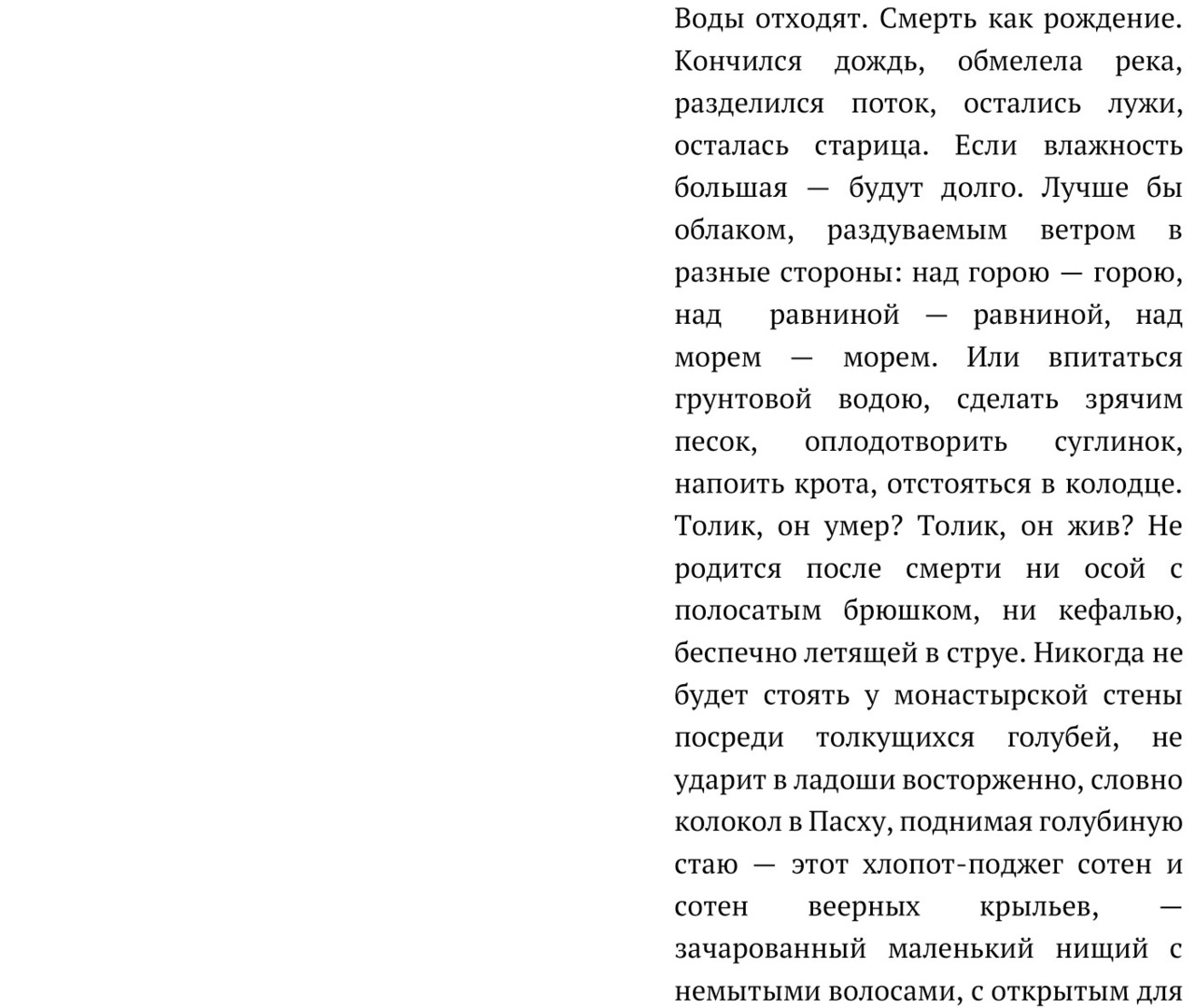
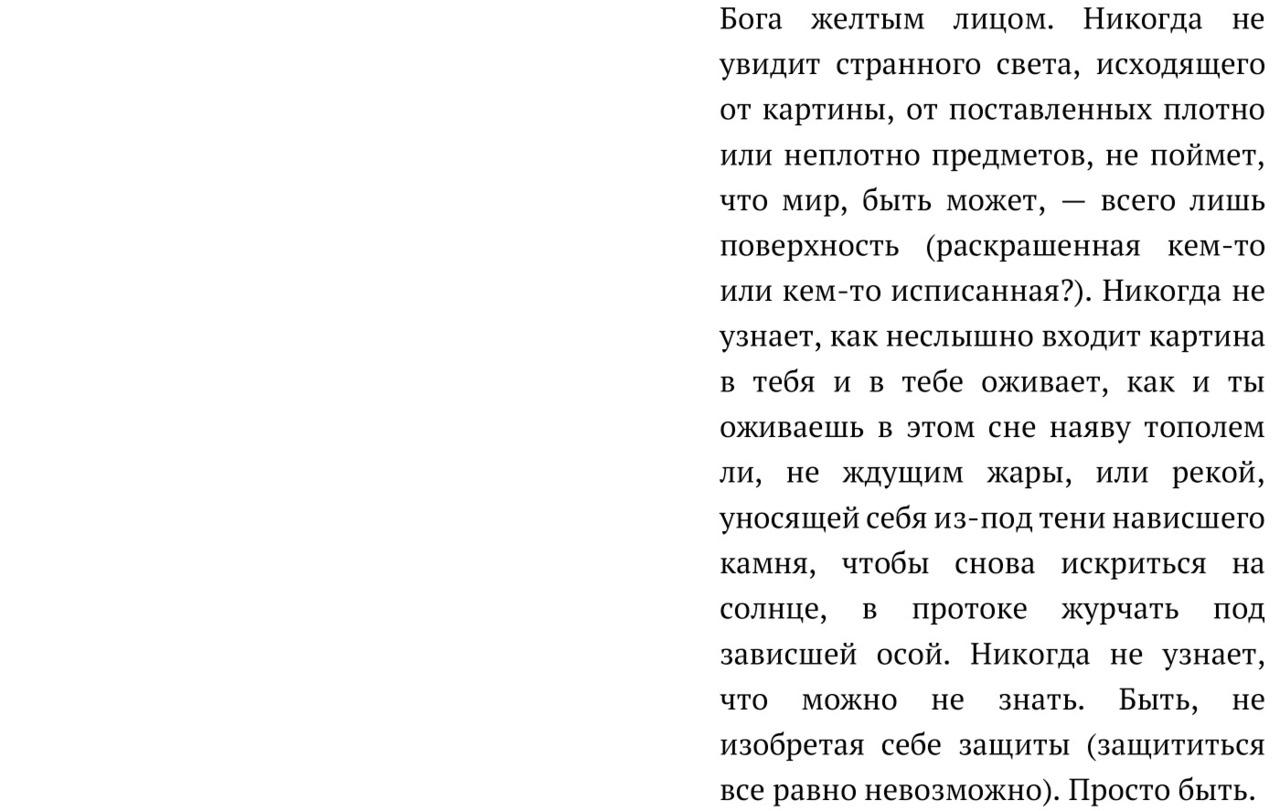
Его мать
Воды отходят. Корчится мать, рождая убитого cына снова профессором, только профессором, ни осой, ни… Он хочет остаться, и, значит, останется. Самым сильным, и самым мощным, и самым богатым. Нет. Он никогда не изменится. Изобретая другую одежду, он останется со своим телом. Ведь он держится за него. Ему досталось выгодное тело. И он гордится своим пупом, и знает все, что знает. Грязь и шлак, которые он несет под панцирем в себе. Сильный себя не казнит, сильный забывает. О-хох! Пусть.
Ноу хау. Есть древний закон. Тайна для избранных. Сделай так. И тогда пустота — ни людей, ни вещей, бесконечное объемное пространство власти. Изобрети прыжок через пропасть, ведь так близок склон с карликовыми деревьями, с живописной дорогой, уходящей к вершине, за которой слышится океанский прибой. Напрягись, эрегируй голос, эрегируй взгляд, оквадрать скулы и сделай плоскими задвижки щек, подними их выше, прикрывая бойницы, зажми нос от вони и скажи этой сумасшедшей старухе, твоей матери, мокнущей в собственной сладковатой моче, скулящей, как сука, от пролежней, скажи, что ты привезешь вечером лекарство, скажи в это блестящее, словно из пластмассы, лицо, в эти светящиеся, ничего не понимающие глаза, в эту полуулыбку с мягким беззубым ртом, скажи, что ты вечером привезешь лекарство. Ведь она повторяет услышанное от врача (проблеск механической памяти). Как заводная кукла, она повторяет его фразу, словно хочет свести с ума и тебя (прочь!). Она даже копирует его интонацию: «Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать. Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать. Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать. Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать». Оборви магнитофонную ленту. Захлопни дверь. Вечером ты будешь у Бубубова в гостях, последняя возможность попросить о месте профессора на кафедре физической химии. Ноу хау. Сюжет для беллетриста средней руки. Банальная вечность. Крикни ей, что вечером обязательно привезешь лекарство.
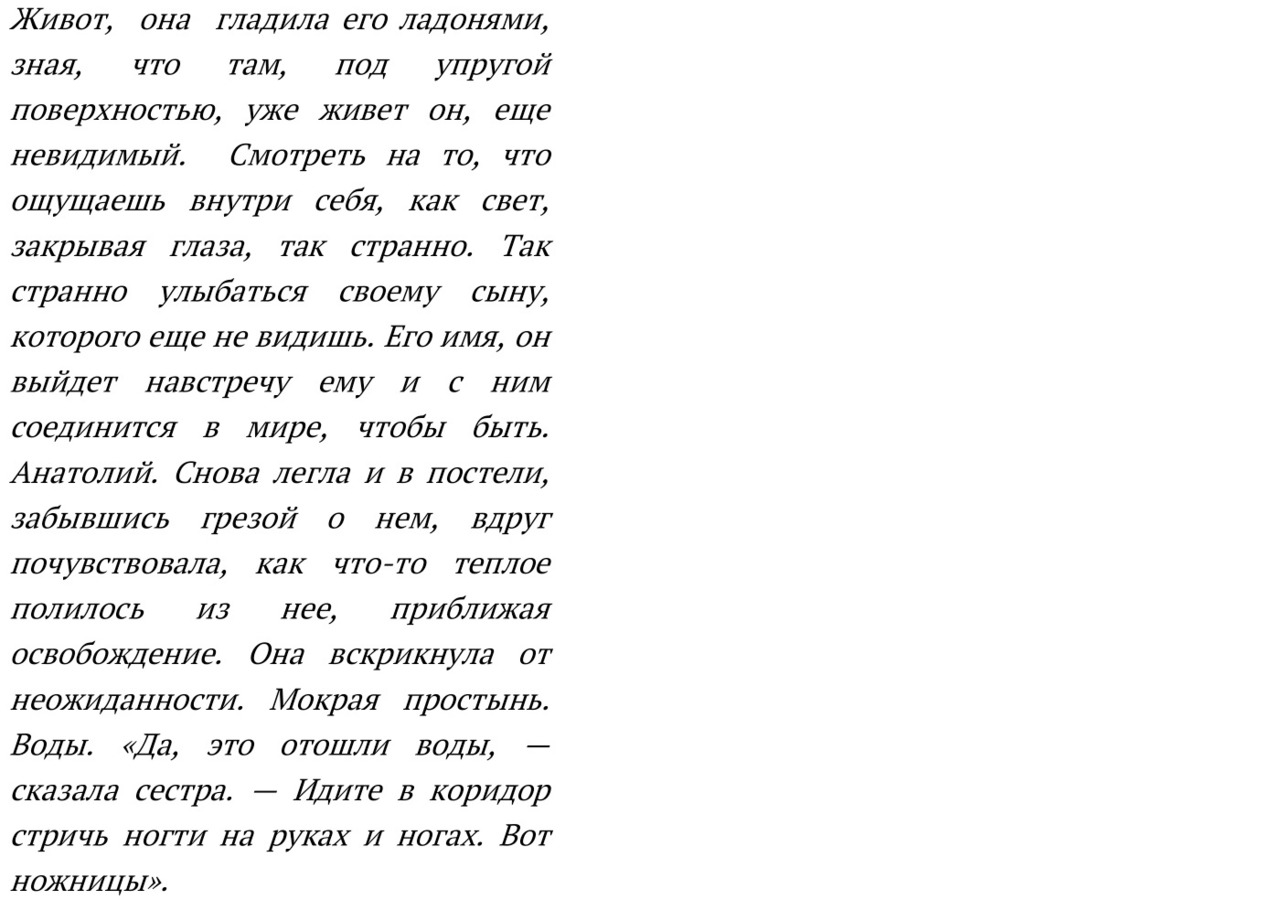
«Я привезу тебе вечером лекарство, поняла ты или нет?! Я сказал — привезу!» Приподнимается в постели, крепко вцепляется в твои пальцы, а ты опаздываешь к Бубубову, пытается встать, смотрит в стену мимо тебя, словно знает уже то, чего ты еще не знаешь, дрожит ее рот, измазанный манной кашей. Седые желтые патлы. Осень наступает после зимы. Хочет подняться, идти в туалет. Бубубов не любит, когда опаздывают. Отцепить ее сухие сильные пальцы, повернуть лицом к стене, поднять и опереть ее руки о стену, дальше по коридору она доберется до туалета сама, инстинкт еще не угас. Ты смотришь ей в спину, подтягивая галстук. Как смешно она семенит, касаясь одною рукою стены. Без пятнадцати семь. Тебе не хочется плакать, тебе не хочется и смеяться. Тебе не кажется, что ты выпускаешь из рук маленького ребенка и что это его первые шаги. В половине восьмого ты должен быть уже на Таганке. Она доберется по стенке сама и вернется, никуда не денется, чертова кукла. И неизвестно, сколько ты еще будешь таскать из-по нее простыни, измазанные зеленым старушечьим говном. На метро до Таганки пятьдесят пять минут. Захлопнуть дверь. Она поворачивается. Бессмысленный взгляд. Чревовещание. «Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
