
Бесплатный фрагмент - ОРНИТОЛОГИЯ
I have to kill this goddamn bird
I
Одинокая черная птица меланхолично парила в прозрачном весеннем небе над ржавыми крышами, отрешенно окидывая взглядом их неравномерное распределение до самого горизонта. Почти как альбатрос над взъерошенной поверхностью бескрайнего моря. Ведь это был довольно большой город, раскинувшийся в устье полноводной реки.
И отсюда, сверху, казалось, что этот город практически не меняется с течением времени. Одна и та же река, те же улицы, немного зелени летом тут и там и море коричневых крыш изо дня в день, из года в год.
То есть город менялся, конечно, но даже в этих своих изменениях он был словно законсервирован кем-то. Скрыт от глаз. То ли до лучших времен, то ли уже раз и навсегда, в забытьи или помутнении рассудка.
Те же времена года — они вроде и были, а словно бы их и не было в помине. Погода и та в этих своих периодических сезонных колебаниях лишь беспрестанно вертелась по кругу. И странный этот цикл никоим образом не был связан ни с календарем, ни с каким-либо иным временным течением.
Ветер непременно дул лишь с запада, привнося, казалось бы, другие оттенки и запахи, какие-то новые настроения, но одинаково неопределенные и чересчур непонятные.
Так что идеи эти еще оставались какое-то время висеть в воздухе, а после сдувались куда-то дальше на восток, где и пропадали пропадом.
Возможно, что-то все же оседало где-то, но в крайне незначительных количествах и спустя какое-то время совершенно не выделялось на общем фоне.
Из птиц, помимо ворон, по городу бродили лишь верные и неизменные его спутники — воробьи, голуби, да вот еще, пожалуй, чайки. Утки не в счет. Перелетных птиц почти никто здесь не видел или попросту не замечал. А если их случайно заносил сюда тот самый западный ветер, они, повертев своими удивленными носами да полетав чуть-чуть над городом, тут же его покидали без сожаления и без оглядки.
Все же условия здесь были совсем не курортные. Зимой могла в любой момент вернуться осень, весной — зима, летом — все та же осень. И только осень почти ничто не вытесняло из ее привычного бесконечно протяженного, бездонного ложа. Лишь осень здесь царствовала на полную катушку, и все остальное будто бы было лишь ее неисчислимыми проекциями да случайными вариациями.
Впрочем, местный климат вряд ли является чем-то уж настолько особенным в смысле своего довлеющего непостоянства. Разве только погода здесь носила характер безусловно определяющий, то и дело подминая под себя и этих людей, мельтешащих внизу, и будто бы все прочие строения и предметы, когда в очередной раз возвращалась нейтрально-безликая серая мгла, заслоняя собой небо и постепенно заполняя собой весь этот город.
Однако и это серое однообразие было лишь видимостью. В конце концов погода неумолимо менялась снова, и унылую туманную, дождливую облачность сменяло активное и разноцветное многообразие противоположного.
И в этой на первый взгляд бесцветной птичьей жизни неожиданно возникали свои моменты, жизнь приобретала объем и даже появлялись будто бы новые горизонты.
Воробьи и голуби в основном летали беспорядочной толпой туда-сюда, застревая в каком-нибудь особенно кормном местечке или же в проталинах подземной тепломагистрали зимой.
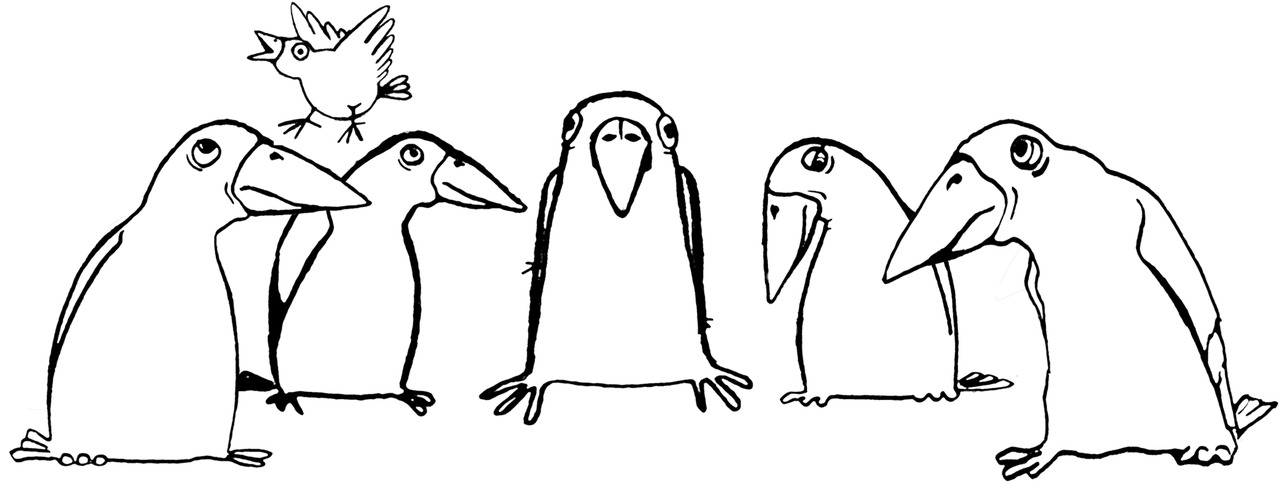
Чайки паслись на реке, с воплями кувыркаясь там в воде, летая над водой или просиживая дни напролет на набережных.
Вороны, как представители более интеллектуального сообщества, целыми днями торчали во дворах, оглашая окрестность своим неприятным, резким карканьем, переругиваясь и выясняя отношения.
Однако иные из них держались вполне себе обособленно, деловито медитируя на самой верхушке какого-нибудь высоченного тополя, покачиваясь там на ветру, или же наоборот, сидя на самой нижней ветке, задумчиво разглядывая прохожих или же просто паря в вышине и глядя куда-нибудь вдаль.
Интересно, что думалось подобной птице в такие моменты? О чем размышляла она, отрешившись от сиюминутного, отстранившись от общения с себе подобными? Вряд ли кто-то знает наверняка. Это есть большая загадка.
Именно такая ворона в настоящий момент и парила над городом в поисках чего-то такого, чего, может, и нет во всем белом свете. Она проживала в одном из бесчисленных дворов, составляющих вместе небывалых размеров каменный лабиринт.
Собственно, город и был в некотором смысле лабиринтом. Как и любой другой большой город. И тут уж у птиц было неизменное преимущество — чем метаться внизу в поисках выхода, они прекрасно могли перелететь в любую его точку, не испытывая при этом никакого дискомфорта, даже не воспринимая в этом смысле лабиринт лабиринтом, с недоумением поглядывая на столь беспомощно блуждающих внизу прохожих.
Так вот, эта ворона жила практически в самом центре этого лабиринта. Где-то внизу, во дворе весело перекаркивалась ее братия, а она сама любила бродить по крышам — то рассматривая небо над головой, то разглядывая суету, происходящую на улице, а то с любопытством наблюдая через окна в доме напротив такую странную и непонятную для нее жизнь людей в самых интимных и замысловатых ее аспектах.
Обнаружив нечто для себя интересное, она могла сидеть так часами, изучая мужчин и женщин за стеклом, как в каком-нибудь зоопарке, театре или даже музее.
Вот и теперь ее взгляд был прикован к сидящему у самого окна человеку, то ли глядящему куда-то во двор, то ли в никуда и не видящему теперь ничего во всем белом свете.
II
Раздражение. Весь мир вокруг заполнен теперь этой чумой. Одно сплошное раздражение на любое движение и неподвижность, любой шорох и внутри, и снаружи. И больше ничего.
Правда, нет, еще есть окно. Высокое белое окно, за которым ничего не существует. Рама крашеная-перекрашеная, облупившаяся и потрескавшаяся. Ее уже давно повело так, что половинка с половинкой не сходится. Потому из окна отчаянно дует.
И это тоже здорово раздражает. Будто кто-то специально измывается надо мной. И этот сквозняк выдувает из головы последние мысли, не оставляя ничего, кроме раздражения, не привнося при этом ни свежего воздуха, ни облегчения.
И совершенно неважно, кто ты есть теперь. Неважно, кем ты был раньше. Теперь только этот бесконечный бледный день, такой, что и деталей никаких и никакого перемещения, лишь блеклый белый свет вокруг и больше ничего.
Разве еще где-то сбоку тикают часы. Мне их не видно теперь, но я знаю, что они там и что они вечно куда-то идут. И раз услышав их тиканье, не замечать их больше не выйдет.
И если что-то движется теперь вокруг меня, то именно таким образом — оставаясь на одном месте. И появляется устойчивое ощущение, что все только делают вид, что что-то делают и куда-то там идут. И это, наверное, главный источник раздражения.
Ничего не изменяется, а вид у всех до того деловой и сосредоточенный. Целеустремленный взгляд и строгий голос. От одного вида просто тошнит.
Жаль, окно не открыть. Хоть и кажется, будто оно не закрывается, и щели между створками чуть ли не толщиной с палец, а не открыть. То ли переклинило его, то ли в последний раз его красили не краской, а клеем. И петли под краской проржавели. И шпингалеты не поддаются. Словом, окно не открыть.
Я специально уселся напротив окна, замотавшись в домашний халат, чтобы не видеть ничего больше. Максимально исключить интерьер и не смотреть ни на что и ни на кого. Тусклое окно идеально подходит для подобной расфокусировки, своим ровным белым светом оно затмевает все остальное. Так проще ни о чем не думать. Проще рассредоточить свой взгляд и затеряться вместе с ним на грани света и тени.
Ибо нет больше никаких дел, нет обязательств и нет самой необходимости. Ничего нет. Есть только реакция, на все одна и та же. И, слава богу, никого рядом.
Видимо, я снова спутал вход и выход, не вовремя сменил направление, ну или сделал что-то такое, чего не следовало бы делать. Теперь уже неважно, в чем именно заключалась причина. Любая ошибка порождает ошибку.
И лишь раз подумав о причине, я стал думать о ней уже непроизвольно, проклиная все на свете и испытывая новый приступ подступающей тошноты и раздражения.
Все же странно. Ладно бы теперь еще кто-то был рядом. Что еще может так изводить, как не другие люди в непосредственной близости? Ведь все остальное вечное и пресное, всегда одно и то же и настолько примитивное и неповоротливое, что должно восприниматься не иначе как никак. Лишь что-то живое и воспроизводящее звуки может вызывать столь однозначную и бурную реакцию. Что-то такое, что будто бы существует в противоположность тебе и всему твоему существу.
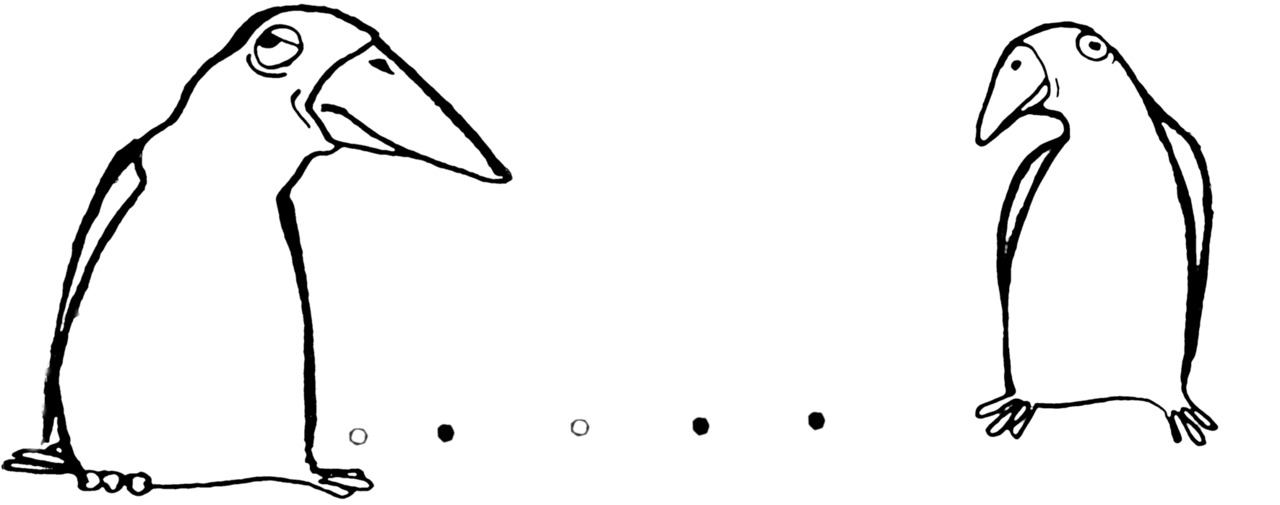
Хотя полно и всяких иных внешних раздражителей. Телефонные звонки, телевизор за стенкой, со всеми его новостями и рекламой, автомобили на улице, соседи, предметы и образы, вызывающие ненужные воспоминания, и общее неустройство бытия.
Оно, это неустройство, обычно всплывает именно в такие вот моменты острой неудовлетворенности всем. Что называется, невзначай попадается на глаза и что есть сил разъедает изнутри, поглощая остатки душевных сил.
Вообще, я человек неприхотливый, уравновешенный и спокойный, но только не теперь. Наверное, подобные вещи происходят со всеми, так или иначе. Может, не столь ярко и эмоционально. С другой стороны, раздражение есть признак существа разумного и живого. Что должно звучать если и не ободряюще, то утешительно.
Я принялся отковыривать краску с оконной рамы и настойчиво убеждал себя, что причин для расстройства на самом деле нет никаких. Эдакая вялая терапия.
Но в подобные моменты меня уже так просто не проведешь. Знаю я, как обстоят дела на самом деле. Именно теперь по-настоящему открываются глаза, чем когда убеждаешь себя, что все это ерунда, не стоит твоего внимания и бывает значительно хуже. А на общей кухне меж тем отвалилась очередная кафельная плитка, течет труба где-то под унитазом, а в ванной протекает уже от соседей — снова весь потолок в подтеках. Ну еще, как водится, денег нет ни хрена, а под зеркалом где-то в этой же самой комнате стопка квитанций и счетов еще с прошлого месяца. Кредит за ноутбук не выплачен. Кариес, методично переходящий в пульпит. Поясница ноет, спать не дает. Запущенные и истерические родственные связи. Ну и так далее.
На хорошее просто не хватает фантазии. Есть, конечно, и свои положительные моменты, но какие-то уж больно ничтожные и абсолютно пассивные.
Так что вот она — правда жизни. На самом деле все очевидно плохо и даже отвратительно устроено. И можно либо с этим мириться и стараться не замечать, либо сходить с ума и справедливо рвать на себе волосы.
Весь подоконник передо мной уже был усеян отколупленными белыми кусочками старой краски. И я решил прекратить это занятие. Дабы не плодить вокруг себя дополнительную разруху и хаос.
Потом я совершенно механически повернулся, и тут же мой взгляд упал на проклятые часы.
Я их всегда ненавидел, но это была ненависть бытовая, вполне себе мирная. Чья-то очередная полуистлевшая память о ком-то. И с ними приходилось мириться.
Обычно они привносили с собой вполне естественный дискомфорт, но теперь я вдруг узрел на них четыре часа дня и неожиданно моментально успокоился. Будто кто-то там, наверху, сказал — хватит. И чья-то величественная, властная рука выключила рубильник.
За окном немедленно проступил внятный и вполне себе терпимый город. Ценность жизни вновь сделалась весомой, хоть и сомнительной, а материальные неудобства неспешно отошли на второй план.
Даже комната несколько ожила и предстала передо мной вполне себе терпимой жилплощадью.
Хорошо еще, что обстановки в комнате никакой особо не было. Старинный огромный шкаф, вмещающий в себя всякое тряпье и прочий хлам, куда уж без него. Небольшой книжный шкафчик, довольно узкий, но высоченный, заставленный по преимуществу всяческой специальной литературой. Где-то там, на самом верху шкафа, торчал чей-то пыльный гипсовый бюст, подаренный кем-то из знакомых, ну и маячила дежурная, пыльная же ваза. Потом двуспальная кровать, довольно обширный обеденный стол, заменяющий при случае любую рабочую поверхность вообще, два стула и дежурная табуретка. Пожалуй, что и все.
Нет, еще был один маленький журнальный столик и внушительная корзина для белья. Довольно много вещей стояло и лежало прямо на полу. Это были, так скажем, вещи первой необходимости. Электрический чайник, обувь, какие-то сумки с чем-то, немногочисленный музыкальный аппарат, синтезатор, некоторое количество посуды и что-то еще. На стене висел маленький неработающий телевизор, чтобы не путался под ногами. И, в общем, на этот раз все.
Вместе с этим жилище выглядело вполне опрятным и удобным для проживания. Интерьер завершали давно уже выцветшие, старинные полосатые обои, одинаково нас с женой устраивающие своим нейтральным незаметным сине-зеленым оттенком, ну и достаточно скромная, но веселая люстра, висящая настолько высоко, что на нее уже давно никто не обращал никакого внимания.
Раздражение так или иначе посещает всех. По крайней мере, всех моих многочисленных друзей, родственников и знакомых. И у всех это проявляется непременно как-нибудь по-своему.
Кто-то откровенно бесится и кидается на всех, хлопает дверьми и посылает всех куда подальше. Кто-то, наоборот, специально выискивает жертву, какую-нибудь особенно беззащитную и безответную, ну и сливает на нее по полной программе с извращенно-садистским наслаждением. Кто-то погружается в себя настолько глубоко, что и не докричишься. А кто-то, наоборот, мысленно скрипя зубами, держит себя в руках и стоически терпит всех и вся, улыбаясь при этом разве несколько отрешенной улыбкой — настолько не выказывающей ничего, что присутствующие остаются не в курсе истинного положения вещей до первого сердечного приступа.
Я так обыкновенно кипел внутри себя, но, впрочем, на грани легкого срыва, переставая различать детали и людей вокруг, будто только что принял смертельный яд, и вот он уже действует. Меня выворачивает наизнанку, и все неминуемо летит черт знает куда, а мир как был, так и остается равнодушно-плоским и безнадежно дурацким во всех своих направлениях.
Но по сравнению с иными, прочими подобные приступы посещали меня, как мне кажется, все же не слишком часто. Так, раз в неделю, а то и реже. Ерунда. Не патология.
Правда, жена моя всегда считала иначе. Ну да она уже пару месяцев как в отъезде.
У нас вообще отношения с ней превалировали изысканно-предупредительные и довольно ненавязчивые. Как в санатории или в дурдоме. Но несмотря на то что жилось нам вместе вполне себе комфортно и легко, я по ней до сих пор почти совсем не скучал. Так, вспоминал периодически и все. Никаких таких особых сантиментов.
В коммунальной квартире подобные мелочи были, в общем, простительны. Ибо многообразие форм жизни, всей этой флоры и фауны, в столь сжатом пространстве накладывало особый отпечаток на отношения с людьми вообще.
Мы жили с ней в одной комнате и нагляделись друг на друга уже на сто жизней вперед. Теперь можно было позволить себе отдохнуть друг от друга столь же полноценно и всесторонне…
Меж тем состояние мое столь же быстро улучшалось, сколь быстро портилось еще час назад, почти сразу после обеда.
Ах да, ведь был еще обед. Что-то я там такое ел. Так, может, проблема в нем?
Правда, будучи уже вторую неделю на больничном, я практически совсем перестал есть и сегодня съел лишь пару ложек гречневой каши, сваренной еще неделю назад, да выпил чай с бутербродом.
Ни от того, ни от другого такой бурной реакции последовать было не должно. Не тот размах. Скорее уж долбанные выборы президента, на все времена одного и того же, или же совершенно не к месту, предательски хорошая погода. Теперь, когда я уже вторую неделю безвылазно сижу дома.
За окном над крышами неожиданно показался маленький, словно игрушечный самолетик и, прошелестев еле слышно почти до середины окна, выпустил из себя целую вереницу барахтающихся человечков, у которых через равные промежутки времени вырастали сверху разноцветные купола.
Меня здорово зацепила эта картинка. Какое-то время я застыл на месте, завороженно на них глядя. Но парашютисты довольно быстро исчезли где-то там, за крышами, а самолет улетел. Потому наблюдать далее стало не за кем.
Я в очередной раз истерически попытался открыть окно, дергая его так, словно мне стало нечем дышать, в результате лишь приоткрыв форточку сантиметров на пять, что все же было несомненным результатом.
Мне в лицо тут же повеяло свежим, прохладным воздухом, а звуки с улицы сделались отчетливее и громче.
Какое-то время я просто дышал этим свежим воздухом и равнодушно прислушивался к знакомым звукам, стараясь вспомнить, какие у меня были планы на вечер. Хотя какие у меня могли быть планы? На второй неделе больничного…
Тут за моей спиной, в недрах квартиры оглушительно хлопнула входная дверь. Потом почти сразу еще одна. И дальше тишина.
Ясно. Это дядя Коля вернулся. Как всегда, обиженный на весь мир. И за неимением других родственников неизменно срывающий эти свои обиды на дверях. Ну и на соседях. То есть в данном случае на мне.
Но мне теперь было уже совсем по барабану. Разноцветные парашютисты и глоток свежего воздуха окончательно привели меня в чувство. Теперь я был спокоен, как танк.
А дядя Коля был вообще человеком абсолютно безобидным и даже не совсем потерянным для общества в целом. Такое теперь не про всякого скажешь. Ему явно было здорово одиноко, и он по-своему жаждал общения, но при этом совершенно не умел ни общаться, ни поддерживать отношения. Я тоже, в общем, был не силен в разговорах. На том мы с ним и сошлись.
Интересно, как общаются парашютисты в воздухе? Особенно когда у них какие-то совместные фигуры с затяжными прыжками. Общение без разговоров. Это было бы здорово! И не только в воздухе. Дяде Коле бы это понравилось.
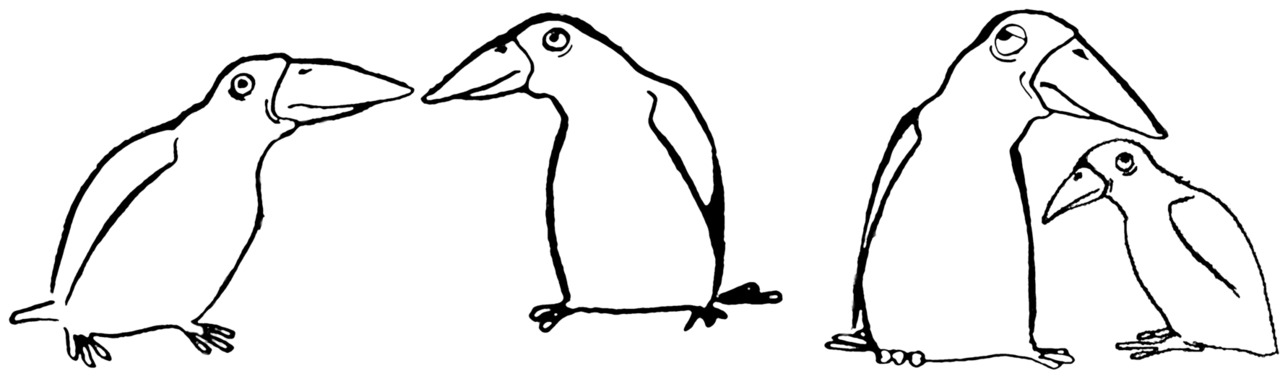
Вообще, дядя Коля был хороший, добрый и удивительно воспитанный, но по той же причине совершенно не подготовленный к внешним агрессивным условиям. Даже на коммунальной кухне он был в опасности. А на улице чуть ли не ежедневно он нарывался на очередное изысканное хамство. Оно, впрочем, так к нему и лезло, при всей его субтильно-интеллигентной внешности и повышенной чувствительности.
И вот после очередного подобного приключения дядя Коля возвращался сам не свой, стучал дверьми, не выходил на свет божий и не отвечал ни на какие вопросы.
Я так и видел, как он скукожившись сидит у себя в комнате на табурете, обхватив голову руками, и от него клубами валит пар или даже дым идет из ушей.
Все же как хорошо иной раз пожить одному, да еще посидеть вот так дома на больничном. А то вон как дядя Коля страдает и мучается, небось, снова досталось ни за что, ни про что. Тут ведь только выйди из дома — подставляй карманы, навалят полные, а еще и догонят потом.
В квартире снова еле слышно хлопнула дверь, и вскоре послышались приближающиеся шаги.
Кроме нас с дядей Колей в это время в квартире обычно обитали лишь старая глухая бабка, которая в эту часть квартиры никогда не заходила, да еще дедушка-инвалид. Тот только на кухню выходил да в туалет. Так что шаги могли принадлежать только дяде Коле.
И только я об этом подумал, как в дверь мою еле слышно постучали.
Не дожидаясь ответа, дверь уныло отворилась, и ко мне протиснулся сам дядя Коля, собственной персоной, как всегда гладко выбритый, в своеобычных синих джинсах и глаженой рубашке с галстуком, потерянный и бледный.
Не глядя на меня, он неровной походкой прошел к окну, уткнулся седой лысеющей головой в ободранные обои и еле слышно заскулил.
Если не дано иметь крылья, то не плохо было бы заиметь хотя бы парашют.
III
Комнату в этой квартире мы нашли с женой года три назад, когда, вконец измученные пребыванием в квартире ее родителей, решили во что бы то ни стало снять собственное жилье.
Мы были готовы уже на любой вариант, чтобы только в тихом каком-нибудь месте, без родственников и не в коммуналке. Получилось почти с точностью до наоборот.
Правда, первое время мы будто бы вознеслись, не думая ни о чем таком, вздохнули свободно, бесконечно переставляя с места на место немногочисленную мебель, без этого уже привычного постоянного занудства, беспокойных взглядов и вездесущих благих намерений. Но уже спустя месяц прочувствовали эту свою новую коммунальную жизнь с вечно занятым сортиром, общей кухней и невозможностью утром спокойно принять душ.
Моя жена, будучи по специальности археологом, завела новую манеру уезжать куда-нибудь подальше на раскопки, по преимуществу в южном направлении и за пределы родины, возвращаясь разве что летом, ну и еще раза три-четыре за год на недельку, не дольше. А приехав летом, она тут же уезжала на дачу и сидела там почти все три месяца кряду. Так что в этой нашей комнате уже второй год я жил практически один.
Последний раз мы виделись больше месяца назад. Тогда на улице еще царил унылый, тусклый март с остатками снега и тут и там, разве что днем уже капало отовсюду, стоило только солнцу прорваться сквозь постоянную завесу низких и скучных облаков.
Просидела она тут безвылазно целую неделю с какой-то пухлой книжкой, с сочувствием на меня поглядывая, в очередной раз предложила уехать из этой страны в какую-нибудь другую, сварила на неделю борща, произвела генеральную уборку и снова улетела куда-то там в Сирию.
В связи с подобным образом жизни отношения наши, с одной стороны, держались в постоянном тонусе, а с другой — иногда я даже начинал от нее отвыкать, что ли. Ведь если близкий человек появляется рядом с тобой лишь время от времени, простые обыденные отношения — то, что должно ими быть — неизбежно превращаются во что-то совсем другое, будто это и не жена вовсе, а загостившаяся родственница или очередная любовница.
Зато в остальном все было вполне себе нормально. От дома до моей работы было рукой подать. И до одной, и до другой. Магазин продуктовый удобный рядом, и соседи, в общем, вполне терпимые.
Работал я, как правило, с утра до вечера, а иногда и по ночам и по выходным. Так что тут уж все образовалось именно так, как образовалось. Без вариантов. И понимаешь все эти образования, только проторчав, как сейчас, больше недели дома. А когда я последний раз столько сидел дома? Я и не вспомню. Может, и никогда.
Вообще, я теперь думаю, что с ее стороны это была банальная месть. И не мне даже, а этим извечно сложившимся обстоятельствам. Или, может, желание успеть первой, утереть кому-то там нос.
Дело в том, что у моей жены отец был капитаном дальнего плавания и то и дело оставлял их с матерью куковать месяцами один на один. Ну она и насмотрелась в детстве, как мать на стену лезла с тоски, да и сама, наверное, скучала.
То-то теща сделалась такая нервная и отмороженная одновременно. Зато тесть был и есть глава семейства и всего вокруг заодно, уверенный в себе и спокойный, как танк.
Только уже на пенсии, на почве этих своих морских приключений, здорово загрустил и лез все время с бесконечными дурацкими рассказами — типа как они спьяну вместо Камчатки на Аляску заплыли. Хрень еще та. Не иначе сам со скуки сочинил.
И жена моя теперь, видно, в папашу своего пошла. Не любит дома сидеть и все. А может, решила жизнь себе максимально во всех смыслах упростить — вполне естественное желание.
Впрочем, не исключено, что про меня она думала нечто примерно то же самое.
— И куда ты вечно торопишься? Кому ты здесь нужен? — говорила она мне одну и ту же фразу в совершенно различных обстоятельствах все эти годы, что мы были знакомы. — Ты так мечешься, словно боишься куда-то опоздать.
Может, я и вправду боялся куда-то там опоздать, но жил с совершенно иным ощущением, что не двигаюсь вообще никуда.
Правда, во всем были и есть свои положительные стороны. Чем на коммунальной кухне бок о бок с соседями тереться да телик по вечерам смотреть, мы каждый по-своему полностью погружались в какие-то свои персональные истории. И никто никому не мешал. Прямо идиллия, а не семейная жизнь.
Теперь же на дворе подходил к концу апрель, я формально болел и еще более, чем когда-либо, был предоставлен лишь самому себе день ото дня вот уже вторую неделю.
Может, поэтому жизнь, проистекавшая в этой нашей коммунальной квартире, раскрывалась передо мной во всей своей красе, как никогда раньше. Я словно бы смог осознать наконец, где нахожусь и что на самом деле вокруг меня происходит.
А происходило, как правило, перманентное раздражение. И если не мое, так чье-то еще. Неважно.
Май на носу, а гребаное окно никак не открывается. Дядя Коля вот зашел, весь из себя расстроенный. Тоже, небось, чем-то особенным зашел поделиться.
IIII
Дядя Коля уже давно хотел завести себе персональный компьютер. Постепенно это желание превратилось у него в навязчивую идею. Вообще-то, он прохладно относился ко всяческим современным технологиям и тому подобным модным тенденциям, а точнее вообще никак, но углядев как-то у меня зараз несколько именитых словарей, запущенных на одном и том же экране, дядя Коля на это дело запал.
Правда, начал он издалека. Сначала он долго и нудно выяснял подробности — что да как. Заходил чуть ли не каждый вечер.
Постоит, посмотрит, как я по клавиатуре стучу, и непременно что-нибудь спросит. Выслушает ответ и задумчиво так к себе уходит. Чтобы переосмыслить, видно, и подготовить вопросы к следующему визиту.
Дядя Коля всю свою жизнь после филфака проработал где-то переводчиком и вообще был изрядным книжным червем. Языков пять он знал, а может и больше. Его хлебом не корми, дай с книгой посидеть, покопаться в предисловиях или в словаре каком-нибудь заумном. И книг этих у него было — ну ни пройти ни проехать. В комнате его свободное место только под кровать да под стол и осталось. Ну и чтобы к окну подойти, форточку открыть-закрыть.
И за словарями этими он гонялся как чумовой. Если бы не словари да всякие прочие новые книги, совсем бы из дому не выходил. И ведь все эти книги, которыми он интересовался, так просто не пойдешь и не купишь. Тут уж как минимум очередь с пяти утра, а то и с вечера на морозе.
А тут на тебе: стоит ящик, и в нем этого добра лопатой греби. А я еще постарался, расписал прелести как мог. И то можно, и это. Ну, наговорил лишнего сгоряча. Хотя и без того для дяди Коли устройство это стало чудом чудесным.
Короче говоря, собрался он компьютер себе прикупить. Для чего почему-то решил непременно завести себе кредитную карту и сегодня как раз ездил ее получать.
Почему для него это показалось обязательным условием покупки компьютера, я так и не понял. Пагубное действие рекламы, должно быть.
Дядя Коля хоть и признавался в своем технологическом невежестве, как и подавляющее большинство подобных интеллигентов-затворников, был здорово себе на уме, считал себя человеком умным, рациональным и опытным. На чем, видно, в очередной раз и погорел.
Для начала он попал в самый неподходящий банк, подписал самый невыгодный кредитный договор, да еще и отдельный счет в этом банке завел. Потому ему подозрительно быстро эту карту выпустили и выдали, а в довершение всего по дороге домой он эту карту умудрился потерять. И теперь считал, что должен банку астрономическую сумму денег, и что он пропал, и что от сумы да от тюрьмы его отделяет только миг.
Все это он рассказал мне сквозь слезы, то и дело припадая лбом к обоям и еле слышно повторяя шепотом: «Что же делать? Что же теперь будет? Я же ничего такого не сделал!» Прямо как в каком-нибудь киношном детективе 70-х.
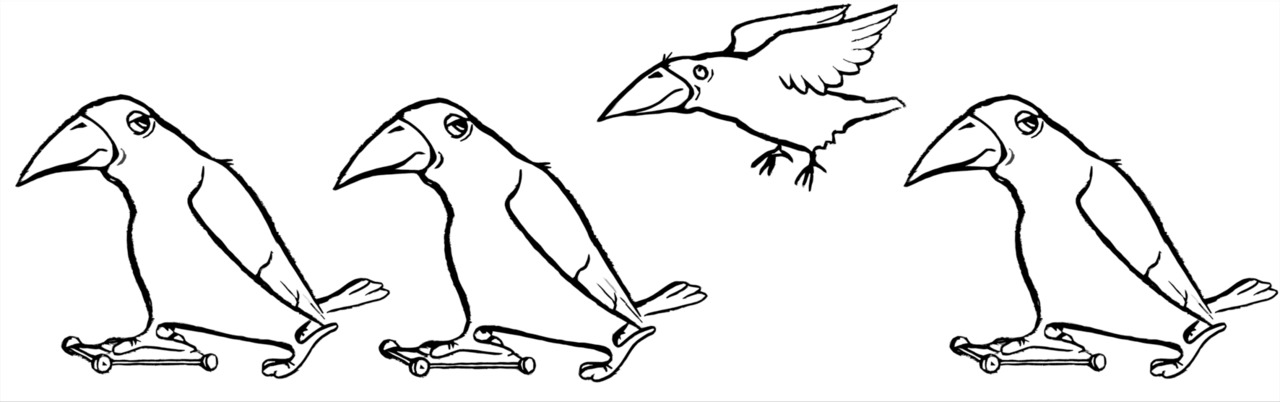
За то время, пока я слушал всю эту сбивчивую эмоциональную белиберду, по улице внизу с грохотом и лязгом проехало туда-сюда не менее шести трамваев. Их было слышно именно так, будто они ехали напрямую через мою комнату, несмотря на последний этаж и закрытое окно. Что и говорить — тихое местечко.
До чего же дядя Коля оказался наивным человеком. И это несмотря на все три его высших образования и пять иностранных языков. А может, и наоборот, благодаря исключительно им. Все же он был явно не от мира сего.
— Да это же сущий пустяк, дядя Коля, — тут же сказал я ему бодрым голосом, — позвоните в банк, заблокируйте карту и попросите выдать вам новую. Всего и делов. Думаете, вы первый такой?
Раздражение мое меж тем как рукой сняло. По сравнению с переживаниями дяди Коли моя собственная жизнь моментально показалась мне сказочно простой и устроенной. Все, однако, было теперь вполне себе ничего.
— А как же штраф? Проценты? А если кто-то уже воспользовался?
— Какие проценты? Побойтесь бога! Вы разве что-то покупали? И за что штраф? Каждый имеет право потерять кредитную карту. Ведь ей без вашего пин-кода и документов никто и воспользоваться не сможет. У нас с этим строго. Может, конечно, и сможет, но не каждый и не настолько быстро. По крайней мере, на девяносто пять процентов можете быть спокойны. Просто заблокируйте уже ее побыстрее и все.
В его глазах, обращенных на меня поверх перекошенных очков, появилась смутная надежда, но так скоро он не сдавался.
— Вы правда знаете? Или это всего лишь ваше предположение?
— Ну, сам я банковских карт еще не терял, но моя жена проделывала это неоднократно. Просто позвоните в банк. Там вам все объяснят.
Дядя Коля наконец посмотрел на меня с робкой надеждой и радостью во взоре и вытер слезы. Потом смущенно поблагодарил, извинился и вышел из комнаты.
Я автоматически посмотрел на часы и стал высчитывать, сколько теперь может быть времени. Дело в том, что часовой и минутной стрелок на них давно уже не было, торчали лишь жалкие обломки, многозначительно указуя сразу в три стороны. Потому сообразить так сразу, что именно они там показывают, иногда было крайне затруднительно.
Судя по всему, было около пяти часов вечера. Внизу загрохотал очередной трамвай, со скрипом заворачивающий из переулка. Не иначе как время пить чай.
После столь странного визита соседа настроение нормализовалось окончательно, и я решил еще немного поработать. Больничный там или не больничный, а кое-какая работа ждать не будет. Такая уж она у меня была, неотложная и ежевечерне самовосполняющаяся.
Но не успел я пристроиться на кровати с ноутбуком, как дядя Коля снова заглянул в мою дверь, уже сияющий и вполне довольный. Очки сидели как влитые, и всклокоченная седина была аккуратно зачесана назад.
Преданно глядя на меня, он доложил, что позвонил в банк и там его совершенно и окончательно успокоили и предложили через несколько дней получить новую карту.
Потом дядя Коля позвал меня пить чай с черничным вареньем, и я поддался соблазну, ибо черничное варенье любил больше жизни, да и чаю вдруг захотелось совершенно неприлично. Все же five o’clock.
А работа — она всего лишь работа. Настоящая работа, к сожалению, в лес никак не убежит. Все одно от себя не отпустит, зараза.
V
Официально я работал в одном скучном месте, занимающемся перераспределением информации. Такое агентство обычно работает на другое какое-нибудь информационное агентство. А то другое — на кого-то еще.
Неважно, впрочем. Занимался я там, собственно, этими самыми информационными делами. Выискивал, составлял и редактировал информационные ленты со всей сети по капле и отправлял все это хозяйство дальше по инстанции.
Для разных целей требовалась разная информация и различная подача и компиляция этой самой информации. В общем, полно было всяческих специфических нюансов. Ну и так еще по мелочи в этой связи попадалась разнообразная халтура.
Помимо этого, уже скорее по зову души, я работал звукорежиссером. То на студии, то на радиостанции, а то и на концерте каком-нибудь. Собственно, я на режиссера и учился в свое время.
И до сих пор мне как-то здорово удавалось совмещать и то и другое, благо семейной жизни особой практически не было, а свободного времени, наоборот, было предостаточно.
С утра агентство, вечером музыка. Такое было обычное расписание. Причем с агентством все было вообще очень удобно, работать там я зачастую мог и удаленно. Как теперь из дома, например. А вот со звуком требовалось мое непосредственное, фактическое присутствие и полный контроль. А не подсуетишься заранее, так и вообще останешься без работы.
И как любая деятельность, обслуживающая созидающие творческие процессы, эта моя стезя была весьма непредсказуема и многогранна. В смысле, разные люди попадались. Интересные и не очень. С одними было легко до крайности, с другими непроходимо скучно, с третьими до невозможности трудно.
Но если работа в агентстве была пресной и плоской, то на второй работе скучать, как правило, не приходилось. Разве от особо бездарной или агрессивной музыки или чрезмерного количества табачного дыма вперемешку с пивом голова раскалывалась на следующий день, но это уже скорее издержки ремесла.
И вот уже неделю подряд изо дня в день мне названивали то со студии, то с радиостанции, а я от всех отмахивался высокой температурой и постельным режимом и ни в какую не соглашался. Иногда просто необходимо послать всех к чертовой матери. Просто чтобы отвлечься и восстановить внутренние силы.
А вот так взять и остановиться уже ох как непросто. Катишь по инерции сутками, не замечая дней недели, забывая обо всем напропалую. И я фактически заставил себя заболеть, заставил взять формальный больничный, хоть он на фиг мне не нужен. Но во всяком деле имеет место формальный аспект. Просто так, для себя. Чтобы не сорваться и не убежать.
Может, это и глупо выглядит. Но если работает, так почему бы и нет. Да и что тут еще придумаешь? Все бросить и сбежать за тридевять земель? Но тут уж у меня кишка тонка, наверное. Хоть это, должно быть, самый действенный метод.
Так что болезнь моя была почти липовой. Так, классическое ОРЗ с температурой, соплями и кашлем, ничего особенного. И в принципе, мне уже ничего не мешало сбегать на пару халтур — внешне я чувствовал себя вполне в силах. Но я даже мысли не допускал сорваться на работу раньше определенного времени. Пусть уж восстановительный процесс идет своим чередом в кои-то веки.
Другое дело, что от безделья чаще, чем обычно, подкатывало то самое раздражение и опустошенность какая-то. Пустота тогда расширялась во мне подобно давлению пара в котле паровоза, да только тот все будто стоял на одном месте и выхода для пара никак не находилось.
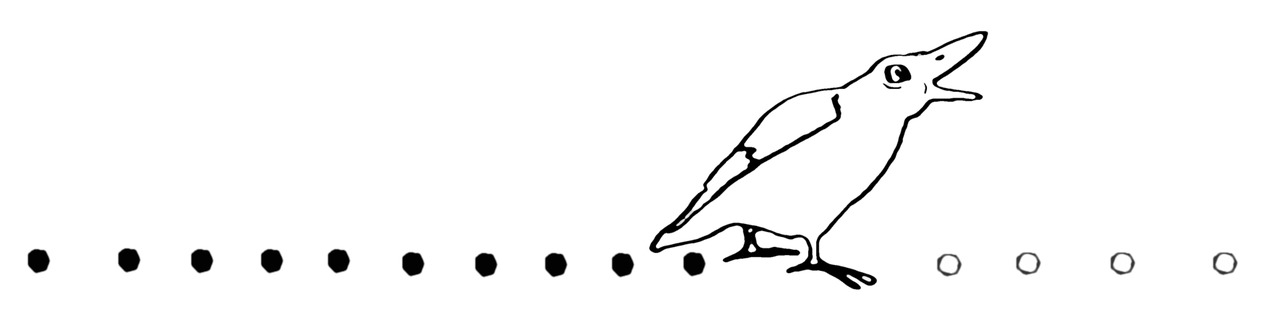
И когда становилось уже совсем невмоготу, я переступал через себя и принимался за работу. Ибо в почте скопились уже миллионы писем, и я не торопясь разгребал их понемногу, ну и выполнял какие-нибудь особо срочные внеочередные заявки. Короче говоря, не особенно напрягался.
Только что-то давно меня никто не навещал из старинных друзей-приятелей. Скучно все же так, совсем одному. Не поговорить, не покурить, даже кофе с утра не с кем попить.
Видно, не до меня им теперь, или даже вообще не до чего. А может, не хотят беспокоить зазря. Впрочем, кабы я сам работал теперь, так и не вспомнил бы про них. Пустота порождает необходимость.
Теперь уже и неважно. Осталось всего ничего, пару дней отсидеть. В пятницу к врачу, и тот, скорее всего, меня неминуемо выпишет. И тогда невнятное прозябание мое скоропостижно закончится. Придется работать по-настоящему.
А там и жена через пару недель вернется…
VI
Черничное варенье оказалось восхитительным. Не слишком сладкое и очень густое, именно такое, как я люблю. Казалось, его можно было есть бесконечно.
Я методично намазывал им очередной кусок мягкого черного хлеба и запивал горячим крепким чаем. Очередная идиллия всего-навсего.
Да и комната дяди Коли навевала определенные ассоциации с чем-то таким романтично-отстраненным и давно позабытым всеми. Я бывал здесь и раньше, но вечно на бегу, думая о десятке дел на сутки вперед. Только теперь я словно обрел способность видеть и замечать детали.
В полумраке видны были лишь книги, книги и еще раз книги. Маленький столик под скрюченным торшером, за которым мы теперь сидели, притулился практически у самого входа. Дальше виднелось окно с монументальными доисторическими шторами и аккуратно застеленная кровать. Вдоль стен возвышались сплошь книжные шкафы, в которых, на которых и перед которыми лежали, стояли и громоздились разнообразнейшие издания всех мастей.
Оставалось загадкой, где он держал свою одежду, постельные принадлежности, какие-то вещи для жизни, наконец. Ни шкафов, ни тумбочек, ни антресолей видно не было. Разве здесь же, у входа стояли его зимние ботинки, которые он уже месяц как не носил по причине теплой погоды.
Дядя Коля уже совсем успокоился и своеобычно фантазировал про свой будущий компьютер, уютно устроившись в своем единственном кресле в потертом зеленом халате и домашних клетчатых брюках: где он будет у него стоять и куда он, дядя Коля, денет ненужные впоследствии многочисленные альманахи, справочники и прочие словари.
При этом он то и дело озабоченно оглядывался и тер подбородок, будто проверял, не наросла ли щетина. И его лысина, маячившая передо мной эдаким расфокусированным пятном, прыгала то вверх, то вниз, то на какое-то время в раздумье склонялась набок.
Я слушал его весьма рассеянно, кайфуя всего лишь от куска хлеба с вареньем, механически вычитывая про себя очередное мудреное название на одной из стоящих штабелями книг, изредка поддакивая или неуверенно хмыкая.
Все это я слышал уже десятки раз, а о чем-то другом он, видно, опасался со мной говорить, щадя мой скудный интеллект и, видимо, не желая разочаровываться.
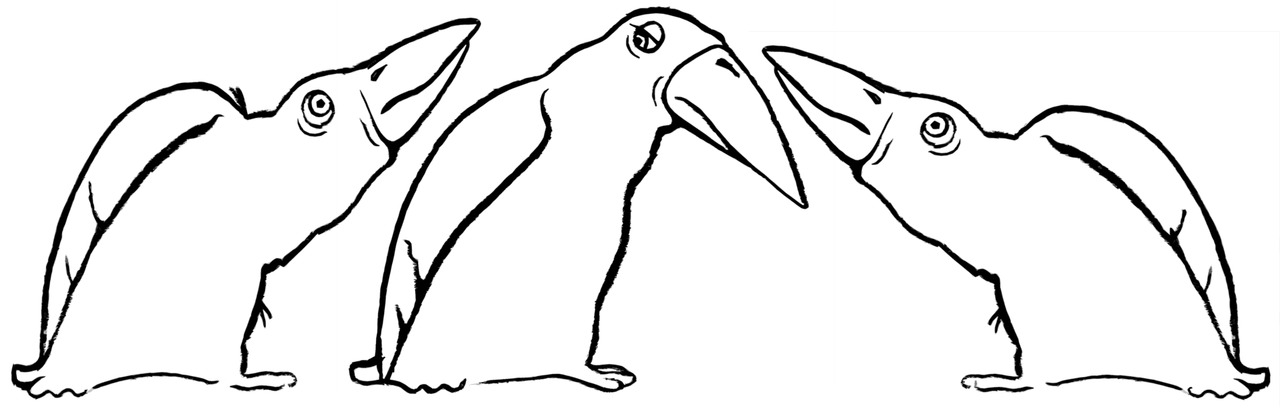
Тяжелые шторы были решительно сдвинуты в стороны, и солнце щедро светило теперь прямо в центр комнаты, ярко высвечивая центральный высоченный шкаф, плотно забитый энциклопедиями.
Там была и Большая советская энциклопедия в двух изданиях, и Брокгауз и Ефрон, конечно, потом Британская энциклопедия и какие-то еще тома на языках, которых я не знал.
Тем временем в прихожей снова хлопнула входная дверь, и квартира тут же наполнилась неразборчивым и постоянным гудением. Различались только высокие и бубнящие низкие тона. Никак чета Сафроновых вернулась с работы.
Ну конечно они, кому еще быть, как не им. Вот это — тонкий писк Ольги Поликарповны, а ниже — невнятное бормотание Владлена Эдуардовича.
Они словно бы не умолкали ни на минуту. И, не повышая голос совершенно, умудрялись создавать вокруг себя этот всепроникающий несносный галдеж.
Дядя Коля тут же досадливо поморщился. Он не любил чету Сафроновых. Я, впрочем, тоже не особо их жаловал. Так, здоровался и прощался, всеми силами сохраняя дистанцию.
Но я был еще молодым и достаточно энергичным человеком. Я мог при случае и отбиться от несносной четы и сказать что-нибудь эдакое. Мог моментально увернуться, в конце концов.
А вот дядя Коля не мог. И потому он тут же неизменно ретировался при первых же признаках их возможного появления. Никого дядя Коля более так не опасался в этой квартире, как Сафроновых.
Те приехали откуда-то из глубинки. Уже изрядно давно. Но свои провинциальные, сельские привычки и чрезмерно громкий голос они за это время не растеряли ни капли.
Бесцеремонность, с которой они то и дело лезли не в свое дело, была настолько естественной и агрессивной, что моментально выбивала из колеи кого угодно. Оставалось только стоять потом и диву даваться, что они тут наговорили да понаделали. Причем прямо перед твоим носом. Все же наглость — второе счастье.
Часы дяди Коли, висевшие прямо над столиком, показывали самое начало седьмого. Наступил самый что ни на есть вечер. Пора бы и честь знать.
Я неуклюже распрощался и тут же вернулся к себе, стараясь незаметно проскочить в комнату, минуя Сафроновых, да и вообще кого бы то ни было.
Теперь мне хотелось лишь музыки и ничего, кроме музыки, дабы уберечь хрупкую пустоту внутри себя от всяческих чужеродных проникновений извне.
Оставшись наконец наедине с самим собой, я немедленно нацепил свои гигантские студийные наушники, сунул диск в темную щель магнитолы и, предвкушая исключительно позитивные эмоции, в изнеможении повалился на кровать.
— Что же он там все-таки поет? — автоматически задумался я, слушая очередную песню. — Where’s my fucking bird или же I have to kill this fucking bird?
Слушая эту песню, один и тот же вопрос каждый раз всплывал в моей голове и какое-то время донимал меня неимоверно. Я неизменно обещал себе непременно впоследствии это выяснить раз и навсегда и своеобычно об этом забывал.
Несущественное всегда заслоняет насущное. А что, казалось бы, может быть важнее слова из песни? Может быть, самого важного слова? А может, именно несущественность этих слов позволяла музыке заслонить все собой, оставить меня наедине с ней. И все эти слова словно становились лишь ее частью из мира звуков, диковинным инструментом, чьей-то шуткой всего-навсего…
Когда я очнулся, небо за окном стало вдруг темно-темно-синим. Почти уже черным. Где-то внизу зажглись уличные фонари. И только одинокая ворона на противоположной крыше упорно сидела, будто ожидая чего-то. Теперь был виден лишь только ее силуэт.
И чего ей не спится? Летела бы уже в свое гнездо.
VII
Этой же ночью мне приснился вселенский хаос и нашествие инопланетных монстров.
Абсолютно темный город, по преимуществу превратившийся в развалины, низкое небо, покрытое рваными черными тучами, и тревожное багряное зарево на горизонте. Классические декорации из комиксов, словом.
Я явственно шел по Невскому проспекту — по крайней мере, я так его про себя назвал, — но по бокам от меня почему-то громоздились высоченные небоскребы, прямо как на Манхэттене вдоль Пятой авеню, в центре.
Что-то было навалено вокруг. Беспорядочный какой-то мусор — покореженные машины, ящики и бочки, мебель какая-то, что-то еще. И широченный когда-то проспект превратился в узкую дорожку, виляющую меж этих куч непонятного чего.
Под ногами то и дело хрустело битое стекло. Время от времени я спотыкался обо что-то, лежащее поперек пути. Но разглядеть что-либо под ногами все равно не получалось, и я чертыхаясь продолжал идти дальше.
А потом впереди, прямо поперек проспекта я увидел неряшливо лежащую, непривычно гигантскую Ростральную колонну.
Ее верхняя часть без ангела покоилась прямо передо мной, а правый край, бывший когда-то основанием, возлежал на краю открывшейся глазам бывшей площади, окаймленной теперь руинами и строениями, которых здесь никогда не было раньше. А там, где должно было возвышаться Адмиралтейство, виднелось теперь лишь пустое, заваленное мусором место. И было совершенно ясно, что этот мир постигла невиданная по масштабам ужасная катастрофа.
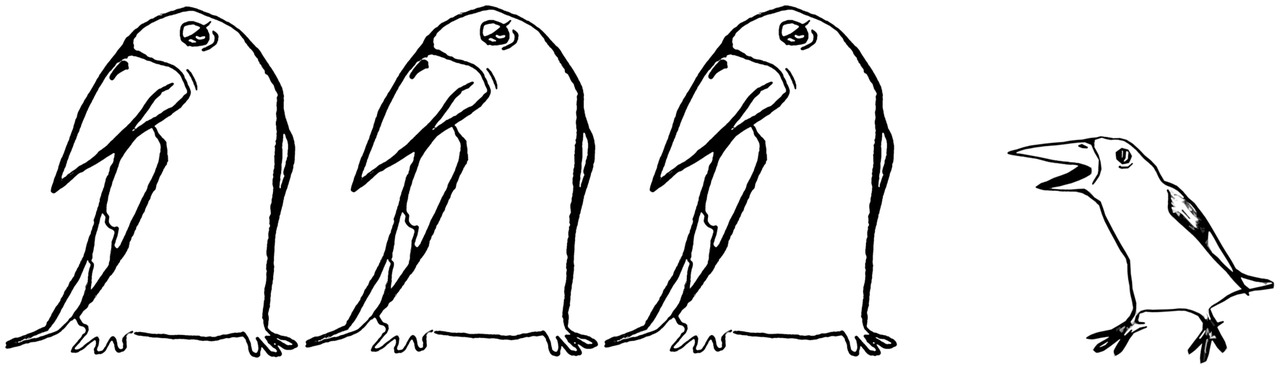
Но почему-то я был абсолютно спокоен. И внутри меня даже гнездилось странное удовлетворение. Типа — я же говорил вам, а вы не послушались, теперь получайте и не приставайте ко мне больше.
И все было бы ничего, но вдруг откуда ни возьмись появились летающие люди-мутанты. Вроде и люди, но с металлическими уродливыми головами. Довольно страшно они выглядели и весьма проворно перемещались. Практически мгновенно.
Сперва мне показалось в проблесках случайного света, что одеты они в служебную форму — кто в полицейскую, кто в медицинский халат, а кто вырядился пожарником. Впрочем, в следующий миг я был уже не уверен, что видел что-то подобное.
Я спрятался от них в огромном полуразрушенном изнутри небоскребе и куда-то пополз по заваленной мусором шахте лифта.
Я тоже довольно проворно прятался, потому что других людей вокруг меня хватали, а меня никак не могли обнаружить.
Было и страшно, и интересно. Хотя я не имел никакого представления о том, куда именно я двигаюсь и что меня ждет в конце пути. Я лишь бесконечно протискивался через сплетения арматуры, перелезал через наваленный горами битый кирпич и с опаской поглядывал наверх, откуда в любой момент могли показаться опасные крылатые уродцы.
Я совершенно ясно понимал, что все это сон, но одновременно чувствовал, что происходящее вполне реально и что пропасть и сгинуть здесь я могу по-настоящему. Но осознание этого риска только еще больше распирало меня изнутри. Казалось, что дальше будет что-то еще, что-то важное, ключ к разгадке. Вот только момент этот все никак не наступал. И казалось, не будет конца этому движению.
Но постепенно происходящее утратило внятность изложения. Исчезла четкость картинки, все смешалось в один мутный серый цвет с редкими неясными отблесками, и никакие детали более не выделялись. Наступила неподвижность и пустота…
Сны тем и отличаются от реальности — там очень редко когда что-то имеет свое однозначное завершение. Будто сам по себе результат никого не интересует, словно абсолютно все проистекает бесконечно и тебе довелось подсмотреть только малую часть этого неизвестно чего.
VIII
Вечер. Снаружи по-весеннему еще светло, внутри мрак и электрический свет. Очередная толпа вечно молодых рок-музыкантов. Почти все волосатые, в драных кожаных куртках и джинсах. Зависают в коридоре со своими зачехленными гитарами и глумятся над всем вокруг, включая самих себя. Очень крутые, очень независимые и циничные. В общем, именно такие, каковыми им и полагается быть. Таков их микрокосмос.
Прохожу мимо, здороваюсь за руку, открываю массивным ключом с пластиковой биркой студию и, скидывая рюкзак куда-то под стол, привычно опускаюсь на кресло, мимоходом включая компьютер. Правда, тут же вскакиваю снова, ибо опять кто-то выдрал из пульта косу и в довершение выдернул и кабель питания. Руки бы оторвал. Знают же, что здесь работают практически круглосуточно. На фига?
Рокеры несмело, но все так же надменно протискиваются в аквариум. Все же типажи неизживаемы — грязные патлы и косухи. Правда, у главного из-под кепки торчит косица. Но на то он и главный. Посмеиваются и жуют свои жевки.
Стараюсь относиться к ним серьезно. Впрочем, мне абсолютно все равно. Я повидал здесь всяких людей. Попадались и значительно более экстравагантные типы. Главное, чтобы без истерик, мордобоя и лишней болтовни. А через три часа я их в любом случае отсюда выставлю.
Трепать языком зазря не хочется, а тем более слушать чужую трепотню. Терпеть не могу словоблудия. Постоянно попадаются эдакие знатоки — играть ни хрена не умеют, петь не умеют, а представлений, как это должно было бы быть, если бы нормальная студия была, инструмент подходящий, продюсер понтовый, выше крыши. Это, впрочем, как везде — чем меньше умений, тем больше гонора. И звукоизвлечение не есть самое большое зло, про тексты песен я вовсе промолчу, исходя исключительно из профессиональной этики.
Что-то настрой у меня опять деструктивный. Ворчу про себя, как какой-то дряхлый старик. В конце концов, я зарабатываю здесь деньги, оказывая определенную профессиональную услугу. Остальное не мое дело. Как говорится, знал, на что шел.
Пока они там расчехляются и рассаживаются, я, быстро проверив остальные провода, выхожу покурить напоследок. А то мало ли, еще запрягут безвылазно на все три часа подряд. Бывает и такое.
За окном потемнело. Через двор по лужам прыгают одинокие прохожие, опасливо поглядывая на небо. Видно, дождь собирается.
Возвращаюсь специально не спеша, но мэтры все равно еще не готовы. У барабанщика вроде треснула палочка, а у басиста новые струны. Дома, конечно, нельзя было поставить. Стараясь на них не смотреть, проверяю почту.
Потом начинаются первые невыносимые запилы и оглушительный стук барабана. Рокеры должны разойтись, они без этого не могут. И чем громче, тем лучше. Звукоизоляция спасает положение, но в наушниках царит настоящий Армагеддон.
Я снимаю наушники, проверяю установки на пульте и терпеливо жду, пока они всласть наиграются и насладятся собственным мастерством.
Через какое-то время их вокалист кивает мне через окошко и показывает на микрофон. Тогда я знаком предлагаю остальным заткнуться, и мы начинаем выстраивать звук.

Звуком в иных ситуациях можно заниматься бесконечно долго. Особенно когда попадаются непрофессиональные музыканты. Как правило, их представления о звуке идут вразрез с общепринятой концепцией, и требуется достижение некоего мучительного компромисса. Я в таких случаях до последнего стараюсь гнуть свою линию, убеждаю и уговариваю, но если сопротивление не стихает, делаю так, как хочет клиент. Клиент платит деньги, и в конечном итоге он всегда прав. Амбиции и эмоции обычно перевешивают все, особенно разумное, доброе и вечное.
С этими все оказалось проще. Видно, первый раз в подобной студии вообще. Их все устраивало заранее. Никаких разговоров, только музыка. На первый раз им было довольно самой этой возможности профессионально записать то, что они до сих пор играли лишь в каком-нибудь там прокуренном клубешнике, зажигая на сцене для любителей пить пиво под оглушительную живую музыку и многочисленных друзей и знакомых.
Сразу видно, что играть чисто они не умеют, темп не держат и без публики зажигать не очень-то получается. Однозначно придется потом доводить в редакторе, тянуть ноты, бесконечно ужимать и растягивать партии по тактам. Обычное дело.
Осторожно предлагаю включить им метроном. Но они самоуверенно отказываются. Хотя, может, оно и к лучшему — под метроном тоже надо уметь играть. И раз от раза они стабильно ускоряются к концу композиции минимум раза в полтора. Барабанщик радуется этому больше всех — рот до ушей. Он вообще у них лихач, склонный к импровизациям, то и дело выдает понятные только ему одному левые шестнадцатые или квинтоли в слабую долю. Местами их можно было бы выдать за свинг, если бы не ускорялся сам темп. Да и не до джаза тут.
Все эти эксперименты быстро мне надоедают. Я даже не вполне уверен, что они понимают, чем именно я недоволен. Решение простое — предлагаю записать черновик. Пусть сами слушают. Что я буду за них переживать. Нервы-то не железные. Если их все устраивает, то и пожалуйста.
Пишем… С десятого раза они умудряются более-менее ровно доиграть до конца. Прошло уже два часа с начала наших мучений.
Между делом выясняется, что они хотели записать сразу пять своих композиций, но как по мне, вряд ли успеют даже одну. И речь не идет о качестве исполнения. Наверняка ни хрена не репетировали, ибо самоуверенность через край.
И такие сюда приходят через одного, если не чаще. И далеко не все врубаются с первого раза и даже со второго. Понимание-то придет со временем, если только раньше не пропадет само желание музицировать. Естественный отбор.
Так или иначе, запись состоялась. Зову слушать. Набиваются ко мне в комнату, рассаживаются кто где, главный с гитаристом усаживаются посередине на диван. Все разом в нетерпении закуривают.
Профессиональные мониторы выдают мощный тугой бас и упругую бочку, что сразу очень впечатляет неискушенного слушателя. Моя работа на уровне: всех прекрасно слышно и по уровню, и по балансу, кого надо — громче, кого надо — тише. Эти же самозабвенно слушают свои партии, краснеют от удовольствия и хвалят друг друга.
Я облегченно вздохнул и тоже потянулся за сигаретами. Все одно уже нечем дышать. Видно, обойдется малой кровью.
Господа музыканты, наскоро посовещавшись, просят этот вариант оставить, лезут обратно в аквариум и с энтузиазмом берутся за следующую вещь. Видимо, решили нахрапом взять.
Я было начал объяснять, что запись черновая — ритм кривой, гитара звучит чересчур грязно, бас откровенно проваливается и вокал неубедительный. И что вообще все это еще не звучит вместе. Но они хором говорят, что я ничего не понимаю и что все так, как надо.
Я в ответ устало, но облегченно киваю головой и надеваю наушники. Не вопрос.
Через час они уходят вполне счастливые и довольные собой, видно пить пиво и слушать свою запись. Я тоже с радостью с ними прощаюсь и иду перекурить в коридор, пытаясь выкинуть из головы весь этот кошмар и ужас.
Но в коридоре уже толпятся следующие. Какие-то субтильного вида юноши с экзотическими инструментами и, конечно же, красавица-вокалистка.
Мне нравятся красавицы-вокалистки. Хоть посмотреть есть на что. А если они еще и поют здорово, то вообще праздник.
Хотя с вокалистками тоже проблем не оберешься. Обычно вокалистки в таких самодеятельных коллективах здорово себе на уме. Либо абсолютно недосягаемы, либо наоборот, чересчур распущены и непосредственны.
В первом случае не докричишься, а докричишься — огребешь. Во втором — одеваются и ведут себя иной раз так, что становится даже как-то неудобно присутствовать в непосредственной близости. И первый случай не исключает второй.
Прикиды и причуды на любой вкус — короткие юбки или совсем без юбок, изнурительные декольте или полупрозрачные футболки без лифчиков, разнузданные танцы или даже стриптиз. С ума можно сойти!
По моей персональной статистике один раз на добрый десяток попадается действительно качественная музыка, с которой приятно работать. Тут даже уже все равно, какая именно. Когда присутствует оригинальная идея или первоклассное исполнение, всегда интересно сделать столь же первоклассную запись — расставить грамотно акценты, создать атмосферу, подчеркнуть настроение. Поэтому почти всегда интересно записывать джаз и профессиональную классику. Но это уже, наверно, дело вкуса.
И так за вечер по два-три коллектива. А бывало, что и с трех дня до трех ночи. После чего вываливаешься в темноту уже еле живой и жадно глотаешь пиво, дабы прочистить мозги и унять гул в ушах.
Хорошо, что не каждый день и недалеко от дома. С другой стороны, на той же радиостанции, к примеру, свои тараканы. Там тоже дурдом, только тихий.
Пятнадцать минут ходьбы под вялым весенним дождиком несколько восстанавливают утраченный было баланс. И я счастлив, что мне хочется только спать и что я уже дома. Только спать и ничего больше.
VIIII
Нет, на работу мне возвращаться было рано. Все так стоит в памяти, словно я был там вчера. Хотелось бы иметь в памяти и что-то еще помимо работы. Всего-то, может, и нужно посмотреть пару-тройку классных фильмов, прочитать пару новых книг, просто поговорить с кем-то о чем-то, о чем я давно ни с кем не говорил. Лучше всего, конечно, отправиться в путешествие, просто уехать куда подальше. Но я, как всегда, не был готов к столь решительным действиям.
С другой стороны, на то она и болезнь, чтобы какое-то время не предпринимать вообще ничего. Лежать, читать книги, пить крепкий горячий чай и смотреть телик.
С утра я был разбужен очередной кухонной ссорой. Теперь, когда я сутками торчал дома, исключительно все невольно становилось объектом моего внимания.
Раньше вскочил ни свет ни заря и, ни о чем не думая, улетел на работу. Или наоборот, проспал до обеда и ускакал на всю ночь. Потому казалось, что в квартире ничего особенного не происходит. Как бы не так!
Может, и хорошо, что завтра к врачу? Хрен с ними, с воспоминаниями. Какие тут воспоминания? Завтра у нас пятница. Выходные еще посижу — и на волю. Так что сегодня у меня будет последний полноценный свободный день, когда с чистой совестью можно почти ничего не делать.
Меж тем из кухни послышались уже совсем истерические крики и даже будто бы стуки, словно кого-то бьют головой об дверь. Исключительно полноценная жизнь наполняла мое жилище. Круговорот страстей.
И тут зажужжал мобильный кстати. А то я уже думал вставать и идти разбираться, чего мне совсем не хотелось. Говорить по телефону, правда, тоже совсем не хотелось, но вставать и лезть на рожон между дерущимися старухами еще меньше.
Звонили с очередной студии. Невзначай спросив о здоровье, тут же настоятельно попросили приехать.
Как всегда, требовалось срочно сделать запись. Правда, на этот раз одной моей весьма почитаемой джазовой певицы, ко всему прочему молодой и весьма привлекательной.
Одно время я даже был в нее тайно влюблен. А она меж тем уже была здорово популярна в определенных кругах. То и дело мотала по городам да за границу и была до крайности недоступной.
И тут такое предложение. Я даже растерялся от неожиданности.
— А что, — говорю, — больше некому, что ли?
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.