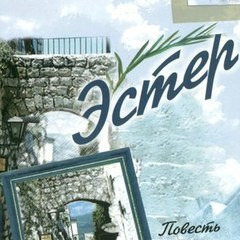Бесплатный фрагмент - «Орлик» и другие рассказы
Личное
Мункис
…Мункис вдруг почувствовал, что Мошиах пришел. Это было точно миг приземления самолета в пункте назначения. Как пассажиры, радующиеся прилету, хлопают в ладоши, так и Шмуэль Мункис, почувствовавший приход Мошиаха, вдруг страшно захотел сделать «лехаим» на водку.
Водки в раю не было. С тех пор, как Мункис пребывал в раю, то есть 200 или чуть побольше лет, ни разу он не был мучим жаждой столь сильно.
Шмуэль Мункис затосковал безмерно.
«На землю, что ли, попроситься?» — с отчаянием подумал он. Но и это было уже испробовано, однако в визе ему отказывали, лишая шанса облечься в тело и спуститься в нижний мир. Даже объяснений по этому поводу не давали. Так он и сидел в отказе. В обществе праведных еврейских душ, ангелов и всего сонма небесного — и не было ему покоя.
Удивительно, но когда он вспоминал свою земную жизнь, он чувствовал, что там, на земле, его близость ко Всевышнему была неизмеримо глубже и ощутимее, чем здесь, в мире душ и ангелов.
Ангелы были скучные, статичные, не умели мыслить творчески. Души праведников наслаждались сиянием Святости и не понимали его, когда он пытался говорить с ними о проблемах. Вообще, было похоже, что из всех райских существ проблемы были только у него одного.
Его взбудораженная душа искала способа выйти из заколдованного круга сладкой заоблачной жизни, и, в конце концов, он решился прорвать его весьма нестандартным способом.
«Слушай, — сказал он демону среднего калибра, пролетавшему мимо рая с радиоприемником в руках, — дай радио послушать, про политику разузнать…» Ошарашенный демон сообразил, что радио может — чем черт не шутит — испортить эту душу, и с радостью протянул Шмуэлю радиоприемник.
«Очень мелодичные женские голоса, рекомендую», — посоветовал демон, настраивая приемник на музыкальную передачу.
Шмуэль огрел его добродушно презрительным хлопком, после чего уселся ловить последние новости Ближнего Востока. Он слушал, и сердце его наполнялось жгучими слезами. Он понял, что существует Сион, Израиль, Иерушалаим — целое государство евреев. Но только оно не святое, а светское.
«Ладно, — заключил он, — в поколении Мошиаха так оно и должно быть». На одной из волн радио мощным накатом рок музыки взорвалась вдруг песня «Мошиах». Шмуэль вскочил на ноги, прервав свою вылазку в эфир, забросил приемник в первое попавшееся облако, и почувствовал исполинское нарастание душевных сил.
— Ребята, — заорал он на праведников, — нас здесь держат ни за что! Там, на Земле, уже Мошиах пришел, а мы тут сидим, как идиоты!
— Что ты предлагаешь? — подозрительно спросил праведник 15-го века.
— Я предлагаю воскресник! Воскресение из мертвых и хорошая, организованная пьянка с солеными огурцами в обществе нормальных, живых евреев! Вот что я предлагаю.
Шмуэль не стал тратить время на призывы и увещевания. Он по наитию зашагал к лифту экстренного сообщения, оттолкнул дежурного ангела и ворвался внутрь кабины, нащупывая кнопки небесных этажей. Лифт взмыл к Престолу Славы. От непривычной концентрации Любви и Страха к Б-гу в воздухе было полно искр. Под Престолом Славы Шмуэль обнаружил закатившиеся туда, видно еще с Шести Дней Творения, бутылки «Смирновской». Опаленный искрами, он вбежал в лифт, судорожно прижимая бутылки к груди. В лифте что-то загорелось, на Шмуэля набросились огненные лев, бык, орел и все они пытались вырвать из его рук бутылки с водкой…
«Адони, лех ацида», — были первые слова, услышанные Шмуэлем после потери сознания.
Он увидел себя в крепких объятиях полицейского, который, очевидно, пытался сдвинуть его с проезжей части.
— Ваши эти демонстрации пробки нам делают, — вежливо добавил полицейский и схватил на лету уроненную было Шмуэлем одну из бутылок. — Ладно бы, только хабадники, а то уже весь Тель-Авив сбежался. Смотри, флагов-то сколько понатащили! А эти, — продолжал полицейский удивленно, — эти-то, откуда — из цирка, что ли?
Шествие разрасталось, пополняясь как простым народом, так я воскресающими по ходу дела из праха цадиками. Цадики воскресали непосредственно в характерных для своей эпохи одеяниях. Было также много флагов желтого цвета с надписью «Мошиах» и изображением короны. Мелькали несомые народом плакаты: «Земля Израиля — евреям!», «Хеврон — навеки наш», «Мошиах — сейчас»…
На мгновение земля и небо смешались, что позволило Иерусалимскому Храму спуститься с высоты и плавно вписаться в панораму столицы. Легкий запах серы — очевидно, от спалившейся попутно мечети, — повеял в весеннем воздухе.
На крыше Храма стоял в лучах поднимающегося солнца Мошиах, имя которого Менахем. Его борода шевелилась вокруг губ, и произносимые им слова расходились видимыми, точно выписанными на всех языках фразами: «Смиренные, пришло время вашего Освобождения…»
Стоя с бутылками в руках в толпе народа, Шмуэль ощутил, что Мошиах устремляет свой небесный взор на него, а впрочем, на всех одновременно.
«Лехаим, Ребе», — осмелился сказать Шмуэль.
Начались пляски. Король Давид и Моше-рабейну разливали народу добытую Шмуэлем водку. Один из самозабвенно пляшущих наступил Шмуэлю на ногу, посредством чего тот радостно осознал, что он жив и имеет ноги, руки, голову, одежду.
«Как же это я, воскрес и не заметил», — воскликнул он с изумлением. Теперь, впервые за последние 200 с лишним лет, он мог промочить горло по всем правилам.
ОРЛИК
Тихий снег падал на живую волну прохожих, на афиши и ларьки Крещатика, на утолщенные пушистой белизной контуры деревьев. В отражении витринного стекла Орлик увидела свое лицо, измененное и уточненное гримом и, в результате этого умелого изменения, будто чужое, чрезмерно красивое. Больно было видеть его таким красивым и никому не нужным. Она пошла дальше, осознав свою одинокость и не желая в нее углубляться.
Существует ли на свете один человек, который бы это лицо узнал и полюбил, даже совсем не приукрашенное — и даже не именно лицо, а внутреннее содержание, им выражаемое, душу, сущность, натуру ее?? Или… такого человека просто нет?
Орлик зашла в универмаг, четыре этажа которого неспешно выдали ей некую унылую закономерность: те же самые товары, чередуясь и меняя расположение, заполняли излишне большое, ненужное пространство магазина. Товаров первой человеческой необходимости, простых и добротных, не было… зато всевозможные сувениры, экстравагантные одеяния, цыганские блестки и обилие мистических знаков на предметах любого назначения, а также бурно представленная книжная продукция, по большей части бульварная — все это наводило на мысль, что помещение заполняется товаром, завозимым неталантливой мафией, не допускающей притока здоровой торговли в этот чертог частного предпринимательства. Сердце посетителя уставало от вида нулей, стоявших, как охранники, рядом с цифрами цен, и покупать ничего не хотелось… Шел 1993 год.
Снег на улице выдавался первоклассный и недорогой, чистенький и радующий.
В подземном переходе у метро музыканты грелись лирической своей работой — струнами, строками, трубными звуками. Романс перекрывался хриплым ревом проповедника, ратующего за что-то, аккордеон сменял студенческий перебор гитары. Продавцы газет, снадобий, гороскопов неумело пытались завлечь прохожих каким-то призраком надежды и спасения. Кафетерий, полный привозных сладостей, играл с народом все ту же глупую шутку трех ноликов — каждый шоколадный батончик стоил не меньше тысячи купонов (украинских дензнаков нового времени).
Эскалатор внес Орли внутрь котла с поездами, называемого метро. (Откроем читателю настоящее имя этой юной израильтянки, Орли, ибо попытка поставить слово «Орлик» в форму винительного падежа превратила бы его в мужское имя — в то время как оно лишь прозвище, ласково данное этой девушке киевскими детишками, которых она обучала в хабадской школе, для чего и была прислана сюда из соответствующего семинара в Израиле.)
— Обэрэжно, двэри зачыняются… Наступна станцыя — майдан Нэзалэжности… — донеслось до ее непонимающего слуха.
В школе, до которой она добралась на метро, ее сразу же обступили ребятишки, загалдели, объясняя предстоящую постановку спектакля на Пурим… Она с трудом навела порядок, дала им диктант на легком иврите, потом устроила заранее заготовленную викторину с помощью карточек, прилеплявшихся к доске. В этом, пятом, классе преподавать еще было можно, а вот в десятом — полная деградация. Ребята уже ничего не знают и не хотят знать — во всяком случае, ничего, связанного со школьной программой. Зато истории о Баал-Шем-Тове, фрагменты «Тании», а для девочек — современные израильские песни — вполне подходяще. Так она и делала: садилась, окруженная мальчишками, и рассказывала им на ломаном русском о сотворении мира и о борьбе двух душ в теле еврея, а затем, отпустив мальчиков играть в футбол, устраивала с девицами урок пения на иврите. Один рослый десятиклассник, казалось ей, был в нее влюблен… или просто очень, очень внимателен к ее объяснениям — так жадно их ловил. Потом его семья выехала в Чикаго. Ее саму удивляло, почему она так чутка к этим нюансам, почему так ждет к себе внимания. Ведь ее родители были хабадниками. Она получила прекрасное хабадское воспитание, так откуда же эти лишние мысли в голове?
Итак, она подсознательно искала любви и проявляла к этой теме больше интереса, нежели любая из ее подруг по классу, по школе, по семинару, хотя внешне казалась такой же смирной, как они, и ее черные продолговатые глаза глядели вполне невинно. Но настоящая любовная история началась у нее не в Киеве, где она провела зиму и весну, а позднее, летом, в жаркой, грязной, наглой Одессе, куда отправилась она после телефонного запроса секретариата Ребе. Увы, у Орли не было того, что называется на языке хабадников «машпия» — то есть опытной наставницы, без предварительного обсуждения с которой, в идеале, девушки не должны принимать никаких жизненных решений. Так получилось, что прежняя наставница ее разочаровала — Орли показалось, что она неспособна хранить доверяемые ей тайны — а новой она пока не нашла…
Переезжая в Одессу, она действовала на свой страх и риск, да и до этого, в Киеве, была очень одинока — особенно после отъезда своей подруги Ривки, с которой делила малюсенькую квартирку на Оболони. К Песаху та, естественно, пожелала вернуться в Израиль — кому же охота в праздник голодать на Украине! А Орли по разным причинам предпочла домой не ехать. Во-первых, школьный год еще не закончился. Пусть и сумбурное это обучение, и мало что стоит такой учебный процесс — но зато дети видят перед собой живого носителя хабадского мышления, человека Ребе (каковым она себя считала) … А кроме того, Орли не очень любила тот семинар, в котором училась — ей казалось, что она ничего не потеряет, если вернется на свой второй курс спустя еще несколько месяцев, как и предполагалось по плану. Голодать ей все же немножко пришлось, но она отдавала себе отчет, что многие из тех киевских детишек, которых она обучала Торе и заповедям, голодали (не из-за кашрута, а из-за бедности) еще больше. Однажды она проводила до дома свою ученицу, обедавшую у нее в субботу, и зашла вместе с ней в небольшую квартиру, где во всем холодильнике имелась… лишь одна серая картофелина в кожуре, покинуто лежавшая внутри алюминиевой кастрюли. «Мама спит, — сказала девочка, — а я не буду света зажигать, пока суббота не выйдет…» Орли погладила ее по голове… Они сидели в темной квартирке, дожидаясь, пока выйдут звезды, и говорили о скрытых цадиках, о том, как те втайне творят добро людям.
И вот, завершив учебный год и обменявшись адресами со всеми ученицами, Орли внезапно получила предложение от одесского раввина поработать в женской йешиве, которую он только что организовал.
А по приезде ее тотчас согрел восхищенным мужским взглядом один из нерелигиозных друзей раввина и, пока она отказывалась есть клубнику непомытыми руками и объясняла галахическую сторону этого вопроса (причем раввин ей доказывал, что есть разные воззрения на этот счет), этот самый Славик успел разглядеть всю прелесть ее фигуры и лица, после чего с жаром ввязался в дискуссию об отношении к влажным фруктам.
Не прошло и недели, как она с удивлением отметила, что этот Славик ей очень нравится, несмотря на свой зачаточный иврит, хождение по городу в коротких штанах, отсутствие бороды и кипы, полное незнание законов Торы… Орли преподавала нескольким школьницам еврейскую традицию (этот класс носил громкое название женской йешивы) и во второй половине дня учила русский язык, захаживала в культурный центр, смущенно глядела на все происходящее там. Вот — пары, кружащиеся под еврейскую музыку самым некошерным образом, вот — сохнутовские вожатые, увлекающие детей довольно пустыми играми, вот — клуб «Что? Где? Когда?», комната, где вечно смеются, курят, вольно общаются между собой парни и девицы. Орли решила выпускать хабадскую стенгазету и увлекла своим проектом учениц: они вместе с ней сочиняли, писали красивым шрифтом, вырезали, приклеивали, вывешивали… За газету ее невзлюбила директорша центра Мира, чье мышление было абсолютно светским, а энергия — неиссякаемой. Вскоре Славику выпала роль Орлиного защитника — он уберегал ее от яростных нападок Миры, недовольной появлением в городе симпатичной представительницы ортодоксального иудаизма, и экономного Рувена, не любившего в иностранцах и иностранках проявлений барства и боявшегося опустошения вверенного его попечению продуктового склада.
Орли, плачущая и беззащитная, вызывала у Славика безумное желание самому стать бородатым хабадским мужиком, который был бы ей под стать и не дал бы ее в обиду… просто-напросто женившись на ней. Была бы она его женой — никто бы на нее и пикнуть не посмел. Так ему представлялось в радужных мечтах. Он забывал о том, что совершенно к этой роли не готов… Что вся его компашка, коллеги по «Мике» (валютной фирме), уютные матюжки, милые сердцу вечера, кассеты, балдеж, подруги, полная терминов ласкательной физиологии речь — это все не вяжется с Орли никак, никак, никак. И дочка Коринка, оставленная у вторично вышедшей замуж русской жены, так сильно знобит его сердце любовью к ней, что вряд ли он сможет когда-либо бросить Одессу и улететь в Израиль. Все это (ощущаемое как препятствие, но сознательно отодвигаемое) он отставил временно на второй план, увлекшись невозможным: дружбой с Орли.
…И начались безумные проекты, громоздимые во время кратких встреч в доме мучимого своими проблемами раввина, который не поощрял, но и не пресекал эту влюбленность, разве что высказался пару раз скептически… И вот уже Славик бормочет слова молитвы, накручивает тфиллин, стоя (по-прежнему в коротких штанах) возле стола в синагоге… В родительском доме, где проживает, он ничего более не ест.
Его бросает то в жар, то в холод от происходящих в нем изменений — он никогда не думал, что будет принимать всерьез все эти ритуалы… И прежний круг друзей распадается, и он учит иврит, и читает все доступные кошерные книги на русском, чтобы было хоть о чем поговорить с рассудительной Орли. И, в свою очередь, начинает приобщать иностранку к русской литературе, рассказав ей очень увлеченно историю о двенадцати стульях с продолжением. Он даже показал ей старый фильм, знаменитого «Золотого теленка» с Юрским, где лицо Бендера так театрально-выразительно и где он так одинок на фоне масс: вот она, еврейская избранность. А замечание насчет датчан, убивших своего принца — Гамлета? Разве это не ответ всем тем, кто упорно мстит евреям за нелюбовь к Йошке? Даже если предположить, что он был казнен по решению еврейского суда, то какое дело до этого всему миру? Славик пояснил специально для Орли, что в этой книге и в этом фильме, по его мнению, есть так много Торы, как будто… Но он увидел, что она не понимает. Она раньше вообще не видела нормальных фильмов, только учебные и с Ребе. Он умолк и грустно улыбнулся, ощутив пропасть, разделявшую их.
Так проходило лето…
И вот в один престранный эрев-шабос вдруг случается что-то, что эту пропасть резко сокращает.
В просторной, принадлежащей общине, квартире, когда его возлюбленная беседует на кухне с поварихой Светой, переспрашивая русское слово «вареники» и с улыбкой повторяя его вслух, — с плиты, поскользнувшись от неосторожно придвинутой к ней сковороды, сваливается громадная кастрюля с этими самыми варениками, в ней вскипавшими, и рухает вместе с Орли на пол, под истошные крики поварихи, едва устоявшей на ногах. В этом липком, сладком, дымящемся кипятке она скользит, пытаясь встать — и вот уже подхвачена и прижата к белому боку поварихи, уведена в ванную, усажена под струю холодной воды — и стоны ее становятся все слабее, а затем совершенно стихают. Наступает суббота, повариха, вызвав скорую и сняв белый запачканный розовым фартук, уходит домой. Орли, лежа на кровати в комнате для гостей йешивы рядом со столовой, ожидает прибытия машины скорой помощи…
Ноги горят, ноют, ломят… Входит Славик и, с легкостью преодолевая ее словесное сопротивление, припадает к изголовью ее кровати. Он быстро и невнятно объясняется в любви, но трогать ее не осмеливается, понимая, что нездоровье — не оправдание греха, и только нежными взглядами пытается облегчить ее плачевное положение… Зато когда два дюжих медбрата из скорой хотят свести Орли под руки вниз по лестнице, он яростно сопротивляется, объясняет им, что она — религиозная израильтянка, после чего относит пострадавшую на руках к машине совершенно самостоятельно. В больнице ей прокалывают пузыри на вспухших от ожога ногах, и потом в течение трех недель она медленно выздоравливает, регулярно проведываемая Славиком, в маленькой, удаленной от центра, дешево снятой практичным завхозом Рувеном квартирке. Туда же к ней приходят ученицы — трое девушек, которых она обучает хасидизму. Романтичная влюбленность в нее Славика ничуть не порочит ее в их глазах — для Одессы в этом нет ничего компрометирующего. Орли усваивает точку зрения Одессы на свой роман, не видит в этом почти ничего предосудительного. Славик считается ее женихом, и она уже подумывает о том, чтобы сообщить своим родителям интересную новость.
Папа Орли заведовал в муниципалитете отделом водоснабжения, мама работала в Организации Женщин Хабада и, в отличие от отца, была очень сильна в соблюдении заповедей Торы и держала всю семью в русле Любавича. Поэтому Орли для начала поговорила с отцом — милым, мягким, ничего ей, как правило, не запрещавшим. Рассказала, что у нее тут началась какая-то необыкновенная история… молодой человек хочет сделать тшуву, стать религиозным и жениться на ней… Попросила ничего не рассказывать матери и, облегчив душу, повесила трубку.
А потом начались странности. Славик пропал…
Вызванивать его по домам друзей, по «малинам» было крайне унизительно… Потом, когда он снова объявился, Орли почувствовала, что уже не может, не опасаясь охладить отношения, расспрашивать его так свободно — где он бывает, что у него с кашрутом и другими заповедями, как движутся его уроки по изучению иудаизма… Все это как-то утратило внутренний смысл. Она поняла, что он сдал позиции, в душе уже отказался от нее и только для видимости, чтобы не обидеть больную, еще приходит общаться.
Она не выдала своих догадок — только поставила его в известность о своем скором отбытии в Израиль.
Он снова преисполнился нежности, предложил по телефону запросить у Ребе благословения на их будущую совместную жизнь (Орли побоялась это делать), потом очень трогательно проводил ее в путь, пытался было подарить на прощанье колечко с аметистом — но она, зная, что кольцо — слишком обязывающий подарок, не взяла его. Так и объяснила. Они расстались с туманными авансами на будущее и чувством какого-то общего недоразумения, вызванного этим самым кольцом. Кольцо — это уже обручение, это серьезно. Она это знала.
Когда же она вновь оказалась в своем родном городе, Иерусалиме, среди подруг, пышно и респектабельно выходящих замуж за приличных молодых людей, с ощущением полного уважения и к себе, и к законам Торы — Орли вдруг стало обидно, что она так унизила свое звание девушки, свое хабадское происхождение, вообще всю свою женскую суть тем, как легкомысленно повела себя там, в Одессе… И хотя ничего у нее с ним не было, даже прикосновений, кроме вынужденно-оправданных, по пути к машине скорой помощи, — но роман все же далеко выходил за рамки кошерного официального шидуха, когда девушке предлагается встреча с человеком, равным ей в основах мировоззрения, подходящим ей по возрасту и образу жизни…
Это стало обжигающим кошмаром — вспоминать все, связанное с Одессой. Орли не могла останавливаться глазами на фотографиях Ребе, потому что, судя по его доброй улыбке и свету на его обращенном к ней лице, Ребе считал ее хорошей, а она знала о себе, что вела себя плохо, и несоответствие этих двух представлений вызывало стыд, который испытывать было неприятно, и она просто отводила глаза от портрета… Осознавала свою глупость, свою вызванную этой опрометчивостью оторванность от Ребе. Ведь кто, в сущности, гнал ее в Одессу? Не кто, а что: жажда приключений. Разве хасид поступает так, мчится за новизной ощущений неведомо куда? А все эти любовные чувства, настоящая игра с огнем… На чьей ответственности все это в итоге окажется?…Ей становилось страшно, хотелось с кем-то поговорить, принять полное решение о раскаянии. Но она все откладывала это на «попозже». Так проходило время.
Орли уже было совсем отреклась от прошлого, как вдруг… ей позвонил Славик и сообщил, что завтра прилетает в Израиль. И не просто так прилетает, а к ней.
Настаивая на каких-то своих особых правах, он вынудил ее скрыть от родителей сумасшедшую поездку в Тель-Авив, включавшую ожидание его рейса, суховатую встречу в аэропорту, бессмысленное блуждание с чемоданами у моря, опоздание на иерусалимский автобус, ночевку у знакомых Славика в Тель-Авиве и мучительное непонимание друг друга наутро. Спали они в разных комнатах, и вообще весь внешний этикет блюли безусловно — но была все же в этом приключении понятная наглость, если принять во внимание стиль жизни, к которому была приучена кошерная девушка Орли, никогда не предполагавшая, что вдруг докатится до подобной конспирации, снова пойдет так покорно за этим уже внушавшим ей кое-какие подозрения одесситом.
Кончилось все очень, очень плохо — она принимала его ухаживания в Иерусалиме, чувствовала нараставшую потребность близости, ржавые звенья в цепочке вранья становились все более хрупкими, и родители уже не раз пытались устраивать с ней воспитательные беседы… а ей хотелось лишь одного: понять, искренен ли он? Действительно ли в нем еще горит тот первый порыв тшувы, который в Одессе поначалу казался таким настоящим? Или это уже фальшивка, подделка под чужую игру, объясняемая лишь физическим его влечением к ней? Иногда ей казалось, что и в этом, втором, варианте есть своя прелесть. Пожениться в раввинате тайком от родителей, а потом постепенно приучить его ко всему… он бы все принял, ведь Тора — это прекрасно! Это только кажется, что трудно ее соблюдать… Уж она бы его убедила. Разве любящая женщина не сильнее любых привычек мужчины, разве не способна она переделать его целиком?
…Увы, лишенный какого бы то ни было контроля над происходящим, безденежный и светский Славик чувствовал себя в религиозном районе Иерусалима очень плохо. Хорошо ему бывало лишь у обыкновенных своих, нерелигиозных знакомых, к которым он то и дело срывался, чтобы расслабиться. Там он предпочитал ночевать, там смотрел телевизор, слушал разговоры о трудностях абсорбции, о безнадежных поисках престижной работы… ел то, чем его угощали и вовсе не был принципиален. И свой спектакль с Орли он так и не доиграл — на нервной почве обострились некоторые имевшиеся у него хронические болезни и он угодил в иерусалимскую больницу с весьма неприятным диагнозом в тот самый вечер, когда она ему окончательно отказала. Она ничего не узнала о его нездоровье… А поскольку он был туристом, то оплатить три дня его пребывания в больнице пришлось одному другу, который немедленно после Славкиного отлета эти деньги востребовал с родителей Орли.
Гордая дочь, узнав об этом, не могла позволить, чтобы и в самом деле родители понесли такие расходы — и тотчас устроилась на работу, чтобы постепенно внести всю сумму платежа (благородный друг согласился на отсрочку) … А Славик, восстановивший здоровье после приступа, но подбитый, обозленный, так и не добившийся ровно ничего от своей неприступной красавицы, прибыл в Одессу и с тех пор ходил по улицам осторожно, как раненый, об Израиле отзывался с загадочным негативизмом и очень ценил свою работу в банке, потому что с особенной остротой понимал теперь, что в Земле Обетованной с работой — не фонтан. Радовался своей получке, с которой сразу же отделял деньги на подарки любимой дочери. Иногда, поговорив по телефону с какой-нибудь подругой, шел на холостяцкие вечеринки. Все стало по-прежнему в его жизни, и больно было от приземленности, и не было сил пытаться взлетать снова. А раввина к тому времени уже прислали другого — совсем официального, образцово-показательного, к которому приближаться Славику ничуточки не хотелось.
А Орли замерла, перестала жить и чувствовать, только работала и училась, работала и училась… «Я никогда не найду того, кого мне надо», — думалось ей.
Б-г думал иначе, но до поры до времени не открывал ей Своих намерений. Чувствуя себя неадекватно среди чистых, как лебеди, хабадских подруг, Орли решилась на смелый шаг: попросилась в заведение для «баалот-тшува» в Цфате — «Махон Альту». Это, конечно, не пансионат «Небесные ласточки», но это и не колледж для совсем молоденьких, неопытных: скорее, наоборот. Там ее приняли с распростертыми объятиями и сразу предложили работать мадрихой, ответственной за работу с девушками. Она не производила впечатление человека, носящего в себе душевную рану, была общительна, спокойна, дисциплинирована. Умела и потребовать выполнения заданий, и проследить за всем, что надо, и в то же время не была сухой начальницей, вызывала симпатию.
Ее очень полюбили и учителя, и подруги. Свахи с ног сбивались, предлагая самых разных парней на шидух. После двух лет неудачных проб все поняли, что ей, очевидно, нужно что-то совершенно из ряда вон выходящее.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.