
Бесплатный фрагмент - Орелинская сага

На самом краю горного хребта, над высоким обрывом, приютилось маленькое селение под названием Гнездовище.
Раньше в этом месте был длинный ровный спуск в зеленую, плодородную Долину. Но потом что-то произошло, и на месте пологого склона, формой напоминавшего рыбий хвост, появился обрыв. Словно кто-то, в сердцах, резанул огромным ножом и отсек Рыбий хвост, оставив лишь гладкий высокий срез, да груду камней, клином врезавшуюся в зелень Долины.
Под этими камнями погибла целая плантация деревьев Кару, дающих сочные плоды со странным вкусом, и листья, на кончиках которых вызревали семена травы Лорух. Когда лист опадал, он сворачивался так, чтобы мешочек с семенами попадал внутрь. Перегнивая, лист «кормил» собой семена, и из них прорастала ровная и мягкая, как ковровый ворс, трава. Земля под этой травой всегда была теплой. Лорух хранила жар листа, давшего ей жизнь, до самого своего увядания и, словно в благодарность, согревала этим теплом молодые растущие деревца.
Когда-то этой травой был покрыт весь Рыбий хвост, но после обвала только над самым обрывом сохранилась зеленая площадка. Небольшая по сравнению с окружающими ее гигантскими вершинами, но вполне достаточная для того, чтобы на ней разместилось целое поселение.
Жили в нем орели — люди с крыльями птиц.
У кого-то они были больше, у кого-то меньше, но не замечалось, чтобы орели из поселения ими пользовались, потому что даже самые большие крылья все равно оказывались недостаточно велики, чтобы поднять в воздух крупное тело. Однако, подобная бессмыслица никого не удивляла и не угнетала. Эти орели ухаживали за своим оазисом, выращивая новые деревья и питаясь их плодами, да еще несколькими съедобными кореньями, семена которых неизвестно как попали на Рыбий хвост. Свои гнездовины они строили из камня, украшали их арками и резьбой, весьма искусной и неожиданной в таком месте, и строго соблюдали порядок расположения всех помещений.

Именно так была построена первая гнездовина, которую сложил тот, кто основал все Гнездовище. Среди поселян ходит легенда, будто был он Летающим и пришел со Сверкающей Вершины, где другие, тоже летающие орели, живут так немыслимо высоко, что никогда не видели ни Долины, ни Рыбьего хвоста. Однако, что с ним приключилось, и почему он ушел оттуда, давным-давно оплелось паутиной тайны, которая, если быть честным, мало кого волновала в крошечном горном поселении.
Пролог
Говорят, что скалистый хребет, от основания которого произрастал Рыбий хвост, состоит из вечно кипящих вулканов. Они так плотно наросли тут и там целыми семьями, что получилась целая колония. Попади сюда кто угодно, он бы решил, что вулканы вот-вот извергнутся, и спасения никому не будет. Но, живущие в этих краях орели умеют их «успокаивать». Как только какой-нибудь вулкан собирался взорваться, они окружали его и, взмахами крыльев, как бы остужали.
Кто их этому научил, и как они вообще попали на вулканы — неизвестно. Но старые летописцы утверждают, что вся история происхождения орелей зашифрована в рисунках, выбитых на стенах тайного тоннеля. Этот тоннель примыкает к Галерее Памяти, и далеко не каждый может туда войти. Только Верховные Правители, которые владеют тайной расшифровки и передают её своим наследникам. Именно они, эти Верховные Правители, раз и навсегда определили порядок жизни орелей, никогда не меняемый и весьма разумный. Построив на вулканических склонах шесть прекрасных городов, летающий народ провел не одно столетие в мире и покое, не желая никаких изменений.
Главной заботой крылатого племени было удерживать вулканы в спокойном состоянии.
Следили за ними специальные разведчики — рофины. Они исправно облетали огромные территории своих шести городов, высматривая «недовольных». И, надо сказать, работы им хватало. Вулканы, то один, то другой, постоянно кипели. Зато, благодаря их жару, у орелей всегда было тепло. Единственная, покрытая льдом вершина, называлась Сверкающей.
Орелинские горы и так были выше всего, что только можно вообразить, но Сверкающая Вершина гордо возвышалась над ними, невозмутимая и прекрасная. Она словно понимала, что жизнь орелей, во всех смыслах, держится на ней, потому что там, где ледник заканчивался, существовала расщелина, из которой бил незамерзающий ручей.
Странная вода была в этом ручье. Густая и вязкая, серебристого цвета, она стекает в огромную Чашу из камня, где никогда не застывает. И этой благодатной жидкостью орели питаются всю свою жизнь.
Но есть в краях Чаши шесть углублений, через которые вода стекает дальше, все больше густея и уплотняясь. Там ее собирают орели-ткачи — наммы. Вязкую, словно клей Воду, они скатывают в длинные нити и, растягивают их между специально обтесанными для этой цели столбами. А затем, дав им подсохнуть, плетут одежду, которую носят все орели. От тепла тел нити не засыхают окончательно, поэтому одежда орелей не похожа на панцирь. Напротив, чем тоньше нити, тем нежнее и воздушнее получается наряд, словно вторая кожа, облегающий тела орелей, что было очень удобно во время полетов. Самые искусные наммы, умело сочетая более толстые нити с тонкими, научились создавать красивые ткани с узорами и рисунками.
Но не только пищей и сырьем для одежды служила Серебряная Вода. Орели — коммы собирали ее в состоянии полного затвердения и делали чудесные украшения. Конечно, требовалось немало времени на то, чтобы обработать невероятно прочные серебристые слитки. Но тем ценнее и почетнее было ремесло коммов. Даже самое ажурное украшение никогда уже не ломалось и не билось, передаваясь из поколения в поколение.
Раз в год, когда солнце занимало определенное положение по отношению к Сверкающей Вершине, Вода становилась золотой. В этот день орели всех Шести Городов слетались к Чаше и ждали. Когда серебряные ручейки в стоках меняли свой цвет, специально выбранные от каждого города орели-корраты, собирали Золотую Воду в особые сосуды. И тот город, который мог похвастать наибольшим количеством таких заполненных сосудов, становился Главнейшим на целый год, и в него переселялся Великий Иглон — Верховный правитель всех орелей.
Кроме наммов, коммов, корратов и рофинов были у орелей архитекторы — леппы. Они очень хорошо знали, на какую толщину можно пробивать тот или иной вулкан, чтобы построить гнездовину, где в спальнях и детских было бы теплее, чем в остальных комнатах, но, все-таки, не слишком жарко. Они с большим искусством выдалбливали арочные перекрытия, балконы и целые галереи. Всю домашнюю утварь — столы, стулья, скамьи и уютные колыбельки для новорожденных и ещё не вылупившихся детей, делали ремесленники — коглы. Отделку для своих изделий они заказывали коммам, поэтому, гнездовины орелей были очень красивы и наполнены мягким, серебристым мерцанием, которое излучали эти украшения.
Были среди орелей и разносчики Воды — церты. Они носили ее от подножия Сверкающей Вершины в свои города, чтобы наполнить Малую Городскую Чашу. Делалась она из камня, который Великий Иглон, принимая власть, давал каждому из шести городских правителей. И это были не какие-то случайные камни. Дело в том, что Верховный правитель обладал Знанием, которое позволяло только ему находить у подножия Чаши нужное место, и таким образом заговаривать отколотые камни, чтобы они росли.
Потомство Великого Иглона неизменно составляли семь сыновей. До вылупления, и первое время после, за ними ухаживала мать. Кормила, учила ходить, говорить и укреплять крылышки. Одним словом, делала все то, что обычно делают матери. Затем, дети поступали в обучение к опытным ремесленникам и учителям — лестам, которые ставили наследников «на крыло». И только когда обучение заканчивалось, юноши были готовы к принятию власти.
В этот день все орели собирались в Главнейшем городе, где, после празднеств и всевозможных состязаний, Великий Иглон представлял им того, которого выбрал на смену себе. Остальные шестеро становились учениками Иглонов Шести Городов: Северного, Южного, Западного, Восточного, Верхнего и Нижнего. Со своим наследником Верховный Правитель удалялся в Галерею Памяти, где они оставались столько времени, сколько было нужно юному Иглону, чтобы овладеть Знанием. За это же время его братья обучались искусству править городами.
Из Галереи Памяти возвращался только молодой Великий Иглон, а прежнего никто и никогда больше не видел.
В день появления нового Правителя, в каждом из шести городов надвое раскалывалась Малая Чаша, и все орели устремлялись к подножию ледника на Сверкающей Вершине, где у источника с Серебряной Водой их ждал молодой Иглон. У его ног лежали шесть камней, которые он раздавал своим братьям. Это была торжественная церемония, после которой наследники разлетались по своим городам и устанавливали камни на место прежней, расколотой Чаши. А потом камни начинали расти. Несколько дней орели ничего не ели, ожидая прекращения роста. Затем, коглы осторожно выдалбливали камень так, чтобы получилась новая Чаша, а из выдолбленного куска делали сосуды, с которыми церты немедленно устремлялись за Серебристой Водой. Тот момент, когда город «наполнялся» едой, считался началом правления нового Иглона.
В это же время, Верховный правитель, в сопровождении шести орелей — саммов, как правило, сыновей бывших Иглонов, облетал дальние горные хребты, чтобы представиться живущим там.
Соседей у орелей было немного. Предпочитая уединение, ни те, ни другие к тесным контактам не стремились. Немногочисленные окрестные жители не опасались орелей, которые, как казалось, не могли жить нигде, кроме своих вулканов. И эти же вулканы избавляли орелей от необходимости бояться вторжения соседей.
Посетив пещеры гардов, — ползающих людей, покрытых чешуей, и стойбища нохров, — длинноволосых полулюдей, полукозлов, Великий Иглон посещал амиссий, — заклинательниц погоды и прорицательниц, с которыми беседовал обязательно с глазу на глаз. А затем, вместе с саммами возвращался в Главнейший город, где приступал к своим обязанностям.
Через семь лет после вступления на престол Великому Иглону предписывалось взять в жены орелину из того города, в котором он в это время находился, и завести потомство. Таким образом, круг жизни повторялся, делая следующий виток.
Все эти события, сопутствующие им празднества, а также все, что случалось с орелями из поколения в поколение, подробно записывалось в Летопись. В каждом городе имелся небольшой отряд норсов — собирателей событий, которые посменно следили за жизнью своих городов, запоминая все значимое и доставляя ройнам — летописцам, владеющим тайнами письма и чтения.
Хранилась Летопись в Галерее Памяти и представляла собой огромные панели из затвердевшей Серебряной Воды. Процесс изготовления такой панели был чрезвычайно сложен и требовал от ройнов бездны внимания и терпения.
Для начала, наммам заказывалось полотно определенного размера из самых толстых нитей. Затем, ройны несли это полотно к Дальнему Вулкану, слишком тонкостенному и жаркому, чтобы строить на нем что-либо, и раскладывали на заранее отполированной поверхности. От жары нити размякали и сливались друг с другом. Ройны же гладкими камнями заглаживали их, добиваясь ровной поверхности. И тут, главное было не перегреть полотно, чтобы оно не стало жидким, и не сделать его слишком тонким. После этого готовый лист переносился на особый камень, где и писался текст. Это было самым сложным. На горячем листе значки и рисунки получались нечеткие, размытые, а на затвердевшем их приходилось выбивать. Поэтому ройны-писцы, дождавшись, когда лист достигнет необходимой плотности, быстро-быстро наносили текст и рисунки, а, затем, (если, конечно, он не был исписан полностью), вновь несли на вулкан для подогрева.
В Летописи велось подробнейшее описание всего, что происходило за долгие-долгие годы. Начиналась она со времен Хорика, который был первым Великим Иглоном, повелевшим описывать для потомков все свои деяния, равно как и деяния своих братьев. Тогда же были подробно изложены все этапы передачи власти и многие другие уложения жизни орелей. Так, например, возбранялось летать ниже Маленького вулкана во все времена, кроме полу периода между днями Золочения Воды. И тут же, на этой же панели, следовал печальный перечень попыток обойти этот запрет. Никто из ослушников не вернулся. Зато, попадались записи о том, что кое-кому удавалось слетать вниз в дни полу периода. Остались короткие рассказы об увиденном тех, кто спускался ниже дозволенного уровня. Но, судя по сжатости повествования, орелей не слишком интересовала жизнь в Низовье. Гораздо больше места в Летописи занимали предсказания амиссий и их влияние на некоторые решения Иглонов. Из текста видно, что иногда прорицательниц даже приглашали во дворцы, но случалось это крайне редко. А при Дормате Несчастном и вовсе прекратилось.
Тогда же, был впервые нарушен и порядок передачи власти.
Запись об этом событии в Летописи выделена особым рисунком. И сам Гольтфор, бывший в те времена старейшиной ройнов, собственноручно наносил текст. «И в день Выбора Великий Иглон Санихтар взял из семи сыновей сына Дормата в наследники, определив же Северному городу сына Генульфа, Южному городу — сына Хеоморна, Восточному городу — сына Фондихта, Западному городу — сына Хитрольда, Верхнему городу — сына Флендега и Нижнему городу — сына Творольда». Далее в Летописи следовала история о том, что в один из дней Золочения Воды Великий Иглон Дормат увидел и полюбил юную орелину Анхорину. Сила его чувства была так неудержима, что, не дожидаясь седьмого года правления, он решил жениться и отправился за советом к амиссиям. Те предрекли ему страшные несчастья, советуя подождать до положенного срока. И сделали это в присутствии саммов и Гольтфора, сопровождавших правителя. Дормат страшно рассердился. Он отверг настоятельные просьбы Летописца собрать Большой Совет и ограничился лишь сбором братьев. Они тоже советовали подождать, но Дормат был упрям, и единственное чего от него смогли добиться, это отложить решение на год. И, если Анхорина, в следующий день Золочения окажется жительницей Главнейшего города, то Великий Иглон сможет жениться, хоть и раньше срока, но, по крайней мере, по обычаю предков.
Однако, Судьба не была благосклонна к влюбленному. Анхорина жила в Восточном городе, а Главнейшим стал Южный. Все орели знали о решении совета Иглонов и затаившись ждали, что будет дальше. Дормат, мрачнее тучи стоял у подножия Чаши, ни на кого не глядя. Наконец, он расправил крылья, сделал знак саммам следовать за ним и, не взглянув на жителей Восточного города, полетел на Юг. Все вздохнули, было, с облегчением, но тут правитель резко развернулся, смешав ряды сопровождения, в несколько взмахов подлетел к Анхорине и, подхватив ее, снова устремился к Югу.
Многие тогда были недовольны. Старые орели считали, что ничего хорошего не выйдет, если нарушать порядок, соблюдавшийся веками. Но первейший закон предписывает орелям не подвергать сомнению решения Великого Иглона, поэтому брак между Дорматом и Анхориной сочли заключенным.
В положенный срок молодая Иглесса родила семь яиц. Счастливый отец сам обустроил место в Южном дворце, где Анхорина будет о них заботиться, и созвал братьев на традиционный пир Семьи. Но случилось страшное. В тот момент, когда Дормат уже повел жену в ее новые покои, Анхорина, и без того хрупкая и бледная, вдруг стала белее собственных одежд и, как подкошенная упала к ногам мужа.
Счастливый пир обернулся великой скорбью.
Умерших Правителей и их жен орели хоронили в Седом вулкане, прямо у подножия Сверкающей Вершины. «И, когда исчезли концы канатов, на которых несчастную Анхорину опустили в ее могилу, — пишет дальше Гольтфор, — все присутствующие, в знак печали, накинули на крылья траурные сети, а Великий Иглон покрыл ею и голову».
Траурную церемонию проводили в Восточном городе, на родине Анхорины. Сюда же Великий Иглон, с присущим ему упрямством, распорядился принести и семь яиц с будущими наследниками. Правитель Южного города Хеоморн ничего не смог с этим поделать. Хотя решительность, с которой он пытался помешать Дормату, мало в чем уступала непреклонности его брата. Поэтому, вернувшись после похорон в Восточный дворец, Хеоморн в большом волнении ходил из угла в угол. Великий Иглон остался у могилы, но твердо дал понять, что ночевать он в этом городе не останется. Из-за этого, уже не один час, на внешней террасе терпеливо дожидались саммы со специальными креплениями для переноски яиц, изредка поглядывая через окна в зал для Церемоний, где не осталось никого, кроме тихо переговаривающихся Иглонов. День клонился к закату, а Правителям Городов, до отлета Дормата, ещё предстояло обсудить очень важный, не терпящий отсрочки, вопрос. Но время шло, Великий Иглон не появлялся, а Иглоны и Гольтфор, которого специально пригласили, все чаще, косились на краснеющее закатное небо.
Причина их волнения заключалась в том, что Дормат до сих пор не определился с тем, кто же будет заботиться о еще не рожденных наследниках после их вылупления, и кто научит делать первые шаги и первые взлеты? По обычаю только мать — Великая Иглесса — была достойна подарить будущим правителям самые первые впечатления от мира и жизни. Но после внезапной смерти Анахорины то, что прежде никогда не бывало проблемой, вдруг выросло перед Иглонами во всей своей неразрешимости. Все ждали, что Дормат хоть как-то определится на этот счет, и только Хеоморн метался по залу в нетерпении, словно не верил, что проблему вообще можно как-то разрешить.
Сомневался в удачном исходе и Летописец Гольтфор, но причина его сомнений никак не была связана с возникшей проблемой. Старик свято верил — даже в горе Великий Иглон не забудет своих обязанностей и поступит мудро. Пугало другое: с недоумением и грустью заметил он признаки раскола между Иглонами Севера и Юга. Гольтфор не мог бы сказать о каком-то конкретном проявлении этого раскола, но знал, чувствовал, есть нечто, что заставляет Хеоморна нервничать больше чем нужно, а Генульфа — Иглона Северного города — следить за ним настороженно и отчужденно.
Наконец Правитель появился и объявил о принятом им решении.
Поскольку у каждого Иглона в его городе уже есть невеста, то заботу о будущих наследниках следует доверить им. И прямо сейчас, не мешкая, братья должны забрать по одному драгоценному яйцу, а то, которое останется, Дормат возьмет сам. Вылупившийся из него ребенок сразу станет расти и воспитываться при Великом Иглоне, как будущий преемник.
Все покорно согласились, по тону Правителя понимая, что он все решил бесповоротно. И только Хеоморн начал бурно возражать против такого «слепого» выбора. «Нельзя, нельзя! — кричал он на брата, нисколько не стесняясь присутствия Летописца. — Будущий Великий Иглон не должен выбираться случаем! Нам следует лететь к амиссиям, спросить у них совета! В таком важном деле, как это….
— Гольтфор, — не слушая Хеоморна позвал Правитель, — запиши в своей Летописи, что отныне я запрещаю орелям летать в сторону Тихих Гор и спрашивать там совета даже по самому ничтожному поводу. И на этом все!
Он выразительно посмотрел на Хеоморна, а затем, прошёл, наконец, в детскую и, вскоре, вернулся, неся в руках одно из яиц. Ни с кем не прощаясь, Дормат зашагал к внешней террасе.
Хеоморн совсем растерялся и едва успел, сбегав в детскую за наследником для своего города, пуститься вослед. На выходе с его крыльев соскользнула траурная сеть, но, чтобы не терять времени, он не поднял ее…
Очень скоро дворец Фондихта опустел, и ночь вступила в свои права. Над горами повисли крупные звезды, а полная луна освещала дорогу улетевшим. Восточный город остался далеко позади.
Великий Иглон стремительно летел вперед, прижимая к груди свою ношу. Он намного опередил остальных, и все, что они могли видеть, — это отблески луны на сетчатом покрывале. Сопровождающие выбивались из сил, чтобы сократить дистанцию, но давалось им это с трудом. Хеоморн страшно нервничал. Он то подгонял саммов, то вдруг решил, что Дормату сейчас лучше побыть одному и даже ненадолго приостановился, задержав всю свиту, чтобы передать самму яйцо, которое, убегая впопыхах, так и нес от дворца все это время.
Все это продолжалось до тех пор, пока летящие не достигли Разделяющего Хребта, как раз, на границе Восточного и Южного городов. И там произошло нечто совершенно непонятное. Во всяком случае, в Летописи это описано несколько сумбурно.
Вроде бы, поднялась, вдруг, из глубокой расщелины под Хребтом снежная крутящаяся туча и мгновенно проглотила Дормата. Только дикий крик донесся до свиты, а, затем, туча словно взорвалась и, окатив всех волной ледяного холода, рассыпалась сверкающими брызгами. В мгновение ока тонкие траурные сети на крыльях саммов обледенели, сковав их движения. Один за другим, вскрикивая, они валились на площадку перед расщелиной, помогая, друг другу скорее отползать от края. И только Хеоморн, чьи крылья были свободны, не задерживаясь, кинулся к обрыву.
Страшное зрелище, на мгновение, предстало его глазам. Далеко внизу, освещаемое полной луной, кувыркалось тело Дормата. Его крылья нелепо торчали, намертво окованные затвердевшей в ледяной туче сетью, а его руки, раскинутые в стороны, были ПУСТЫ!
С горестным криком рванулся за братом Хеоморн, но было уже поздно. Великого Иглона поглотила глухая чернота пропасть. Онемевшие саммы столпились на каменистой площадке, опасливо вглядываясь вниз, туда, где кружил, не переставая Хеоморн, выкрикивая имя брата. Ответа ему не было.
Наконец, он сдался. Помогая себе тяжелыми взмахами крыльев, Иглон поднялся на площадку и повалился к ногам саммов. Никто из них не помнил, как встретил рассвет.
«Тяжелые вести легко разносятся, — пишет дальше Летопись. — Когда гонцы из Южного города оповестили соседей о происшедшем, в небе стало темно от стай орелей, слетающихся со всех концов света на центральную площадь перед дворцом Хеоморна». Накануне вечером, туда же прибыли Иглоны. Всю ночь они провели в покоях Правителя, где заикающийся от страха Хеоморн рассказывал им о случившемся.
Сомнений больше не было — подобную тучу могли наслать только амиссии, которые покарали Правителя за поспешное решение, а более всего, за отмену вековой традиции обращения к ним. Но почему так жестоко? И чем провинился еще не рожденный наследник?
Срочно был созван Большой Совет, где присутствовали старейшины от ремесленников, Иглоны и Гольтфор. Но не успели они даже толком рассесться, как запыхавшиеся бледные рофины принесли весть еще более страшную. Почти одновременно, во всех орелинских городах исчезли и остальные наследники! Невесты Иглонов, неотлучно находившиеся при колыбельках, были обнаружены лежащими возле них в некоем подобии сна, и разбудить их не представлялось возможным. Сами же колыбельки были пусты!
В поднявшейся суматохе телохранители все же попытались порасспросить кое-кого из охраны, но эти расспросы ничего не дали. Только главный страж дворца в Восточном городе Анохор, (отец злосчастной Анхорины в вечерние часы затосковавший о дочери особенно сильно, и ушедший со своего обычного поста, чтобы бросить взгляд на Седой Вулкан), заметил странное облако, в безветрие, стремительно уносящееся в сторону владений нохров. Вот и все.
Когда последний звук сбивчивого рассказа рофинов затих, воцарилась такая тишина, что стал слышен отдаленный рокот Южного вулкана. Онемевшие члены Совета застыли, словно изваяния из остывающей Серебряной воды. Неожиданная, ужасная новость захватила их врасплох, и теперь каждый, как никогда до этого, осознал свое бессилие перед роком и полную невозможность что-либо поправить.
Первым пришёл в себя Хеоморн. Взметнув крыльями, он кинулся во внутренние галереи туда, где в самой дальней и самой теплой комнате находилось последнее яйцо.
Вскоре анфилады дворцовых покоев огласил его горестный крик. Пропало и оно…
Дальнейшее Гольтфор описывает очень сжато и сухо, словно пишет отчет, где нет места лишним словам. Из его описания видно, что, едва придя в себя, Хеоморн распорядился провести расследование и, в дальнейшем, все делал, как наделенный полномочиями Великого Иглона. С отрядом саммов он лично облетел все города и опросил очнувшихся, наконец-то, девушек. Они рассказали одно и то же: будто бы неспешно вплыло в комнату странное серебристое облако и дохнуло усыпляющим ароматом, от которого голова закружилась, а сознание словно провалилось в бездонное жерло. Естественно, то что происходило потом, девушки видеть уже не могли.
Хеоморн слушал с каменным лицом, стараясь ничем не выдавать своих мыслей и переживаний. Точно так же он, чуть позже, выслушивал и Гольтфора, который, в присутствии всех Иглонов, пытался напомнить, что амиссии связаны с орелями древним договором и не могли поступить так жестоко. Если, конечно…..
Тут Летописец замялся и даже не хотел продолжать, но Хеоморн вдруг пришел в страшное волнение и потребовал договорить до конца. Вместе с ним подался вперед и Генульф, которому словно передалось волнение брата. И Гольтфор поведал, что Великое Знание, которое получает Правитель в Галерее Памяти, позволяет ему как-то воздействовать на амиссий. Но тогда выходит полная несуразица! Абсурдно даже предположить, что Дормат сам выпросил себе и сыну преждевременную кончину, а другим наследникам непонятное похищение. Но можно предположить, что кто-то еще овладел Знанием, и, хотя это тоже, вроде бы, полный абсурд, тем не менее, он все же близок к реальности. В конце концов, смертельно обиженный на амиссий Великий Иглон, мог сгоряча кому-нибудь открыться…
Говоря это Гольтфор страшно волновался и совсем не поднимал глаз, поэтому не смог заметить смертельной бледности на лице Хеоморна и того, как нервно теребил пряжку на своем поясе Генульф. Зато всем остальным сразу бросилось в глаза замешательство братьев. Все неловко молчали, прекрасно понимая, что открыться Великий Иглон мог только кому-то из братьев, и возможно….
Но тут Хеоморн решительно стукнул ладонью по ручке своего кресла и велел всем немедленно собираться.
Как бы там ни было на самом деле, а все пути сходились у пещеры амиссий, и Иглон Главнейшего города был готов узнать у них правду, во что бы то ни стало!
…Тяжело писалась Гольтфору эта часть Летописи. Ни смягчить, ни оправдать того, что сказали амиссии, не смог даже он, весьма искушенный в изложении фактов, не всегда, может быть, приглядных.
Склонившись перед Хеоморном, как перед Великим Иглоном, прорицательницы признались, что какой-то орель у них был, но лиц Летающих они не различают, постигают только самую суть. И суть прилетевшего была боль за судьбу орелей, которым правление Дормата принесет одни беды. Древний договор предписывал амиссиям уничтожать все, что грозит бедой Летающим, поэтому они подчинились…
На вопрос о похищенных детях прорицательницы отвечать отказались, заметив, что судьба еще не рожденных орелей живущим не принадлежит. А то, что с Дорматом погиб и один из наследников, лишний раз подтверждает правоту их действий — мудрый Правитель не стал бы таскать за собой и подвергать опасности едва зарождающуюся жизнь. Дормат сам виновен в своих бедах и не должен был продолжать правящий род, чтобы не преумножались беды его народа.
При этих словах лицо Хеоморна так перекосило, что свита забеспокоилась, уж не наговорит ли он сейчас чего-нибудь опасного и непоправимого? Но Хеоморн сдержался.
На его вопрос, смогут ли амиссии узнать сейчас того ореля, который прилетал, они тоже ответили отказом, ссылаясь на то, что суть его уже изменилась. Но зато отдали украшение, впопыхах оброненное таинственным гостем. Это была брошь — семилучевая звезда с половинкой солнца, обращенного на север….
Через два дня у подножия Большой Чаши было не протолкаться среди огромного количества орелей, созванных гонцами Хеоморна со всех Шести Городов. Как будто наступил день Золочения или новый Великий Иглон вернулся из Галереи Памяти. Все гадали о причине сбора, и версий было множество, но сводились они к одному: ничего хорошего, от такого спешного слета, ждать не приходится. А, когда один за другим, с красными от бессонницы, глазами и хмурыми лицами стали подлетать ремесленники — члены Большого Совета, сомнений не осталось: случилось новое несчастье.
Последними к подножию чаши опустились пятеро Иглонов, во главе с Хеоморном. Не переговариваясь и отводя друг от друга глаза, они, как будто, чего-то ждали. Но, когда в воздухе вновь захлопали крылья, никто из правителей не поднял головы и не посмотрел туда, куда устремили свои взоры, уставшие от напастей, притихшие орели. Их глазам предстало невероятное зрелище: саммы, одетые так, как одевались лишь в день ухода Великого Иглона, несли между собой связанного Генульфа, на груди которого нестерпимо сверкала семилучевая звезда с половинкой солнца — символ правителя Северного города.
Вздох изумления и ужаса вырвался из каждой груди, когда Хеоморн быстрыми шагами подошёл к брату, сорвал с него брошь и, отшвырнув ее подальше, повернулся к собравшимся.
Вот перед вами тот, — задыхаясь начал он, — кто виновен во всех наших несчастьях! Два дня назад великодушные амиссии указали нам знак, который был на груди злодея, заставившего их тайным Знанием поднять тучу, убившую Великого Иглона с сыном, и вызвать облако, унесшее остальных детей. Этот знак я только что вышвырнул вон! Два дня мы пытались дознаться у того, кто был нам братом, а вам Правителем, зачем он это сделал, и где несчастные дети. Но злодей не проронил ни слова! Вот так, — Хеоморн ткнул пальцем в Генульфа, — он стоял перед нами, и, ни угрозы, ни попытки сочувствия к его, возможно, помутившемуся рассудку, не вызвали ответа!
Собравшиеся орели, не до конца ещё понимая, что же, все-таки, происходит, посмотрели на бывшего правителя Северного города и ничего, кроме жалости к нему, не почувствовали. Генульф, больше чем на злодея, походил на ребенка, который потерялся, заблудился и теперь не знает, что делать. Но голос Хеоморна, переполненный гневом, не дал им расчувствоваться.
И тогда Большой Совет вынес решение! Всем известно, что в наших законах нет мер, карающих за убийство, ибо никогда орелин не поднимет руку на себе подобного. Поэтому, жизнь Генульфу будет сохранена, но он, на веки вечные, изгоняется из Шести Городов и лишается права называться орелем.
С этими словами Хеоморн махнул саммам, и те, содрогаясь, острыми каменными пиками разрезали на пленнике путы, а, затем, ими же, подрезали ему крылья.
Иглоны зажмурились и отвернули головы. Кто-то из членов Совета испуганно вскрикнул, кто-то закрыл лицо руками. В толпе заплакали женщины. Суровый приговор был произнесен и приведен в исполнение слишком быстро. Орели, не видевшие в своей жизни никакой жестокости, стояли потрясенные. Вина Генульфа ещё не улеглась до конца в их сознании, а слишком очевидное наказание уже свершилось, и они не знали, как себя вести. Поэтому только расступились, когда спотыкаясь и глухо постанывая, окровавленный изгнанник уходил прочь. С тоской и ужасом смотрели орели ему во след, и, казалось, радость никогда не вернется в их дома.
Генульф уже почти прошёл сквозь толпу, как вдруг, плечи его распрямились, он повернулся, подавив стон, и громко сказал:
— Я невиновен.
— Убирайся! — заорал на него Хеоморн. — Убирайся и будь проклят до тех пор, пока не вернутся дети Дормата.
— Я невиновен, — повторил Генульф и больше уже не оглядывался.
Поэтому он был единственным из орелей, кто не увидел, как от жителей Северного города отделилась фигурка девушки и, сильно взмахнув крыльями, устремилась за бывшим Иглоном.
— Рофана! — закричало сразу несколько голосов. — Рофана вернись! Ты не должна…
Но девушка догнала Генульфа, сложила крылья и, обняв его, пошла рядом.
Вот так и закончилась череда невзгод, постигшая орелей.
Великим Иглоном Большой Совет избрал Хеоморна, а обязанности правителей Северного и Южного городов вернули братьям Санихтара, которые были в них Иглонами при его правлении. Временно, разумеется. До той поры, пока у молодых Иглонов не появятся дети. Возможно, Судьба смилостивится и подарит кому-нибудь из них двойню…. Но, в любом случае, тогда вновь соберется Большой Совет и решит вопрос о наследовании.
Конечно, пересудов хватало. В домах, на площадях у городских Чаш и на хребтах, разделяющих города, короче везде, где собиралось двое и больше орелей, первым делом вставал вопрос: что будет дальше? Никто не мог представить, как из пяти Иглонов Большой Совет сможет сделать, как прежде, семь. Не понимали, зачем Генульфу понадобилось его злодеяние, и не могли без содрогания вспоминать о каре, его постигшей. Зато благородный поступок Рофаны, понятный во всех отношениях и возвышенно красивый, мешал в полной мере гневаться на Генульфа, (что-то тут было не так), и лишь усиливал ужас от наказания. О Дормате почти не вспоминали. Вернее вспоминали, но, вспомнив, замолкали, бросали друг на друга понимающий взгляд, и с тяжелым вздохом качали головами.
Несомненно, наибольшее сожаление вызывали у всех без исключения неродившиеся наследники. И первым в этой скорби был Хеоморн. Рофины всех городов, сменяя друг друга, день и ночь обшаривали окрестности в поисках хоть каких-нибудь следов. Но тщетно. Новый Великий Иглон был последним, кто признал, что поиски бесполезны, но горевать не перестал. Казалось, что он оплакивает собственных детей, так искренне, велико и непреходяще было его горе. Даже Гольтфор в своей Летописи особо отмечает «безбрежную, словно небо, печаль в глазах Великого Иглона от Южного города».
О нем тоже говорили. И говорили разное. Конечно, большинство считало, что выбери Санихтар Хеоморна своим наследником, никаких бед не случилось бы. Но были и такие, кто робко, шепотом выражал изумление по поводу того, что слишком уж быстро и, вроде бы даже охотно, Иглон покарал брата и чрезвычайно «удачно» потерял свою траурную накидку, улетая за Дорматом. Ведь он был ближе всех, и роковая туча своим холодом могла сковать крылья и ему. На что первые горячо возражали, что счастливая случайность, спасшая Хеоморна, должна быть благословенна всеми орелями, ибо теперь они имеют Правителя мудрого и справедливого.
И это было правдой. В калейдоскопе несчастий и частых сборов, последовавших за смертью Дормата, орели не сразу заметили то, что городские чаши дали по глубокой трещине. Конечно, они не раскололись, как это случалось обычно при смене Великих Иглонов, но ведь и все остальное пошло не так как всегда. Поэтому Хеоморн, едва получив официально статус Верховного правителя, первым делом наведался в Галерею Памяти и провел День Раздачи Камней. Строго в соответствии с древней традицией, насколько это было возможно в сложившихся обстоятельствах. И все те дни, пока камни росли, орели с замиранием сердца ждали: получится — не получится…
Все получилось. У городов были новые Чаши, а жители ощутили легкое дуновение прежней жизни. Потом настал День Золочения Воды, который прошёл хоть и без особой радости, зато как всегда. Но даже самые сомневающиеся утихли, когда в положенный срок оставшиеся Иглоны сочетались браком со своими невестами и обзавелись потомством. У всех — по одному ребенку и только у Хеоморна — семеро.
Порядок жизни восстановился.
За последние четыре года не было у орелей праздников более шумных о продолжительных, чем те, которые прошли в день рождения наследников Великого Иглона. И не было, казалось, правителя более ревностно соблюдающего древние обычаи, чем Хеоморн. Лучшие лесты ставили наследников на крыло, лучшие ремесленники обучали премудростям своего дела и, когда пришёл срок выбирать себе наследника, Великий Иглон от Южного города, с легким сердцем, представил всем Рокзута, как законного будущего Великого Иглона.
И тут случился последний казус. О том, что Рокзут вернулся из Галереи Памяти орели узнали от рофинов, специально посланных на разведку. Они нашли нового правителя у подножия Сверкающей Вершины, совершенно расстроенного и измученного ожиданием. Никто не понял, почему городские Чаши не раскололись, но за дурной знак это не сочли. Просто, с тех пор, в городах было по две Чаши. Одна, с Серебряной Водой, раскалывающаяся всякий раз, когда менялся правитель. И другая, неизменно пустая, лишь с небольшой трещиной по краю — Чаша Хеоморна.
Рокзут правил долго, соблюдая все обычаи и законы. Он свято чтил память своего отца, но было замечено, что однажды, когда в его присутствии кто-то затеялся поносить Генульфа, резко оборвал говорившего, приказав ему «молчать об этом».
Разумное правление сына Хеоморна нашло отклик в сердцах орелей. И даже тот факт, что дети у него появились много позже, чем у его братьев, сочли за добрый знак. Видимо судьбе был угоден этот Великий Иглон, раз она продлила дни его правления. Чего нельзя сказать о других. Очень скоро умерли Творольд, Флендег и Фондихт, совсем чуть-чуть не дотянувшие до передачи власти. Умер Гольтфор, до конца жизни не веривший в виновность Генульфа, но примиренный с Хеоморном восстановленным порядком жизни орелей. Умерли многие из тех, кто видел злую судьбу Дормата Несчастного и его детей. Поэтому, когда из Галереи Памяти вышёл сын Рокзута Рондихт его, в основном, встречало поколение орелей, для которых эта история уже начала превращаться в легенду.
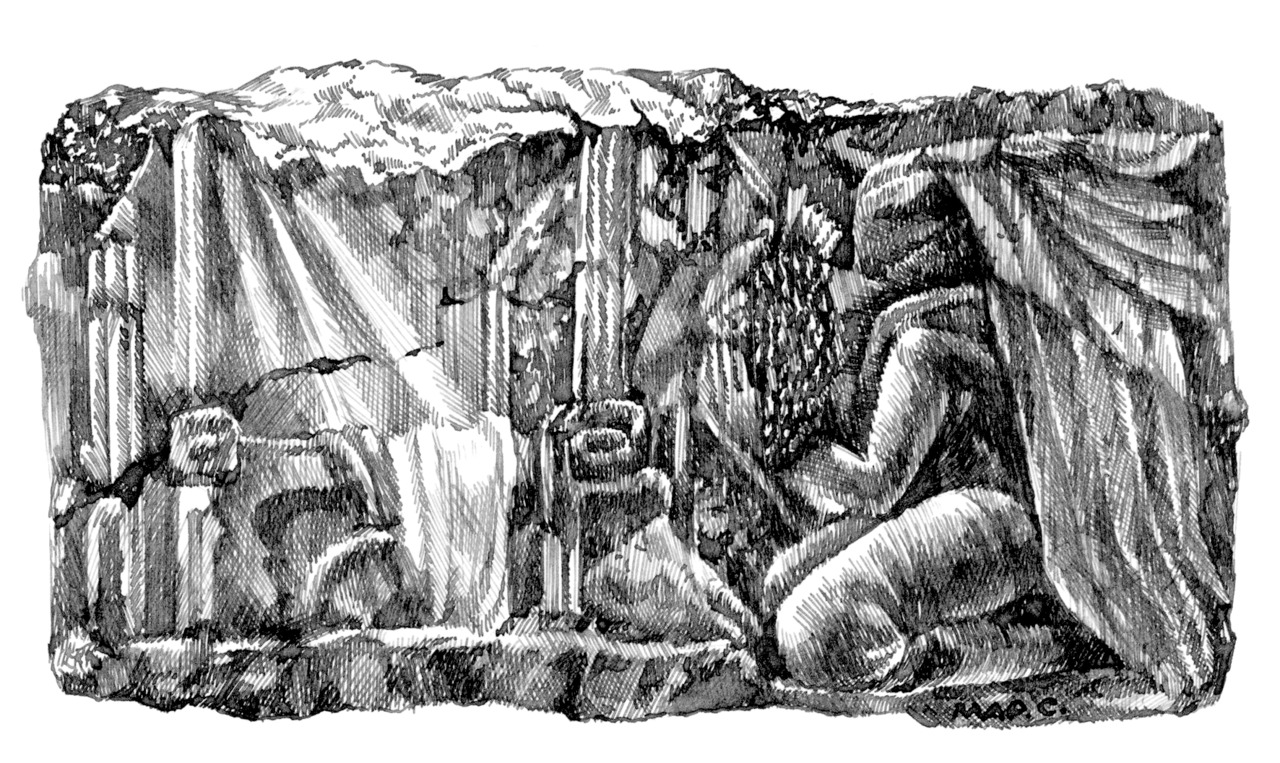
Многие тогда отметили, что Великий Иглон подавлен и даже, кажется, чем-то испуган, но жизнь шла своим чередом, и первая растерянность правителя забылась за повседневными заботами. Спокойствие и порядок разгладили смявшуюся, было, ленту жизни и, очень скоро, сказки о красивой любви Дормата и Анхорины, Генульфа и Рофаны украсили вечерние семейные посиделки наряду с придуманной небывальщиной. Орели рассказывали их своим детям, пока не настало время для новых легенд.
Часть первая
На площадке у Разделяющего хребта, между Восточным и Южным городом, блаженствовал в солнечных полуденных лучах норс Флиндог. Наконец-то закончились его десять дней. Ещё немного и он сможет передохнуть. Что ни говори, а старость дает себя знать. Все сложнее становилось Флиндогу, облетая Южный город, запоминать события более-менее важные. Рождения, смерти, браки, выборы новых старейшин у ремесленников или прием молодых учеников. Все это, в последнее время, стало ускользать из памяти, словно утренний сон. А Летописец Дихтильф все чаще выражал недовольство невнятными рассказами Флиндога. Но сегодня он будет доволен. Сегодня старый норс расскажет такое, о чем Дихтильф и не мечтал услышать! Это не какие-то простенькие городские новости, а то, что в Летописи будет помечено рисунком и, скорей всего, Дихтильф сам нанесет текст. Да-а, старику Флиндогу повезло! Ещё мальчиком, во времена Великого Иглона Рокзута, мечтая о ремесле норса, он представлял, как принесет ройнам Весть о чем-то невероятном, что войдет в легенды. Тогда ещё был жив Гольтфор — величайший из летописцев, (по правде сказать, нынешний Дихтильф ему и в подметки не годится), и рассказы о событиях, свидетелем которых он был, будоражили сердце маленького Флиндога. Вот это были времена! Правда, старые норсы рассказывали ещё его отцу, что им, в ту пору, и делать-то особенно ничего не пришлось. Но, впечатленный одной лишь возможностью быть там, где зарождаются легенды, мальчик мечтал, что уж он то не оплошает. И сумеет не только вовремя распознать невероятное событие, но и донести весть о нем одним из первых. Вершиной его мечтаний был Большой Совет, где он будет сидеть, на равных с Иглонами, как избранный старейшина норсов ото всех городов.
Эти мечты не оставляли Флиндога всю его жизнь. Он любил свое ремесло и верил в удачу, несмотря на то, что не стал старейшиной даже в своем родном городе. Поэтому, вполне возможно, Судьба и сделала ему подарок. И именно в тот момент, когда, казалось бы, пора на покой.
Флиндог счастливо улыбнулся и встал. Пора лететь дальше. А то, на этом солнце, недолго совсем разомлеть и уснуть. Он расправил крылья, но, перед тем, как взлететь, заглянул в пропасть. Даже в яркий солнечный день вид ее разверстой пасти вызывал ужас. Именно туда упал когда-то Дормат Несчастный со своим наследником. «Бедняга, — подумал Флиндог, — какая судьба! Одно хорошо, он так и не узнал о беде с остальными детьми. И хотя не мне укорять Судьбу, но все же непонятно: отец расплатился за свои ошибки, но за что пострадали дети, которые, не то что ошибок наделать, а и родиться ещё не успели?» Он покачал головой и полетел. Радужное настроение приправилось горечью. Как и все орели, Флиндог любил детей, и мысль о погибших наследниках Дормата расстроила его, несмотря на то, что случилось все это много лет назад. Какой был бы ужас, если бы с его детьми приключилось такое! Но норс тут же отогнал эти мысли и, в очередной раз пожалел Великого Иглона, а, заодно, и всех остальных Иглонов. За свою власть над городами они расплачивались тем, что могли иметь только по одному ребенку, а у него, простого ремесленника, их двое. Сын, который уже давно стал на крыло и считается неплохим норсом, и дочь, которая скоро выйдет замуж и подарит ему, Флиндогу, внуков. А там, кто знает, может, его имя внесут в Летопись, и внуки его внуков будут гордиться своим удачливым предком, передавать о нем рассказы, из поколения в поколение, и, (а почему нет?), попросят у Иглона дозволения выбить его имя над входом в гнездовину.
Флиндог даже зажмурился от удовольствия. С такими приятными мыслями он и не заметил, как пролетел весь оставшийся путь до Галереи Памяти. Даже суровый Дихтильф сказал, что сегодня норс прибыл рано, как никогда. Хотя и не первым. У входа на террасу, где старший ройн принимал вестников, уже ожидали своей очереди норсы Нижнего и Северного городов.
— Прекрасный сегодня денек, — заметил после приветствия Риндольн — норс из Нижнего города.
— Чудесный! — бодро осмотрел небосклон Флиндог. — Давно я не чувствовал себя так молодо! Даже ломота в левом крыле отпустила. Такое блаженство! Вот ведь, пока ничего не болит, и не понимаешь своего счастья, а потом, дернет там, заноет тут, и начинаешь сожалеть, что не длил свое здоровое удовольствие и не берегся сквозняков и холодных ночей.
— Это верно, — согласился Риндольн, а сам подумал, что им, жителям Нижнего города, уберечься от холода и сквозняков гораздо сложнее, чем южанам. И, что ломота и колики происходят у Флиндога по причине старости, которую он всеми силами стремится скрыть от своих собратьев.
Как дела дома, Флиндог?
Все хорошо, спасибо.
Свадьба у дочери скоро?
Э-э, скоро, — смешался старый норс и изумился про себя: «Когда это я говорил ему, что дочь собирается замуж? Эх, старость, старость, видно, и вправду, пора на покой».
Риндольн же, словно и не заметив смущения собеседника и не догадавшись о его причинах, слегка поклонился:
— Передай ей мои поздравления и пожелания счастья. Я обязательно перешлю с иширами какой-нибудь подарок. Обожаю свадьбы! У нас в городе, за мою смену, три пары соединились. Ещё у двоих вылупились дети и, к радости, никто не умер. А у вас как?
И у нас, к радости, смертей не было.
Флиндога чрезвычайно растрогало, что Риндольн собирается сделать его дочери подарок, и он захотел сделать в ответ что-нибудь приятное.
Я сегодня принес большую новость, — доверительно шепнул старый норс, — так что не улетай сразу, послушай.
Риндольн уважительно поднял брови и кивнул.
В этот момент к Дихтильфу прошёл Горсах — вестник с Севера, а к ним вернулся освободившийся Хорнот — норс с Запада.
— Вот у кого, наверное, полно новостей, — поприветствовал его Риндольн. — Главнейший город всегда богат событиями.
— И это так, — Хорнот был полон важности. — Вы можете узнать из первых рук, что скоро нас ждет большое празднество.
— Уж не стали ли на крыло наследники? — восхитился Флиндог.
Именно. И через несколько дней Великий Иглон Рондихт представит нам своего преемника.
Не успели норсы, как следует порадоваться новости, а к ним уже вернулся Горсах, и Риндольн поспешил к Летописцу.
— Совсем мало новостей, — хмуро бросил вестник с Севера. — Жизнь в нашем городе словно остановилась. Уже третью смену ни свадеб, ни рождений. Одни смерти.
— Это от того, что вы уже давно не обретали статус Главнейшего города, — со знанием дела заметил Хорнот. — Вам нужно лучше заботиться о своих корратах, чтобы набирали побольше Серебряной Воды.
Моя дочь, кстати, выходит замуж за сына коррата, — встрял Флиндог. — О-о, как красиво они живут! Гнездовина украшена не хуже дворца. А на перилах внешней террасы такая резьба!..
Он умолк, заметив, что Горсах нахмурился ещё больше, и поспешил перевести разговор в другое русло.
Между прочим, тут вот Хорнот порадовал нас большой новостью. Стали на крыло наследники, и скоро нас ждут большие празднества.
Хорнот, не слишком довольный, что не сам сообщил об этом, подтверждающе кивнул.
— Что ж, — вздохнул Горсах, — тогда поспешу домой. Может, хоть это разбудит наш город.
Подожди, — остановил его Флиндог, — я тоже кое-что принес. Сейчас моя очередь идти к Дихтильфу. Идите со мной. Уверяю вас, вы будете ошарашены!
Норсы недоверчиво глянули на Флиндога. Им не очень верилось, что старик, давно не приносящий ничего стоящего, мог сообщить нечто важное. Но, из уважения, оба остались.
Им пришлось подождать, пока Риндольн закончит рассказывать и призывно помашет рукой. Дихтильф бросил короткий взгляд на всю компанию, отложил в сторону табличку с крылатым облаком — символом Нижнего города, и придвинул к себе ту, на которой красовалась половинка солнечного диска с лучами вверх — знаком Восточного города.
— Итак, — усмехнулся он, — судя по тому, что вы не разлетелись, а пришли вместе с Флиндогом, его новость из разряда тех, что случаются нечасто.
— Верно, господин Летописец, — поклонился старик, — поэтому простите, если рассказ мой будет сбивчив. Я сильно волнуюсь. Такое нечасто случается. Я имею в виду новость, которую принес, а не то, что я волнуюсь. Волнуюсь я, как вы знаете, крайне редко и, за годы, которые летаю к вам…
Короче, — Дихтильф сурово посмотрел на Флиндога.
Похоже, старший ройн тоже с недоверием относился к степени важности того, что собирался выслушать. Не исключено, что Флиндог преувеличивает, чтобы привлечь к себе внимание. Ведь всем известно, умение подать новость — один из секретов работы норсов. А старик, в последнее время, стал заметно сдавать. И сам это понимает. Вот он теперь и старается…
— Да, поторопись, — поддержал Летописца Риндольн, — наши иширы принесли от гардов новые сосуды с запахами. Я хочу успеть сделать жене подарок.
Флиндог совсем смутился. Его новость вдруг показалась ему не такой уж и важной. Сейчас ещё на смех поднимут. И, тогда уж точно, в отставку. И так уже вон как смотрят… Нет, надо, надо скорее что-то говорить.
— Ну, в общем, тут вот какое дело. Пару смен назад, я вам рассказывал, — старик поклонился в сторону Дихтильфа, — что наши рофины приняли к себе юного Тихтольна, который приходится сыном Зуринзельту. Тому самому, чей давний предок первым обнаружил, что глубоко под облаками живут бескрылые существа, похожие на нас. Зуринзельт так часто рассказывал об этом сыну, что тот, едва став рофином, стремился только к одному: своими глазами увидеть то, что разглядел его пращур. Конечно, Тихтольна предупреждали, что летать под облака запрещено, что о жизни бескрылых нам известно достаточно и что главная его забота как рофина — состояние вулканов. Но мальчик проявил редкое упрямство и летал все ниже и ниже, словно ему камень привязали. Зуринзельт уже и сам был не рад, что заразил этим сына, но поделать ничего не мог.
Так вот пару дней назад, облетая город, я заглянул к ним в гнездовину, чтобы узнать, что и как. И увидел, что все семейство в сборе и слушает Тихтольна. А тот, израненный и грязный рассказывает такое, от чего я все забросил и тоже сел слушать. И вот что услышал: в очередной раз, залетев под облака, да так низко, что чтобы посмотреть на них, нужно было задирать голову, Тихтольн оказался в центре сильной бури. Что его туда понесло (я имею в виду бурю) не знаю. Но Зуринзельт говорит, что мальчик с детства лез в самое жерло и … — норс осекся, заметив взгляды окружающих, и продолжал, уже не отвлекаясь. — Так вот, ветер был такой, что его бросало по воздушным потокам, не давая опомниться и попасть в течение хотя бы одного. Тихтольн не мог даже крыльями как следует взмахнуть, и обязательно погиб, если бы не случайность. Когда в очередной раз порыв ветра швырнул его на скалы, юноша зажмурился, ожидая конца, но вместо страшного удара почувствовал, что ветер стих., а сам он падает плашмя на какую-то площадку. Случилось почти невероятное: его внесло в небольшую пещеру, которую едва различишь со стороны. Видимо ветры часто задували туда все, что могли поднять на такую высоту, потому что пол пещеры был завален всяким непонятным хламом. Тихтольн утверждает, что там были даже затвердевшие обрывки старинной орелинской одежды и кусочки того материала, из которого нохры делают свои фигурки. Там-то он бурю и переждал. А когда заметил, что выглянуло солнце, решился выглянуть и сам, чтобы посмотреть, куда его занесло. И вот что, орели, он там увидел! Огромный пологий склон, будто бы обрубленный, а на самом краю того обрубка — поселение. Несколько гнездовин вроде наших, но поменьше, и не выдолбленные в скале, а сложенные из ее обломков. Более того, у мальчика отменное зрение, и он, подобравшись поближе, заметил, что и украшения этих гнездовин похожи на наши. Вокруг множество всяких диковин, как сделанных, так и растущих прямо из земли. Но самое диковинное то, что живут там ОРЕЛИ!
— Кто!!!??? — казалось, каждый из слушавших выдохнул это слово. А Дихтильф даже привстал и подался вперед.
— Ты сказал ОРЕЛИ?
— Да! — ликуя, подтвердил Флиндог. — Тихтольн хорошо их рассмотрел, ошибиться невозможно. Было далеко, но мальчик заметил их крылья, они, как и наши, только поменьше! Конечно, у них другая одежда, они не летают и питаются наверняка по-другому. Но это — орели! Там двое очень громко переговаривались, поднимая с земли что-то, что повалила буря, и Тихтольн уверяет, что разобрал некоторые слова. Во всяком случае, ругались они в точности как мы.
Флиндог замолчал, перевел дух и осмотрел слушателей. Что ж, ему было чему радоваться. Все вокруг стояли пораженные не менее, чем поразился он сам, когда слушал Тихтольна.
— Что же было дальше? — как-то сипло спросил летописец.
— Ах дальше, — Флиндог уже не спешил и смаковал каждое слово. — Тут нашим рофинам есть чем гордиться, мальчик хоть и упрям, но хорошо воспитан. Нет, конечно, первым его порывом было желание слететь вниз и поближе познакомиться с новыми сородичами. Но затем он справедливо решил, что правильнее будет сначала рассказать об увиденном, а уж старейшины решат, как быть дальше.
— Действительно, умно, — задумчиво обронил Дихтильф, — но было бы ещё умнее, если бы этот рофин рассказал сначала все только тебе. Такая новость, — старший ройн покачал головой, — такая новость не должна распространяться сама по себе.
— Об этом не беспокойтесь. — вновь оробел Флиндог. — Зуринзельт — старый опытный ремесленник, он при мне велел сыну никому ничего не говорить, пока я не сообщу обо всем вам.
— Хорошо, — Летописец встал и строго посмотрел на норсов, — вот что, вы все сейчас же летите к своим Иглонам и оповестите их об услышанном. Я же пошлю гонцов в другие города. Полагаю, соберется Большой Совет, так что ты, — он обернулся к Флиндогу, — подготовь своего рофина. Ему придется изложить все, со всеми подробностями, перед Иглонами. А вам лучше пока помалкивать.., и я вас больше не задерживаю…
Не добавляя больше ничего, Дихтильф быстро собрал таблички и, почти бегом, направился в свои покои. Над террасой повисла тишина. Флиндог переминался с ноги на ногу, не зная, что ему делать. С одной стороны, приказ был яснее ясного: лететь к Иглону. Но с другой, он принес ТАКОЕ известие, и улететь вот сейчас, просто так…
— Что ж, — произнес Риндольн, — мы все поздравляем тебя, Флиндог. Похоже, твое имя попадет в Летопись, а такая честь не каждому норсу выпадает.
— Спасибо, — потеплел душой Флиндог. — Конечно, это чистая случайность… любой бы из вас.., но я так рад!
— В какой же стороне живут эти орели? — прервал старика Горсах
— Вниз и к западу от Нижнего города.
— Как странно, — переглянулись остальные, — откуда там взяться орелям?
— Не знаю, — пожал плечами Флиндог, — я сам всю ночь над этим размышлял. И знаете, что…
— Что!?
— Я думаю это наследники Дормата…
* * *
На террасе Восточного дворца стоял Великий Иглон Рондихт. Не обращая внимания на полную луну и огромные созвездия, он размышлял над тем, что ему делать с открывшимися обстоятельствами. Новость, которую принес Флиндог, несмотря на стремление скрыть ее до поры, разнеслась по городам, скорее, чем лава спускается с вершины. Весь вечер сегодняшнего дня саммы и местные норсы доносили Великому Иглону, что тут и там замечали группки шепчущихся орелинов. И отовсюду только и слышно: «Дети Дормата. Дети Дормата!». Но как? Откуда? Ах, до чего же это все не к стати! Через три дня сыновья Рондихта будут считаться «ставшими на крыло» и после положенных празднеств его наследник Донахтир уйдет с ним в Галерею Памяти. Какое ужасное испытание его там ждет! Нельзя, нельзя, чтобы мальчик пришёл туда, обремененный ещё и этой заботой. Рондихт должен все решить сам и сейчас же. Завтра на Большом Совете он выскажет готовое решение. Мудрое и справедливое, обоснованное во всех отношениях. Конечно, интересно было бы узнать, кто такие эти орели и откуда они взялись, но Великий Иглон уже знает, что выскажется против контактов с ними. Если это на самом деле дети Дормата (что совершенно невероятно), то, тем более, старая легенда не должна оживать вновь. Жаль, очень жаль, что он не может рассказать то, что знает только он один. Поэтому нужно найти убедительные доводы, чтобы оставить все, как есть. И первый, кого он должен убедить — его сын Донахтир, будущий Великий Иглон. Ясное понимание того, что ничего нельзя менять в жизни орелей необходимо ему до того, как он войдет в Галерею Памяти и узнает там, что…
— Не спится?
На террасу вышёл Иглон Восточного города. Он уже какое-то время наблюдал за братом изнутри, гадая подойти или нет. И, наконец, решился.
— Это ты, Ольфан? — Рондихт глянул на брата и тяжело вздохнул. — да не спится, а ты бы уснул?
— Как видишь, я тоже не сплю.
Ольфан пересек террасу и облокотился о перила радом с братом.
— О чем размышляешь?
— О том, как это все некстати. Через три дня я должен представить наших приемников. Мальчикам нужна твердая опора в городах, а тут эта новость. Вот увидишь, у нас ещё будут из-за этого проблемы.
— Да, некстати, — согласился Ольфан. — Я, конечно, понимаю, что не должен спрашивать, но ты ведь уже принял какое-то решение?
— Да…
Братья замолчали, и некоторое время смотрели на звезды в полной тишине. Ольфан явно мучился каким-то вопросом. Пару раз он набирал в грудь воздуха, но ни на что не решался. Рондихт, занятый своими мыслями, на него не смотрел, но когда Ольфан совсем уже было решил ничего не спрашивать, он вдруг услышал:
— Ну, говори же, наконец, что тебя так мучает?
Правитель Восточного города вздрогнул.
— Скажи мне, брат, — неуверенно начал он, — через несколько дней ты покинешь нас. Тебе не страшно?
— Нет.
— Но ведь ты уйдешь навсегда! Я, конечно, не знаю.., но как там?.. что с тобой произойдет?
Рондихт многозначительно посмотрел на брата и тот смутился.
— Прости, я спросил не подумав. Можешь не отвечать.
— Ничего, — Великий Иглон улыбнулся, — я понимаю, почему ты спросил. Но я действительно не боюсь.
— Однако, вышёл ты оттуда… Я же помню! Ты был напуган и смущен.
— Ну, это …, — Рондихт нахмурился, — это не то, что ты подумал. Скорее я был растерян, что все теперь придется решать самому, без отца. Сейчас не то. Правил я, как мне кажется, достойно, поэтому ухожу с легким сердцем.
— Тогда почему ты не спишь? Я же вижу заботу на твоем лице. И снова испуг. Не думаю, что это только из-за объявившихся орелей. Чем они могут быть нам опасны, если даже не летают?
— Они опасны уже тем, что их заранее определили, как детей Дормата. И это меня очень пугает.
— Боишься, что Большой Совет решит передать всю власть им?
— Я боюсь, что изменится ход жизни орелей. И дело тут не в передаче власти. Уж что-что, а ее мы отдаем легко. Но эта легкость не от небрежности, а оттого, что мы сами растим руки, в которые ее передаем. И заранее готовим их к тому, что власть есть бремя ответственности перед Временем за жизни и судьбы тех, кто нам подчиняется. Малейшее, даже самое незначительное изменение хода жизни может, в конце концов, завести очень далеко. Сейчас эти орели лишь источник любопытства. Мы хотим знать кто они и откуда, и опираясь на некоторое сходство внешнего вида и, частично. образа жизни, готовы признать их сородичами. Но они другие и живут СВОЕЙ жизнью. А контакты с ними неизбежно приведут к тому, что изменится не только наша жизнь, но и их жизнь тоже. Кем бы ни были эти орели, обязательно найдутся те, кто расскажет им историю о Дормате. И трудно сказать кому первому — им или нам — придет в голову восстановить справедливость. Впрочем, не важно, кто первый. Вспомни нашего предка Хеоморна и то, что мы знаем о его правлении. Не все и не сразу его приняли. А знаешь почему? Потому, что власть перешла к нему не так, как обычно. И только его мудрость, и строгое следование нашим порядкам дали ему право стать истинно Великим Иглоном. Сейчас же опьяненные стремлением к справедливости, орели захотят включить вновь обретенных сородичей в круг нашей жизни. И под знаменами «детей Дормата» на престолы Шести Городов могут сесть те, кто никогда не жил по нашим законам и даже понятия о них не имеет.
— Но, возможно, они этого не захотят.
— Возможно. Но ведь так же возможно и то, о чем я говорю. Сейчас мы довольны своей жизнью, они, полагаю, тоже. Вступив с ними в контакт, мы не сможем просто прилететь, помахать крыльями и сказать: «Привет, незнакомые сородичи! Мы тут живем над вами хотите вы этого или нет». А теперь подумай, что почувствуют эти никогда не летавшие орели, глядя на нас, гордо взмывающих за облака. Не родится ли в их душах презрение к себе и зависть к нам? А на такой основе, сам понимаешь, легко развить желание властвовать им нелетающим над нами, парящими выше всех.
— Ну-у, так ли уж это обязательно?
— Не обязательно так. Может быть и по-другому: в нас зародится жалость к ним и преувеличенная гордость собой. Разве это лучше? Уже сейчас говорят о БЕДНЕНЬКИХ законных наследниках! Мы предложим им власть из жалости, и будем снисходительно смотреть, как неумело они управляют. А когда первое умиление пройдет, начнем раздражаться, потому, что они все будут делать НЕ ТАК! И в вину им поставим все то, за что раньше жалели.
— Подожди, брат! — Ольфан прервал Великого Иглона и обхватил голову руками. — Ты рассказываешь такие веши, от которых мне не по себе. Я ведь тоже, как все, считал, что если найденные орели потомки Дормата, то мы должны со всем благородством восстановить их в правах законных наследников. Но теперь… Теперь я даже не знаю, что и думать.
— Вот я за вас всех и думаю, — с грустной улыбкой положил ему руку на плечо Рондихт. — Потому и не сплю. Потому и напуган. Не будет хорошей жизни там, где подданные не почитают своих правителей, как должно. Если мы пойдем на уступки, это неизбежно приведет к смене власти. А если не пойдем и не найдем нужных слов, чтобы убедить орелей в правильности своего решения, то рискуем быть уличенными в простом нежелании отдавать власть. Что ни возьми — все плохо. И ты ещё спрашиваешь, страшно ли мне уходить? Да мне страшно оставаться! Но как это ни печально, и здесь я все обязан решить сам, и покинуть вас в скором времени тоже обязан.
Ольфан долгим взглядом посмотрел в лицо Великого Иглона.
— Отец был прав, выбрав тебя своим преемником, — сказал он тихо. — Я поддержу твою точку зрения на Большом Совете и уверен, братья сделают то же.
— Спасибо. — Рондихт отвернулся и будто впервые увидел звезды и луну. — От разговоров с тобой мне стало легче. И в братьях я не сомневаюсь. Сейчас важно, чтобы поняли мальчики. Им править…
Иглоны понимающе переглянулись и пошли с террасы. А следом за ними тихо свернула свой темный плащ ночь.
* * *
На следующий день Рондихт изложил свою позицию Большому Совету, как мог, доступно и убедительно. Он старался не смотреть на лица слушателей, чтобы не сбиться, но было видно, что вся сила его убеждений направлена в одну сторону — к скамье, где сидели наследники.
— Я не боюсь отдать власть, — разносилось по притихшему залу. — Мне и так отдавать ее через несколько дней. Но, именно потому, что все эти годы я был вашим правителем и был ответственен за вас, именно поэтому я и говорю: не стремитесь к переменам! Не будь в моем сердце столько любви к орелям, не испытывай я острого желания уберечь вас от бед, я бы первый сказал, (и призвал бы к этому сыновей), «верните наследников Дормата, и пусть они правят»!
Старший Летописец Дихтильф, все время согласно кивавший головой, строго посмотрел на ремесленников. Те слушали очень внимательно, изредка переглядываясь и многозначительно поднимая брови. Судя по всему, слова Рондихта их убеждали. И Иглоны, скрывающие свое волнение за величавым спокойствием, отметили это с удовлетворением.
Им не пришлось поддерживать точку зрения Великого Иглона, когда он закончил свою речь. Большой Совет единодушно выразил одобрение его позиции и окончательно постановил: никаких контактов с жителями поселения, найденного рофином Тихтольном, быть не должно!
Юноша здесь тоже присутствовал. Рядом с Флиндогом он скромно сидел на самой дальней скамье. И, если старик слушал в пол уха, млея от восхищения, что попал на Большой Совет, то Тихтольн не пропускал ни слова из речи Великого Иглона, хотя и ёрзал и толкался без конца, чем приводил Флиндога в великое смущение. Решение Большого Совета Тихтольна страшно разочаровало. И пока ремесленники, один за другим, подходили к Иглонам, чтобы выразить им свое почтение и попрощаться, сидел на своем месте, наконец-то, смирно, словно окаменевший. Старый норс никак не мог растолкать его, чтобы незаметно пройти к выходу, пока ещё не все разошлись.
— Неудобно, — шептал он, — Дихтильф на нас уже косится. Мне не нужны с ним неприятности.
Летописец на них действительно смотрел и думал, что теперь делать с этими двумя. Главный вопрос решился, но надо ли вносить имена Флиндога и Тихтольна в Летопись оставалось неясным.
Приглашенные ремесленники, между тем, постепенно расходились. Многие выражали восхищение дальновидностью правителя и надежду, что преемник окажется достойным такого отца. При этом они, не таясь, поглядывали в сторону юного Донахтира, поскольку, мало для кого оставалось секретом, что именно он будущий Великий Иглон..
— Я рад, что ты будешь управлять столь разумными подданными, — сказал Рондихт сыну, когда возле них почти никого не осталось.
— Я тоже рад, что тебя поняли, отец, — серьезно ответил Донахтир. — Этот Совет был для меня хорошим уроком. Я много уяснил сегодня такого, что поможет мне, с честью, оправдать твой выбор.
Рондихт ласково посмотрел на него и гордо обернулся к стоявшему около них Дихтильфу — слышал ли? Но тот смотрел в другую сторону. Проследив его взгляд, Великий Иглон вдруг улыбнулся и, сжав руку сына, шепнул:
— У нас, кстати, есть ещё одно важное дело. Идем.
Они быстро пошли через весь зал к выходу, где, заметив приближающегося Правителя, склонились в поклоне две печальные фигуры.
— Тихтольн, ты совершил великий подвиг, — сказал Рондихт, останавливаясь перед ними. — Понимаю твое огорчение. Но ты был на Совете и слышал, о чем я говорил. Надеюсь, мне не придется ещё раз убеждать лично тебя, что неразумно приносить свое будущее в жертву сиюминутного любопытства.
— Не придется, Правитель, — не поднимая головы, ответил Тихтольн.
— Вот и хорошо. Очень скоро тебя посетит Дихтильф, чтобы подробно перенести все, что ты видел, в Летопись. А в будущем, дети, которых ты заведешь, получат право выбить твое имя над входом в свою гнездовину.
— Благодарю, Великий Иглон, это большая честь.
— Но, отец, — вмешался Донахтир, — мне кажется, что норс Флиндог тоже имеет право быть внесенным в Летопись
— Само собой, — Рондихт широко улыбнулся, — как первый вестник, он это заслужил.
Старый норс просиял и склонился ещё ниже.
— Благодарю, Великий Иглон!
— Ты не перестаешь радовать меня, сын, — заметил Рондихт, когда они отошли. — Я умышленно не поминал Флиндога, желая проверить тебя, и ты молодец, что вспомнил о нем. Это ещё один урок. Он, может быть, наиболее важен для будущего Правителя. Поверь, из счастливой судьбы одного складывается счастливая судьба всех. Поэтому, принимая важное решение, думай, прежде всего, о том, кого оно ущемит. Мой отец по этому поводу говорил: «этим ты защитишь свою спину», и до сих пор ни один Великий Иглон не мог пожаловаться на неверность этого утверждения. Но, кстати, не показалось ли тебе, что Тихтольн все ещё недоволен?
— Показалось. Но, что мы ещё можем? Как его сделать счастливым, если Большой Совет принял решение…
— О-о, милый мой! Решение Большого Совета ещё не означает, что проблема исчерпана. И недовольство Тихтольна тому наглядное подтверждение. — Рондихт вздохнул. — Что, может быть, и кстати. Осталось довершить еще одно, последнее дело: прошу тебя, собери братьев и жди меня вместе с ними в вашей бывшей детской. Мне нужно сказать вам нечто важное.
* * *
Комната, которая помнила наследников маленькими толстощекими птенцами, неумело махавшими крылышками, находилась, по традиции, в самой глубине дворца. Там было теплее, чем везде и очень уютно, хотя и темновато. Юноши уже давно не навещали свою детскую и, оказавшись в ней, возомнили себя малышами. Поэтому, когда Великий Иглон пришёл сюда для серьезного разговора, он застал сыновей за шумной возней на полу.
— Достойное занятие для будущих Иглонов, — скрывая отеческое умиление за суровым тоном сказал Рондихт, — а, главное, очень уместное.
Басовито шумящая куча развалилась и наследники, оправляя крылья, одежды, и все ещё пересмеиваясь, расселись по скамьям.
— Ну что, успокоились? — подражая лестам спросил Великий Иглон, — готовы меня слушать?
— Готовы, — откликнулись наследники.
— Вот и хорошо.
Рондихт помолчал, собираясь с мыслями и давая сыновьям возможность настроится на разговор. Он переводил взгляд с одного лица на другое, и не мог отделаться от чувства жалости, которое вызывал в нем вид их сверкающих глаз и разгоряченных, счастливых лиц. Дети! Они совсем ещё дети! И, хотя, умны, благородны, знакомы с любой работой и, для кого-то другого покажутся совсем взрослыми, для него они дети, дети и дети. И жалел он их как детей, которых скоро заключит в себя взрослая жизнь, без права выхода на свободу. Рондихт готов был проклясть тот день, когда Судьбе угодно стало сделать их род правящим, но как Великий Иглон он не мог себе этого позволить даже мысленно. Впрочем, и смотреть на этих юношей, только как на детей, он тоже не имеет права. Они уже спокойны и ждут, что скажет им отец… Нет, не отец, — Правитель. И, как Правитель, он будет сейчас с ними говорить.
— Сегодня Большой Совет принял решение, и вы все его слышали. Поэтому повторяться я не буду. Скажу лишь то, что пока вы не приняли власть, вы обязаны подчиняться этому решению. Но пройдет совсем немного времени, и она окажется в ваших руках, а вместе с ней и право отменить решение Совета простым совещанием между собой. Только что перед приходом сюда, я переговорил со своими братьями и высказал им некоторые опасения. Они согласились со мной и заранее одобрили все то, что я собираюсь вам сказать, и о чём хочу предупредить… Но прежде мне интересно узнать, что вы сами думаете об объявившихся орелях и искренне ли согласились с Советом. Говори первым ты, Бьенхольн.
Будущий правитель Северного города размышлял недолго:
— Я согласен с Советом, отец. Конечно, мне было бы интересно узнать об этих орелях побольше, но, если такие знания могут обернуться во зло, пусть лучше их не будет.
— Ты, Тиорфин?
— Я тоже ничего не имею против решения Совета, — весело откликнулся будущий Иглон Южного города. — Но, может быть, разумнее было бы проследить за новыми соседями, делая это тайно?
— Верно, — подхватил Форфан, которому предстояло возглавить Восточный город. — Мы бы и любопытство свое удовлетворили и решение Совета не нарушили. Я с ним, кстати, полностью согласен.
— Раз есть дополнения, значит уже не полностью, — заметил Великий Иглон. — Что скажет Фартультих?
— Мне предстоит править в Нижнем городе, то есть быть ближе всех к новым соседям. Поэтому думаю, что наблюдение за ними лишним не будет. Кто знает, что им может взбрести в голову?
— Твовальд?
— Мне опасаться нечего, поэтому я за решение Совета безо всяких оговорок. Пусть себе живут, как жили. До сих пор они нам не мешали. Думаю, и впредь не будут.
— Хорошо. Что скажет Роктильф?
— То же, что и Твовальд. Правда, он так считает, опираясь на недоступность Верхнего города, а я — по здравому смыслу. Не попади этот рофин в бурю, унесшую его далеко вниз, мы бы до сих пор ничего не знали об этих орелях и жили бы себе спокойно. Не стоит раздувать из маленькой горы вулкан. Взлететь сюда те орели не могут. Взобраться по скалам?.. Но на это даже нохры не решаютя. Поэтому, зачем слежка? Чего нам, собственно говоря, бояться?
— Самих себя, — задумчиво обронил Донахтир.
— Вот! — Рондихт поднял указательный палец. — Вот то, что составляет суть. Ты прав, Роктильф, бояться извне нам нечего, и мы могли ещё сотни лет не знать о том, кто живет под нами, как сотни лет до этого не стремились разузнавать о жизни бескрылых. В Летописи не насчитать и двадцати имен тех, кто летал так низко. А знаете почему? Потому, что это другой мир. Он живет и развивается по своим законам, в которых нам нет места, как и им нет места у нас. Мы общаемся от случая к случаю с гардами и нохрами лишь потому, что они, как и мы, живут на скалах. Во всем остальном это такие же чужаки, как и существа, населяющие Низовье. А мы чужаки для них. И в этом залог безоблачного соседства.
Теперь не то. Новые соседи все же орели, и как бы ни было уважаемо решение Совета, окончательной точки оно не поставило. Думаю, впереди нас ожидает множество проблем, и именно о них я и хотел бы с вами поговорить. Всем известна история о Дормате и его детях. Орели так часто рассказывают ее, что мне вполне понятно их стремление впустить в свою безмятежную жизнь немного чуда. Разбавить будни ожившей легендой и верой в то, что птенцы спаслись выращенные кем-то, живущим в Низовье. В этом-то и проблема! Сейчас мои братья оглашают в городах решение Совета. Уверяю вас, недовольных будет множество. В нашем отказе от каких-либо контактов с новообретенными сородичами, орели усмотрят лишь возврат к обычной жизни, тогда как впереди мерцала сладостная разгадка Тайны. И ни что не будет их раздражать сильнее, чем разговоры о будущем спокойствии. Я уверен, что много найдется таких, кто скажет, что Иглоны просто не хотят отдавать власть законным наследникам. Но не меньше будет и тех, кто в обход запретам, устремится вниз, увидеть все своими глазами. На двадцать, а вдесятеро больше рофинов-добровольцев будут, рискуя жизнью спускаться в Низовье. Ты, Донахтир, видел сегодня Тихтольна. Можешь не сомневаться, именно он возглавит эти вылазки.
Наследники переглянулись. Совсем недавно им казалось, что проблема счастливо разрешилась при полном единодушии. А теперь отец заявляет, что неприятности только начинаются, всем стало неуютно и захотелось, чтобы день, который сделает их Правителями Шести Городов никогда не наступил.
Рондихт взглянул на сыновей и понял, что творится в их душах:
— Вам будет нелегко, мальчики мои, — сказал он со вздохом, — глупцы те, кто считает, что мы цепляемся за власть. Она слишком многого требует за право обладать ею. Став Иглонами, вы никогда уже не сможете позволить себе слабость потакать собственным порывам. Если простой орелин в праве ошибаться, то вам такого права не дано. Он может гневаться на вас, вы на него — нет. Ваша обязанность понять, отчего он гневается, и найти способ его успокоить. Подданные, как вулканы. В них полыхает вечный жар внутренней свободы. Вы же всегда должны быть холодны и рассудительны, и видеть поступь своих деяний далеко впереди себя. У меня сейчас нет для вас готовых решений. Все, что я могу, это дать вам эти общие советы и предостеречь. Остальное зависит от вашей мудрости. Вот и все, мои дорогие, что я хотел вам сказать.
Великий Иглон умолк. Молчали и наследники, размышляя над услышанным.
— Как я вас, однако, огорчил, — Рондихт вдруг развеселился. — Тогда примите последний совет — не отдавайтесь неотвратимой заботе до того, пока она не подойдет вплотную. На сегодняшний день серьезных разговоров было более чем достаточно. И обязанность у вас пока одна — готовиться к празднику. Так что немедленно отправляйтесь к Ольфану. Он скажет, чем вы можете быть полезны.
Юноши один за другим потянулись к выходу, но Донахтир остался.
— Отец, — сказал он тихо, — а почему ты не хочешь слетать к амиссиям и спросить совета у них?
Рондихт посмотрел на сына и заботливо поправил его растрепавшиеся волосы.
— Это бессмысленно, мой мальчик. Прости, что ничего не объясняю сейчас, но очень скоро ты все узнаешь. А пока я хочу для тебя только одного…
— Чего?
— Чтобы никому больше не пришло в голову обратиться к амиссиям…
* * *
Праздники, посвященные ставшим на крыло наследникам, проходили у орелей всегда весело и шумно. Торжественность оставляли для более официальной церемонии Раздачи Камней. А в эти дни орели всех Шести Городов слетались в Главнейший город, чтобы беззаботно провести несколько дней. Именно беззаботно, потому что итогом празднеств был уход Великого Иглона в Галерею Памяти. По древнему обычаю считалось неприличным превращать этот уход в трагедию, ибо Верховный Правитель не умирает, а только передает власть. Поэтому единственное, чем орели могли выказать ему свою любовь и уважение — это явиться в Главнейший город на праздники в полном составе и проводить его с радушием и весельем.. Обширные родственные связи и просторные жилища позволяли найти приют каждому. Порой в одну гнездовину набивалось до пяти-шести семей и это никого не стесняло. Дружелюбные и гостеприимные орели всегда были рады предоставить кров своим сородичам.
Поэтому, когда после Большого Совета Тихтольн пожелал остаться у своего дяди по материнской линии, никто не удивился. Действительно, зачем лететь в такую даль, если через день нужно возвращаться обратно.
Флиндог тоже задержался, но по другой причине. Его смутило настроение Тихтольна и вечером, отдыхая у Гонсальха, такого же старого норса, как и он сам, Флиндог высказал свои опасения:
— Боюсь, как бы мальчик не стал своевольничать. Уж больно не по сердцу ему пришлось решение Совета. С его горячностью за ним нужен глаз да глаз. Поэтому, пока не прибудут Зуринзельт с Растокной, я буду присматривать за их сыном, чтобы глупостей не наделал.
А тот в это время, сидя также на террасе дядиного дома, жаловался двоюродному брату Лоренхольду на несправедливости судьбы.
— Иглоны просто не хотят отдавать власть, поэтому выдумывают всякие страшилки про какую-то там опасность. А я видел этих орелей своими глазами и уверяю тебя, страшного в них не более, чем в любом из нас. Мы для них гораздо страшнее. Их мало, они даже не летают потому, что даже если это спасенные наследники Дормата, то кто бы их обучил?
— И наши соседи считают, что это потомки тех самых несчастных детей, — вставил Лоренхольд. — Они говорили, что, возможно, таинственные облака унесли наследников Дормата в Низовье, к существам, которые смогли их вырастить. Потом они породнились, а уже их потомки образовали эту общину.
— Соседи, соседи.., — передразнил брата Тихтольн. — Сам-то ты что думаешь?
— Не знаю, — Лоренхольд почесал за ухом. — Наш дедушка говорит, что как раз в ту сторону, где ты нашёл орелей, ушёл после изгнания Генульф.
— Чушь! Генульф не мог выжить без крыльев и без еды. Нет — это дети Дормата. Больше некому. И я хочу это доказать.
— Это как же?
— А очень просто — буду туда летать и смотреть.
— Ты с ума сошёл, — восхищенно прошептал Лоренхольд и бросил взгляд на внутренние покои. — В обход запрета?
— Да, — твердо сказал Тихтольн. Восторг в глазах брата прибавил ему уверенности. — Решение Совета не запрещает наблюдать. Я буду подсматривать и подслушивать. Ничего — дело того стоит. Когда наберется достаточно доказательств, что это потомки Дормата, сообщу обо всем новым Иглонам. И тогда им придется принять другое решение!
Лренхольд с сомнением покачал головой.
— Тебя прогонят за ослушание, как Генульфа — вот и все, чего ты добьешься.
— Не прогонят, потому, что я буду не один…
— А с кем?
— Ты, что же думаешь, никто больше не захочет увидеть новых орелей? Ха! Да у меня уже завтра не будет отбоя от попутчиков, но я, пока, предлагаю только тебе.
— Мне!!! — Лоренхольд судорожно захлопал крыльями потому, что, едва не свалился с перил, на которых сидел.
— Ну, да, — спокойно подтвердил Тихтольн. — Разве ты не хочешь? Прямо завтра и полетим.
Конечно же, Лоренхольд хотел! Это было так смело, так безумно опасно и так любопытно, что надо было быть последним идиотом, чтобы не хотеть. Но это с одной стороны. А с другой — запрет Совета, Иглоны, родители и все та же безумная опасность.
— Я завтра не могу, — промямлил он, наконец, — мне нужно быть на площади и устанавливать карусель.
— А ты и будешь. Утром встанем пораньше и пойдем вместе. Я тебе помогу, чтобы скорее все закончить. А там под шумок и улетим.
— В ночь!?
— В какую ночь! — Тихтольн рассердился. — Я же говорю, что помогу тебе, чтобы освободиться пораньше. Дорогу я прекрасно помню. Если подолгу не отдыхать, то до захода солнца мы уже успеем налюбоваться на новых орелей так, что тошно станет. А назад полетим в сумерки. Тоже ничего страшного. Сейчас период Полной Луны и кстати полупериод между Днями Золочения. А в это время орелям, если ты помнишь, в Низовье летать не возбраняется. Так, что мы и законов не нарушим и дело сделаем.
— А родители? — надеясь развеять последние сомнения, спросил Лоренхольд
— Придумаем, что-нибудь, — беспечно махнул рукой Тихтольн, — мы это делаем ради справедливости. Они должны будут понять… Потом…
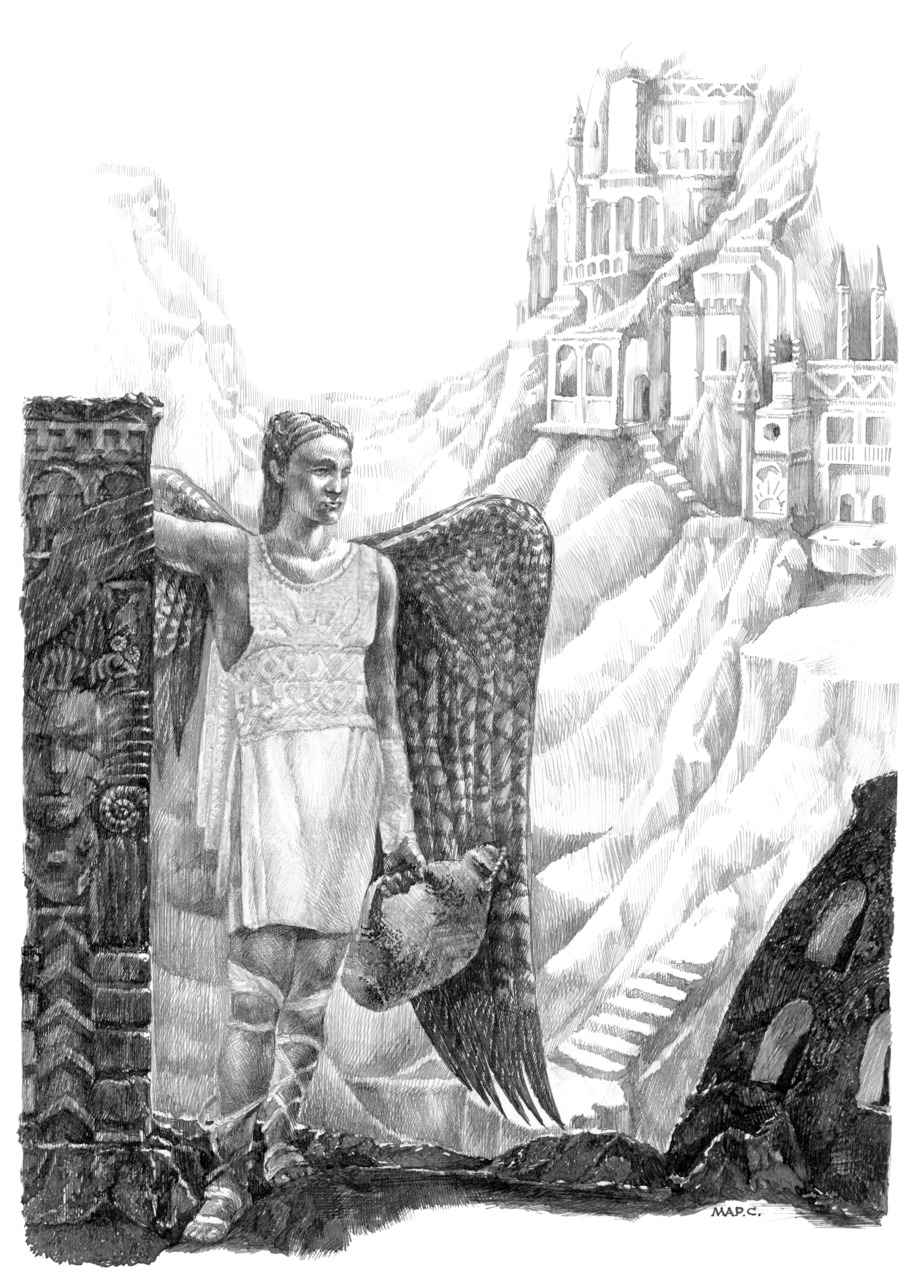
Утром юноши отправились на площадь. Лоренхольду, как молодому леппу, нужно было установить в определенном месте уже готовый столб и закрепить на нем подвижное кольцо с прорезями. В эти прорези продевались прочные, сплетенные наммами, веревки с петлями на концах. Во время празднеств, держась за них, малышня с хохотом и визгом моталась вокруг столба, веселясь и укрепляя крылышки.
Тихтольн, ничего не понимавший в ремесле леппов, скорее мешал, чем помогал. Но к удивлению Лоренхольда с работой они справились быстрее, чем ожидалось. Конечно, в другое время молодые люди поискали бы, где ещё нужна была их помощь. Но сегодня, пользуясь тем, что все заняты работой, они проскользнули между гнездовинами, окружающими площадь, и тихонько, не взлетая, устремились к выходу из города.
День был в разгаре. Горы, утратившие рассветный румянец, величаво грелись на солнце. И Тихтольн с Лоренхольдом, упиваясь свободой и удачным побегом, широко расправили крылья. Их радовало все — и солнечный день, и грядущие праздники, и, конечно же, собственная безумно опасная затея. Новые впечатления, которые ожидали впереди, манили даже больше, чем идея о восстановлении справедливости. Правитель Рондихт был совсем даже неплох. И сыновья его тоже отличные ребята. Вот только зачем они приняли такое решение — непонятно! Но ничего, потом сами спасибо скажут…
Веселясь и подбадривая друг друга, молодые люди уже достигли Разделяющего хребта, когда услышали, что их окликают. От досады на внезапную помеху Тихтольн резко развернулся в полете и едва не был сбит подоспевшим Флиндогом.
— Боюсь вам придется вернуться, мальчики, — сказал старый норс тяжело дыша. — В городе полно работы. Негоже молодым и крепким орелям устраивать себе прогулки, когда их помощь так нужна.
— А ты кто ещё? — высокомерно спросил Лоренхольд. — Старейшина? Что-то я тебя не помню.
— Это Флиндог, наш норс, — буркнул Тихтольн. — похоже, он следил за нами.
— Следил, — ничуть не смущаясь, подтвердил старик. — И дальше буду следить. Мне, милый мальчик, твое настроение сразу не понравилось, едва мы с Совета ушли. А, зная, какой ты упрямый, я сразу смекнул — полетит. На все запреты махнет и полетит. Вот, по-моему и вышло. Но ты поступил еще хуже! Не только сам полетел, а сманил с собой и друга!
— Я его двоюродный брат, — встрял Лоренхольд.
— Да какая разница, — погрустнел Флиндог. — Ещё и хуже, что брат. Хотя, кто бы ни был, все плохо. Видно нет у тебя, Тихтольн, разума, если не понял, о чем Великий Иглон говорил на Совете. А раз уж он тебя не вразумил, то мне это и подавно не под силу. Поэтому слов я тратить попусту не буду, а просто не пущу вас никуда и все.
— А по какому праву?! — встрепенулся Тихтольн. — У нас, что на лбу выбито, куда мы летим? Захотелось прогуляться в хороший день после законченной, кстати, работы. Что уже и этого нельзя?
— Нельзя! — отрезал Флиндог. — Через день начнется праздник. И не мне вам объяснять, что в такую пору никому, если, конечно, он ничего не замышляет, и в голову не придет вот так прогуливаться. Поэтому хватит махать крыльями, возвращайтесь в город и помните: я за вами слежу.
Словно под конвоем, возвращались юноши обратно, в душе призывая на голову Флиндога все мыслимые и немыслимые беды. Тихтольн совсем пал духом. Через день прилетят его родители и, зная нрав отца, он понимал, что шансов улизнуть совсем не останется. Особенно, если учитывать, что Флиндог родителям все расскажет.
— Ничего, — шепнул Лоренхольд, желая подбодрить брата. — Мы попробуем удрать завтра. Этот старик не сможет следить за нами постоянно.
— Он — норс, — огрызнулся Тихтольн, — привык все подмечать и вынюхивать. Сегодня он разболтает обо всем твоим отцу и матери, через день, когда прилетят, — моим. Так что будь спокоен, следить за нами станут в десять глаз.
— Значит все? — поник и Лоренхольд. — Наше приключение на том и кончится?
— Ни за что, — прошипел сквозь зубы Тихтольн и оглянулся на норса. — Я что-нибудь придумаю. Обязательно!
* * *
В первый день праздника главная площадь Восточного города была переполнена орелями. В обычные дни она представляла собой обширную, искусственно выровненную площадку с двумя каменными Чашами. Вокруг поднимались скалы, испещренные гнездовинами, и Главный вулкан, на котором расположился дворец. Но сегодня тут и там торчали столбы каруселей, облепленные малышней, качели для орелей постарше да высокие скамьи в несколько рядов, на которых ремесленники разложили свои изделия. Намммы — одежды, накидки и покрывала с причудливыми узорами. Коммы — украшения с символом Восточного города — половинкой солнца лучами вверх. Леппы — скамьи и стулья из легкого камня и уютные колыбельки для новорожденных, а сорды — сосуды для Серебряной воды. Повсюду сновали иширы, помогая орелям из других городов равноценно обменивать принесенное с собой на изделия Восточного города.
В качестве гостей присутствовали по два представителя от гардов и нохров. Самим им на такую высоту было не взобраться, поэтом у несколько самых сильных иширов поднимали чужаков на праздник и дежурили рядом в качестве переводчиков, готовые по первому желанию гостей отнести их обратно.
Ползучие, жмущиеся в тень гарды доставили с собой множество маленьких сосудиков со всевозможными ароматами. Вокруг них постоянно крутились орелины всех возрастов, принюхиваясь и восхищенно ахая. Они то и дело протягивали иширам свои украшения, прося узнать, за что отдадут тот или иной сосудик.
Грубоватые на фоне орелей нохры неуклюже переминались на своих копытах. Их диковинные фигурки из какого-то твердого теплого материала служили украшением во многих гнездовинах. Поэтому и здесь орелей толпилось немало. Но больше всего их было у подножия дворца, где на специальном помосте, лежали изделия наследников. По древней традиции орели рассматривали их и громко обсуждали, не смущаясь тем, что юноши стояли тут же рядом.
Как правило, Великий Иглон с братьями наблюдал за праздником с внешней террасы дворца. Но сегодня старшие правители решили быть возле молодых. Рондихт стоял, обнимая за плечи Форфана и Бьенхольна, и, улыбаясь, оглядывал толпу.
— Вот видишь, отец, — шепнул ему через плечо Донахтир, — наши подданные веселятся и, похоже, не собираются оспаривать решение Совета.
— Это очень хорошо, — не переставая улыбаться, ответил Рондихт. — но будь готов к тому, что они вспомнят об этом потом.
Остальные Иглоны понимающе переглянулись. С самого начала праздника они неотрывно наблюдали за норсами. Только этим представителям ремесленников, да ещё рофинам, которые, во избежание бед, окружили вулкан, разрешено было сегодня летать. И теперь они парили над веселящейся толпой, запоминая все, что достойно войти в Летопись. По их спокойным лицам правители определяли, что все идет хорошо. Поэтому Флиндог, пытаясь скрыть свою озабоченность, старался держаться подальше от дворца. Благо Тихтольн с Лоренхольдом тоже не стремились в центр веселья. Стоя возле своей карусели, они то и дело бросали на Флиндога свирепые взгляды.
— Проклятый старик! — негодовал Тихтольн. — Скоро на покой, мог бы озаботиться тем, чтобы принести напоследок что-нибудь стоящее. Так нет! Все забросил и только за нами и следит. Честное слово, знал бы, что он такой противный, ни за что не рассказал про новых орелей. Дождался бы другого норса и тогда мерзкое имя Флиндога никогда не оказалось бы в Летописи.
Лоренхольд только горестно вздохнул. Накануне он получил солидный нагоняй от родителей. И лишь святость родственных уз уберегла их с Тихтольном от запрета общаться друг с другом.
— Не вздыхай, — подтолкнул его локтем брат, — я же обещал что-нибудь придумать.
— Да что тут придумаешь?
— А вот что! — Тихтольн убедился, что Флиндог не может их слышать, и быстро зашептал: — Сегодня день Ремесленников и нам, как видишь, не удрать. Завтра будут выступления. Для отвода глаз мы примем в них участие. Но особенно не напрягайся — береги силы. А на третий день Великий Иглон будет распределять сыновей по городам и вот тут-то у нас есть шанс. Старик и родители, наверняка, будут пялиться на Церемонию, разинув рот. А мы тем временем тихонько отступим к задним рядам и улизнем.
— А дальше что?
— Что, что? Победителей не судят. Будем наблюдать за новыми орелями столько, сколько нужно, чтобы убедиться, что это наследники Дормата.
— Без еды!!!
— Ну и что! В крайнем случае, слетаем ночью в Нижний город и подкрепимся. Главное собрать доказательства, что дети Дормата выжили, а после этого кто нас осудит?
Лоренхолд огорченно почесал за ухом.
— Я так хотел посмотреть Церемонию… Неужели тебе не интересно, кто в каком городе будет править?
— Ты что, совсем ничего не понимаешь?! — накинулся на брата Тихтольн. — То, что мы разузнаем, может здорово все изменить. И кто где будет править, в конечном счете, определим мы с тобой!
— Ну да? — Лоренхольд изумленно вытаращился, но тут же с сомнением отступил. — А если это не они? Ну, не дети Дормата?
— А кому ещё там быть? — надменно спросил Тихтольн. — Я не хотел об этом говорить до поры, но раз ты сомневаешься, тебе скажу. Недалеко от того места, с которого я наблюдал, нашёлся камень, а на нем выбитый рисунок: облако и в нем орелинское яйцо!
* * *
На следующий день орели устроили представления. Небольшие группы от каждого города должны были в воздухе изобразить сцены, сюжетом для которых служили сказки и предания, переходящие от поколения к поколению. Иглоны ожидали, что кто-нибудь представит трагедию о Дормате, но этого не произошло. Все города выбрали для показа выдуманные истории.
После объявления сюжета любой желающий мог принять участие в показе, играя второстепенные роли, и Тихтольн с Лоренхольдом исправно присоединялись почти ко всем группам. А вечером, когда с яркими символами городов в руках и ловко перестраиваясь в воздухе, наследники изобразили несколько крупных созвездий, они шумно аплодировали и одобрительно кричали вместе со всеми.
Флиндог, по-прежнему, не спускал с юношей глаз и изрядно устал. Он никому, кроме родителей Тихтольна и Лоренхольда не рассказал об их затее, поэтому, для своей семьи, придумывал всевозможные отговорки, чтобы объяснить, почему ведет себя так странно и с ними почти не бывает. Наконец Фастине, жене Флиндога, все это надоело, и на Церемонии она велела ему быть рядом.
С самого утра, под любым предлогом, старый норс тащил свою семью туда, где ему виделись Тихтольн с Лоренхольдом. Но, в конце концов, устав от преследований, поделился своей заботой с женой. Та, вопреки ожиданиям, тревоги мужа не поняла, а, напротив, возмутилась.
— Это дело родителей, а не твое. Твое дело было их предупредить, не более, — выговаривала Фастина мужу пока они пробирались сквозь плотную толпу ко дворцу.. И, заметив, что он все ещё оглядывается, отрезала: — Я не дам тебе испортить такой день! В конце концов, мы никогда больше не увидим смену Иглонов, поэтому забудь свои глупые опасения и поторопись. Церемония вот-вот начнется, а мы ещё не нашли удобного места.
— Готово! — ликуя воскликнул Тихтольн, заметив, что Флиндог больше не смотрит в их сторону, а пробирается за женой в самую гущу толпы. — Теперь не зевай, братец! Как только выйдут все Иглоны, будь готов удрать в любую минуту.
Молодые люди взобрались на каменное ограждение площади и оттуда стали наблюдать за дворцом.
А там, на площадке Оглашений, уже выстраивались саммы в праздничных одеждах. Они должны были сопровождать Великого Иглона с сыном в Галерею Памяти и заметно волновались. Немного поодаль, на возвышении, расположились полукругом жены Иглонов. Скамья матери наследников была чуть выдвинута вперед, и она сидела на ней неестественно прямо, словно застыв в своем узком сверкающем платье с аккуратно сложенными крыльями. Остальные орелины изредка поглядывали на нее и опускали глаза, как будто Великая Иглесса была отгорожена от них стеной, непроницаемой даже для взоров.
Вскоре, быстрым шагом, из дворца вышёл Дихтильф и присоединился к саммам. Площадь притихла в ожидании, и, почти тут же, стали выходить наследники. Последним показался Великий Иглон в окружении братьев. Лица Правителей, как настоящих, так и будущих, были и веселы и печальны одновременно. Все они понимали, что в последний раз видят Рондихта, но, по традиции, старались скрыть свою скорбь от народа. Впрочем, орели заполонившие площадь и все окрестные гнездовины, прекрасно эту скорбь понимали и разделяли. Вид Правителя добровольно отдающего власть и уходящего в Неизвестность вызывал в них уважение. И подобное уважение достойно венчало правление каждого Великого Иглона, уходящего со Сверкающей Вершины.
Рондихт вышёл вперед.
— Орели! — Улыбаясь, он осмотрел площадь. — сегодня знаменательный день! Сегодня каждый город узнает имя своего будущего Правителя, а все вы — имя будущего Великого Иглона. Мои дети известны вам с рождения. Известны их успехи у лестов и достижения в ремеслах. Но то, какими Правителями они станут, во многом зависит и от всех вас тоже. Поэтому, до того дня, когда придет новый Великий Иглон, каждый будет вправе явиться во дворец своего города, где его, с должным почтением и вниманием выслушает будущий Правитель.
— Спорим, все будут спрашивать про детей Дормата, — шепнул Форфан Твовальду.
— Можешь не спорить, так и будет.
— Мальчики, — одернул племянников Ольфан, — перестаньте шептаться, когда говорит Великий Иглон.
Наследники переглянулись, без прежнего озорства, и снова стали слушать.
— А теперь, — продолжал Рондихт, — я представлю вам того, кому определяю Нижний город…
— Идем, — шепнул Тихтольн на ухо Лоренхольду, — сейчас самый удобный момент.
Тот что-то промычал, вытягивая голову в сторону дворца, но брат с силой дернул его за руку:
— Другого случая не будет!
Они слезли с ограждения и короткими мягкими шажками, стараясь двигаться плавно, стали пробираться к выходу с площади. Лоренхольд старательно ловил слова Великого Иглона и постоянно замирал, прислушиваясь, но Тихтольн упрямо тянул его за крыло. И, вскоре, на главной площади стало на двух орелинов меньше.
— … И, наконец, Великим Иглоном я определяю своего сына Донахтира!
Юноша шагнул вперед и встал рядом с отцом. Его братья, до этого, при оглашении их имен, отходили к дядям, и теперь все Иглоны стояли рука об руку со своими преемниками.
— Ну вот, наверное, и все. — Рондихт развел руками. — Скоро мы с Донахтиром вас покинем. Но, прежде, мне бы хотелось сказать несколько слов.
Великий Иглон на мгновение замолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли пытаясь унять внезапно задрожавший голос. На площади стало тихо, а в глазах некоторых чувствительных орелин задрожали слезы.
— Всю ночь я не спал, — продолжил Рондихт, — все думал о том, что должен сказать Великий Иглон своему народу на прощание. Но, из всего огромного количества слов переполнивших мое сердце, уместными мне показались лишь те, которые я сейчас произнесу. Орели, никогда не изменяйте сами себе! И пусть смысл этих слов каждый определяет для себя так, как велят ему его честь и долг. Вот и все, что я хотел сказать. А теперь, позвольте мне и моей семье попрощаться.
С этими словами Рондихт подошёл к возвышению, на котором сидели Иглессы, легко взлетел и, опустившись на оба колена перед своей женой, взял ее за руку. От прикосновения мужа орелина словно проснулась. Взгляд ее потеплел, она низко склонилась к его лицу и ласково о чем-то заговорила. Когда же все слова были сказаны, Великая Иглесса подняла Рондихта с колен, встала сама и, одарив его долгим поцелуем, не оглядываясь более, улетела во дворец. Следом за ней остальные Иглессы подходили к Рондихту, недолго с ним говорили и, низко поклонившись, тоже улетали.
Теперь уже на площади не было никого, кто бы тайно или явно не утирал слез. Растроганный Флиндог, скорее машинально, чем осознанно, повинуясь долгу перед уходящим Иглоном, посмотрел в ту сторону, где перед началом Церемонии усмотрел Тихтольна и Лоренхольда. Сквозь слезы он даже не сразу осознал, что юношей там нет. А, когда старый норс это понял, то, словно ледяная туча сковала его с ног до головы. Потерянно бросил он взгляд туда, где Рондихт прощался с Иглессами, потом на жену, достающую уже третий платок, и, вздохнув, стал пробираться сквозь всхлипывающую толпу. Флиндог понимал, что взлететь он сейчас не может, поэтому продирался между плотно стоящими телами, не обращая внимания на ответные толчки и изумленные взгляды. Сердцу его было тяжело и больно. Негодные мальчишки! В такой день они осмелились удрать и осквернили последние минуты Великого Иглона своим безумием! Ах, если бы только он сумел их догнать! Эта площадь такая огромная…
Флиндогу показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он выбрался на ближайшую улочку. Но и теперь взлетать ещё было нельзя. Слишком грустное действие разворачивалось в этот момент перед дворцом, и старый норс не хотел отвлекать внимание на себя. «Ничего, — шептал он, — вот выберусь из города, расправлю крылья и быстро догоню сопляков. Вон уже и городская граница видна». Однако ноги совсем не слушались старика. Ему казалось, что какой-то невидимый густой туман мешает бежать и тормозит все его движения. Споткнувшись в очередной раз, Флиндог все же расправил крылья и полетел, совсем низко, при каждом взмахе касаясь земли. Дыхание его стало тяжелым, да и солнечный свет почему-то начал меркнуть. На короткое мгновение старому норсу показалось, что впереди летят две фигурки, и он резко набрал высоту. Но тут страшная боль пронзила левое плечо до самого крыла, и свет в глазах Флиндога окончательно померк.
* * *
Рондихт положил руку на плечо наследника и посмотрел ему в глаза.
— Ты готов, Донахтир?
Великий Иглон только что простился с каждым из своих сыновей, и печать этого последнего акта Церемонии ещё читалась на его лице. Донахтир, старавшийся все это время держаться твердо, тут не выдержал. Вместо ответа он низко поклонился, чтобы отец не увидел его слез.
— Ну, ну, перестань, — Великий Иглон потряс сына за плечо. — С тобой-то мы не прощаемся. Я ещё надоем тебе в Галерее Памяти своими наставлениями.
Он убедился, что Донахтир справился с собой и, в последний раз, с низким поклоном, повернулся к площади. Тут же сотни платочков взметнулись вверх и заполоскались в прощальном приветствии. Растроганные орели благодарили за то, что Верховный правитель склонился перед ними.
Великий Иглон сделал знак саммам, и те стали расправлять крылья, чтобы с должным почетом проводить улетающих отца и сына. Они уже совсем были готовы, когда громкие возгласы заставили всех обернуться.
Над недоумевающей толпой несколько рофинов из числа тех, что следили за вулканом во время Церемонии, несли обмякшее тело ореля. Фастина первая узнала мужа и закричала. А, следом за ней, громкие возгласы «Флиндог! Флиндог!» стали раздаваться отовсюду, где стояли приятели и родственники старого норса.
Рондихт помахал рофинам, чтобы опускались на возвышение, покинутое Иглессами, и сам устремился туда же. Лицо его было тревожно, как и лица остальных Иглонов, спешащих следом. Крики на площади стихли, и все замерло в ожидании.
Первым делом правитель убедился, что Флиндог ещё жив и попросил Ольфана вызвать из толпы старейшину ольтов. Затем велел рофинам рассказать, что произошло.
— Мы дежурили у вулкана, — начал один. — Церемонию нам видно не было, поэтому, когда на выходе из города кто-то взлетел, мы его сразу заметили. Я вызвался посмотреть, кто это, но облетать пришлось по кругу, потому и опоздал. Этот орель, — рофин указал на Флиндога, — уже лежал у самых городских ворот. Летел он невысоко, так что побился мало. Но, видимо с ним что-то не так, раз он еле дышит. И ребята мне сейчас рассказали, что падал он тоже странно: дернулся, вытянулся весь и замер. А потом — камнем вниз. Даже крылом не махнул.
В этот момент на возвышение, горестно воя, взлетела Фастина. Она хотела броситься к мужу, но ее, несколько бесцеремонно, отстранил подоспевший ольт. Какое-то время он суетился вокруг Флиндога, касаясь его то руками, то крыльями и прислушиваясь к чему-то в его груди. Потом попросил всех расступиться, и, ещё несколько томительных минут, резкими точками разминал левую сторону грудной клетки старика. Некоторые ольты пришли ему на помощь и, в результате их усилий, Флиндог задышал и открыл глаза.
— Он зовет тебя, Правитель, — поклонился старший ольт Рондихту. — Только наклоняйся ниже, к самым губам, иначе его шепот не разобрать.
— Будет жить? — на ходу спросил Великий Иглон
— Не думаю, Правитель. Лучше поторопись.
Старик действительно был очень плох. С трудом разлепив пересохшие губы он медленно, по слогам, прошептал в самое ухо Рондихта:
— Тих-тольн… и бр-а-ат… ул-е-е-т-тели… нов-ым ор-ел-ел-лям-м. Я-а-а… дог-он-ял… их-х-х…
— Что он говорит, отец? — спросил Донахтир, неотступно следующий за отцом.
Но Рондихт сделал ему знак помолчать и продолжал прислушиваться. Ему казалось, что старый норс скажет ещё что-нибудь, однако Флиндог молчал.
— Посмотрите, что с ним! — позвал Великий Иглон ольтов и отступил в сторону.
Однако, лекари уже ничего не могли сделать. Они только горестно развели руками и скорбно склонили головы.
— Он умер, Правитель, — сказал старший из них.
— Как скоро, — прошептал Рондихт, но услышал его только Донахтир.
Остальные же орели увидели, как Великий Иглон встал на колени перед телом Флиндога и, взяв его руку, прижался к ней лбом. Потом накрылся крыльями, словно отгораживаясь ото всего мира, что, согласно древнему обычаю, составляло обряд прощания. Иглоны последовали его примеру.
Все на площади поняли, что старик скончался, но, не зная сути происходящего, лишь беззвучно охнули, продолжая смотреть на Правителей и ожидая объяснений. Даже Фастина, которую подвели к телу мужа, перестала громко стенать, а только недоуменно смотрела на его лицо красными распухшими глазами, словно не веря, что все это случилось на самом деле.
Наконец Рондихт поднялся с колен и повернулся к площади.
— Все эти дни, — глухо заговорил он, — я и мои братья Иглоны опасались того, что весть о новых орелях как-то нехорошо отразится на нашей жизни. Мы понимали, что не всем придется по душе решение Большого Совета. Но, видя как орели веселятся на празднествах, немного успокоились, не переставая восхищаться мудростью тех, кем мы правим. Однако то, чего мы так опасались, все же случилось. Этот старый норс, — Рондихт указал на тело Флиндога, — покинул Церемонию чтобы удержать двух молодых орелинов, которые сочли для себя возможным улететь к запретному поселению.
В толпе громко охнули, и какой-то орелине стало дурно, но на это никто не обратил внимания. Все, затаив дыхание, жадно ловили слова Великого Иглона.
— Мне неизвестны их намерения, — продолжал Рондихт, — но что бы они ни задумали, это уже привело к несчастью. Я не хочу вас запугивать раньше времени, хотя и знаю, одно неразумное деяние может потянуть за собой цепочку других. И мне горько осознавать, что я покидаю вас на пороге возможных бед.
— Нет! Нет! — закричали в толпе. — Ты не можешь! Не должен бросать нас!
— Действительно, Правитель, — зашептал подоспевший Дихтильф, — в виду особых обстоятельств, ради своего народа, ты мог бы… задержаться…
И не дожидаясь ответа, он возвысил голос, обращаясь уже к площади.
— Орели! Если сейчас, когда все вы в сборе, будет достигнуто единодушие, тогда, я думаю, не имеет смысла собирать Большой Совет для того, чтобы позволить Великому Иглону остаться с нами ещё на некоторое время.
Площадь одобрительно зашумела, но Правитель поднял руку, и все затихли.
— Нет, — отрезал он, — мое присутствие ничего не изменит в том, что уже произошло. Сейчас все решит только ваша мудрость и здравый смысл. Мне же сидеть здесь и ждать… Нет! Может статься, что сбежавшие юнцы вернутся ни с чем; возможно, ограничатся наблюдением; возможно, расскажут о нас тем, другим, и те тоже не захотят никаких контактов. И это лучшее, что может произойти. Но может случиться и другое. Что? Не знаю. Но уверен, чувствую, что мой долг сейчас состоит в одном: как можно скорее дать вам нового Правителя, такого, который сможет с честью выйти из любого положения. Моим последним повелением будет — похороните норса Флиндога со всеми почестями, и больше не препятствуйте мне. Все! Церемония прошла. Трагично. Даже ужасно! Но завершить её нужно так, как требует древний обычай!
И не говоря больше ни слова, Рондихт поманил за собой Донахтира и взмыл в воздух. Следом, спутав ряды, поспешно поднялись саммы.
— Как скоро все случилось, — проговорил Великий Иглон, и снова его услышал один только Донахтир.
* * *
Смотри, смотри! Великий Иглон улетел! — закричал Лоренхольд, указывая рукой туда, где в ясном небе хорошо была видна короткая цепочка из летящих тел.
— Значит, Церемония закончилась, — лениво констатировал Тихтольн. — Флиндог, наверняка, уже нас хватился и бросился в погоню. Старый дурак.
— А, что, если он все рассказал, и теперь нас ищет не только он, но и все рофины?
— Пусть ищут, — Тихтольн вяло отмахнулся. — Вряд ли им придет в голову, что мы пошли пешком.
— Это да… — Лоренхольд блаженно откинулся на разогретый солнцем камень. — Это ты здорово придумал. Мне бы твои мозги…
— Каждому свое, — покосился на брата Тихтольн.
Они сидели на самом краю высокой скалы, отдыхали и грелись в лучах полуденного солнца. С непривычки идти пешком так далеко было сложно. Поэтому приходилось устраивать привалы, которые сильно замедляли движение. Тем более, что шли братья кружным путем, обходя те места, где летали обычно. Дальновидный Тихтольн заранее припрятал у городской границы сосуды с Серебряной водой, но строго-настрого приказал еду экономить. И сейчас, видя, как Лоренхольд косится на эти сосуды, в очередной раз напомнил, что путь им предстоит долгий.
— Если бы я тебя не сдерживал, один сосуд был бы уже наполовину пуст, — возмущался он.
— Да я и не прошу…
— Ты не просишь, но смотришь так, что мне и без слов все понятно! Сдерживай себя, Лоренхольд! Мы полетели не на прогулку, а пустились в рискованное предприятие, которое может занять не один день. Не надейся на Нижний Город. Часто туда летать не придется — и далеко, и схватить могут.
Лоренхольд вдруг загрустил.
— Интересно, что сейчас делается в городе? Я никогда не видел смены Иглонов. Наверное, все плачут, но делают вид, что веселятся…
— Наверное, — огрызнулся Тихтольн. — Честное слово, знал бы, что ты такой нытик — позвал бы кого-нибудь другого.
— Да я не ною.., — Лоренхольд вздохнул и посмотрел вдаль на бесконечные горные хребты. — Мне даже нравится идти вот так. Я здесь никогда не бывал, все интересно… просто мне немного не по себе. А, что, если нам всё же помешают? Вдруг все разведчики со Сверкающей Вершины уже ищут нас, где только можно?
— Пусть ищут. Они даже место, где я видел это поселение, толком не знают. Скорее всего, покружат у границ Нижнего города и на том успокоятся. Я сам был рофином — знаю. И потом, неужели ты думаешь, что нам никто не сочувствует? Ха! Как бы не так! Все жалели детей Дормата и, если мы вернемся с доказательствами, что видели их наследников, ни у кого не повернется язык осудить нас.
— А что потом?
Тихтольн застонал и устало обхватил голову руками. Лоренхольд спрашивал об этом уже в сотый раз.
— Да что угодно, — разделяя каждое слово, ответил он. — Хоть раз придумай что-нибудь сам. Но лично я считаю, что тогда уж Иглонам не останется ничего другого, кроме как лететь с поклоном к настоящим Правителям орелей.
— Вот ты ругаешься, — обиделся брат, — а сам до сих пор толком не объяснил, почему они должны это сделать. Только отмахиваешься от меня да обзываешься.
— Ладно, слушай. Со времен Хорика Великого нами управляют лишь те его наследники, кто овладел Знанием. Дормат им владел, Хеоморн — нет. Он знал лишь то, что сам нашёл в тайнике Галереи Памяти, но ведь что-то должен был передать ему и отец. А, раз этого не было, значит и его потомки полным Знанием не владеют, и, значит, они не настоящие Иглоны…
— Об этом я не подумал, — почесал затылок Лоренхольд.
— А ты вообще, как я заметил, о многом думаешь весьма поверхностно. Поэтому не загружай мозги, предоставь думать мне и бери сосуды. Пора идти, мы уже достаточно отдохнули.
До самых сумерек юноши карабкались вниз по скалам. Они совершенно ободрали себе руки, боясь прибегнуть к помощи крыльев. И только когда удлинившиеся тени сгустились настолько, что в них можно было укрыться, беглецы позволили себе полететь.
— Далеко ещё? — спросил Лоренхольд во время очередного привала.
— Думаю, нет. — Тихтольн осмотрел небо. — Смотри, луна уже взошла, скоро проступят звезды… Если бы не шли пешком, то уже давно были бы на месте.
Братья немного подкрепились и теперь молча сидели на краю небольшой площадки, накрывшись крыльями. Сейчас, когда почти совсем стемнело, тоска по дому и близким стала особенно сильной. Каждый представлял свою уютную теплую гнездовину, вечерние неспешные разговоры о том, о сём, и тягучие песни без слов, которые орели так любят. Заметив, что Лоренхольд отвернулся, быстро оттер глаза и шмыгнул носом, Тихтольн смутился. Он и сам вдруг ощутил необъяснимую тоску. Но не признаваться же в подобной слабости перед братом, который слушал его во всем, всегда ему доверял и неизменно им восхищался! Поэтому, чтобы скрыть смущение, Тихтольн встал, энергично замахал крыльями, чтобы согреться, и посмотрел вверх. Над ними, и до самого горизонта, легко читалась яркая россыпь звезд. Пытаясь отвлечь брата от грустных мыслей, юноша указал на три особенно яркие.
— Видишь это созвездие? — спросил он почти ласково.
— Это созвездие Норса, — буркнул Лоренхольд, не оглядываясь.
— Забавно, — пробормотал себе под нос Тихтольн, — созвездие Норса укажет нам дорогу туда, куда норс нас пытался не пустить. — Он тронул брата за плечо. — Вставай, разомни крылья, мы уже совсем близко.
И действительно, слетев ещё ниже в сторону запада, юноши увидели пологий хребет, когда-то спускавшийся прямо в Долину, но, словно, обрубленный гигантским ножом.
— Вон они! — взвизгнул Тихтольн, вытянув руку и тыча указательным пальцем в сторону обрыва, — видишь?!
— Вижу!!!
Совершенно обалдевший Лоренхольд не верил собственным глазам. В свете полной луны отчетливо виднелись каменные островерхие гнездовины. Не слишком большие, но украшенные арками и узкими оконцами с резьбой, они были круглые и тесно лепились одна к другой вдоль единственной неширокой улочки. Совсем небольшое поселение, зато очень удобно организованное. Издалека хорошо были видны всевозможные хозяйственные приспособления и множество каменных ограждений. Эти ограждения окаймляли входы в гнездовины и ровные участки позади, усаженные деревьями.
— Что это у них? — спросил Лоренхольд, указывая на деревья.
— Не знаю, — Тихтольн был страшно возбужден. — Но мы все, все разведаем! Очень хорошо, что сейчас ночь и они спят. Мы можем подлететь совсем близко.
До утра орели кружили над поселением, без устали облетая его из конца в конец. Удивлялись и по множеству раз рассматривали то, что попадало в их поле зрения. Тихтольн даже хотел приземлиться возле гнездовины, которая стояла у самого края, но поостерегся, решив, что время на это у него ещё будет. Наконец, когда небо на востоке заметно посветлело, юноши решили поискать место, где можно укрыться и незаметно понаблюдать за поселением днем. Такое место скоро нашлось. Достаточно высоко, чтобы местные жители в своих дневных заботах туда не забрели, но откуда орели с их зоркими глазами могли видеть все, что будет происходить внизу.
— Давай подкрепимся, — предложил Тихтольн.
— Давай! — Лоренхольд радостно потер руки. — Мои крылья так устали! Но все равно здорово, что мы сюда прилетели. Честно скажу, я не ожидал, что нам это удастся.
— Слушай меня, — покровительственно похлопал его по плечу брат, — и мы ещё не такое провернем.
— А я и так слушаю…
Лоренхольд был благодушен и весел. Новые впечатления совершенно вытеснили из его головы все страхи и огорчения. Он сделал солидный глоток из сосуда и с наполненным ртом пробубнил:
— А все же их гнездовины не совсем похожи на наши. Круглые.., террасы узковатые.., да и покрыты чем-то непонятным… Скамьи в точности, как наши, но вынесены на улицу. Зачем?
— Днем узнаем, — заверил его Тихтольн.
— А это что такое? — Лоренхольд показал на пучок травы, торчащий неподалёку. — Я заметил у них такое повсюду.
— Не знаю, — пожал плечами Тихтольн. — Сейчас меня гораздо больше волнует тот камень с рисунком, который я нашёл в прошлый раз. Кажется это было где-то здесь… или рядом… Надо бы его найти.
— Ты хочешь искать его прямо сейчас? — Лоренхольд был изумлен, но судя по тону, совсем не против поисков.
— А почему бы и нет! — весело подскочил Тихтольн. — Сегодня нам все удается!
Закрыв сосуды, братья почти ползком стали обследовать окрестности.
— А нас не заметят? — спросил Лоренхольд.
— Здесь слишком высоко для них, — Тихтольн оглянулся на поселение, — к тому же они ещё спят.
Юноши снова взялись за поиски, но очень скоро бессонная ночь и усталость сделали свое дело. Ничего не найдя, они еле доползли до наблюдательного пункта и, пошутив напоследок, что из орелей превратились в гардов, крепко уснули.
Их разбудило солнце, беспощадно жарившее лица. Недовольно заворчав, братья разлепили глаза и не сразу поняли, что на самом краю их площадки стоит молодой орелин, явно житель поселения, и с любопытством рассматривает сосуды с Серебряной Водой.
Тихтольн с Лоренхольдом одновременно подскочили, чем изрядно напугали юношу. Он отступил, и в первый момент братьям показалось, что бедняга совался вниз. Но через секунду орелин вновь был на площадке. Он легко влетел и, смеясь, что-то сказал. Но Тихтольн с Лоренхольдом его слова вряд ли услышали. Движимые испугом, что их раскрыли, и укоренившейся за века во всех орелях боязнью ослушаться Иглонов и Большого Совета, они в панике уносились за облака к спасительным вершинам. Не разбирая дороги, юноши летели все дальше и дальше и остановились лишь тогда, когда показались границы Нижнего города.
Орели без сил повалились на дозорную площадку. Когда-то, в незапамятные времена, ее соорудили основатели города, но в виду отсутствия угрозы извне никогда ей не пользовались. Разве, что влюбленные забирались сюда в поисках уединения, де ещё, едва оперившиеся подростки залетали, проверяя крепость своих крылышек.
Братья тяжело дышали, стараясь не смотреть друг на друга. Одна и та же мысль о непоправимости совершённого мучила их, отправляя в небытие не только все их вчерашние планы и мечты, но и всю их предыдущую такую спокойную жизнь. Они долго приходили в себя. Лоренхольд плакал, не таясь, а Тихтольн о чем-то напряженно думал. Наконец, он встал. И, хотя голос его был глух, говорил он твёрдо, не допуская возражений.
— Я не могу вернуться, Лоренхольд. Но ты можешь. Скажешь, что я тебя сманил за собой, и тебя простят. Главное, ты должен рассказать о том, что нас видели. Можешь валить на меня всё, что угодно. Даже то, что это я сам, по собственной глупости им показался. Короче, говори, что хочешь, лишь бы тебя выслушали и простили…
— А ты? — выдохнул Лоренхольд.
— А я… уйду…
— Куда?
— Вернусь к тем орелям. Или они меня убьют или примут… — Тихтольн горько усмехнулся. — Скорее второе, они всё же орели…
— Но ты не сможешь там жить! Что ты будешь есть?
— На первое время найду наши сосуды. А потом.., потом что-нибудь придумаю…
— Уморишь себя голодом?
— Ну и что!!! — заорал вдруг Тихтольн. — Я это заслужил! Своей глупостью и упрямством! Своей самонадеянностью!.. Конечно, я хотел справедливости, но не так…
Он не договорил и громко в голос разрыдался. Лоренхольд был совершённо потрясён тем, что плачет его умный брат, всегда такой уверенный в себе, носящий гордое звание рофина, и, в свои молодые годы уже попавший в Летопись. Вечное преклонение перед Тихтольном сменилось вдруг такой неожиданной, такой щемящей жалостью, что Лоренхольд, совершенно забыв о себе, нежно обнял его, шепча слова утешения.
Ну что ты?.. Брось… Может, ещё ничего страшного и не случилось. Ну, увидел он нас. Подумаешь… Это ничего не значит. Вернемся домой, покаемся… Нас, конечно, накажут, но это лучше, чем смерть. А эти новые орели пусть живут себе, как жили, будь они хоть трижды наследниками Дормата. Сюда им не добраться…
Ты что, ничего не понял? — прошептал Тихтольн, поднимая к брату заплаканное лицо. — Они же летают! И мы сами, по-дурацки испугавшись, показали, куда нужно лететь.
* * *
Роктильн, бывший Иглон Нижнего города, сидел в своих покоях и, от нечего делать, вертел в руках фигурку, сделанную нохрами. Он ждал Фартультиха, который принимал последнего посетителя.
День шёл к концу, и день тяжелый. С самого утра во дворец тянулись желающие поговорить с новым Иглоном. Ещё бы! После вчерашней Церемонии никто не задержался в Главнейшем городе. Все быстро разлетелись по домам, а с утра, не выспавшись, явились к Правителю. «Бедный Фартультих, — подумал Роктильн — ужасная Церемония, трудный перелет, бессонная ночь в думах об отце… Представляю, как он устал. А тут ещё с утра это нашествие. Наверное, весь город побывал здесь сегодня. И ведь каждый пришёл с одним и тем же вопросом — чем ещё может обернуться для орелей глупость двух юнцов? — как будто решение Совета им ничего не объяснило. А что может добавить несчастный Фартультих, если даже я, правящий городом столько лет, на это вопрос не отвечу. Рондихт был прав: ответ в нас самих, в том, как мы сами относимся к проблеме. Но в том-то и дело, что, если сбежавшие глупцы приведут сюда действительных наследников Дормата, мало найдется таких, кто не растеряется. С одной стороны негоже законным Правителям жить в Низовье, но с другой, как они будут править нами, если никогда не жили по нашим законам? Интересно, что же все-таки говорит орелям Фартультих? Вчера вечером он задал мне вопрос: не мучила ли отца совесть за то, что он своим решением оставлял за чертой нашей жизни возможных истинных Правителей? Я тогда ответил ему, что Великий Иглон обладает таким Знанием, что проникает вглубь вещёй так, как не умеем мы. Но это были не те слова, которые племянник хотел услышать».
В галерее раздались быстрые шаги. Роктильн, со вздохом отложив фигурку, поднялся, ожидая увидеть Фартультиха, но вместо ненго в покои вбежал запыхавшийся рофин, а следом за ним несколько взволнованных стражей.
— Иглон! — от волнения поклонившись кое-как, заговорил рофин. — К городской границе только что пришёл один из этих.., которые вчера сбежали. Он хочет говорить с новым Иглоном. Говорит — срочно!
— Где он! — закричал Роктильн. — Сюда его! Скорее!
— Он очень измучен, едва может лететь. Сейчас мои товарищи его доставят… А я поспешил вперед, чтобы предупредить.
В этот момент в покои вошёл Фартультих.
— Почему ты кричал, дядя? — устало спросил он, — что-то случилось?
— Случилось, мой мальчик!
Роктильн в большом волнении подбежал к племяннику и, подвел его к скамье, которую только что покинул.
— Сейчас рофины приведут сюда одного из тех сбежавших юношей.. Может быть, он расскажет нам что-нибудь такое, что позволит орелям успокоиться.
— Или озаботиться ещё больше, — пробормотал Фартультих.
Однако новость его сильно взволновала. Он словно забыл про усталость и весь подался вперед, когда рофины почти внесли грязного, заплаканного Лоренхольда.
— Ты голоден? — спросил Фартультих.
Юноша, глядя в пол, отрицательно покачал головой. Рофины отпустили его, и Лоренхольд тут же упал на колени.
— Ты устал? Ранен? Можешь объясняться с нами сидя, — сказал молодой Иглон, а его дядя машинально отметил про себя, что как Правитель, мальчик начинает очень достойно.
Стражники принесли из галереи скамью и усадили на нее Лоренхольда. Все ещё не поднимая глаз, он всхлипнул и стал рассказывать. Сначала про то, как они с Тихтольном хотели ненадолго слетать и просто поглазеть на поселение, ещё до праздников, но Флиндог вернул их. Потом про то…
— Флиндог умер, — холодно перебил его Правитель, — он ещё на Церемонии заметил, что вас нет, и хотел догнать. Но сердце его не выдержало… Завтра мы будем хоронить старого норса со всеми возможными почестями.
Едва услышав про смерть Флиндога, Лоренхольд вскинул на Иглона заплаканные глаза, а дослушав, мучительно застонал, и поник, вцепившись руками в волосы. Какое-то время никто не прерывал его терзаний, но потом Фартультих приказал говорить дальше.
Лоренхольд, с большим трудом выдавил из себя, как им удалось удрать во время Церемонии. Негодующие возгласы стражей и рофинов Правитель прервал взмахом руки. Но было видно, что и ему, пережившему вечное расставание с отцом, тоже нелегко слушать, как эти юнцы воспользовались их прощанием.
— Почему вас не нашли? — неприязненно спросил он. — Ведь Ольфан выслал в погоню весь отряд рофинов.
— Мы шли пешком и в обход.
— Эти бы мозги да на что-нибудь другое. — проворчал Роктильн. — А дальше что?
— Потом мы нашли этих орелей, — тихо продолжал Лоренхольд. — Нашли уже ночью и до самого рассвета рассматривали их поселение. Затем выбрали место повыше, куда бы они не добрались, и залегли там, чтобы наблюдать днем… Заснули. А утром один из них нас обнаружил…
— Как так «обнаружил»? — не понял Фартультих. — Ты же говоришь, что нашли место повыше?
— Он… прилетел…
— Что!!!
— Тихтольн говорил — они не летают, — растерялся Роктильн.
— Летают, — прошептал Лоренхольд, но тут же вскинул голову и, волнуясь, быстро заговорил. — Но мы не знали!.. Тихтольн сам был уверен!.. Он не хотел… Мы думали, что только посмотрим.., убедимся в том, что дети Дормата выжили и это их потомки! Тихтольн не хотел зла. Он думал, что сделает орелям подарок… Все же переживали из-за погибших детей… А мы думали, разузнаем все,… прилетим, расскажем, успокоим… А вышло.., ничего хорошего не вышло…
Лоренхольд опустил голову и заплакал.
— Где Тихтольн? — сурово спросил Фартультих.
Юноша послушно оттер слезы.
— Когда этот орелин нас обнаружил, мы удрали… Испугались. Долго летели, пока не приземлились там, — он махнул в сторону окна, — на дозорной площадке. И тут Тихтольн сказал, что не может вернуться домой. Он… он плакал!
Лоренхольд снова зарыдал. Ему не мешали, но он сам скоро справился с собой и продолжил.
— Тихтольн решил вернуться к тем орелям. Он хочет умереть там с голоду, если, конечно, они его сразу не убьют. Я отговаривал, но он считает, что заслужил это. Хотел, чтобы я валил всю вину на него, но он невиноват… Хотя нет. Конечно, мы оба виноваты, но не так, чтобы умирать… Хотя… Флиндог… ой, мамочка, что же это такое мы наделали!…
Лоренхольд опять обхватил голову руками и принялся горестно раскачиваться из стороны в сторону.
Все молчали. Наконец Фартультих встал, пересек покои и остановился перед юношей.
— Тихтольн мог уморить себя голодом где угодно. Зачем возвращаться именно туда?
Лоренхольд поднял глаза на Иглона и тоже встал.
— Он хочет не дать им искать нас. Он сказал мне на прощанье, что многое понял. Тот орелин, когда нашёл нас, он что-то сказал. Мы его почти не слышали, но это был чужой язык. И их гнездовины чужие, и вся их жизнь… А его лицо… оно не злое, оно счастливое. Значит им хорошо там, как нам хорошо здесь… Тихтольн сказал, что понял это ещё раньше, вечером, когда мы отдыхали и загрустили о доме, но из упрямства не хотел в этом признаваться… А теперь…, теперь уже поздно.
Все ожидали, что юноша опять заплачет, но он словно застыл и невидящим взглядом смотрел через плечо Фартультиха. А навстречу ему таким же застывшим взглядом смотрел Правитель. И Роктильн, подойдя к молодым людям, понял, что Иглон услышал, наконец, ответ на мучавший его вопрос.
А Лоренхольд подумал, что никогда и никому не расскажет про камень с рисунком облака, уносящего орелинское яйцо.

Часть вторая
Нафин! Нафин!
Женщина стояла у самого входа в гнездовину и, закрываясь рукой
от солнца, что есть силы, кричала во все направления.
— Нафин!
По всему было видно, что она вне себя от возмущения. На ее крики из окрестных гнездовин выглядывали соседи, кто усмехаясь, а кто сочувственно качая головами.
— Негодный мальчишка, — пробурчала женщина себе под нос. — Вот только появись, я тебе так задам!
Она строго осмотрела улицу и заметила у своей ограды тоненькую улыбающуюся девушку.
— С самого утра сына ищете, Метафта?
— Опять летает, — женщина с досадой хлопнула себя по бокам. — Ну, вот хоть ты скажи, что с ним делать? Нахватался от отца всяких глупостей и ни о чем другом не думает, кроме как о полетах своих дурацких, да о Генульфовых записях.
— А вы его жените, — девушка кокетливо наклонила голову.
— Уж не на тебе ли? — расхохоталась Метафта. — Не-е-е-т, глупышечка моя, я слишком хорошо отношусь к тебе и к твоим родителям, чтобы так портить твою жизнь. Думаешь Нафина можно исправить? Ни-ког-да! По собственному опыту знаю. Я тоже когда-то считала, что своей любовью привяжу его отца к дому и хоть как-то образумлю. Но, нет! Уже десять лет, как он умер, а я всё мучаюсь. Только теперь с его сыном.
Девушка улыбнулась, едва ли слушая, что ей говорили. С большим любопытством, она осматривала окрестности, потом радостно подпрыгнула и указала рукой в конец улицы.
— Вон он идет!
— Оч-чень хорошо! — снова разъярилась Метафта. — Сейчас он получит! Сейчас узнает, как срамить меня на все Гнездовище!
Она решительно зашагала навстречу сыну, но уже по тому, как он бежал к ней, спотыкаясь и еле сдерживая себя, чтобы не лететь, поняла: случилось что-то невероятное.
— Мама, — орал юноша на всю улицу, — я… сейчас… там такое!..
— Да лети уж, — махнула рукой Метафта, — я все равно знаю про твои упражнения…
Нафин легко взлетел и в несколько сильных взмахов достиг своей гнездовины. В каждой руке он тащил по странному сосуду и сиял от радости так, как будто бы в них или на них и находились те самые пресловутые Генульфовы записи. Он плюхнул сосуды на землю и радостно заорал прямо матери в лицо.
— Я их видел, мам, видел!!! Пророчество сбывается!
— Кого ты видел?
— Летающих орелей! — горделиво заявил Нафин и замер, ожидая реакции.
— Тьфу ты! — среагировала Метафта. — Опять! А я уж и, правда, поверила, что что-то случилось.
— Но я их видел, — Нафин растерянно указал на скалы, — вон там…
— Хватит! — отрезала Метафта. — Сегодня ты наказан и сидишь дома целый день. А если ещё раз заикнешься про свои видения, то будешь сидеть и завтра.
И она резко отвернулась, чтобы идти в дом. Одно из её коротких крыльев шлёпнуло Нафина по лицу, словно дало пощечину.
— Но, мам, — жалобно позвал он.
В ответ лишь хлопнула закрытая дверь.
Радужного настроения как не бывало. Нафин неуверенно топтался на месте, прекрасно понимая, что пойди он сейчас за матерью, начнется такой шум, что солнце померкнет.
— Какой невежливый ма-альчик, — певуче донеслось сзади.
Юноша обернулся и только теперь заметил юную орелину, которая стояла, заложив руки за спину и ковыряя носком землю, насмешливо наблюдала за ним.
— Это, ты? Привет, Сольвена, — без особой радости поприветствовал ее Нафин и покосился на закрытую дверь. — Скажи, почему мне никто никогда не верит.
Девушка пожала плечами и подошла ближе. Она осмотрела сосуды и осторожно ткнула один из них ногой.
— Это что?
— С ними было, — ответил Нафин, — Они улетели и бросили, а я подобрал.
Сольвена скрыла усмешку и присела на корточки. Тонким пальчиком поводила по рисунку на сосуде и без особого любопытства спросила:
— Так ты правда кого-то видел?
— Не кого-то, — вспылил Нафин, — а именно их! Их! Летающих о-ре-лей!
— Ну, и какие они? — Сольвена даже глаз не подняла на его крики.
— Какие!? — юношу совсем не обескуражило её безразличие, и он оживленно присел рядом. — Они знаешь какие! Они такие невероятные! Совсем, как мы, только гораздо прекраснее. Их одежда, как будто из капель росы, сверкающих на солнце. На руках, шеях и поясах — тонкие обручи, все в резьбе и украшениях. Волосы поддерживают какие-то диковинные штуки с маленькими крылышками, а на груди у каждого, прямо на одежде, видны чуть выпуклые половинки солнца. У одного лучами вверх. А у другого вниз. И крылья! — Нафин мечтательно зажмурился, — Какие у них крылья! Раза в два больше моих, представляешь? И взлетели они так легко и так красиво, почти без усилий…
Девушка недоверчиво покосилась на приятеля и притворно вздохнула.
— Нет, ты определенно помешался на сказках своего отца.
— Помешался! — подскочил Нафин. — Ах, вот ты как! И ты не веришь! Тогда откуда это?
Он ударил ногой сосуд, и тот упал с глухим всплеском.
— А ты уже смотрел, что там? — как всегда, не обращая никакого внимания на гнев юноши, спросила Сольвена.
— Не успел, — буркнул Нафин, — домой торопился. Хотел скорее все вам рассказать, а вы…
— Так давай посмотрим.
Девушка быстро сняла с крышки удерживающую петлю и заглянула внутрь.
— Вода какая-то…
Она принюхалась, пожала плечами, потом слегка наклонила сосуд и окунула в содержимое палец.
— Нет, не вода. Уж очень густая.
— Не лазь! — отобрал у нее сосуд Нафин. — Ты мне всё равно не веришь…
Девушка сморщила носик, отерла палец о траву и выпрямилась.
— Почему не верю? Верю. Просто я не вижу никакого смысла в предсказании, с которым ты так носишься. Ну, увидел ты Летающих орелей, и что? Что дальше? Боюсь, ты и сам не представляешь, что теперь должно произойти.
— Я не представляю? — на мгновенье растерялся юноша. Но тут же опомнился и гордо выпятил грудь. — А мне и не надо представлять. Всё и так произойдет само собой, когда будет нужно.
— А когда нужно? Да и произойдет ли вообще…
— Произойдет! — упрямо выкрикнул Нафин и чуть не расплакался.
Он действительно не знал, что теперь будет. Но одно дело не знать самому, и совсем другое — когда тебя тыкает в это носом, сопливая девица, которая вообще ничего не соображает. Он уже пожалел, что рассказал ей все и позволил лазить в сосуды. А ещё более о том, что когда-то рассказал о предсказании. Но он тогда думал, что Сольвена — друг, а теперь понимает, друг не стал бы так насмешничать. Особенно в такой момент, когда сбылось последнее, из предсказанного. Друг разделил бы с ним и радость, и обиду на тех, кто ему не верит.
— Ты знаешь что, Сольвена! — сказал Нафин в сердцах. — Иди-ка отсюда подальше. Отправляйся к мамочке с папочкой и сиди в своей гнездовине. Или посмейся надо мной с подружками, если так хочется.
Сольвена, как обычно, пожала плечами, но, уходя, обернулась.
— Пожалей Метафту, — сказала она с усмешкой. — Нехорошо, когда над старейшиной смеются…
Нафин ничего на это не ответил, только злобно фыркнул, подхватил сосуды и пошёл в гнездовину.
Метафта раскладывала на скамье сушеную траву и листья, но на его шаги обернулась и уперла руки в бока:
— Вот что, милый мой, заговорила она сурово, — с сегодняшнего дня я запрещаю тебе, как летать на скалы, так и спускаться с обрыва. Записи Генульфа завалило и ты скорее шею свернешь, чем их отыщешь. А, чтобы не было соблазна делать все втихоря за моей спиной, я сейчас же свяжу тебе крылья.
С этими словами орелина сняла со стены крепкую веревку, велела сыну повернуться к ней спиной и, связывая его крылья, приговаривала:
— Я-то думала — это счастье великое тебе будет — самые большие крылья в Гнездовище, а оно вон каким боком вышло… А всё отец, его сказки про проклятья да предсказания всякие…
— Но, мам, — взмолился Нафин, — почему ты мне не веришь? Я же правда видел.
— Не хочу слушать! — зажала уши руками Метафта, — я сыта этими предсказаниями по горло. То над отцом все потешались, теперь над сыном… Но тогда я была лишь женой старейшины, а теперь сама стала старейшиной, и не буду, как твой отец, терпеть над собой насмешки.
— Но над тобой никто не смеётся, — робко возразил Нафин.
— Что!? — загремела Метафта. — да я глаз не могу поднять от стыда за то, что мой единственный сын вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным, тратит свое время у Старика, изучая язык, который все давно забыли, и учится летать, как будто это так уж необходимо! Имей в виду — не все в восторге от твоих упражнений. Особенно те, у кого крылья совсем маленькие. Вот так, — она завязала последний узел, — теперь я засну спокойно. Не надейся на чью-либо помощь, никто не посмеет тебя развязать без моего разрешения.
Метафта похлопала сына по плечу и только теперь заметила сосуды.
— Это ещё что такое?
— Ты же всё равно не хочешь слушать, — уныло отозвался Нафин.
— Я не хочу слушать небылицы. Но это-то ты где-то взял. Где?
— На скалах, где же ещё. — Юноша ехидно усмехнулся. — Надеюсь в то, что они там выросли сами собой, ты сможешь поверить?
Метафта глянула на него, но уже не так сердито, а, скорее, с испугом. Затем она осмотрела со всех сторон сосуды, сняла с них крышки и, как до неё Сольвена, понюхала содержимое.
— Странно, — пробормотала орелина. — Очень странно. Так ты, что, на самом деле их видел?
— Ура! — завопил Нафин. — наконец-то ты поверила! Мамочка, ты не представляешь, как я рад! Теперь-то ты понимаешь? Предсказание сбывается, а это значит, что я не могу сидеть связанным. Ты ведь развяжешь меня, правда?
Но Метафта не торопилась с ответом. Она аккуратно закрыла сосуды, отставила их подальше и прикрыла сушеной травой. Затем подошла к сыну и, глядя ему в глаза, твёрдо произнесла:
— Ни за что! Особенно теперь.
— Что? — из Нафина, казалось, вышёл весь воздух. — Ты шутишь?
— Нет!
Юноша не верил своим ушам. Как заворожённый, он, не отрываясь, следил за матерью, которая в большом волнении ходила из угла в угол.
— Мама, — тихо позвал он, — я совсем ничего не понимаю. Что всё это значит?
— Это значит, что я знаю о предсказании побольше твоего…
Метафта перестала ходить, села на скамью и посмотрела на сына серьезно, как никогда.
— Послушай меня, Нафин. Только послушай очень внимательно, как взрослый орелин, которому пора отвечать за свои поступки. В предсказании сказано: «только тот, кто увидит цветущую траву Лорух и Летающих орелей найдет детей Дормата…». Положим, трава Лорух на самом деле не цвела, но ты ее такой УВИДЕЛ, и твой отец решил, что это считается. Он тогда, конечно, заблуждался, как всегда, но речь сейчас не об этом. Теперь ты увидел Летающих. Скажу честно, когда ты мне утром об этом сообщил, я подумала, что мальчик просто очень хотел их увидеть, и они померещились. Но это, — она кивнула в сторону спрятанных сосудов, — это выглядит достаточно убедительным. Похоже, что предсказание действительно сбывается, и значит, ты тот самый и есть, кто найдет каких-то там детей Дормата и снимет проклятие с Генульфа. Ну, а дальше-то что, ты знаешь?
— Нет, — замотал головой Нафин, — а разве было дальше?
— И было, и есть.
Метафта многозначительно посмотрела на сына.
— Там дальше сказано, что когда это все случится, в Гнездовище не останется ни одного ореля, ибо не станет проклятия, которое вызвало их к жизни. Ты понимаешь, что все это значит?
— Нет.
— Это значит, что мы все исчезнем! С нами случится что-то такое, что никого не оставит в живых.
— Не верю! — Выкрикнул Нафин. — Откуда ты это знаешь?
— От твоего отца.
— Но почему он мне ничего не сказал?
— Потому что ты был маленьким и многое мог понять неправильно.
Но Нафин не унимался.
— Зачем же тогда он сам всю жизнь искал Генульфовы записи, полагая, что в них найдет путь к детям Дормата, а заодно и к Летающим орелям? Зачем сам всю жизнь хотел их увидеть?
— Затем, что хотел все изменить. Он с чего-то решил, что предсказание касается именно его, поэтому хотел, чтобы оно сбылось наполовину, а уж тогда он бы сделал все, чтобы обмануть Судьбу и не дать ему сбыться до конца. Во всяком случае, никаких детей твой отец искать не собирался. Да они, наверное, уже и умерли давно. Генульф погиб и ему все равно сохранится проклятие или нет, а Гнездовище с каждым годом разрастается все больше. И мы не можем допустить, чтобы оно исчезло.
Нафин молчал, совершенно потрясенный. Его сознание с трудом переваривало услышанное. Оказывается, его отец был с ним не до конца честен! Да и мать тоже… Зато все его тайные восторги, надежды и все труды по раскопкам Обвала оказывались никчемными, пустыми и даже опасными.
— Что же мне теперь делать? — спросил он, наконец.
— А ничего, — ответила Метафта. — Живи обычной жизнью, как все. Женись на Сольвене и выкинь из головы все лишнее.
Она подошла к сыну и погладила его по плечу.
— Ну, что ты так огорчился? Твой отец дорого бы дал за то, чтобы оказаться на твоем месте. Хотя, по мне, не такое уж это и счастье, когда Судьба избирает тебя своим оружием. Велик соблазн сверкнуть на солнце своим грозным лезвием, как у того клинка, что хранится в гнездовине у Торлифа, но ведь ещё неизвестно по кому это лезвие пройдется. Зато много нужно мужества и здравого смысла, чтобы сдержать себя и оставаться в ножнах. Но ты, я уверена, в себе это мужество найдешь. Конечно, не мешало бы тебе ещё немного повзрослеть и ума поднабраться, но все равно, ты жил, не зная ни подлинной злости, ни зависти, руководствуясь лишь чистым благородством и здоровым упрямством. Они же помогут тебе принять правильное решение.
— Нет, — Нафин так, похоже, не считал, — я не могу… А мои раскопки? Почему я должен их бросать? Генульф знал о предсказании и вполне мог написать там то, что поможет предотвратить беду. Они с дедушкой погибли из-за этих записей, Старик чудом уцелел… А ты предлагаешь оставить все, как есть, чтобы орели благополучно о них забыли и продолжали жить сытой, довольной жизнью!
Нафину очень хотелось, чтобы его слова прозвучали возвышенно и благородно, но в конце фразы голос некстати сорвался на фальцет, и впечатление смазалось.
— Нда-а-а, — задумчиво протянула Метафта. Голос ее вновь стал суровым. — Похоже, я правильно сделала, что связала тебе крылья. Ты глуп и упрям. Рановато сбылось предсказание. Хотя, возможно, Судьбе вот именно такого олуха и было нужно, чтобы окончательно нас всех погубить. А Старика ты очень кстати припомнил. Вот уж кто знает обо всем побольше нашего, но молчит. И правильно делает. Будь в том нужда, он давно бы посвятил тебя во все тайны, видя, как ты суетишься.
— А может и посвятит! — В Нафине загорелась надежда. — Может он только того и ждал, когда я увижу Летающих орелей! Может он вообще знает, где Генульфовы записи, но не был уверен, что я — это я, то есть тот, кому они предназначались! А, может, он просто перескажет мне их содержание и все!..
Нафин пришёл в такое возбуждение, что готов был немедленно бежать к Старику. Он умоляюще сложил руки на груди и, как можно жалостнее, обратился к Метафте:
— Мамочка, ну хоть к Старику-то мне можно пойти? Ведь от этого ничего страшного случиться не может. Пожалуйста, отпусти меня. Что нельзя он все равно не расскажет…
Метафта задумчиво покусывала нижнюю губу. С одной стороны, ей не хотелось отпускать сейчас Нафина даже к соседям. Но, с другой, запрещать ему все подряд тоже не дело.
— Ладно, сходи, — разрешила она. — Но оттуда — сразу домой! И крылья останутся связанными.
* * *
Старик жил на самой окраине Гнездовища. Как раз на том месте, где по приданию, измученные многодневным спуском Генульф и Рофана, упали без сил в заросли травы Лорух и уснули. Утром они с удивление обнаружили, что не замерзли ночью, как ожидали.. Трава уберегла их от холода, а когда взошло безжалостно палящее солнце, под сенью деревьев Кару изгнанник и его верная подруга нашли тень и приятную прохладу. Здесь они решили остаться навсегда, здесь же впоследствии появились на свет Старик, три его брата и две сестры.
С младенчества дети знали, что их родители раньше жили на самой вершине гор. Там, всегда было тепло от кипящих вулканов и прямо из скалы бил родник, дающий тем, кто там жил, всё: и еду, и одежду. О причине, по которой они покинули место своего обитания, родители молчали. Ограничились лишь тем, что произошло несчастье, после которого там невозможно было оставаться и пришлось начинать новую жизнь здесь. Зато перед сном Рофана нередко веселила детей рассказами о том, как они с отцом привыкали к новым условиям. А когда малыши засыпали, она выходила из гнездовины на улицу и, глядя на звезды, горько плакала. Ей вспоминалось безумное отчаяние, охватившее их с Генульфом, именно тем утром, когда, по ее же словам, они умилялись теплу травы и прохладе под деревьями. Нет, всё было иначе. Тогда, едва проснувшись, они увидели перед собой амиссию с яйцом в руках. «Это ребенок Дормата, — сказала она, кладя яйцо в траву, — постарайтесь, чтобы он выжил». И исчезла, ничего более не объясняя. Это потом уже, когда утихла истерика Рофаны, понятия не имеющей о том, как заботится о малыше, изгнанники осмотрелись и решили, что могут остаться здесь жить, потому что трава даёт тепло, а деревья укрывают от солнца.
Тяжело им тогда пришлось. Первое время, пока ребенок ещё не вылупился, Рофана оставляла яйцо на попечение Генульфа и летала к родственникам в Нижний город за Серебряной водой. Она летала и потом, но все реже и реже, а когда поняла, что скоро сама станет матерью, начала приучать себя и Генульфа к соку плодов Кару. Хорошо ей теперь смеяться и изображать в лицах, как они морщились, плевались и хватались за животы. На деле все было трагичнее. Их страшно рвало, нестерпимая боль разрывала внутренности, и порой казалось, что выжить уже невозможно. Только ответственность перед беспомощным малышом, страх за него и за того, который должен был родиться, заставили Рофану все перетерпеть, выжить и не дать погибнуть Генульфу.
Постепенно они привыкли. И к соку, и, со временем, к плодам. Им даже стал нравиться их вкус. Все трое заметно окрепли, ожили, и тогда Генульф начал строить для них гнездовину. Он выложил камнями огромный круг, а остальные камни, при помощи острого обломка скалы, обтачивал и подгонял так, что, поднимаясь все выше и сужаясь, они сошлись в одной точке, образовав настоящий шатер.
Рофане новое жилище понравилось, но Генульф на этом не успокоился. Свободного времени хватало и он, вдохновленный первым успехом, взялся за пристройку внешней террасы, смеша Рофану заявлениями, что Иглоны должны жить, как подобает. Обучение у лучших ремесленников Сверкающей Вершины принесло свои плоды. Очень скоро грубоватая гнездовина украсилась резными наличниками на окнах, арками и даже двумя простенькими колоннами у входа. Над ними Генульф выбил свое имя. Рофана настояла на этом, говоря, что как выдающийся лепп, он это заслужил в полной мере. Генульф сделал вид, что взвешивает все за и против, а потом, как Иглон, сам себе это милостиво разрешил.
Крылья его зажили, благодаря усилиям Рофаны, бывшей на Сверкающей Вершине дочерью ольта и знакомой с премудростями его мастерства. Он даже смог летать. Правда, не высоко, но зато подолгу и достаточно маневренно.
Между тем, подрастали дети. Сыновья погодки Фостин, Хорик, Форехт и новорожденный Дорхфин, а чуть позже появились и дочери Усхольфа и самая маленькая Ланорфа.
Однажды, еще когда постройка гнездовины была в самом разгаре, бурей повалило несколько старых деревьев. Генульф собирался со временем оттащить их подальше, но руки всё не доходили. А, когда он, наконец, на это решился, то обнаружил, что длинные высохшие на солнце мертвые листья легко разделяются на тонкие, но прочные волокна. Немного поразмыслив, бывший Иглон попробовал сплести из них веревку. Получилось очень неплохо. Тогда, вместе с Рофаной, они раздергали все подсохшие листья с поваленных деревьев, и Генульф, припомнив то, чему научился у наммов, сплел кое-какую детскую одежду. Теперь ни приёмыш, ни первенец больше не бегали голышом. А недавно вылупившийся Форехт, получил вполне приличное одеяльце. Рофана тоже обзавелась новой одеждой взамен совершенно обносившейся орелинской. Впрочем, старые лохмотья она не выбросила, а заботливо сложила и спрятала где-то в гнездовине, пролив при этом не одну слезу.
Генульф, между тем, продолжал изучать поваленные деревья. Он обратил внимание, что во время дождя вода скатывалась с коры, не впитываясь и не просачиваясь сквозь неё. Это навело его на мысль сделать для гнездовины крышу. Так как камни, как бы хорошо ни были подогнаны, нет-нет да и пропускали дождевые капли в тех местах, где заворачивались в купол. За время строительства Генульф смастерил достаточно необходимых инструментов и с их помощью взялся за дело. Бережно снял кору со всех стволов, разделил её на ровные куски и обложил ими верх гнездовины. Как истинный орель, сделал он это чрезвычайно аккуратно и красиво, подбирая куски по размеру и даже по оттенкам.
Рофана тоже не отставала. Научившись плести одежду, она достигла небывалого мастерства в высушивании листьев. Одни сушились в тени до золотистого цвета, а другие — на солнце, чтобы не утратить зелень. Затем, сочетая волокна различных цветов, орелина смогла создавать на одежде простенькие узоры, что показалось ей особенно важным, когда родились девочки.
Из стволов Генульф, ликуя от собственной сообразительности, выдолбил несколько несложных сосудов для плодов Кару. И теперь, чтобы поесть, не нужно было всякий раз выходить из гнездовины. Ветки быстро приспособили для просушивания листьев и, когда в один прекрасный день Генульф с Рофаной осмотрели свои владения, им показалось, что они совершенно счастливы.
* * *
Как-то раз во время прогулки Генульф с сыновьями отошёл довольно далеко от гнездовины. Они не боялись заблудиться, да и вообще мало чего здесь боялись, разве что сильной грозы. Но, когда из-за деревьев вышла незнакомая бескрылая женщина, даже Генульф в страхе отступил.
Незнакомка была по самые глаза укутана в диковинные одежды. Её длинные тонкие пальцы переплелись между собой, а кольца на них таинственно мерцали. Черные, без белков глаза смотрели на всех и на каждого в отдельности, лишенные какого-либо выражения. Когда она низким голосом позвала Генульфа, дети в страхе сгрудились в стороне, пряча между собой самого маленького. Им не понравилась эта женщина. За всё время разговора с их папой, она держалась высокомерно и даже, кажется, за что-то его ругала. А Генульф оправдывался и махал руками то в сторону детей, то в сторону дома. В конце концов, он затих, как-то сник и покорно кивнул.
Вечером дети, прикинувшись спящими, долго слушали, как родители о чем-то спорили. Отец говорил, что не хочет оставлять их и искать каких-то других детей. По крайней мере, до той поры, когда старшие не научатся летать, а Рофана считала, что он должен это сделать, и что она вполне сумеет одна со всем здесь управиться. Чем закончился спор, дети так и не узнали, потому что действительно заснули. Но несколько последующих дней Генульф ходил задумчивым и подавленным. А потом вдруг стал куда-то надолго улетать один.
Пока его не было, Рофана страшно волновалась. Она делала все, чтобы скрыть свое нервное состояние, но удавалось это плохо.
Обычно Генульф возвращался до темноты, но однажды он прилично задержался. Уже смеркалось, на небе показались первые бледные звезды, а Рофана, как ни напрягала зрение и слух, никак не могла уловить ни движения в небе, ни привычного хлопанья крыльев. В волнении она не находила себе места, и ее состояние передалось детям. Даже маленькая Ланорфа перестала пищать и тихонько сидела возле старших, так же, как и они, следя за матерью испуганными глазами.
Генульф объявился, когда уже совсем стемнело. Рофана с криками бросилась к нему, то ругаясь, то обнимая мужа и покрывая его лицо поцелуями. Она не сразу заметила, что прилетел он в великом возбуждении, нагруженный какими-то непонятными предметами, и в суматохе даже забыла уложить детей спать. Поэтому, они облепили скамью, на которую уселся отец, и слушали все, что он рассказывал.
Оказалось, что Генульф летал прямо в Долину, где наткнулся на селение бескрылых. Сначала, они очень испугались и попрятались в свои гнездовины. Но, когда он заговорил, их мужчины вышли и, хотя и с опаской, приблизились. Конечно, они ни слова не поняли из орелинской речи, однако догадались, что крылатый человек не желает им зла. Постепенно наружу вылезли женщины и дети, и все вместе бескрылые обступили ореля, рассматривая его и цокая языками. Их удивительная быстрая речь крайне заинтересовала Генульфа. Жестами он попросил разрешения осмотреть все вокруг и попросил, чтобы бескрылые называли ему все, что он увидит, на своем языке. Весь день прошёл за осмотром селения новых знакомцев. Объясняясь, кое-как, знаками, орель пояснил, что живет в горах и, в свою очередь узнал, что бескрылые подолгу на одном месте не живут, а перемещаются в своих странноватых гнездовинах с места на место. Бывший Иглон впервые увидел колесо и то, как оно действует, и был потрясен. Как, впрочем, и многими другими вещами, которые ему показали бескрылые. Он опомнился, когда стало темнеть и, пообещав, что вернется назавтра, с большой неохотой, полетел домой. На прощание ему дали кое-какие инструменты и показали, как ими пользоваться.
Все ещё опьяненный новыми впечатлениями, невзирая на глубокую ночь, Генульф потащил всю семью на улицу, где при лунном свете гордо разложил перед ними принесенные сокровища: пару ножей разной длины, небольшой топорик и пилу. Как действуют эти инструменты, он показал здесь же, без промедления, на первой попавшейся под руку ветке. Дети и Рофана пришли в полный восторг. Малышам особенно понравились лезвия у ножей, но, когда непоседа Ланорфа потянулась к ним ручкой, отец сделал всем строгое внушение и запретил без его ведома прикасаться к новым вещам.
На следующий день Генульф вновь полетел в Долину. И через день тоже. И ещё через день. Он летел так долгие три месяца, пока бескрылые не объявили, что должны перебраться в другие края. К тому времени они нашли с орелем общий язык и довольно сносно понимали друг друга. Узнав, что Генульф должен отыскать семерых детей, таких же, как он, но живущих где-то на земле, старейшина бескрылых пообещал, что в своих странствиях попытается что-нибудь выяснить. А через год, когда они вернутся в Долину, орелин сможет снова прилететь к ним в гости и узнать о результате.
Разлука огорчила Генульфа чрезвычайно. Рофане, укорявшей мужа, что бескрылые занимают его больше, чем семья, он объяснял, что новые знакомые могут ему помочь в поисках детей Дормата. Но, на самом деле, эти поиски уже давно отошли для него на второй план. Как давний смутный сон вспоминал Генульф записи в Галерее Памяти, куда их, ещё маленькими, водил отец для ознакомления с историей жизни орелей. Как скудно и неинтересно были описаны там наблюдения за бескрылыми. Да и не наблюдения это были вовсе, а только то, что любопытствующие ненароком замечали во время своих незаконных вылазок. Генульф искренне грустил, думая о том, как много орели теряют, не желая ничего знать о том, что их не касается. Насколько шире и разнообразнее стала бы их жизнь, прояви они хоть немного больше любопытства! Вот сам он мог часами рассматривать то, что ему подарили бескрылые, и не переставал удивляться их выдумке и мастерству. Единственное, что он наотрез отказался взять в дом — это огонь. Но остальное: посуда, детские игрушки из дерева, украшения из разноцветных шариков, которые привели в неописуемый восторг Рофану, и прозрачные сосуды, где теперь хранилась дождевая вода, стали для него едва ли не предметом поклонения. Поэтому Генульф еле-еле дождался истечения года и, задолго до установленного срока, стал облетать Долину, высматривая бескрылых.
Те вскоре объявились. Как старого доброго друга встретили они ореля, огорчаясь лишь тем, что никто и нигде слыхом не слыхивал о крылатых детях. К их удивлению, Генульф отнесся к этому довольно беспечно, зато, с огромным любопытством слушал все, что мог разобрать об их странствиях.
Он узнал, что на земле живет множество разных племен. Услышал рассказы о роа-радоргах, воюющих со всем миром, и об абхаинах, живущих совсем близко в долине между двух рек. Подивился обычаям племени уисков, предпочитающих земной тверди жизнь на воде. И образу жизни ионтахов, устраивающих по городам представления вроде тех, что были и у орелей во время праздников.
Упоминание о рыжих роа-радоргах и уисках, живущих на воде, напомнили Генульфу о его поисках. Но старейшина бескрылых заверил его, что никого похожего на тех, кто ему нужен, среди них не было. Впрочем, роа-радоргов бескрылые не встретили, чему очень радовались, но, по их словам, какое-то крылатое божество у этих воинов имелось. Говорят, перед тем, как начать сражение, они все цепляли себе крылья, подражая ему, но все это, скорей всего, сказки, придуманные самими роа-радоргами.
Рассказали кочевники и о крылатом боге абхаинов, который периодически умирал и возрождался вновь. По абхаинскому поверью, не так давно он снова возродился, но ведь Генульфу нужны были люди, а не вымыслы.
Чудесные рассказы совершенно ошёломили ореля. Он позабыл обо всем на свете, и дни напролет проводил с бескрылыми, слушая об их странствиях с ненасытностью и любопытством маленького ребенка. Все это не могло не тревожить Рофану. Она уже поняла, что поиски детей Дормата не более чем предлог и чувствовала, что их собственные дети постепенно отдаляются от отца. То лаской, то упреками старалась орелина вернуть мужа к семье, упирая на то, что старшие мальчики становятся на крыло, и его помощь им сейчас особенно необходима.
Генульф внял ее словам и пообещал в следующую вылазку обязательно взять их с собой в Долину. Этого Рофана никак не ожидала, и несколько дней ушло на ее уговоры, пока она не сдалась, мудро рассудив, что пусть уж лучше будет так, чем постоянно жить со страхом, что в один прекрасный день Генульф совсем не вернется. Однако она оговорила, что самый младший из сыновей — Дорхфин — все же ещё не полетит, чем вызвала бурю протестов со стороны мальчика. Весь день, пока отец с братьями отсутствовали, он дулся на мать и, почему-то, на сестер, и ни за что не хотел спускаться со скалы, с которой высматривал, не возвращаются ли старшие братья обратно.
Когда вечером вся семья собралась в гнездовине, восторгам не было конца! Одно дело представлять все по рассказам и, совсем другое, увидеть это же самим. Фостин, Хорик и Форехт не могли усидеть на месте, пересказывая матери то, что она и так миллион раз слышала от их отца. Но, слушая их, Рофана с грустью заметила, что ее обожаемые мальчики стали совсем взрослыми юношами и недалеки от того, чтобы разделить помешательство Генульфа. Рассказывая, они все чаще упоминали о бескрылых девушках, прекраснее которых, по их мнению, никого на свете не было, а муж только посмеивался и многозначительно подмигивал Рофане. Когда все улеглись, он пытался ее успокоить, уверяя в быстротечности юношеских впечатлений, но, довольно скоро, им пришлось убедиться, что восторги их сыновей вызывают чувства более глубокие, чем это могло показаться вначале. Когда через год бескрылые снова вернулись в Долину, только слепой мог не заметить, что составились три влюбленные пары.
Немного понаблюдав за молодыми, старейшина кочевников с Генульфом решили, что неплохо им было бы породниться. Ранние браки были у бескрылых делом обычным. А ореля чрезвычайно подкупило то обстоятельство, что влюбленные девушки были согласны ради своих избранников на жизнь в горах. Но тут возмутилась Рофана. Узнав о принятом решении, она заявила, что по орелинским законам такой ранний брак недопустим и, что обычаи бескрылых ей — орелине — не указ! Она была полна решимости стоять на своём до конца, и это вызвало первую в их жизни с Генульфом ссору.
Он буквально взорвался гневом! Напомнил, что много лет назад его лишили права называться орелем, поэтому, теперь и он, и вся его семья, могут себе позволить жить так, как им хочется, не сверяясь с какими-то дурацкими законами! «И, кстати, — добавил напоследок Генульф, — все орелинские клятвы и проклятия тоже не имеют теперь никакого значения». И тут Рофане стало страшно.
Память унесла ее в те далекие дни, где, поддерживая несчастного изгнанника, она спускалась в Низовье и слушала его рассказ. Генульф вспоминал, что в то время, когда Дормат рассорился с амиссиями, Северный город был Главнейшим, и именно в его дворец слетелись все Иглоны, чтобы уговорить брата не спешить с женитьбой. Вечером, идя в свои покои по внешней террасе, Генульф услышал из внутренних комнат голос Дормата. Судя по всему, Великий Иглон разговаривал с кем-то из братьев, так как только перед ними он мог не скрывать ни раздражение, ни досаду. Генульф тогда быстро удалился, чтобы не унижать себя подслушиванием, пусть даже и невольным, но одну фразу он, все же, услышал. С презрительным смешком Дормат произнес: «вот и все секреты Великого Знания…».
Тогда эти слова мало что значили, но, после череды несчастий, Генульф вспомнил о них и ужаснулся. Неужели Великий Иглон открыл кому-то самое сокровенное?! А, когда подозрение пало на него, совсем растерялся. Он понял, что кто-то действовал по заранее продуманному плану, выведав у Дормата Знание, и хладнокровно использовал его прикрываясь им, Генульфом, от разоблачения. Но кто? Хеоморн? Зачем ему? Ради власти Великого Иглона? Чушь! Он не мог быть уверен, что ему эту власть отдадут. К тому же, Хеоморн был столь ревностным сторонником соблюдения всех древних обычаев, что ни за что на свете не стал бы вносить такую сумятицу в веками отлаженный порядок. Нет, он не мог! Да и никого из братьев не представлял Генульф в роли циничного убийцы.
До последнего момента Иглон Северного города надеялся, что кто-нибудь подумает так же и выступит в его защиту, но этого не произошло. Летописец Гольтфор сделал, было, слабую попытку, однако, стоило Хеоморну задать ему прямой вопрос: зачем амиссиям клеветать на их брата, смутился и отступил. И тогда Генульф решил принять свою судьбу. Раз все вокруг, с легкостью, признали в нем злодея и негодяя, значит, ему нечего делать среди орелей! Он был даже благодарен Хеоморну за столь скорую расправу и изгнание, а посланное вослед проклятие вообще не воспринял всерьез. Но вот Рофана… своим благородным поступком она тронула до глубины души! Ее Генульф губить не хотел и долго уговаривал вернуться. А, когда понял, что уговоры бесполезны, тогда и рассказал все о своих подозрениях, чтобы она поняла и поверила в его невиновность. Девушка пришла в ужас! Она не могла взять в толк, почему Генульф не защищался и не рассказал обо всем Иглонам и Большому Совету, требовала идти назад, но он наотрез отказался. Амиссии указали на него, что же теперь, валить вину на другого? Рассказать об услышанном, значит бросить тень на весь род Великих Иглонов. Кто из подданных станет их после этого уважать?
Рофана, кажется, поняла и, после этого, занавес над прошлой жизнью окончательно опустился.
Никогда больше не вспоминали они о былом и, устраивая свою новую жизнь, даже как-то подзабыли, что Фостин не приходится им сыном. Но прошлое вернулось само, в облике амиссии, так напугавшей детей. Она заявила Генульфу, что посланное проклятие не исчезает само собой. Чтобы исчезнуть, оно должно исполниться, иначе, беды будут множиться, и множиться, а старая история не кончится никогда. Поэтому, святая обязанность Генульфа — найти детей Дормата и доставить их на Сверкающую вершину. Она даже дала некоторые ориентиры, весьма, впрочем, туманные, но объяснила это тем, что он должен был искать исчезнувших наследников вообще безо всякой помощи.
Орелин не знал, как ему отвертеться, ссылаясь на то, что не может оставить Рофану и детей, не поставив, хотя бы старших, на крыло, и на то, что условия их жизни не до конца созданы. Амиссия не возражала, но взяла с Генульфа клятву. Он не должен затягивать с поисками и начнет их при первом же удобном случае.
Вечером, в гнездовине, Генульф пытался найти сочувствие у Рофаны, но она, на удивление серьезно отнеслась к словам амиссии и готова была выпроводить его, едва ли не утром. Генульф даже сделал несколько пробных вылетов, по ее настоянию, с каждым разом удаляясь от дома все дальше, чтобы приучить крылья к долгому полету, но…
Увы! Встреча с бескрылыми положила всему конец. Новые сильные впечатления пали на благодатную почву старой обиды. Бывший Иглон решил, пусть изгнавшие его сами разбираются со своими бедами, а он начинает новую жизнь, далекую от дряхлых законов и узкого мирка Сверкающей Вершины. За право пренебречь данной клятвой он расплатился сполна и несправедливым обвинением, и жестоким наказанием. И теперь Рофане, увидевшей особенно ясно, как мало в ее муже осталось от ореля, стало страшно, как никогда. Несдержанная клятва могла навлечь на них беды куда большие, чем те, что принесет ее бывшим сородичам посланное сгоряча проклятие.
Сделав вид, что не желает длить ссору, Рофана ушла, якобы собирать листья, но, на самом деле, ей нужно было все хорошенько обдумать. Перечить мужу и дальше представлялось ей большой глупостью. В конце концов, ранний брак сыновей был наименьшим из зол, поэтому, приняв решение, она вернулась и объявила Генульфу, что согласна на свадьбы, но через год. Этот срок, пояснила Рофана, необходим для того, чтобы юноши смогли построить гнездовины для своих будущих жен и хорошенько в них обустроиться. Да и девушкам не мешало бы немного повзрослеть и проверить свои чувства. А через год она с радостью примет невесток и поможет им освоиться в новых условиях.
Генульф был несказанно счастлив тем, что жена перестала упрямиться, и кинулся к ней с объятиями, но она его остановила. «Я поступилась своими принципами не просто так. Ты должен пообещать, теперь уже мне, что, сразу после свадеб, отправишься на поиски детей Дормата, а этот год потратишь на подготовку и сборы». Генульфу ничего другого не оставалось, как пообещать, хотя, и не без некоторого смущения.
Бескрылые сочли условие Рофаны очень разумным, а когда узнали, что орелю предстоит долгое путешествие, снабдили его теплой одеждой и посоветовали впредь не отказываться от их угощения, а приучать себя потихоньку к земной пище.
Все складывалось прекрасно! Гнездовины строились и получались очень красивые и просторные. Рофана перекраивала и перешивала одежду бескрылых, делая ее более пригодной для ношения орелем, а Генульф, без устали тренировал крылья, укрепляя их для долгих перелетов. Супруги высушили множество плодов Кару и уложили их в мешки, которые тоже подарили бескрылые. Они были сшиты из шкур животных и очень удобны для долгого пути. В них переносить пищу оказалось гораздо легче, чем в каменных сосудах.
За заботами и хлопотами год пролетел совсем незаметно. Зато, когда бескрылые, в очередной раз, вернулись из своих походов, все уже было готово, и к свадьбам, и к последующей жизни молодых семей, и к отлету Генульфа. Несколько дней и ночей горели в Долине костры и слышались смех и веселые возгласы во здравие молодоженов. Ради такого события, вся семья орелей спустилась со своих гор. Дорхфину и Усхольфе позволили лететь самим, а младшую Ланорфу несли на руках старшие братья. Рофана впервые увидела бескрылых, хотя, со слов мужа имела о них весьма объемное представление. Ее многое удивляло в их земной жизни. Кое-что пугало, кое-что приводило в восторг, но, как ни старалась орелина, она так и не смогла понять, что во всем этом было такого, из-за чего Генульф готов был забыть самого себя.
Она искренне радовалась, видя счастливые лица сыновей, и не испытывала неприязни ни к бескрылым вообще, ни к юным невесткам. Ей было весело слушать их непонятную речь, диковатые песни и смотреть на возню их малышей. Но, все равно, Рофана еле дождалась окончания праздников, чтобы скорее лететь к себе в гнездовину. Там, в привычном уюте, она почувствовала такое умиротворение, что поразила всех домашних совершенно молодым, заливистым смехом, когда смотрела, как ее сыновья приносят в Гнездовище своих молодых жен. Девушки впервые оказались так высоко в горах, да ещё таким невероятным способом — на руках мужей, поэтому об их приближении было слышно уже издалека: все три исправно визжали от ужаса и восторга. Они прилетели растрепанные, совершенно счастливые и, кажется, ещё больше влюбленные.
Все в новом месте вызывало у них удивление, а гнездовины привели в полный восторг. Оказалось, что будущий дом в горах девушки представляли, как какую-то каменную пещеру, и не ожидали ничего подобного. До позднего вечера все семейство орелей водило новых сородичей по крошечному пятачку Гнездовища, и восторженные возгласы бескрылых девушек наполняли сердца хозяев горделивым удовольствием.
Но ночью в своей наполовину опустевшей гнездовине Рофана долго не могла уснуть. Она слушала, как в детской, подхихикивая, перешёптываются её дочери, улавливала из бывшей комнаты сыновей одинокое посапывание Дорхфина, чувствовала рядом равномерное дыхание мужа и думала о скорой разлуке. Невероятно, даже в страшном сне ей не могло привидеться, что думать об этом она будет с облегчением. Нет, конечно, мысли о скором путешествии Генульфа темной незримой тенью весь этот год омрачали даже самые радостные дни, но дальше откладывать исполнение долга было невозможно. «Чем скорее приступишь к неприятным обязанностям, — рассуждала Рофана, — тем скорее вернуться покой и беззаботность. Генульфу, конечно, придется нелегко — он не уверен в необходимости того, что должен совершить. Но проклятье было произнесено и слово было дано. И теперь никто, кроме него не может этого поправить».
Генульф, видимо, это тоже понимал, потому что не прошло и двух дней, как он объявил о своем отлёте. Рофана заботливо собрала мужа и долго не могла разжать рук, когда обнимала его на прощанье. Она и потом, после того, как орелин скрылся из вида, всё стояла и стояла на том месте, где он её оставил, словно боялась пошевелиться и обнаружить, что его рядом нет.
* * *
Рофана собралась ждать долго. Весь прошедший год она готовила себя к этому и решила, что, сколько бы времени ни прошло, но Генульфа она дождется, даже если для этого ей придется прожить ещё одну жизнь. О том, что он может не вернуться, орелина старалась не думать. Вернее, она рассуждала так: уж если Судьбе было угодно, чтобы именно Генульф искал детей Дормата, то она не допустит, чтобы он погиб. А, когда дети найдутся, ее муж отведет их на Сверкающую Вершину, и там уж пусть они сами разбираются и с Хеоморном, и с Большим Советом. Ее же Генульф будет свободен и вернется к ней, в свое Гнездовище. И станут они жить, как жили.
Рофане очень нравилось так думать, но она и помыслить не могла, что Судьба над ними просто посмеется.
Генульф вернулся меньше чем через месяц.
Он спустился со скал пешком, совершенно ободранный и страшно израненный. Ноги его едва слушались, крылья безжизненно повисли, и одно из них было безнадежно сломано. Ни кожаных мешков с едой, ни теплой одежды… Руки стали красными от крови, сочащейся из многочисленных глубоких порезов, и было совершенно непонятно, как он вообще смог вернуться. Видимо, одно лишь страстное желание добраться до дома вело его и поддерживало силы, потому что, едва увидев своих, Генульф свалился без чувств. И только еле слышимое дыхание подсказало Рофане, что он ещё жив.
Несколько дней и ночей несчастная орелина билась над мужем, вспоминая все, что знала из искусства ольтов. Дети и невестки помогали ей, кто, чем мог, но, видимо, знаний Рофаны оказалось недостаточно. Генульф в себя не приходил.
Тогда одна из девушек предложила обратиться за помощью к ее отцу, который умел врачевать. Бескрылые ещё не ушли из Долины, и Рофана, всю ночь и половину следующего дня, плела крепкие толстые веревки, чтобы на них можно было поднять в Гнездовище взрослого мужчину. Ещё полдня ушло на перелет с сыновьями в Долину и переговоры с бескрылыми, и только поздно вечером, испуганного высотой лекаря удалось доставить к больному. Рофана, с отчаяния, даже согласилась принести в Гнездовище огонь, и сама несла факел, далеко отставив его на вытянутых руках и освещая дорогу сыновьям, тащившим бескрылого.
При свете этого факела лекарь осмотрел Генульфа и остался очень недоволен его состоянием. Он попросил разрешения понаблюдать за орелем какое-то время и перенести сюда его младшего сына, который, несмотря на юный возраст, уже необычайно искусен в лекарском деле. Рофана на все согласилась, и уже с утра Хорик с Фостином полетели к бескрылым.
Прибывший с ними молодой человек действительно оказался настоящим лекарем. Он не так пессимистично, как его отец, отнёсся к состоянию Генульфа. И даже пообещал, что срастит крыло, вот только летать, по его словам, орелин уже не сможет.
Рофана всё это время старалась скрывать от бескрылых своё отчаяние и слёзы и держала себя с печальным достоинством. Но тут выдержка её оставила. От смешанного чувства облегчения и горечи слёзы, так долго сдерживаемые, вырвались, наконец, наружу и она зарыдала, более не таясь.
Выздоровление Генульфа шло очень долго. Юноша-лекарь отпустил отца, неуютно чувствовавшего себя в горах, а сам остался. Он не ушёл с бескрылыми, когда они, по обыкновению, покинули Долину, и не ушёл тогда, когда Генульфу стало настолько лучше, что он смог, наконец, рассказать, что же с ним всё-таки произошло.
Оказалось, что, простившись с семьёй, орелин взял курс на восток, где, по мнению бескрылых, должны были обитать роа-радорги. Они да ещё уиски очень подходили под ориентиры, данные амиссией. С них Генульф и решил начать свои поиски. А чтобы не затягивать путешествие, задумал срезать путь и перелететь через высокие горные хребты, как когда-то, когда он был Иглоном Северного города и орелем, летающим над облаками. Почему-то Генульфу вдруг страстно захотелось вновь испытать то волшебное чувство, которое охватывало его всякий раз, когда он распахивал крылья в свободном, счастливом парении и летел, одним только лёгким движением плеч, задавая себе нужное направление. Былое величие подняло в нём голову, и орелин устремился ввысь.
Однако, живя в спокойном Низовье, Генульф забыл о том, с какими мощными воздушными потоками, ему приходилось иметь дело на высоте. Он переоценил свои силы. Неудобная одежда бескрылых, хоть и перешитая Рофаной, всё-таки мешала, сковывала движения. Тяжёлые мешки с едой, казавшиеся такими удобными при перелётах в Долину и обратно, заметно отягощали руки. И очень скоро Генульф понял, что его крылья едва справляются с этими нагрузками и неудобствами. Он совсем уже решил спускаться ниже, но тут, на беду, началась буря.
По меркам Низовья, она и сильной-то особенно не была, но здесь наверху её мощи оказалось достаточно, чтобы ослабевшего орелина швыряло из стороны в сторону, как оторванный лист. Генульф занервничал, попытался спуститься, но сделал это неловко, слишком раскинув крылья, и был отброшен на скалы. Поначалу он ударился несильно, боком, так что серьёзных увечий не получил и даже не растерялся. Он быстро подсобрал крылья, намереваясь просто падать до тех пор, пока не поймает нужный момент для выхода из этого падения. Но новый более сильный и стремительный порыв ветра, откуда-то снизу, закрутил Генульфа и опять швырнул его на скалы, только теперь уже спиной. Орелин даже не сразу понял, что произошло. От вспыхнувшей, как молния, боли он на мгновение перестал дышать, слышать и вообще, что-либо чувствовать. Сознание только успело отметить, что он камнем летит вниз, и тут же угасло.
Очнулся Генульф у подножия скалы, о которую его ударило, на небольшой площадке, кое-где поросшей мхом. Вокруг валялись огромные валуны и, как он не разбился о них при падении, оставалось чудесной загадкой. Сломанное крыло постепенно наливалось нестерпимой болью, и очень скоро незадачливому путешественнику стало казаться, что его невероятное спасение было не таким уж благом… Дальнейший путь, бесспорно, заказан, значит, нужно искать возможность вернуться домой. Но для этого требовалось осмотреться и, как минимум встать. А этого орелин больше всего боялся. Что, если кроме крыла, сломанной окажется ещё нога или рука? Тогда — всё! Конец! Отсюда ему не уйти, и останется только разбить себе голову об один из этих валунов, если, конечно, раньше он не потеряет сознание.
Полуослепшими от боли глазами орелин рассмотрел недалеко от себя довольно удобный спуск и всё-таки попытался подняться. То, что его тело, если не считать обширного синяка на боку и мелких ссадин на спине, нигде более не покалечилось, вызвало тусклое удивление, но не больше. Начинался мучительный, бесславный путь обратно…
Генульф совершенно не помнил, сколько дней он то шёл, то полз, теряя сознание и без конца рискуя сорваться в какую-нибудь пропасть. Мешки с едой, конечно же, пришлось бросить, как и неудобную одежду бескрылых. Она хоть и грела, но от ползания по скалам превратилась в совершеннейшие лохмотья, которые цеплялись за каждый выступ и очень мешали. Удивительно, но сплетённая им плотная кольчуга из листьев, оказалась гораздо прочнее, и Генульф часто плакал по ночам, вспоминая, как они с Рофаной высушивали эти листья и раздёргивали их на волокна.
Он вообще много вспоминал. И особенно другой свой путь. Тогда он тоже шёл израненный и несчастный, но тогда рядом была Рофана… Рофана… Опять Рофана… Она не выходила у Генульфа из головы. Он обманул её надежды и не сдержал слова!.. Может не стоит теперь так цепляться за жизнь? Не нужно судорожно махать здоровым крылом, удерживая равновесие в опасных местах, а просто сложить его, разжать пальцы и упасть в блаженное небытиё. Тогда разом прекратятся боль, мучительный стыд, голод, усталость и ещё одно непонятное свербящее чувство, которому Генульф никак не мог найти объяснение. От этого всего так легко избавиться! Но не от Рофаны. Он не мог не вернуться, не мог малодушно предать ту, которая перекроила под него всю свою жизнь, и поэтому и шёл, и полз, и даже привык к боли, чтобы не отвлекала…
Рофана слушала рассказ Генульфа, как осуждённый слушает приговор. Вид постаревшего израненного мужа яснее ясного говорил ей о том, что он уже ничего не может поправить. Остаётся только покорно ждать, когда эхо проклятья пронесётся над их головами, а несдержанное слово нанесёт свой удар. Судьба явно наказывала Генульфа, но за что? За малодушие, проявленное на Сверкающей вершине? За отказ от самого себя? Орелина устала ломать над этим голову. Всё рано поделать ничего уже нельзя, а жизнь на месте не стоит. Её муж, похоже, выздоравливает, у невесток скоро появятся дети, да и молодой лекарь что-то подзадержался в Гнездовище. Сначала Рофана думала, что он просто не долечил Генульфа и ждёт, когда тому станет хуже, чтобы быть рядом и оказать помощь. Но очень скоро заметила, какие понятные и о многом говорящие взгляды кидает на бескрылого юношу её Усхольфа, и всё поняла. Мужу она решила до поры ничего не говорить, но он и сам догадался. И, когда силы к нему окончательно вернулись, молча взялся за строительство новой гнездовины. Так у орелей образовалась ещё одна семья.
А потом стали появляться дети. У бескрылых невесток они рождались по-земному, что безумно напугало Рофану, а у Усхольфы — обычным орелинским способом. Но крылья у всех были одинаково непригодны для полетов. Рофана, первое время, надеялась, что они ещё вырастут. А когда поняла, что даже выросшие, они не поднимут своих обладателей выше деревьев Кару, страшно огорчилась. Хотя, во всем остальном, малыши были очаровательными! Бабушке доставляло огромное удовольствие носиться за ними по всему Гнездовищу, вытаскивать из самых неожиданных мест и ласково учить уму-разуму.
Скоро женился на бескрылой девушке Дорхфин. Он с братьями, наконец-то стал летать в Долину, когда новые сородичи возвращались из своих странствий. Иногда к ним присоединялись и Усхольфа с Ланорфой. И, хотя последняя ещё не нашла себе любимого, Генульф, после свадьбы Дорхфина, решил построить гнездовину и для нее.
Он заметно постарел внешне и, как-то потускнел душой. Первые внуки очень обрадовали орелина, но потом он опять впал в странную задумчивость и стал надолго уходить один, как когда-то, после встречи с амиссией. Рофана не мешала ему, понимая, что в уединении ее муж ищет покой.
Они не вспоминали больше про детей Дормата. К чему? Однажды, правда, Генульф как-то уж очень пристально и долго наблюдал через окно за работающим Фостином, и Рофана догадалась, о чем он думает. Но это было всего один раз. Потом старый орелин возобновил свои одинокие прогулки, которые явно шли ему на пользу. А сама она, за строительством гнездовин, свадьбами и рождениями действительно стала обо всем забывать. Но, видимо таково назначение необдуманных проклятий и невыполненных клятв: они напоминают о себе именно в тот момент, когда о них счастливо забывают.
Однажды Генульф вернулся с прогулки, как никогда, возбужденный. Рофану он попросил пока ни о чем не спрашивать — сам расскажет, когда время придет. Но потом не удержался и доверительно шепнул, что нашёл способ поправить то, что ему не удалось исполнить. Больше он ничего не говорил, но достал все свои инструменты, придирчиво их осмотрел и, отобрав нужные, снова ушёл. Рофана сначала встревожилась. Но, видя, как день за днем, ее муж возвращается все более радостный и все более увлеченный своей идеей, решила: что бы он ни задумал, а это вернуло его к жизни, и, значит, мешать она не станет. Пусть занимается. По крайней мере, с его лица исчезли опасная задумчивость и хандра.
Генульф действительно воспрял духом. Он уходил засветло, а возвращался в сумерки, весь засыпанный какой-то белой пылью. Шёл прямиком к каменной чаше, которую выдолбил давным-давно для дождевой воды, мылся, слушал в гнездовине рассказы Рофаны о том, что произошло за день, и шёл спать. А утром все повторялось сначала.
Дети, первое время, пытались дознаться, чем так увлечен их отец и, даже хотели за ним проследить. Но следить Рофана строго-настрого запретила. А поскольку на их расспросы никто ничего вразумительного не отвечал, они скоро оставили бесплодные попытки что-либо разузнать и занялись своими собственными делами. Их, кстати, в Гнездовище заметно прибавилось. Ещё на свадьбе Дорхфина старейшина бескрылых подарил Рофане мешочек каких-то зернышек, сказав, что «это прорастет даже на камнях». И, помня, как орелина боится всего нового и чужого, добавил, что ее невестки знают, как с этим управляться и помогут. Рофана поблагодарила, но, подумав, как тяжело им с мужем было привыкать к плодам Кару, решила у себя ничего не сажать и отдала все зернышки невесткам и зятю. И теперь молодые семьи были страшно увлечены посадками. За каждой гнездовиной расчистили по небольшому участку, обнесли их каменными ограждениями от ветра и повтыкали зернышки прямо под траву Лорух. Довольно скоро в местах посадок что-то проросло ко всеобщему ликованию, и невестки пообещали изумленной Рофане невиданные яства из плодов того, что должно было здесь вызреть. А пока они коротали вечера вместе с ней, учась плести детскую одежду. Им скоро снова предстояло стать матерями.
Конечно, Рофана не могла не радоваться тому, что происходило в Гнездовище. Она уже успела полюбить бескрылых, хотя и не так самозабвенно, как ее муж. Но, когда несколько молодых людей из Долины, привлеченные рассказами ее детей, пожелали обосноваться в Гнездовище, Рофане это явно пришлось по сердцу.
Одно только обстоятельство удручало ее все больше и больше: Генульф постепенно становился здесь совсем чужим. Тайна, которой он так увлеченно занимался, совершенно отдалила его от детей, а их от него. Дни проходили за днями, месяцы складывались в годы, и все полностью утратили интерес к тому, что делал Генульф. В один прекрасный день Рофане, с горечью подумалось, что не вернись он однажды вечером в Гнездовище, никто этого, пожалуй, и не заметит. Да и он, когда приходил, уже не слушал, с прежним интересом, о том, что происходило дома. Его совершенно не взволновал рассказ о свадьбе Ланорфы, которая прошла без него, ничуть не удивили проросшие зерна и подселившиеся к ним молодые люди. Генульф ни на что не реагировал. Он только смотрел светящимся от внутреннего удовлетворения взором, куда-то сквозь Рофану, и уходил спать. Однажды она решила ничего ему не рассказывать, но он этого даже не заметил. Вся жизнь Генульфа заключалась теперь в таинственной работе, которую он делал, и которая никому уже не была нужна. В жизни Гнездовища, если не считать состояния Генульфа, ничего страшного не происходило. Может, все же, Судьба решила оставить их в покое?
Рофана тоже старела. Работа мужа и ее давно перестала интересовать, поэтому орелина не сразу разобралась в своих чувствах, когда все переменилось. Как-то раз, поставив перед мужем еду и сев с ним рядом, скорее, по бессмысленной привычке, чем по велению души, Рофана страшно испугалась, услышав его голос. «Завтра вместе пойдем, — прохрипел отвыкший от речи Генульф, — пора тебе все узнать». Больше он ничего не добавил и ушёл спать. А утром, поманив жену одним только жестом, отправился привычной дорогой.
Рофана брела следом, не понимая, зачем она это делает. Генульф ни одного взгляда не кинул на новые гнездовины, которые образовали уже целую улицу. И ей вдруг стало безумно обидно за себя, за детей и за всю их жизнь. Словно чужой человек прошёл… Да нет, даже чужой не смог бы пройти мимо, не залюбовавшись чудесной работой ее мальчиков! Рофане ужасно захотелось вернуться и пусть все остается, как есть! Даже если и без Генульфа. Он привык к своей тайной жизни и ото всех здесь отгородился. Даже от нее, переставшей его любить, кажется вот только в эту минуту.
Она остановилась. Но потом снова пошла, ругая себя и не понимая, что за сила тащит ее вслед за мужем.
Генульф, между тем, удалялся все дальше. Они уже прошли плантацию деревьев Кару, куда никогда не ходили пешком — проще было долететь — и остановились только тогда, когда дошли до единственного препятствия на всем их ровном, пологом хребте. Видимо когда-то, здесь произошёл подземный толчок, и образовалось что-то вроде гигантской складки. Дальше все поросло деревьями так, что получились непроходимые заросли. Сама же складка представляла собой голый, поросший только мхом, довольно высокий бугор, который протянулся поперек всего хребта и начинался, (или заканчивался), в том месте, к которому они подошли.
Генульф с Рофаной взобрались наверх, и там орелина, с удивлением обнаружила цепочку круглых отверстий, явно не природного происхождения. Сначала она подумала, что именно этим занимался все последние годы ее муж, но он прошёл дальше и, спустившись с другой стороны, поманил ее за собой, таинственно улыбаясь. Там, в самом боку бугра, между двух огромных камней, виден был узкий, едва различимый, проход. Рофана, следуя за мужем, боязливо протиснулась в него и ахнула!
Они стояли в огромной и, что самое удивительное, светлой пещере. Свет лился из круглых отверстий наверху и падал точно на стены, испещренные письменами.
— Вот, — широким жестом обвел пещеру Генульф, — этим я все поправлю.
— Что это? — спросила Рофана. — Я ничего не понимаю.
— Это моя Галерея Памяти! — Гордо ответил ей муж. — Я нашёл эту пещеру во время своих прогулок. Мы приведем сюда сыновей и покажем им это место с тем, чтобы, после моей смерти, они пришли и все это прочитали. Здесь описано то, что происходило с нами на Сверкающей Вершине, и потом… Проклятие, направления, которые дала амиссия, (по ним они найдут детей Дормата, вместо меня),… таинственные облака… Я ничего не забыл.., все, все припомнил… У Хеоморна тогда ещё глаз дергался,… а Гольтфор пряжку криво пристегнул.., волновался.
Генульф оглаживал руками стену, выдувая из выбитых им знаков осевшую кое-где каменную пыль.
— Но зачем? — Все ещё не понимала Рофана. — Они даже не умеют читать! К чему нужны были эти долгие годы изнурительного труда, если ты мог все это им просто рассказать, потратив, всего лишь, пару вечеров?
— Ты не поняла, не поняла, — возбужденно зашептал Генульф, — если я им сам все расскажу, они, пожалуй, решат, что это не их дело! Но, когда я умру, все это станет для моих сыновей завещанием. Своего рода руководством к действию! И они уже не откажутся! Не посмеют отказаться и выполнят то, что не сумел сделать я! И тогда проклятие исполнится, а мы все спасемся!.. А читать я их научу, — Генульф захихикал и погрозил Рофане пальцем, — мне не завтра умирать, ещё успею. Там, у входа, уже заготовлены таблички, где я выбил все символы, значки и рисунки. Это им поможет. Так что, видишь, я не такой уж и дурак.
И Генульф снова засмеялся, довольно потирая руки. Некоторое время он жадно шарил по стене глазами, словно выискивая изъяны, а потом снова повернулся к Рофане:
— Ну, что ты молчишь? У тебя нет слов?
Рофана действительно не знала, что сказать. Она уже поняла, что ее муж безумен, но никак не могла найти предлог, чтобы увести его домой. Может быть, это ещё можно было вылечить.
Собираясь с мыслями, она медленно пошла вдоль стены, рассеянно глядя на письмена. «Хеоморн, … Санихтар, … Гольтфор…», — читала Рофана знакомые имена. Какими далекими и чужими они теперь казались. Словно полузабытая легенда из тех, которые слышала в детстве. Грустно. Она прожила целую жизнь, стараясь не вспоминать… Но Генульф, похоже, пока все это писал, окунулся с головой в опасные воды памяти и теперь никак не может выбраться на берег. Туда, где действительность, где идет ее жизнь и жизнь их детей, где растет, построенное им Гнездовище…
— Пойдем домой, — сказала Рофана со вздохом, — ты много потрудился и нуждаешься в отдыхе.
— И это все, что ты можешь сейчас сказать?!
Генульф, кажется, ожидал услышать что угодно, но только не то, что услышал. Он наклонился к самому лицу жены, словно желая его получше рассмотреть, и, видимо, что-то во взгляде выдало ее мысли, потому что он сразу отпрянул и как-то вдруг сорвался на крик:
— И это ВСЕ, что ты можешь сказать!!! Ты, которая извела меня упреками! Ты, из-за которой я покалечился и чуть не погиб! За все годы изнурительного труда, когда я в кровь стирал руки, ты говоришь мне только: «иди, отдохни»! Не-ет! Я никуда не пойду! Сама уходи и пришли ко мне сыновей. Уж лучше я поговорю с ними!.. Я думал ты поймешь,… поддержишь… «Иди, отдохни»!.. Столько лет!.. По-твоему, все напрасно?… Никуда я отсюда не пойду! Слышишь? Сама убирайся!
И Генульф резко отвернулся, закрывая лицо руками.
— Чего же ты хочешь? — спросила Рофана.
— Не видеть тебя больше, — прошипел он. — Но, прежде чем ты усядешься в своей гнездовине, повторяю, пришли ко мне сыновей!
— Но, Генульф, — взмолилась орелина, — они уже давно живут своей жизнью, о которой ты совсем ничего не знаешь! Это не прежние маленькие мальчики, а взрослые орели, со своими семьями и заботами…
— Убирайся! — заорал Генульф. — Или я сам тебя прокляну! Только, боюсь, тебе уже не хватит жизни, чтобы снять МОЁ проклятие!
И он безумно захохотал.
* * *
Рофана не помнила, как долетела до Гнездовища. Она не понимала, день сейчас или ночь, а только слышала смех и крики обезумевшего мужа.
В отчаянии орелина собрала сыновей и рассказала им про то, что стало с их отцом. Но, как оказалось, это известие никого не потрясло. Они, да и все, кто жил в Гнездовище, давно уже обо всем догадались, однако, жалея Рофану, ничего ей не говорили. Плохо, конечно, что она узнала про безумие мужа так нелепо и грубо, но, рано или поздно, правда все равно бы ей открылась. Единственное, о чем сыновья попросили, это рассказать им, наконец, на что Генульф потратил все эти годы.
Рофана была совершенно сломлена. На один короткий миг ей вдруг страстно захотелось поведать всю историю с самого начала. Но она быстро взяла себя в руки. Зачем мальчикам поросшие мхом легенды? К чему им знать о том, как покорно принял на себя их отец чужую вину, о его бесславном изгнании и несдержанной клятве? Кто знает, как они ко всему этому отнесутся? И Рофана ограничилась только тем, что Генульф писал историю Гнездовища, и передала его требование видеть их немедленно у себя. Уж если и суждено детям что-либо узнать, пусть узнают это прямо от него
Однако орели не спешили.
Требование отца их несколько смутило. С одной стороны, они не могли проявить неуважение и не откликнуться на его, пусть даже безумный, зов. Но, с другой… Жена Дорхфина вот-вот должна была родить, и он боялся оставлять ее одну в такое время. Хорик, и без того, затянул строительство новой гнездовины для своего разросшегося семейства. Он не мог терять ни минуты — впереди сбор урожая. А Форехт был занят тем, что выдалбливал для всего Гнездовища новую чашу под дождевую воду. Прежней, маленькой, на всех уже не хватало. Им было очень неловко перед Рофаной, и, хотя по ее лицу ясно читалось, что ей не нужно ничего объяснять, все же, все же…
— Я пойду, — решил за всех Фостин.
У него единственного не было детей. Почему так получилось, в Гнездовище деликатно предпочитали не обсуждать. Его жена, и так безмерно страдала от своего бесплодия, утешаясь заботой о племянниках. Поэтому Фостин, всего лишь помогавший Хорику в его строительстве, мог себе позволить отлучиться.
— Я попробую вернуть отца домой, — сказал он и добавил, словно прочитал недавние мысли Рофаны: — может быть, его ещё можно вылечить.
Он недолго искал место, описанное матерью. Но, по какой-то непонятной причине, решил приземлиться не у входа в пещеру, а с той стороны бугра, которая была ближе к Гнездовищу. Возможно, Фостин подумал, что отец ждет их у входа, снаружи, и не хотел раздражать его, с самого начала, видом своих здоровых, сильных крыльев. Он рассудил, что правильнее будет подойти к пещере пешком, и стал перебираться через бугор.
Круглые отверстия его чрезвычайно, почему-то, заинтересовали. Фостин подошёл поближе, желая рассмотреть их и понять, каким образом отцу удалось их проделать, как вдруг услышал голоса, идущие снизу.
В первый момент орелин даже отпрянул от неожиданности. Отец был не один! Но с кем? Второй голос явно принадлежал женщине. Может, это Рофана, которая передумала и каким-то чудом обогнала сына? Но, когда голос зазвучал снова, Фостин понял, что говорила не его мать. Похоже, что женщина, навестившая отца, была та, укутанная по самые глаза, незнакомка, напугавшая их когда-то на прогулке. Но, что ей здесь было нужно?
Немного поколебавшись, он решил послушать.
— Ты не сдержал данного тобой слова, — бесстрастно произнес женский голос, — и был наказан.
— А-а-а, так это по вашей милости я чуть не погиб!
— По нашей МИЛОСТИ ты был спасен.
— Ах, вот даже как! Потрепали, покалечили, а потом заботливо не дали умереть. Спасибо!
Генульф захохотал, да так, что Фостину стало не по себе. Кто бы ни был там, внизу — это был уже не его отец. Того и представить себе было невозможно издающим такие звуки.
— Значит, все увечья, и прочие мучения я получил за то, что не выполнил данного мною слова? А, что же, по-вашему, я там делал? На прогулку летал?
— Ты летал выполнять обещание, данное жене. И неважно, что оно было о том же самом, что и данное нам. Важно то, что первую клятву ты выполнять не собирался. И, если бы не твоя жена…
— Отомстили, значит, — желчно перебил Генульф. — Что же просто не убили? Или нужно было, чтобы я осознал,… помучился?…
— Мы никогда не мстим и никого не убиваем. Это был ТВОЙ выбор и ТВОЯ Судьба. Мы только подчинились ей.
— Ах, да! — судя по звуку, Генульф хлопнул себя ладонью по лбу, — как же это я забыл, вы же всегда «только подчиняетесь». Помню, помню. В последний раз, когда вы «только подчинились», меня лишили всей моей жизни и наградили проклятием, за которое я до сих пор отдуваюсь! А ведь я тогда был виновен не более, чем новорожденный младенец. Но, — он перешёл на притворно-смиренный тон, — видно такова моя Судьба, и мне нужно тоже «только подчиниться».
— Так не вправе на нас сердиться, — в голосе женщины впервые промелькнуло что-то похожее на сочувствие. — Все, что мы сделали, мы сделали ради блага орелей. Разве сам ты хотел не того же? Нет, нет, не перебивай меня, — быстро прибавила она, видимо пресекая какое-то замечание Генульфа. — правящий род Тех, Кто Летает должен был смениться. Великий Иглон — ваш отец — допустил ряд существенных промахов, воспитывая наследников, и мы это почувствовали. Это, как дуновение ветерка или запах; невидимое, тонкое послание Судьбы из таких сфер, которые вам не доступны. Любое действие вызывает определенное колебание в этих сферах. Мы его улавливаем и определяем, каковы будут последствия и во что это деяние выльется Изъяны в воспитании будущих правителей такого народа, как ваш — дело нешуточное! Поэтому, когда прилетел тот, который ЗНАЛ, мы не удивились. Мы ждали чего-то подобного и, чтобы не случилось более страшных бед, сделали то, что было необходимо: убрали Великого Иглона. И поверь, он не разбился о скалы. Его смерть наступила много позже, и не от голода, как подумали те, кто его нашёл, а от тоски и простого нежелания жить. Бывший Великий Иглон не развил в себе, в должной мере, чувства ответственности, и это был его выбор и его Судьба. Ты ведь тоже не стал защищать себя, хотя и знал, что обвинен незаслуженно…
— Но, дети? — голос Генульфа зазвучал вдруг жалобно и, как-то моляще. — Их-то за что?
— Они тоже не должны были править. Стоило ли затевать историю с Великим Иглоном, если не доводить ее до логического конца? Кто бы их воспитал? Отец? Но он не сделал бы этого, как должно, даже если бы остался жить и править. Чужие орели? Иглоны, которые, по сути, всего лишь наместники? Или те, кто понятия не имеет о том, что есть Власть? Нет! Эта ветвь иссохла и должна была отпасть.
— И, что же там сейчас? — задрожавшим голосом спросил Генульф, и Фостин, даже не видя его, почувствовал, как важно отцу услышать ответ. — Стоило ли,… ну, все это.., оно того стоило?
— Да, — ответила женщина, — там все в порядке. Пока.
— Тогда, зачем искать детей Дормата? Что с ними делать, если ТАМ все хорошо? Ведь я должен был привести их на Сверкающую Вершину. Зачем? Какой во всем этом смысл?
— А проклятие! Оно было послано. И послано, как теперь выясняется, невиновному. От одной этой, на первый взгляд, простой несдержанности, все высшие сферы пришли в такое движение, что их теперь ничем другим не остановить, кроме как исполнить это проклятие. Судьба не прощает подобного бездумья. Не будь этого — никого не нужно было бы искать, и все оставалось бы так, как есть. Я говорила тебе об этом в нашу прошлую встречу, но ты не внял моему предостережению и сделал свой выбор. Теперь я здесь для того, чтобы сказать о последствиях несдержанной клятвы.
Фостину показалось, что воздух вокруг него, словно бы задрожал, и он, в испуге, прижался к земле, почти свесив голову в отверстие.
— Только тот, — торжественно звучал голос, — кто увидит цветущую траву Лорух и встретит Летающих, сможет найти детей Дормата и исполнить проклятие. Но несдержанное слово — преступление, не меньшее, чем необдуманное проклятие. Поэтому, как только исполнится одно, тут же вступит в силу другое: Гнездовище начнет гибнуть. Ты породил его своей нерешительностью, ты же его этим и погубишь. И все эти записи станут, как ты и хотел, и отправной точкой, и руководством к действию.
Женщина умолкла, но, почти тут же, раздался безумный смех Генульфа:
— Цветущая трава Лорух! Ха-ха-ха! Ну-у, тогда нам ничего не грозит. Трава Лорух не цветет!
— ОН это увидит, — твердо сказала женщина, и смех оборвался.
В наступившей тишине Фостину почудилось, что напряжение, висевшее в воздухе, ослабевает. Словно все безумие Генульфа вдруг иссякло, растворилось или медленно, как пыль, осело.
Орелин довольно долго прислушивался, но внизу ничего не происходило. Казалось, что женщины там уже нет, и он даже стал потихоньку отползать от отверстия, чтобы спуститься к отцу, как вдруг, голос Генульфа зазвучал вновь:
— Ты ещё не ушла. Почему?
Зашуршали одежды. Видимо, женщина, до этого сидела, но теперь встала.
— Осталось ещё одно. Последнее… По нашей вине ты был покалечен. Амиссии не могут себе такого позволить, даже выполняя веление Судьбы. Поэтому, я должна исполнить одно твое желание. Проси, что хочешь, но учти: я не вправе ни изменить предсказание, ни сделать так, будто его не было.
Генульф задумался. Фостину было слышно его тяжелое дыхание, и, почему-то подумалось, что отец плачет. Похоже, сознание вернулось к нему, чтобы помочь в последнем, важном решении.
— Я хочу, чтобы вы уничтожили эту пещеру, — сказал он подавленно. — Грозой, молниями, как угодно. Вам это по силам, я знаю. Но этой части хребта здесь больше быть не должно.
— Этим ты Судьбу не обманешь, — откликнулся холодный голос.
— А, вдруг!..
Фостин даже вздрогнул: так знакомо, совсем, как прежде, прозвучал насмешливый голос отца.
— Хорошо, — сказала амиссия. — Мы сделаем, как ты просишь. Собирайся и уходи. Завтра этой пещеры уже не будет.
В воздухе тоненько зазвенело, и откуда-то сбоку, видимо из входа в пещеру, вылетело небольшое плотное облако. Фостин проводил его изумленным взглядом, пока оно не скрылось из вида, и встал на ноги. Нужно было идти к отцу… Или не нужно? Услышанное испугало ореля. Он не все понял, но одно было яснее ясного: на отце лежит проклятие, он что-то вовремя не сделал, не сдержал какого-то слова, и теперь кто-то другой, которого избрала Судьба, исполнит проклятие и погубит Гнездовище. А если ничего не исполнять? Что тогда?

Он не успел, как следует поразмышлять, потому что в пещере, в этот момент, раздался страшный грохот. Решив, что с отцом что-то случилось, Фостин, со всех ног, помчался ему на помощь.
Вот — два валуна. Вот — проход,… но, что это?! Он наполовину завален! В оставшейся незакрытой части метался Генульф, поднимая камни и забивая ими вход в пещеру.
— Отец! — закричал Фостин. — Что ты делаешь! Опомнись!
— Ты!
Генульф остановился. В его глазах мелькнуло, на миг, радостное изумление.
— Вы пришли!
— Нет, я один.
Глаза отца потухли
— Один…
Тяжело, по-стариковски, он навалился на каменную кладку и, белыми от пыли руками, обхватил себя за голову. Лицо его вдруг жалобно сморщилось, и Генульф зарыдал.
— Никчемная жизнь! — всхлипывал он. — Никчемная!.. Никто не захотел… Рофана.., и ее обидел… Только ты… ты…
Он поднял на Фостина заплаканное лицо, минуту смотрел на него и, неожиданно закричал, со всей силой своей обиды:
— А знаешь ли, кто ты?! Ты — сын Дормата! Один из тех, семерых, которых я так и не искал! Нам с Рофаной тебя подбросила вот эта самая.., — он потряс рукой туда, куда улетело облако, — ещё в яйце, на том самом месте, где стоит первая гнездовина! И, если бы я тогда.., сразу… А теперь — все! Мне никто не нужен! Уходи! Ты, видно, подслушивал, и знаешь, что тебе делать!.. Трава Лорух не цветет! Этого никто не увидит!.. И те.., оттуда.., они никогда не спустятся в Низовье!.. А ты уходи! Иди куда хочешь, и не мешай мне, хоть раз в жизни, поступить правильно! Генульф снова, с удвоенной силой принялся закладывать вход, выкрикивая что-то бессвязное, но, когда осталось лишь небольшое отверстие, вдруг затих.
— Фостин, — позвал он смиренно, — прости меня. Я кругом виноват. Но Рофана не заслужила такой участи. Не говори ей ничего. Она легче перенесет мою смерть после обид, которые я ей нанес. А то, что ты здесь слышал — пусть не знает.
И старый орелин заложил последние камни.
* * *
Уже смеркалось, когда Фостин, позабыв про крылья, пешком вернулся в Гнездовище. На окраине Хорик достраивал свою гнездовину и поинтересовался, как там отец. Но Фостин лишь дико глянул на него и прошел мимо, ничего не ответив. Рофане, в тревоге ожидавшей его прихода, он сказал только, что Генульф в Гнездовище больше не вернется, и, как она ни билась, как ни выспрашивала, об остальном упорно молчал.
А ночью разразилась гроза. Страшнее никто из живущих на свете, наверное, не видел. Молнии с треском разрывали небо и обрушивались на хребет с такой силой и постоянством, как будто, весь гнев неба был обращен против него. Ветер, завывая, гнул деревья Кару к самой земле и, с дробным стуком, гнал по наклонной улице Гнездовища, сквозь водопады дождя, мелкие и средние камни. Все в мире замерло, следя за этим безумием и, наконец, свершилось! Оглушительный грохот потряс все селение, а когда перепуганные его обитатели выбежали наружу, они увидели, как в той стороне, где была Генульфова пещера, клубилось и медленно оседало под дождевыми потоками, громадное облако белой пыли.
Все, не сговариваясь, кинулись туда, даже не заметив, что гроза, как по волшебству, стала утихать. Те, кто летал, оказались на месте первыми и увидели нечто ужасное и невероятное. От того места, где была складка и ниже его, горного хребта больше не существовало. Словно гигантский нож перерубил его, раскрошив всю нижнюю часть. Безобразное месиво из огромных камней и переломанных деревьев простиралось далеко вниз, клином врезаясь в Долину. А на самом краю обвала, удерживаясь на нем каким-то чудом, лежал без чувств совершенно промокший Фостин.
Увидев сына и осознав, что случилось с ее мужем, Рофана упала в обморок. Поэтому, когда прибежали, наконец, остальные им, пришлось довольствоваться одним коротким взглядом на последствия катастрофы, и отправляться обратно, унося два безжизненных тела. Многие плакали, больше, правда, от испуга, но, в основном, все уходили подавленные. Было очевидно, что Генульф погиб в своей пещере и именно в тот день, когда рассорился с женой. Об этом почти все уже знали, (в маленьком Гнездовище трудно что-либо утаить), и печально качали головами, удивляясь, как это все так совпало.
У обрыва, правда, кое-кто остался. Это были дети Генульфа и бледная, испуганная жена Хорика. Она искала мужа, который вчера, едва закончив работу, собрался, сказал, что хочет сам поговорить с отцом, и ушел. До грозы он не вернулся, и сейчас его нигде не было.
Форехт с Дорхфином лишь печально переглянулись. Страшная буря обрушивала на них одну беду за другой. Отец, Хорик, Фостин… Впрочем, последний еще, может быть, жив. Видимо он оказался здесь, желая спасти отца… Братья стояли понурившись. Им не нужно было много слов, чтобы понять: каждый корит себя, что не пошел к отцу вместе с Фостином. И, пока заплаканные Усхольфа с Ланорфой уводили прочь жену Хорика, не желавшую верить, что ее муж погиб, Форехт и Дорхфин стояли над обрывом, то ли пытаясь понять, что же здесь произошло, то ли прося прощения.
Дни, последовавшие за ночной катастрофой, прошли в глубоком трауре.
Муж Усхольфы разрывался между Фостином и Рофаной, но, если первого удалось быстро поставить на ноги, то со второй ему пришлось повозиться. Рофана не хотела жить. Едва придя в себя, она начинала плакать, пока опять не впадала в спасительное забытье. Её удалось вернуть к жизни только сообщением, что Фостин не умер, но это было ненадолго. Как ни старались все в Гнездовище скрыть смерть Хорика, Рофана, все равно, узнала. И этого уже не пережила.
Однажды, она пожелала посидеть в одиночестве под звездами, и тихо угасла на скамье, сделанной её мужем, у входа в гнездовину, которую он сложил.
Фостин тяжелее других перенес смерть матери. Все уже знали, что на месте обвала он оказался потому, что спешил на помощь отцу, но опоздал. Молния ударила прямо перед ним, и больше Фостин ничего не помнил. Однако, уход Рофаны поверг его в состояние гораздо худшее, чем то, в котором он пребывал после гибели Генульфа. Он отказался стать старейшиной Гнездовища, уступив это право Форехту, замкнулся в себе и все чаще стал уходить к обвалу, где похоронили его мать.
Жена Фостина, первое время не тревожилась, понимая и разделяя скорбь мужа. Но, когда его отлучки стали каждодневными и растянулись от утра до позднего вечера, ей стало не по себе. Однажды она даже проследила за ним и, с удивлением, увидела, что Фостин не сидит, горюя на могиле матери, а слетает вниз и там, при помощи толстых сучьев разбирает завалы, как будто что-то ищет.
Довольно долго несчастная женщина стыдилась признаться кому-либо в своих подозрениях, но однажды не выдержала и пришла к Форехту. Она не знала, как ей быть, опасаясь, что Фостин заразился безумием своего отца, и просила совета у старейшины. Форехт сочувственно выслушал её, сказал, что Фостина сейчас, наверное, лучше не трогать и пообещал, обязательно поговорить с ним при случае. Однако, за заботами старейшины, такого случая все не представлялось. И, прошло еще довольно много времени, когда заплаканная женщина вновь прибежала к нему сообщить о том, что её муж, уже два дня, как не возвращается в Гнездовище. Тогда, позвав с собой Дорхфина, Форехт полетел на поиски.
Они долго кружили над обвалом, тщательно осматривая самые опасные места и, время от времени, выкрикивая имя брата. Нашли целую гору аккуратно сложенных, обломанных сучьев, но нигде ни следа Фостина. Не оказалось его и на плантации деревьев Кару, в стороне от основной дороги. И, только взлетев повыше, Форехт заметил распростертое тело брата высоко над Гнездовищем, на скалах, куда никто, кроме них, не сумел бы забраться.
И опять муж Усхольфы, призвав на помощь все лекарское мастерство, бился над своим пациентом день и ночь. У Фостина открылся жар, его сотрясала лихорадка и, все чаще впадая в беспамятство, он бредил каким-то предсказанием. Форехт, навещавший брата, был несколько встревожен этим бредом и, как-то, в минуты просветления, решился Фостина о нем расспросить. А тот, думая, что умирает, рассказал брату все, что слышал накануне гибели отца. Он слово в слово передал предсказание, и умолчал лишь о том, что сам является одним из тех детей, которых должен был найти Генульф.
Форехт был поражен. Конечно, в прошлом их родителей была какая-то тайна, но он полагал, что бесславно закончившийся полет отца положил всему конец. Теперь же выходило, что тень от загадочного прошлого ложится на них, на всех, и что есть или будет среди них некто, кто явится орудием Судьбы и погубит Гнездовище в наказание за несдержанную клятву отца.
На какое-то мгновение Форехт даже заподозрил Фостина в желании разыскать Летающих орелей и стать этим «некто». Иначе, как объяснить тот факт, что его нашли так высоко в скалах? Но Фостин печально посмотрел в лицо брата и сделал последнее признание. В обвале он искал и нашел несколько обломков из отцовой пещеры. На них много текста и рисунков и, хотя он не смог ничего понять, решил перенести их в горы, повыше, чтобы никто и никогда их больше не нашел. Видимо, за напряженной работой, он не заметил, как подхватил простуду, запустил её и, вот теперь, похоже, доживает последние дни.
Братья долго молчали. Один, обдумывая услышанное, а другой, размышляя над тем, правильно ли он поступил, скрыв от брата то, что увидел в горах. Возможно, конечно, что видение это было вызвано начавшимся жаром, но Фостин чувствовал, что это не так. Незнакомец, явившийся ему там, наверху, был, словно бы, его вторым я. Однажды Фостин увидел свое отражение в чаше с дождевой водой и готов был поклясться, что тот, с гор, его точная копия. Он просто стоял, смотрел на Фостина, и улыбался. А потом случился вдруг этот жар, озноб, и все исчезло. Странно, конечно, что нашли Фостина не там, где он прятал обломки, а гораздо ниже, но, перед лицом смерти об этих странностях думать не хотелось, как не хотелось говорить и о Незнакомце.
Сжав холодеющими пальцами руку Форехта, Фостин взял с него обещание никому ничего не говорить. И братья поклялись, что все это умрет вместе с ними.
Увы! Давая клятву, они и не подозревали, что бред Фостина подслушала и его жена, и что она уже успела пересказать то, что слышала вдове Хорика, с которой сдружилась в последнее время и жене самого Форехта. А услышала она немало. Почти все, кроме второй части предсказания, где говорилось о гибели Гнездовища. И, в то время, когда братья еще только разговаривали, подруги уже увлеченно обсуждали, кто такие дети Дормата, что могло быть в Генульфовых записях, и что за проклятие лежало на нем. Они прикидывали, и так, и этак каким образом может зацвести трава Лорух и откуда здесь взяться Летающим орелям, совершенно не замечая, что их, с большим интересом, слушает младший сын Хорика — Тевальд.
Впечатлительный мальчик долго потом не мог заснуть. Раньше он слышал много всяких историй от своей бескрылой матери, любившей повспоминать о кочевой юности. Но эти истории представлялись Тевальду всего лишь волшебными сказками про другой, незнакомый мир, тогда как здесь все дышало тайнами этого мира, со знакомыми именами и действующими лицами, которых он видел и знал. И эти тайны так будоражили, что захватывало дух! Проклятия, таинственные записи, которые должны были куда-то привести, Летающие орели и, никогда не цветущая трава, которая зацветет ради кого-то одного, избранного Судьбой!
Почему-то Тевальд решил, что он и есть тот самый избранный. Ему это показалось справедливым. Во-первых, его отец погиб в таинственной пещере, вместе с Генульфом. Во-вторых, из всех детей в их гнездовине, он один не спал в тот момент, когда пришла жена Фостина со своим невероятным рассказом, (то, что ему плохо засыпалось и в другие вечера, Тевальд в расчет не взял). И, в-третьих, ему этого ужасно хотелось!
Каждое утро мальчик убегал туда, где трава Лорух росла особенно густо, и высматривал в ней цветочки. А, резвясь с приятелями, мог оставить их посреди игры и уйти с таинственным заявлением, что ему нужно «кое-кого посмотреть». Заинтригованные дети решили, как-то раз проследить за Тевальдом, но были очень разочарованы. Их приятель, всего лишь, стоял на окраине Гнездовища и, задрав голову, осматривал скалы. Дети подняли мальчика на смех, и тогда, чтобы совсем не задразнили, он им все рассказал. Про то, что Судьбой ему предназначено найти каких-то детей Дормата, что сейчас он не знает, кто они такие, но, когда вырастет, то раскопает Генульфову пещеру и найдет записи своего деда. А в них все написано и даже есть карта, по которой этих детей можно найти. Только, для того, чтобы это все произошло, он должен сначала увидеть, как цветет трава Лорух, и встретиться с Летающими орелями
Сначала приятели внимали ему, разинув рты, но, услышав про траву Лорух, покатились со смеху. Они обзывали Тевальда дурачком, говоря, что трава Лорух не цветет, что летать могли только их родители, да еще дедушка с бабушкой, а больше никто, и издевательски спрашивали, каким образом он собирается прочесть Генульфовы записи, если совершенно не умеет читать. Тевальд огрызался и лез драться, но, с тех пор, от насмешек ему не стало житья.
Дети не давали мальчику прохода. И, каково же было удивление Фостина, который выжил, поражая этим самого себя, когда, прямо перед собственной гнездовиной, он увидел ватагу ребят, приплясывающих вокруг Тевальда и кричащих ему: «вон орели летят! Вон — трава цветет! Беги, скорей, раскапывай Генульфову пещеру, а то дети Дормата поумирают тебя не дождавшись!».
Вне себя от гнева, Фостин бросился к Форехту, но тот, прямо с порога, осыпал брата упреками в несдержанности и нарушении клятвы. Они долго препирались, не веря один другому, пока дело не разъяснила прибежавшая на их крики жена Форехта.
— Судьба, — сказал тогда Фостин. — Похоже, нам её не обмануть.
* * *
Между тем, жизнь в Гнездовище претерпевала некоторые изменения. Язык, на котором говорили Генульф с Рофаной, постепенно менялся. Начало этому положили первые бескрылые девушки, которые, хоть и учили орелинский язык, но за домашними хлопотами делали это небрежно, без конца подмешивая к нему слова из своего привычного языка. Постепенно и их мужья стали пользоваться словечками бескрылых, а дети уже заговорили на некоей смеси языков, которая, постепенно, и образовала тот единственный, на котором говорило теперь все Гнездовище.
В Долину уже давно никто не летал. С той поры, как Генульф покалечился и до обвала, его дети еще исправно продолжали навещать бескрылых, обмениваясь новостями и всякими мелкими поделками. Но после обвала общение прекратилось. Бескрылые в Долину больше не приходили. Пару лет Форехт с Дорхфином летали на разведку, но так никого и не увидели. Вероятно, их сородичи решили, что Гнездовище со всеми обитателями погибло в обвале, и не возвращались в эти места, чтобы не бередить душу. Или… Но это было совсем уж плохо, поэтому орели предпочли даже не думать о том, что еще могло помешать бескрылым возвращаться в Долину, как раньше. Они просто решили, что, возможно, так даже и лучше. Годы не стояли на месте, а орели не молодели.
Как-то вдруг, незаметно, они стали тяжелы на подъем, и все реже летали, предпочитая спокойные прогулки пешком. А с уходом Рофаны, когда между ними и надвигающейся старостью не осталось никого, кто мог бы прикрыть от нее, назвав «своей девочкой», или «моим мальчиком», или просто «ребенком», орели вдруг остро почувствовали свои годы.
Упорней всех не желала им поддаваться Ланорфа. Пытаясь доказать, что еще полна сил и здоровья, она скрывала свои недуги и работала на износ. Бегая от своей гнездовины к гнездовинам своих детей, Ланорфа стремилась везде успеть и всем помочь. Но годы и недуги оказались сильнее. Одной легкой, но безнадежно запущенной простуды, оказалось достаточно, чтобы увести ее в тот мир, где теперь обитали её родители и брат.
Потом, очень скоро, умер Форехт, и бразды правления перешли к Дорхфину. Но тоже ненадолго. А потом, как-то, уснул и не проснулся утром муж Усхольфы, и она, подобно Рофане расхотела жить. Таким образом, изо всех детей Генульфа, в Гнездовище скоро остался один Фостин.
Похоронив вскоре и свою жену, он перебрался в гнездовину родителей, откуда, со временем, стал выходить все реже и реже. Его уже не называли по имени, а все больше Старик: «смотрите, Старик куда-то пошел», «что-то Старика давно не было видно»… Своих детей он не имел, поэтому навещали его, в основном, сердобольные соседки-племянницы. Да и то, больше из желания проверить — не умер ли. Но Старик упорно жил.
С некоторых пор ему стали являться удивительные видения. Чаще всего они приходили во сне, и всегда в них присутствовал тот самый незнакомец, которого Старик видел как-то в горах. Он появлялся окруженный плотным туманом, легко разводил его рукой, и открывались невероятные картины! Красивые города, расположившиеся прямо на скалах, величественные орели, сидящие полукругом, темная узкая галерея, в конце которой притаилось что-то ужасное и тело ореля, летящее в пропасть, с нелепо торчащими крыльями…
В этом месте Старик всегда просыпался. Ему делалось невообразимо страшно! И, даже неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что в конце этого падения что-то непременно прояснится, не давала досмотреть сон до конца.
Старик стал бояться ночей. Однажды он решил, что если заснет днем, то, возможно, ничего не увидит, но получилось еще хуже. Картины стали четче, рельефнее, и в них появился звук. Теперь величественные орели о чем-то беседовали на языке, который Старик едва помнил. Слова и фразы звучали глухо, урывками:».., что скажет Гольтфор?… мы здесь, чтобы исправлять ошибки.., ты всегда был слабым, Генульф…». А потом появилась галерея. Под её темными сводами метался отвратительный смех, и голос, похожий на голос Старика, шептал какое-то невнятное имя. Старик даже во сне напрягся, понимая, что сейчас увидит падающего орелина, но в этот момент почувствовал, что его руку кто-то крепко держит. Он перевел взгляд и увидел лицо незнакомца. «Смотри, — прошептал тот, — не бойся. Никто не погибнет». От руки шло тепло и спокойствие, и Старик, наконец, досмотрел.
Тело орелина утонуло в мягком облаке, немного не долетев до острых камней. А рядом с ним тихо покачивалось яйцо, которое это облако, еще раньше, приняло в свои объятия. Потом картинка сменилась. Перед огромной корзиной с шестью орелинскими яйцами стояли шесть женщин, укутанных в диковинные одежды по самые глаза. Сверкая кольцами и браслетами на руках, пятеро из них взяли по одному яйцу и легкими облачками разлетелись по разным направлениям. «Первого ты знаешь, — прозвучал знакомый холодный голос, — второго найдешь там, где много войны, третьего — там, где много воды, четвертого — на перекрестии радости и печали, пятого — в большом величии, шестого — в земле, а седьмой придет сам, когда соберутся все шестеро». Старик хотел спросить, что все это значит, но незнакомца рядом уже не было. «Мы братья», — прошелестел воздух вокруг, и сон прервался.
До позднего вечера и всю бессонную ночь Старик думал о том, что увидел. Конечно, не все из увиденного было для него загадкой. Не нужно было долго ломать голову, чтобы понять, кто эти женщины из сна, и что за яйца они унесли. А равнодушный голос, скорей всего, указывал ориентиры, где следовало искать детей Дормата. Но, кто их должен искать? Неужели, он? «Мы братья», — сказал незнакомец… Что ж, теперь и это понятно. Последнее яйцо осталось у амиссий. Незнакомец, вероятно, тот седьмой, который присоединится ко всем в конце, а сам он — первый, который уже известен. Первый и последний. И между ними существует странная телепатическая связь. Но зачем? Что они семеро должны будут сделать? К чему все эти сложности с показом картин, хоть и красивых, но чем-то безумно пугающих, особенно непонятным ужасом, притаившимся в темной галерее?
Старик уже жалел, что выспался днем. Рассвет застал его на той скамье, где в последний раз смотрела на звезды Рофана. И, сам не зная зачем, но с первыми лучами солнца Старик вдруг поднялся и грузно полетел туда, где должны были лежать найденные им обломки Генульфовой пещеры.
Они оставались на месте — камни разной величины, с одной стороны совершенно гладкие, испещренные значками, символами и рисунками. Вот с этим, самым большим, Старику пришлось хуже всего — ужасно был тяжел! Но на нем, похоже, сохранился какой-то законченный текст, потому что хорошо видна линия, окаймляющая его со всех сторон. А вот на этом, совсем маленьком камне — только рисунок. Старик взял обломок в руки и рассмотрел его. Облако, а на нем орелинское яйцо — ничего и объяснять не нужно. Но вот остальное… «Интересно, — подумал Старик, — что еще придумает Судьба, на какие изощренности пойдет, если я сейчас раскрошу всё это в пыль, или, к примеру, сделаю так…». Он размахнулся и с силой зашвырнул обломок с рисунком подальше. Камень со стуком покатился по скалам куда-то вниз, заставляя рассветное эхо лениво отзываться. Но Старик уже не думал о нем.
Внизу просыпалось Гнездовище. Крошечное поселение, которое он знал буквально с первого камня, растущее, как живой организм, но уже обреченное. Старик вдруг понял это, как и то, что он будет жить до тех пор, пока предсказание не исполнится. Жить и смотреть, как рождаются малыши, строятся планы, расцветают надежды и любовь… Жить и знать, что все это может прерваться, не сегодня, так завтра… Жить и ждать этого.., жить и ждать… Старик понял, что обречен на муку.
С этого дня видения его оставили.
Это не могло не вызвать радости и облегчения. Но обидным показалось то, что и незнакомец, а точнее, новоявленный брат, тоже больше не являлся. Старику необходимо было с кем-то общаться. В Гнездовище не осталось никого, хоть сколько-нибудь близкого ему по духу. Он изгой во всем: потому что одинок, потому что летает, потому что носит в себе тайну и живет так долго. Многие знали о том, что Старик что-то скрывает, но это никого не интересовало. Он был слишком из другого времени, которое, похоже, так и кишело всякими проклятьями, пророчествами и другими такими же делами. В нынешней спокойной и размеренной жизни ничему подобному места не было. Старика жалели, о нем, по мере сил, заботились, но его тайнами совсем не интересовались. А он, как ни старался, никак не мог избавиться от непонятного беспокойства. Всякий раз, сидя у своей гнездовины и наблюдая за жизнью поселения, Старик чувствовал себя так, будто он зря теряет время, вместо того, чтобы куда-то бежать и что-то делать. Нередко по ночам он летал. Для чего — и сам не смог бы ответить. Но, пролетая над спящим Гнездовищем, словно добрый дух, охраняющий его сон, Старик, иной раз, думал с тайной надеждой: может обойдется?
* * *
Как-то раз в его гнездовину постучали.
На пороге стоял Тевальд. Он уже вырос и стал совсем взрослым, довольно привлекательным орелем. Вот только глаза выдавали, что прежние надежды в нем еще живы, и умирать, похоже, не собираются.
Тевальд, прямо с порога, потребовал, чтобы его научили летать. И, пресекая возможные попытки Старика отвертеться, ссылаясь на возраст, заявил, что видел его летающим, не далее как сегодня ночью, и, что он тоже так хочет. Крылья у него, что надо, побольше, чем у других, и сильные. Он пробовал сам, но без опытного наставника, это сложновато.
— Зачем тебе? — спросил Старик, пряча улыбку.
Крылья у Тевальда действительно были большими, но годились они, пожалуй, только на то, чтобы слететь, без помех, с дерева на землю.
Тевальд долго мялся, пытался отговориться какой-то совершеннейшей нелепицей, но, в конце концов, сознался, что мечтает залететь на скалы.
— Ты надеешься встретить там Летающих? — спросил Старик, хотя ответ знал наверняка.
— Надеюсь, — с вызовом ответил Тевальд. — Я знаю, что избран Судьбой, и от своего не отступлюсь.
Тогда Старик усадил его напротив себя и, с тяжелым вздохом, поведал о второй части предсказания. А, когда увидел, что молодой человек все еще не может поверить, не поленился и повторил во второй раз.
— Ты понимаешь, что это значит? — завершил он. — Исчезнут все: малыши, которые веселятся сейчас на улице, их родители, приятели, с которыми ты рос, девушка, которую ты любишь… Ты ведь любишь кого-то? — добавил он, увидев как зарумянился его собеседник.
Тевальд смутился, но кивнул. Неизвестно почему, но, издерганный насмешками ровесников над собой, он вдруг открылся этому старику, что давно, но безнадежно влюблен в Метафту — младшую дочь Усхольфы. Она жила теперь в семье старшего брата — Торлифа, который перенял от отца его искусство и лечил всё Гнездовище. Метафта поразила Тевальда своей красотой и независимостью, но этим же она и приводила его в отчаяние. Невозможно было представить, чтобы такая девушка ответила на чувства орелина, над которым, с детства, смеялось все вокруг.
Старик ничего не ответил, но, в тот же день, вечером, сам пошел к Торлифу. Ему доставило несказанное удовольствие услышать из уст самой Метафты, что и она давно любит Тевальда. А виду не подавала из-за боязни, что он, увлеченный своими идеями, только посмеется над её чувствами.
Свадьба получилась веселой и шумной.
Приятели Тевальда, издевавшиеся над ним прежде, теперь, по-дружески шутили, что он нарочно отвлекал их внимание всякими нелепицами, чтобы без помех завоевать сердце самой красивой девушки Гнездовища. И, хотя их жены, сидевшие рядом, немного дулись на это, они все же не могли не признать, что невеста была на диво хороша. Метафта мило краснела, а Тевальд глупо и счастливо улыбался.
Старика тоже пригласили, и он пришел. И радовался со всеми вместе, не столько самой свадьбе, сколько тому, что в глазах жениха, кроме огромной любви и спокойного умиротворения, не видел больше ничего. Он уступил молодым свою прежнюю гнездовину, которая так и стояла пустая со времени его ухода, и был бесконечно признателен им за то, что, пусть ненадолго, они дали ему почувствовать то, что, по его мнению, должен был чувствовать отец.
Метафта с Тевальдом тоже были признательны Старику. Они и считали его, почти что отцом. Ему первому сообщили, что ждут малыша, и за ним сразу же послали, чтобы пришел посмотреть, когда этот малыш родился…
Надо сказать, что на новорожденного Нафина бегали смотреть, как на диковину. Он появился на свет с такими огромными крылышками, которые были при рождении, наверное, только у детей Рофаны и Генульфа. Все Гнездовище перебывало у его колыбельки. Женщины ахали, умильно щебетали и поздравляли Метафту, покрывая её лицо поцелуями, мужчины жали руку Тевальду и хлопали его по плечу, и только Старик, осмотрев малыша внимательным взглядом, нахмурился и, ни слова не говоря, ушел.
Это, конечно, немного задело Тевальда, но во всем остальном он был совершенно счастлив.
Он вообще сильно переменился. Из гнездовины Старика сделал, едва ли не дворец Иглона, столько в нем было резьбы, украшений, картин о жизни Гнездовища, выбитых прямо на стене, и прочих красот, которые Тевальд или сделал своими руками, или натащил откуда только смог. Он совершенно измучил Торлифа просьбами отдать ему красивый клинок в ножнах, который бескрылые подарили еще на свадьбу Усхольфы. И добился бы своего, но оставил эту затею, когда узнал, что Метафта терпеть не может этот клинок с тех самых пор, как в детстве неосторожно об него поранилась.
Другим талантом Тевальда оказалось его умение разрешать споры. Как-то раз, он помог соседям в решении какого-то серьезного вопроса, да так ловко, что с тех пор, все кому не лень, стали обращаться к нему с каждым пустяком. Тевальд никому не отказывал, и вскоре все в Гнездовище прониклись к нему нешуточным уважением. А, когда умер старейшина, как-то само собой получилось, что его заменил Тевальд.
Он сразу развил бурную деятельность. Построил хранилища для зерен и высушенных листьев, и, едва ли не собственноручно, перекрыл все гнездовины в поселении по собственному методу. Сначала из тонких, гибких веток сплетался каркас, который плотно облегал верхушку гнездовины, а на него потом крепились куски коры. Это было удобно, особенно если учитывать, что сильные ветры легко «раздевали» каменные жилища, и орели по сто раз перекрывали свои крыши.
Следующим мероприятием, которому Тевальд решил целиком отдаться после перекрытия гнездовин, было какое-то невероятно прогрессивное благоустройство огородов. Но Судьба опять вмешалась в его жизнь, перепутав все планы и напомнив о себе самым неожиданным образом.
Однажды маленький Нафин, которому едва исполнилось года четыре, проснулся что-то уж очень рано и запросился пойти с отцом. Это было время цветения деревьев Кару, и Тевальд намеревался собрать немного листьев, которые в такую пору особенно полезны от головной боли, если ими, смоченными в дождевой воде, обложить лоб, и для зубов и десен, если их жевать.
Отец с сыном уже дошли до плантации деревьев, но Тевальд не стал собирать листья по краю. Ему так нравилось идти, чувствуя в руке теплую ладошку сына, что, ради продления удовольствия, он решил прогуляться дальше, туда, где между деревьями виднелась небольшая полянка.
— Смотли, папа, — сказал вдруг Нафин, показывая вперед ручкой, — тлавка цветет.
Тевальд посмотрел и замер. Ночью был ветер, цветы с деревьев осыпались и, с того места, где они стояли, действительно казалось, что трава зацвела.
В Тевальда словно молния ударила. Он подхватил сына на руки и помчался домой, не разбирая дороги.
Старик в то утро тоже проснулся рано. Спал он отвратительно, беспокойно, а под утро неясным туманным образом явился его Брат и произнёс что-то вроде: «Жди, уже скоро…». Старик проснулся и встал. По обыкновению присел возле окна и посмотрел на улицу, ещё прикрытую предрассветным туманом. «Жди… Уже скоро…» — что это может означать? Смерть? — Нет, это глупо. А что ещё? Мальчик с огромными крыльями пока слишком мал…
Старик неслучайно нахмурился, увидев новорожденного Нафина. Он понял, что этот ребёнок сможет летать, когда вырастет, но зачем он ТАКОЙ родился в Гнездовище? Неужели этот крошечный комочек обречён исполнить то, что замыслила Судьба? Старик жил уже очень долго и порой ворчал сам себе, что устал и готов уйти. Но вид ребёнка, который каждым годом своей жизни, возможно, приближает его конец — испугал. Он вообще всегда думал о том, что ему предстоит с каким-то тяжёлым чувством. Так порой думают о смерти, о её обязательном приходе, страшась неизвестности того, как, каким образом она придет. Смерти Старик не боялся. А вот того, что они с найденными братьями должны будут совершить, опасался очень сильно. Свои ночные полёты он оправдывал тем, что готовится, держит себя в форме… Но для чего? Чтобы суметь подняться на Сверкающую вершину и иметь силы докончить там последний акт затянувшейся истории? Он много размышлял над этим и нашёл себе некоторое утешение. Рано или поздно предсказание исполнится, он бессилен как-то на это повлиять, но зато он может дождаться своего часа в полной готовности и сделать всё, чтобы спасти Гнездовище. Даже если ему будут мешать все его братья.
Примерно о том же рассуждал Старик в то утро, когда громкие крики с улицы заставили его вздрогнуть. А потом в гнездовину ворвался Тевальд. С выпученными глазами, колотя себя в грудь кулаком, он ни минуты не стоял на месте и без конца повторял:
— Видел, видел! Я видел! И теперь знаю, что должен делать… Я действительно видел… Я избранный… Значит, не ошибался тогда! Но как же просто это было увидеть! Ах, что же я раньше-то…
— Что ты видел? — спросил Старик, ощущая, как внутри что-то сжимается от предчувствия.
— Да цветущую траву — вот что!
И Тевальд, захлёбываясь словами от возбуждения, пересказал Старику, как было дело.
— … Нафин раскрыл мне глаза, но самое важное я понял сам, там же, не сходя с места! Я должен исполнить первую часть предсказания и не исполнять вторую. Ну, в смысле не искать детей Дормата. Тогда всё застрянет на одной точке — избранник увидел, что нужно, и всё… Всё! Понимаешь?
Старик молча кивнул.
— А Генульфову пещеру я раскопаю! — так же восторженно продолжал Тевальд. — Наверняка там есть что-то такое, что мне поможет. А то сделаю что-нибудь не так… или не сделаю. Короче, мне нужно, как можно скорее, бежать и начинать копать! Ты ведь когда-то сам там копал, неужели ничего не нашёл? Впрочем, ты ведь не избранный…
— Как ты собираешься прочесть записи? — спросил Старик — Ты же не умеешь читать.
— Прочту, прочту, — замахал руками Тевальд. — Если бы это совсем было невозможно, в предсказании не говорилось бы, что они… ну, как там? «Отправная точка и руководство к действию».
Старик не успел ничего возразить — в гнездовину вбежала Метафта с орущим Нафином на руках.
— Что случилось? — она еле сдерживала себя, чтобы не закричать. — Влетел, сунул мне ребёнка и умчался сюда с какими-то дикими воплями. Всех переполошил, соседи напуганы, ребёнок плачет… Что случилось?!
Тевальд при жене немного поутих и с довольным видом, поглаживая по спине Нафина, чтобы успокоился, рассказал наконец, как было дело, обстоятельно и спокойно. Однако во время рассказа снова пришёл в сильнейшее возбуждение и закончил всё тем, что выбежал вон из гнездовины, чтобы, не медля ни минуты, начать раскопки Генульфовой пещеры.
Метафта, мало что понимая, посмотрела ему вслед, а потом перевела взгляд на Старика. Она явно ожидала объяснений, но Старик не смотрел на неё. «Жди… Уже скоро…» стучало у него в голове. Нафин больше не плакал, а, обнимая за шею Метафту, только всхлипывал, косясь на сердитого старого орелина через плечо. «Вот он, — думал Старик, — тот, о ком было предсказание. Тевальд, конечно, заблуждается, как всегда, и пусть. Но до чего же коварна Судьба! Пожалуй, любой взрослый рассудил бы точно так же, как теперь Тевальд, но этот малыш погубит нас, даже не ведая, что творит… Однако Метафта ждет объяснений, нужно сказать ей что-нибудь…» Он подошёл к женщине и, как можно беспечнее, посоветовал ей не мешать мужу.
— Пусть перебесится. Это со временем пройдет.
— Но он же собирается рыться в обвале! — возмутилась Метафта. — Его засмеют или чего доброго шею себе свернёт на этих раскопках! Почему ты его не удержал? Ведь трава не цвела, всего лишь деревья осыпались. Но зато теперь из-за этой ерунды он будет рыться в обвале и не успокоится до тех пор, пока не откопает то, что ищет. Уж я-то это знаю, как никто.
— Пусть роется, — Старик таинственно улыбнулся, — не мешай ему.
Метафта фыркнула, пробурчала что-то про «дурацкие тайны» и ушла, унося с собой сына. А Старик, едва дождавшись ночи, полетел к своему тайнику в скалах. Обломки лежали на том же месте, где он их в последний раз оставил, но это место уже не казалось орелину безопасным. Сейчас малыш сюда, конечно, не долетит, но, став подростком, он сможет сделать это легко. Значит, нужно всё уничтожить или перепрятать.
Сначала Старик собирался разбить обломки на мельчайшие кусочки, но в памяти вдруг возник образ отца. Такого, каким он видел его в последний раз — плачущего и просящего прощения… Долгие годы Генульф потратил на то, чтобы выбить эти значки и рисунки, и у Фостина, проснувшегося в Старике, не поднялась рука на его работу. Перепрятать — вот лучший выход! Мелкие обломки можно закопать прямо у себя на огороде и завалить сверху сухими ветками, чтобы свежевскопанная земля не привлекала ничьего внимания. А вот большой, с сохранившимся текстом… Да-а, вниз его уже, пожалуй, не стащишь — силы у Старика давно не те, что прежде. Вот если только переложить камень в небольшую пещерку, что виднеется неподалёку… Старик обследовал её и остался доволен. То, что надо! Чтобы сюда забраться, нужно согнуться в три погибели, а этого вряд ли захочется пылкому мальчику, если он когда-нибудь в эти места залетит. Да и залетит ли?..
Несколько ночей Старик закапывал обломки. Самый большой он перепрятал в первую же ночь, удивляясь, как смог затащить этакую тяжесть на скалы. Зато с остальными оказалось проще… И теперь, когда работа была завершена, он с удовлетворением осмотрел кучу веток, скрывающих захоронение, и сел на свою скамью передохнуть. Здесь ему снова вспомнился отец. Как жаль, что они простились так плохо. Хотя, остальным детям и этого не было дано. Разве что Хорику… Интересно, что он почувствовал, когда нашёл, наконец, пещеру и увидел, что вход в неё завален? Почему не ушёл с началом грозы? Или, до самого последнего мгновения, бегал по вершине бугра от отверстия к отверстию, умоляя отца откликнуться и помочь ему спасти себя? Никто этого уже не узнает, они ушли вместе.
Старик вспомнил, что больше всего боялся наткнуться на останки отца и брата во время своих раскопок. Но этого, к счастью, не случилось. А теперь он жалеет. Нужно было похоронить их возле Рофаны. Пожалуй, стоит сказать Тевальду.., но нет… Все, что было можно, Старик переворошил в своё время, а к остальному не подступиться. Слишком большие глыбы, их невозможно ни сдвинуть, ни приподнять. Так что пусть Тевальд роется, он всё равно ничего больше не наёдет. Это со временем охладит его пыл, а там, возможно, и у Нафина не появится охоты что-либо искать.
С такими мыслями Старик спокойно уснул, прямо на скамье. Но он сильно ошибался.
* * *
Тевальд раскапывал обвал с невиданным упрямством. Прошел год, а он все никак не хотел признавать свое поражение. Соседи то посмеивались за спиной, то жалели, но задевало все это одну лишь Метафту. Первое время, когда ее расспрашивали о причинах долгих отлучек мужа, она пыталась объяснить их хозяйственными нуждами. Дескать, Тевальд затеялся строить что-то для Гнездовища у обвала, но не уверен в успехе и, поэтому, пока все держит в секрете. Однако после того, как старейшина был не единожды замечен прыгающим с крыши хранилища, с явным желанием полететь, всем стало ясно: Тевальд принялся за старое.
Бедная Метафта, как могла, старалась оправдать мужа перед жителями поселения. Вместо него она разрешала споры между орелями и давала им советы, неизменно добавляя, что «так рассудил бы Тевальд». Сама занялась переустройством огородов, уверяя всех, что это именно он подсказывает ей вечерами, что нужно делать. И больше всего на свете боялась, что кто-нибудь узнает, о том, какие в действительности разговоры велись у них в гнездовине, когда Тевальд возвращался с раскопок. Метафта пыталась образумить мужа, взывала к долгу отца и старейшины, но тщетно. Тевальд становился все азартнее и всякий раз уверял ее, что ему осталось «совсем чуть-чуть».
Однажды он вернулся в гнездовину раньше обычного и признался, что внутри все «как-то странно болит». Смыл с рук белую пыль, лег и больше уже не вставал. Метафта сбегала за Торлифом, который, осмотрев больного, постановил, что Тевальд надорвался, пытаясь, видимо, поднять что-то очень тяжелое, но это должно пройти, если дать ему отлежаться. Несколько дней орелина хлопотала возле мужа, пока не поняла, что ему не только не стало лучше, но наоборот, делается хуже и хуже. Он слабел на глазах, все чаще впадал в беспамятство и как-то раз, взяв Метафту за руку, объявил ей, что скоро умрет. Она, конечно, расплакалась, заверяя его в непременном выздоровлении, но Тевальд велел жене помолчать и послушать.
Именно тогда узнала она о второй части предсказания и о планах мужа по спасению Гнездовища.
— Но я заблуждался, — слабеющим голосом заключил Тевальд. — Нафин — вот кто избранный. Ведь это он увидел, что трава цветет. Он, а не я. Ему и завершать начатое. Следи за ним, Метафта. И, по возможности, не мешай. Пусть летает, пусть роется в обвале… От Судьбы не уйдешь… Старик это тоже понимает, поэтому и не удерживал меня. Но, когда придет время, когда первая часть предсказания исполнится, обещай мне, что ты расскажешь Нафину все и не дашь ему погубить Гнездовище. Надеюсь, что это случится, когда он станет взрослым и мудрым, но сейчас перед лицом смерти что-то подсказывает мне, что Судьба не даст ему повзрослеть. Поэтому следи за сыном, Метафта, следи лучше…
Тевальд перевел дух, глубоко вздохнул и вдруг заплакал.
— Дурак я! — шептал он жене, бросившейся его успокаивать, — Судьба избрала меня для счастья с тобой и с Нафином… Мне бы раньше догадаться, и не камни ворочать, а сына воспитывать… А теперь выходит — все свалилось на твои плечи. Милая моя, — он поцеловал Метафте руку и посмотрел в ее лицо долгим взглядом, — прости. Я ничего не могу поделать, смерть уже зовет меня. Приведи Нафина попрощаться и помни: я очень сильно люблю вас…
Он действительно умер скоро — той же ночью. И Метафте потребовалось много мужества и очень много серых, безжизненных дней, чтобы пережить эту потерю. Все Гнездовище старалось ее подбодрить, и даже Старик, который опасался, что, подобно бабушке и матери, Метафта расхочет жить без мужа. Он заходил едва ли не каждый день, чтобы утешить, помочь или просто посидеть рядом.
Нафин сначала избегал сурового старца, но потом привык и однажды даже доверительно шепнул, что соседская девочка Сольвена рассказала ему, что слышала от родителей, будто бы его, Нафина, отец искал в обвале записи своего деда, чтобы отдать их Летающим орелям. И тогда они забрали бы Тевальда с собой и сделали бы его своим старейшиной.
— А еще, — добавил мальчик обрадованный, что нашел такого внимательного и заинтересованного слушателя, — Сольвена сказала, что раз отец умер, я должен найти то, что он искал и стать старейшиной у Летающих вместо него. Тогда она женится на мне и улетит туда вместе со мной.
Старик не знал плакать ему или смеяться. Он не мог не понимать, что наивные детские разговоры лишь первый шаг к тому, что Нафин заинтересуется судьбой отца и узнает о предсказании. Самым лучшим тут было — это рассказать мальчику все, но Старик не знал, как отнесется к этому Метафта, и решил, не откладывая, с ней поговорить.
Он не слишком удивился тому, что орелина знает и про вторую часть предсказания. Глупо было бы думать, что Тевальд ей об этом не рассказал. Гораздо большее удивление вызвали его последние слова — по возможности, Нафину не мешать. Метафта слово в слово передала свой разговор с мужем накануне его смерти и, как ни странно, эти воспоминания ее заметно подбодрили.
— Тевальд просил присмотреть за Нафином, — оживающим голосом сказала она. — В том смысле, что я не должна пропустить момент, когда ему будет можно все рассказать. И я выполню его волю. И мешать не буду… Ведь это правильно, да?
— Правильно.
Старик взял Метафту за руку и ласково ее погладил.
— Тевальд очень сильно любил тебя и Нафина, и своим любящим сердцем он придумал, как спасти вас от беды. Поверь, если в детстве он мечтал только об избранности, то все, что делалось им в последние годы, делалось исключительно ради вас. Поэтому не сомневайся и выполняй его завещание…
— И Нафину можно рыться в обвале? — всхлипнула Метафта.
— Можно, — кивнул Старик, — ничего опасного там давно уже нет.
Орелина вскинула на него глаза, и по ее взгляду было видно, что она поняла, о чем ей только что сказали.
С тех пор Старик перестал так часто навещать вдову Тевальда. Он по-прежнему летал по ночам, встречал рассвет на скамейке Рофаны, днем отсыпался, а вечером садился у окна своей гнездовины и смотрел на жизнь в Гнездовище.
Метафта сама заходила к нему, рассказывала о своей жизни и о жизни Нафина. Мальчик подрастал, помогал ей по хозяйству и все чаще интересовался делами Тевальда. Конечно, орелина понимала, что именно интересует её сына, но начала она с другого. Сначала рассказала о том, каким прекрасным отцом и мужем был Тевальд, потом расписала в самых радужных красках его деятельность на посту старейшины и, только когда вся их совместная жизнь была изложена, кажется, по минутам, поведала, наконец, о предсказании.
Нафин слушал очень внимательно и серьезно. Он засмеялся только раз, когда узнал, что отец совсем не собирался становиться старейшиной у Летающих орелей и пожалел их. Такого старейшину, каким, по словам Метафты, был Тевальд, стоило еще поискать. Больше он о предсказании ничего не говорил и, похоже, не слишком им заинтересовался. Но его мать не так-то легко было провести. С некоторых пор она не раз замечала на его руках такую знакомую белую пыль и, по характерным синякам на теле, догадывалась, что он учится летать. Но, верная обещанию, вида о своих догадках не подавала.
Возможно, Нафин еще долго пребывал бы в уверенности, что ловко провел Метафту, если бы не соседи. Кто-то заметил его упражнения в полетах, кто-то видел, как мальчик выбирался из обвала и, разумеется, обо всем об этом было незамедлительно доложено матери. Метафта для вида поругалась и даже потопала ногами, но, когда по ночам Нафин тайком снова выбирался из гнездовины, прикидывалась спящей, чтобы не мешать.
С тех пор так и повелось: мать, якобы, узнавала все от соседей, а сын выдумывал новые уловки, чтобы делать свое дело втайне от неё.
Старика рассказы Метафты очень забавляли. Как только они договорились ни в чем Нафину не препятствовать, на душе его стало заметно легче. И, даже когда мальчик пришел с просьбой научить его орелинскому языку, не стал притворно изумляться и спрашивать, зачем ему, а просто согласился.
Все пока шло хорошо.
Но однажды, после довольно сильной грозы, Нафин примчался в поселение с громкими криками, переполошив половину жителей. Он без конца оглядывался на скалы, тыкал рукой куда то вверх и кричал, что видел Летающего ореля. Прибежавшая Метафта долго не могла понять, в чем дело, а когда разобралась, задала Нафину при всех хорошую трепку и увела его в гнездовину.
Оказывается, она послала сына помогать орелям, которые поднимали поваленные бурей сушильные столбы, но мальчик, вместо этого, улизнул в горы на свое любимое место. Им уже давно был проделан туда удобный подъем, и теперь он забирался все выше и выше, совершенствуясь в полетах. Вот, и в этот раз, забравшись на максимальную для себя высоту, Нафин взлетел и увидел стремительно удалявшегося ореля. Тот, правда, был уже очень далеко, но мальчик готов был поклясться, что это был именно Летающий орель и никто больше!
— Наверное, птицу какую-нибудь увидел большую, — предположили соседи, наблюдая, как Метафта уводит сына домой. — Бедная она, бедная! Сначала муж, теперь сын…
— Надо бы ей хорошенько его наказать, да заставить делом заниматься. Глядишь, глупости из головы и повыскакивают!..
— А Старик-то, видели, как разволновался? Даже из гнездовины своей выскочил!..
— Верит, верит в свои предсказания! Но ему простительно — он старый. А вот молодому человеку так себя позорить — нехорошо!
Соседи осуждающе покачали головами и разошлись. И только Старик, который никак не мог справиться с волнением, охватившим его при криках Нафина, продолжал стоять посреди улицы еще некоторое время. Но потом и он вернулся к себе. Бросил взгляд на захоронение в запущенном огороде, куда регулярно докладывал сухие ветки, так что образовалась приличная свалка, и, дождавшись ночи, полетел к своей пещерке и завалил вход в неё камнем. «Хорошо, что она далеко от того места, где Нафин летает», — подумал Старик. Ему, вдруг, сделалось очень грустно. Он, как-то раз, подсмотрел, как мальчик выделывает в воздухе различные пируэты и, впервые в жизни, позавидовал его легкости и силе крыльев. Самому Старику летать становилось все труднее. Уже часто и подолгу делал он перерывы в своих ночных вылазках. И, нередко, с грустью думал о том, что, если так будет продолжаться, то, пожалуй, в решающий час он не сможет даже просто поднять себя в воздух. Ужасно! Судьба словно нарочно растягивает шаги, чтобы лишить его последних сил. Даже этот короткий перелет дался с большим трудом. Несколько дней потом Старик не выходил из гнездовины. Отлеживался и уверял себя, что всему виной волнение. «Ничего, ничего, — думал он, — вот поправлюсь немного, схожу к Метафте и поговорю с Нафином. Возможно, он, как и его отец, принял желаемое за действительное. Когда чего-то очень хочешь, то и большая птица может показаться орелем».
Но Нафин пришел сам.
День был в самом разгаре, когда он ввалился в гнездовину Старика со связанными крыльями и горящими глазами. С улицы донесся детский смех и дразнилки, но Нафин, похоже, этого не заметил.
— Я видел Летающих орелей, — сообщил он прямо с порога. — И видел их так же близко, как и тебя сейчас. Можешь поверить — это были не большие птицы! Два ореля спали наверху, на скалах, и я их хорошо рассмотрел. Правда, когда они проснулись и увидели меня, то испугались и сразу улетели, но зато оставили свои сосуды с какой-то странной жидкостью. Я взял их с собой, и даже моя мать мне, наконец, поверила! Предсказание сбывается, Старик! И я к тебе пришел, чтобы ты рассказал мне все, что нужно. Ну, в смысле, то, чего я еще не знаю!
Юноша радостно уселся на скамью возле входа, положил чинно руки на колени и приготовился слушать. Но Старик не торопился рассказывать. Он по-прежнему смотрел в окно, старчески пережевывая губами и перебирая край одежды. Руки его слегка тряслись, но, во всем остальном, создавалось впечатление, что Старик вообще ничего не слышал. Такого Нафин не ожидал! Самое меньшее, что сейчас, по его мнению, должно было бы происходить — это жаркие радостные объятия и немедленное раскрытие всех хранимых Стариком тайн. А то, что происходило на самом деле, никуда не годилось!..
— Метафта говорила с тобой? — неожиданно спросил Старик, отворачиваясь, наконец, от окна.
— Говорила!
Нафин резво повернулся и продемонстрировал связанные крылья.
— Но я убедил ее, что к тебе отпускать можно. Ты ведь расскажешь мне, что было в Генульфовых записях? Правда?
Старик встал и отошел от окна.
— Что ты хочешь узнать? — спросил он, тяжело шаркая к столу, на котором стояла кружка с водой, и лежали остатки еды.
— Все! — обрадовался юноша. — Абсолютно все! Что там было написано? Зачем? Для кого? Ну, и вообще… Ты же понимаешь!
Старик усмехнулся, покачал головой и сделал большой глоток из деревянной кружки.
— Ты ошибаешься, если думаешь, что я знаю все. Пожалуй, самое главное тебе сказала Метафта… Она ведь сказала тебе о планах твоего отца?
— Сказала.
— Ну, вот… А то, что знаю я, тебе вряд ли пригодится.
И повернувшись к юноше спиной, Старик неторопливо стал убирать со стола.
— Как.., — опешил Нафин, — что значит, не пригодится? Должно пригодиться! Ты не можешь утаивать от меня ничего! Все Гнездовище знает, что ты хранишь какие-то секреты. Я избран Судьбой, увидел все, что было предсказано и имею право знать, что будет дальше!
— А я и сам не знаю, — улыбнулся Старик через плечо.
Он стер со стола последние крошки, отряхнул руки и сел напротив Нафина. Тот смотрел на него злой, надутый и немного растерянный, но Старика это не тронуло. Он словно смотрел внутрь себя, что-то прикидывая, взвешивая и решая, и, наконец, сказал:
— Хорошо. Я расскажу тебе то, что знаю, хотя, ничего нового ты, возможно, и не услышишь. Давным-давно, мой отец, а твой прадед, жил на Сверкающей Вершине среди Летающих орелей, но был незаслуженно проклят и изгнан. Кем и за что — не знаю. Но думаю, получилось это из-за детей Дормата. О них мне тоже ничего не известно и, хотя кое-какие догадки имеются, это не главное. Главное — проклятие! Оно осталось висеть над нашим родом, и отец дал обещание очень могущественным женщинам — служительницам Судьбы, что найдет детей Дормата и снимет его. Отец пытался сдержать слово, но ничего не вышло, и, в результате, появилось предсказание о том, кто сможет снять проклятие вместо отца, но, за то, что слово не было сдержано, исчезнет Гнездовище. Вот и все. Как видишь, нового мало. Записи, которые делал Генульф, по словам моей матери — Рофаны — лишь пересказ этих событий. Ну и еще, возможно, истории о Дормате, но чем это может быть тебе полезно? Да, ты действительно тот, о ком говорится в предсказании, ты действительно увидел то, что должен был увидеть, и теперь твоя обязанность — найти детей Дормата и привести их на Сверкающую Вершину. Но, как только ты это сделаешь, Гнездовище исчезнет. — Старик развел руками в стороны. — Неужели нужно еще что-то говорить?
Нафин не ответил. Он хмурился и смотрел себе под ноги.
— Скажи, мой мальчик, — голос Старика сделался, по-отечески, ласков, — ты любишь кого-нибудь?
— Маму, — буркнул Нафин.
— Нет, кроме неё. Какую-нибудь девушку?
— Еще чего! — Нафин фыркнул и залился краской. — Все девчонки предательницы! За что их любить? Есть тут одна… Я с ней по-хорошему, по-дружески, про орелей рассказал, в сосуд дал заглянуть, а она только насмехается…
— Понятно, — тихо обронил Старик.
Он опять, словно бы ушел в себя, но Нафин не унимался:
— А почему ты думаешь, что Гнездовище погибнет? — упрямо спросил он. — В предсказании говорится, что оно только исчезнет. А вдруг это означает, что Летающие орели, когда получат своих детей, заберут нас всех на Сверкающую Вершину! И мы не погибнем, а будем жить там с ними, и носить такие же красивые сверкающие одежды! По-твоему, это невозможно?
Старик печально покачал головой.
— Как же ты еще юн и… неопытен.
Он смягчил слово, не желая обижать Нафина определением «глуп», но тот понял и снова надулся.
— Ладно, — примирительно сказал Старик, — не обижайся. Лучше ответь мне еще на один вопрос: что ты теперь собираешься делать?
Нафин, для вида обиженно посопел, подумал немного, закатив глаза к потолку, и сказал:
— Ну-у, раз в Генульфовых записях нет ничего полезного, то, я думаю, для начала, можно было бы поискать Сверкающую Вершину и познакомиться с Летающими орелями.
— Зачем?
— А пусть расскажут, кто такой этот Дормат, и что за дети у него были. Может, их вообще не стоит искать! Или они сами их давно нашли… Точно, — обрадовано воскликнул Нафин, — столько лет прошло! Они сами давно нашли этих детей! Просто мы ничего не знаем! Вот я и слетаю на разведку, и все наладится!
— Нет, — твердо сказал Старик, — не нашли.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю.
Нафин хитро посмотрел на Старика и спросил вкрадчиво:
— А, что ты еще знаешь?
— Что говорю с глупцом! — Разозлился вдруг тот. — Что ты все выпытываешь! Думаешь хитрее меня?! Нет! Ты сперва подрасти и поумней, как твой отец, вот тогда и поговорим. А сейчас не лови меня на слове. Вижу, ты уже решил, что делать — вот и делай! Все равно, какие бы я разумные доводы ни приводил — толку не будет!
— А вдруг будет, — залопотал испуганный гневом Старика Нафин. — Ты же даже не пытаешься со мной поговорить! Вместо этого только напускаешь еще больше таинственности. А мне любопытно! Мне хочется узнать все-все!.., — и, видя, что Старик все еще сердится, жалобно заканючил: — Ну, пожалуйста, можно мне их поискать! Мне так скучно здесь! Я не хочу всю жизнь копаться на огороде и учиться плести веревки из листьев. У меня крылья, у меня много сил… Пожалуйста! Тебе ведь только и нужно — указать мне направление, куда летал Генульф, и все! Дальше я уж сам как-нибудь…
— Делай, как знаешь, — устало вздохнул Старик, — ничего я тебе показывать не буду. Раз ты избранный — лети куда хочешь, Судьба сама тебя выведет. Но, поверь, — он посмотрел прямо юноше в глаза, — настанет день, когда ты обретешь мудрость своего отца, ту, которая дается сердцем, и захочешь вернуться в родную гнездовину. И тогда я больше всего на свете хочу для тебя одного: чтобы ты не увидел её заваленной пылью, потому что там, где нет любви и нет памяти, растет только пыль! Сейчас ты меня, конечно, не поймешь. Ты слишком юн, и нет в твоем сердце подлинных чувств, на которые можно опереться. Но они придут, и тогда, держись, мой мальчик, как бы твое сердце не разорвалось от тоски! Тебе скучно в Гнездовище, потому что ты не понимаешь его сущности. А оно построено на любви и ею же живет! Наши женщины умирают, не в силах жить без ушедшего мужа, а если что-то их и удерживает, то это любовь к детям и к его памяти. И в последних словах мужчин всегда любовь, всегда забота о тех, кто остается! Убери это из нашей жизни и, тогда, действительно, останутся только огороды, да веревки из листьев… Подумай об этом, Нафин, подумай хорошенько. И, может быть, тогда ты перестанешь задавать глупые вопросы… Вот все, что я могу сказать. Помешать тебе я не в силах, да и Метафта с крыльями несколько погорячилась. Все это бессмысленно, если ты уже принял решение. Но, если еще не уверен, если можно.., подумай над моими словами.
Нафин молчал, совсем как мать, покусывая нижнюю губу.
— А ты любил свою жену? — Спросил он вдруг.
— Очень, — просто ответил Старик. — Я помню, как увидел её первый раз, сидящую у костра, в Долине, такую юную и такую прекрасную! Помню, как принес её в Гнездовище после свадьбы,… она была очень смешлива… Помню, как просыпался по ночам и смотрел в её лицо, сам не веря своему счастью… Но ты ведь верно хотел спросить, почему я не умер от тоски по ней? А вот потому и не умер, что из всех детей Генульфа я остался один, кто все помнит, с самого начала и до сегодняшнего дня. Гнездовище для меня все: мои родители, мои братья и сестры, моя жена и моя жизнь… Может, я и жив до сих пор, потому что должен все это тебе сказать. С одной стороны — мои слова, а с другой — слова предсказания. Судьба дает тебе право сделать выбор. Решай, мой мальчик, только решай спокойно, обдуманно, не делай ничего сгоряча…
— Ладно, — ответил Нафин, — я подумаю. Но ведь ты сам сказал, что знаешь далеко не все. И про Генульфовы записи тоже… Ты же их не видел, и что там было — точно не знаешь. А я уверен, там есть способ, как нам спастись. И отец в это верил, потому и рылся в обвале до последнего дня…
— Ты не сможешь их прочесть, даже если и найдешь…
— А вот для этого и нужны Летающие орели, — наставительно, как маленькому, пояснил Старику Нафин. — Уж они то читать умеют. Я раскопаю записи, отнесу их на Сверкающую Вершину и попрошу прочесть! Орелинский язык я выучил, общаться смогу, так что это будет несложно…
Старик горько засмеялся и опустил голову.
— Дурачок, — пробормотал он, — какой же дурачок! Так ничего и не понял… «Отнесу записи».., как будто их так легко поднять! Особенно тот, большой.., — тут он осекся, вскинул на Нафина глаза и поспешил поправиться: — Их наверняка раздавило обвалом.., я так думаю…
Еле заметная усмешка пробежала по губам юноши.
— Ладно, — легко согласился он, — нет, так нет. Пойду, поразмышляю над твоими словами. А если вдруг мама затеется меня искать, скажи ей, чтобы не волновалась. Крылья связаны, и я никуда не денусь…
* * *
«Он что-то знает!»
Нафин ликуя, выскочил из гнездовины Старика, в несколько больших прыжков пересек его огород и, через заросли деревьев, помчался к своему тайнику.
«Конечно, я подумаю над твоими словами, Старик, — говорил он сам себе, — но потом, когда придумаю, как выудить из тебя все, что ты знаешь! Но, каков хитрец! Ясно, что он раскопал обвал, а все, что нашел — перепрятал. Интересно, куда? Он старый — далеко унести не мог.., или тогда мог? Надо подумать»…
Давным-давно Нафин отыскал у подножия скалы довольно глубокую и просторную нишу, о которой рассказал только Сольвене. Здесь всегда было тепло и сухо, потому что ни дождь, ни ветер в эту нишу не залетали. А, поскольку юноша заботливо разгреб все мелкие и крупные камни, и застелил пол сухими листьями и травой, то здесь было еще и чисто, и уютно. Но, разве девчонки в этом что-нибудь понимают!.. И теперь, сидя на мягкой подстилке, Нафин блаженствовал и размышлял. Он проследил, сквозь листву, весь путь солнца, неумолимо двигавшегося к закату, но так ничего и не придумал. Пожалуй, пора было отправляться домой, успокоить Метафту. Однако, едва Нафин поднялся на ноги, как снаружи донесся нарастающий звук хлопающих крыльев, а затем, тяжелое дыхание.
Затаив дыхание, и больше всего на свете боясь ошибиться в своей догадке, юноша осторожно выглянул и чуть не вскрикнул от восторга. В двух шагах от него стоял Летающий орель! Он был в пол-оборота и спиной, но Нафин легко угадал в нем одного из тех двоих, которых видел утром. Не имея силы больше сдерживаться, он выскочил из своего укрытия и, раскинув руки, радостно заорал:
— Ты вернулся!!!
Орелин вздрогнул, отскочил, но, зацепившись ногой о камень, упал навзничь.
— Не бойся, — затараторил Нафин, — я не причиню тебе вреда! Я очень даже рад! Только, пожалуйста, не улетай, как утром. Я вас так ждал!.. Ты ведь вернулся за мной? Потому что узнал меня, да?… Ну, что ты так смотришь? Я же не чудовище, я такой же, как ты… Видишь!
Юноша распахнул крылья, но орелин только попытался отползти еще дальше. Он, похоже, не собирался улетать, но смотрел со страхом и словно бы к чему-то прислушиваясь. «Не понимает, — догадался Нафин, — ну, конечно, я же говорю на своем языке!».
— Не бойся, — повторил он на орелинском и, с радостью, отметил, что страх в глазах ореля сменился изумлением.
— Ты говоришь на нашем языке? — спросил гость. — Ты — орель?
— Ну да, — гордо ответил Нафин, — я — тот самый избранный. Разве ты вернулся не за мной?
— Нет.
Летающий его, похоже, все-таки не понимал. Он сел, потер лоб и тяжело привалился к скале.
— О чем ты?
— Как о чем! — опешил Нафин, — о предсказании, о чем же еще? Ты что, ничего об этом не знаешь?
Орелин отрицательно покачал головой.
— Ничего себе! — Нафин был искренне изумлен. — Зачем же ты тогда к нам прилетел?
— Я.., — гость замялся. — Это долго объяснять. В общем, я не могу вернуться к своим, поэтому вернулся к вам… Хотите, можете меня убить. Я не возражаю, — устало прибавил он.
— Зачем же, убить, — пробормотал разочарованный Нафин. — Мы не злодеи. Мы даже очень рады… Но, как же так?! Я думал, ты вернулся за мной, думал, мы вместе полетим к вам, чтобы я мог исполнить свое предназначение… А выходит, ты ничего не знаешь и даже вернуться не можешь…
Летающий снова потер лоб и сморщился. Похоже, у него болела голова.
— Прости, — слабым голосом сказал он, — я плохо тебя понимаю. Наверное, устал… Скажи, это ты забрал наши сосуды сверху?
— Да.
— А не мог бы ты… Я очень голоден… Принеси их, пожалуйста, сюда. Это все запасы еды, которые у меня есть.
— Вы едите эту воду? — сморщился Нафин. — Но, зачем же сюда? Пойдем, я отведу тебя. Сосуды у нас в гнездовине. Там и отдохнешь.
— В гнездовине.., — прошептал орелин, закрывая глаза, — вы их так же называете… Нет, я не дойду. Очень ослаб. Принеси сюда. Потом, когда наберусь сил, тогда пойдем.
— Ладно, принесу. Заползай в ту нишу и жди. Только никуда, пожалуйста, не улетай.
Нафин с сомнением осмотрел орелина, который пытался встать, но, казалось, готов был вот-вот свалиться без чувств.
— Пожалуй, я сам тебя в нишу затащу.
— Нет, нет! — Летающий поднял руку, — не надо. На это у меня сил хватит.
Он кое-как поднялся и, шатаясь, побрел к нише.
«Задохлик какой-то, — подумал Нафин. — Кажется он прав — не стоит его сейчас нашим показывать. Пусть поест, отдохнет, приведет себя в порядок и явится во всей красе. Не то совсем засмеют».
— Имя у тебя есть? — спросил он перед тем, как уйти.
— Тихтольн.
— А я — Нафин. Будем знакомы.
* * *
К своей гнездовине юноша подобрался со стороны огорода. Осторожно, бесшумно ступая, пробрался внутрь, вытащил сосуды, отнес их подальше и вернулся, как обычно, с шумом.
— Мам, я зашел сказать, что еще немного погуляю!
Где-то в глубине послышался шум, и Метафта выбежала из своей комнаты.
— Ну, как ты, сынок, — спросила она встревожено. — Вы поговорили? Я заходила к Старику, но он ничего толком не сказал, только «посмотрим», и показался мне каким-то расстроенным.
— Да, нет, — Нафин неопределенно помахал в воздухе рукой, — мы нормально поговорили. Я обещал подумать. А Старик, наверное, из-за жены расстроился. Он её все вспоминал… Жаль, конечно, что он ничего не знает про Генульфовы записи, но, видно, ничего уж не поделать. В общем, все хорошо, мам. Ты не волнуйся, я уйду ненадолго. Просто хочу побыть один.
— Ладно, иди, — закивала Метафта. — Иди, только возвращайся не слишком поздно.
— Хорошо.
Нафин вышел из гнездовины с печальной неторопливостью, но, едва оказавшись вне поля зрения матери, резво подхватил сосуды и помчался обратно к нише.
Солнце уже почти село, оставив под деревьями таинственный сумрак, и Нафин весело петлял между ними, предвкушая предстоящую беседу с Летающим. «Задохлик он, или не задохлик, а говорить может. И, значит, может рассказать что-нибудь интересное. Обязательно расскажет! Пожалуй, стоит его какое-то время попрятать. Вдвоем, между собой, мы что-нибудь выясним, а потом придем к Старику и поставим его перед выбором: или он нам все рассказывает, или мы немедленно улетаем сами, куда сочтем нужным. Он испугается и, если так сильно любит Гнездовище, как говорит, то обязательно нам все расскажет и покажет, где спрятал Генульфовы записи! А там посмотрим…» Нафин даже подпрыгнул от радости, что все так славно сложилось, и хотел припустить еще резвее, но тут из-за деревьев донесся тихий смех и шепот.
Нафин замер. Влюбленные! В другое время он не упустил бы случая пошалить, но теперь… А впрочем, что ему мешает сделать это теперь? Дело то минутное!
Юноша крадучись подобрался к дереву, из-за которого слышал шепот и уже открыл, было, рот, чтобы напугать уединившуюся парочку, но, в последний момент, смог только обалдело выдохнуть:
— Сольвена!
Девушка вскрикнула и подскочила. На секунду мелькнули её испуганные глаза, и она тут же исчезла за деревьями. А следом за ней, навстречу Нафину, поднялся Кантальф — первейший недоброжелатель, задиравший юношу больше других.
— Ты?! — во второй раз выдохнул Нафин.
— Я, — самодовольно усмехнулся Кантальф. — А ты-то тут, что делаешь?
Он посмотрел на сосуды в руках противника, и ухмылка на лице стала еще шире.
— А-а-а, понимаю, все носишься со своими Летающими орелями. Сольвена мне говорила. Ха-ха-ха! Ну и дурак же ты, Нафин!
Он поднял, было руку, чтобы похлопать Нафина по плечу, но, посмотрев на его лицо, передумал и неспешно пошел в ту сторону, куда убежала девушка.
Несчастный избранник Судьбы остался стоять один среди сгущающейся темноты. Она с ним!.. Здесь!.. Она ему все рассказывает!.. Значит, они тут над ним смеялись, а он… Ой, дурак! Какой же дурак! Думал она ему друг, но нет!.. Нет у него тут друзей! Одни предатели и враги! И щадить он их не станет! Даже ветер, зашумевший вдруг в кронах деревьев, не сможет остудить его злость! Будет гроза? Отлично! Весь мир хочет ополчиться против него — ну и пусть! Он себя еще покажет! Вернуться домой? Ни за что! Теперь — нет! Пусть поживут без него! Пусть поищут, поплачут, а он…
Нафин вдруг почувствовал, что каменные сосуды оттягивают ему руки.
Летающий!
Ну да, конечно! Как же это он забыл! Вот и выход!
Юноша сорвался с места и, что есть силы, помчался к нише. Ветер все усиливался, эхо доносило отдаленные раскаты грома, но он ничего этого не замечал. Перед глазами, то и дело, мелькало испуганное лицо Сольвены, и всякий раз, когда оно возникало, злость, клокотавшая в Нафине, вспыхивала с новой силой.
Тяжело дыша, он ворвался в нишу и швырнул сосуды на траву перед Тихтольном.
— Кто такие дети Дормата?!
Орелин, потянувшийся было за едой, так и застыл в изумлении.
— Что?
— Кто такие дети Дормата?! — закричал на него Нафин. — И не говори, что ты не знаешь! Знаешь — я уверен! Мне надоело, что все держат меня за дурачка и скрывают то одно, то другое! Или ты немедленно рассказываешь мне о них все, или я забираю твою еду, и оставайся здесь один, как знаешь!
В этот момент сверкнула молния, осветив, на мгновение, его лицо, и Тихтольн понял, что юноша обязательно исполнит свою угрозу.
— Ладно, ладно, я расскажу, — забормотал он, гадая, что за перемены произошли с его новым знакомым, — только не кричи и дай мне немного поесть.
— Ешь.
Нафин ногой подтолкнул к нему сосуд и сел рядом, подобрав колени и уткнув в них подбородок.
Тихтольн не спеша, сделал пару больших глотков, утерся тыльной стороной ладони и уже приготовился рассказывать, как вдруг снаружи послышались далекие зовущие голоса.
— Это тебя? — спросил орелин.
— Сольвена! — прошипел Нафин, вскакивая. — Это самая лживая и подлая девица на свете! Наябедничала таки матери, что видела меня с сосудами!.. Быстро она, однако! Теперь нам здесь нельзя оставаться. Скорее, вставай и развяжи мне крылья! Полетим в скалы, там и спрячемся. Все! Никаких больше запретов! Надоело!.. Ну, что ты там возишься? Нельзя поскорее? — поторопил он Тихтольна, чьи пальцы все время соскальзывали с узла. — Если найдут — я ни за что не ручаюсь!
— А, может, не найдут? — жалобно спросил смертельно уставший орелин, которого пугала даже мысль о том, что куда-то еще придется лететь. — Скоро начнется гроза, не лучше ли переждать её здесь?
— Не лучше, — отрезал Нафин. — В скалах наверху найдем, где укрыться, а здесь опасно. Я этой.., ну, в общем, я это место показывал. Так что, не тяни время и лети за мной!
Он первым выскочил наружу, наматывая на руку снятую веревку, а следом за ним неохотно потянулся и Тихтольн. Они долетели до первого уступа и осмотрелись.
— Пожалуй, здесь низковато, — заметил Нафин.
— Тогда, полетели на то место, где ты нас утром нашел.
— Нет, я там обычно летаю, и устроил все так, чтобы можно было добраться и пешком. Эти, — он кивнул в сторону Гнездовища, — наверняка и про то место пронюхали. Еще бы, от зависти готовы были лопнуть, что я могу летать, а они — нет, вот и выслеживали, и вынюхивали, как будто других дел нету!
— Так ты один летаешь? — воскликнул Тихтольн.
— Ну да. Хотя, есть еще Старик, но он такой древний, что едва это может… Но, хватит болтать! Летим туда…
Нафин наугад указал направление и первым поднялся в воздух.
— Ах, я дурак! — со стоном схватился за голову Тихтольн. — Трусливый, глупый дурак! Перепугался, поднял панику! «Они летают, они летают!»… А летает только этот сумасшедший, да еще какой-то старик! Ну, я и влип! Нет, видно поделом мне все это: и этот псих, и таскание за ним, когда вот-вот гроза начнется…
— Скоро ты? — крикнул откуда-то сверху Нафин.
— Лечу, не волнуйся, — зло отозвался Тихтольн и полетел следом.
Они опустились на довольно просторную площадку. От дождя, впрочем, укрыться на ней было сложновато: нигде никаких ниш или навесов. Разве что, среди груды камней, неподалеку, мог оказаться вход в какую-нибудь пещерку, но Нафин не стал этого проверять. Ему не хотелось терять время.
— Гроза от нас все равно еще далеко, — заметил он. — Видишь, молнии сверкают, а грома не слышно.
— Знаток, — усмехнулся Тихтольн, усаживаясь на камень. Он был зол на весь белый свет, едва ли меньше Нафина. — Может, пока гроза далеко, еще полетаем? Попрячемся? А то я что-то совсем не устал, мотаясь тут за тобой. — Он с силой помассировал себе шею и плечи и распахнул расслабленные крылья, отдыхая. — Устроил гонку! Можно подумать, мы удирали от врагов… Ну, я то, ладно, по собственной глупости оказался здесь без дома, без семьи, а ты то, что? Это же твой дом?
— Уже нет, — огрызнулся Нафин. — Ты, давай, рассказывай, пока дождь не пошел.
— А что ты все командуешь! — возмутился Тихтольн, до которого, наконец, дошло их положение. — Как я понимаю, мы сейчас в равных условиях, так что, сбавь тон! Иначе, я ведь тоже могу потребовать, чтобы ты рассказал, с какой стати затащил нас сюда, и почему мы прячемся?
— А я и расскажу, не волнуйся, но после тебя. — Нафин присел рядом. — Ты вообще, приготовься, разговор у нас будет долгий. А там, глядишь, и дел будет невпроворот. Так что, не тяни время, рассказывай. А потом, может и от меня, что-нибудь интересное услышишь.
Тихтольн, с сомнением посмотрел на него, но любопытство взяло верх, и он, хотя и не слишком охотно, стал рассказывать.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
