
Бесплатный фрагмент - О чём вспомнил и размышлял
Книга первая. Края мои родные
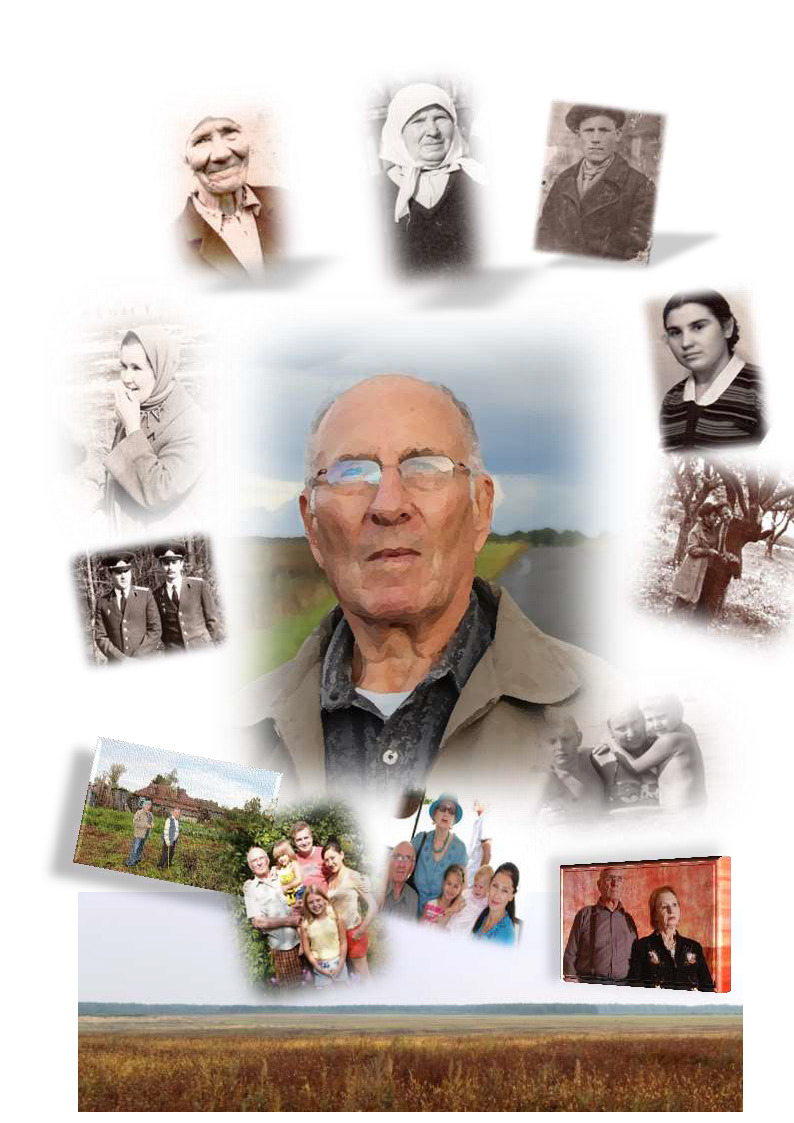
Неумолимо и быстротечно время, отпущенное каждому из нас в этом мире. Наступает момент, когда жизненная перспектива становится осязаемо чёткой и ясной в своей безусловной однозначности и обречённости, когда хочется обернуться назад и с высоты прожитых лет обозреть уже подёрнутую туманной дымкой дорогу, которую прошёл, но теперь без всякой надежды что-то там, в прошедшей дали, изменить, выбрать обходы, объезды, а может быть и подыскать другую дорогу и при этом измениться и самому.
Возникшая совершенно спонтанно уже в достаточно зрелом возрасте потребность как бы отчитаться за прожитую жизнь явилась причиной создания этого повествования. Я даже отчётливо и не представляю перед кем и за что мне нужно отчитаться, но моё внутреннее состояние и убеждённость настоятельно требуют совершить этот поступок.
Не будучи профессиональным литератором, стремился лишь с максимальной достоверностью воспроизвести факты и события, свидетелем или участником которых был, на фоне сопутствующей им обстановки в стране и обществе. Я не придерживался строгой хронологической последовательности в изложении своего видения разных проблем, с которыми встретился в Вооружённых Силах и государстве и к которым был неравнодушен в силу полученного воспитания и заложенных во мне Создателем жизненных принципов.
О памяти и беспамятстве. Вместо предисловия
Уходят годы. Наступает время расстаться с любимой, или не очень, работой, коллективом, интересы которого были в определённой степени и твоими, всё меньше остаётся рядом людей, которых знал, круг общения неизбежно сужается, а средства массовой информации и книги не могут компенсировать былого живого общения. И всё чаще и чаще задаёшь себе вопросы: «зачем жил, что сделал, что оставлю после себя?». Вольно или невольно из глубины сознания всплывают разные факты и события из прожитой жизни, одни довольно чётко и полно, другие только в качестве фрагментов вроде бы единого целого, но покрытого рваной, разной плотности дымкой.
Сколько людей — столько и вариантов степени занятости человека воспоминаниями, степени погружения в них и объёма времени на этот процесс. Деятельные люди и до конца остаются таковыми и воспоминания, как естественная форма продолжения жизни, никоим образом не снижает способности их к оценке текущей ситуации и возможности заглянуть на перспективу.
С детских лет я с большим трепетом всегда воспринимал природные символы и явления, указывающие на определённые изменения в жизненных процессах на земле. Наибольшее впечатление на меня производит и до сих пор прилёт и отлёт птиц, особенно журавлей, извещающих нас своим курлыканьем о начале и завершении очередного жизненного цикла. Томительно-грустное настроение при их отлёте (ушёл ещё один сезон, да и год жизни) и радостно-возвышенный эмоциональный подъём весной при их пролёте на север — жизнь, несмотря ни на что, продолжается.
Нам, людям, трудно судить о «мыслях» в журавлиных мозгах, «вспоминают» ли они о тех дальних северных краях, где провели лето, где народилось новое потомство. Или все их действия продиктованы заложенными в них инстинктами о сохранении и продолжении жизни их журавлиной стаи.
Но человеку свойственно, по крайней мере, раз в году (например, при встрече Нового года) вспоминать события года уходящего, а иногда и проводить сравнительную оценку с годами предыдущими, углубляясь, что называется, в историю.
Память! Вот что свойственно человеку и не только на уровне инстинктов, но и на основе разумного начала, заложенного в нас, людей, Создателем. В первую очередь речь, конечно же, идёт не столько о прошедших событиях как таковых, но, прежде всего, о людях, так или иначе связанных с ними, о тех людях, которых мы знали лично или которых узнали по участию их в запомнившихся событиях. Естественный приоритет отдаётся своим близким: родителям, родственникам и тем, до того посторонним, которые в силу ряда причин стали нам интересны и близки, а может быть и ненавистны. Так что диапазон для воспоминаний достаточно широк.
Ведь каждый человек по сути своей уникален и, как полагаю, в мире не найдётся и двух личностей, у которых жизненная стезя была бы абсолютно одинаковой. Можно говорить о количестве прожитых лет и в этом сравнительном анализе найдётся сколь угодно большое число людей одинаковых по такому измерению.
Но в памяти истории остаются, как правило, не рекордсмены по числу прожитых лет, а люди, оставившие свой индивидуальный след на земле и которых, что очень важно, знали при жизни современники. Безвестным так и суждено, по логике вещей, остаться микроскопической пылью, которую все топчут, не задумываясь о происхождении этой субстанции. А эта «субстанция», на самом деле, была тоже индивидом, который жил своей жизнью и мыслил теми категориями, которые вложил в него Создатель. Вероятнее всего, он не помышлял о вечной памяти, даже, может быть, и не понимал смысла этого понятия, но уж точно (по моим наблюдениям) хотел жить дольше (оставаться на «белом свете») даже в тех ужасных условиях сельской действительности, о которых знаю не понаслышке, а по собственным ощущениям. Хотя высказывания о бессмысленности дальнейшего пребывания в этом мире мне помнятся. Чаще всего это происходило с теми людьми, которые почувствовали свою ненужность (по разным причинам) прежде всего своим близким, родным, которым было отдано много сил на устройство их в земной жизни. Это тягостное состояние порождается зачастую чёрствостью детей и близких, по своему недомыслию уверовавших в то, что теперь они и «сами с усами» и для их благополучия родители становятся обузой в корыстных помыслах великовозрастных дитятей «пожить для себя».
Глубоко убеждён в том, что человек приходит в этот мир может быть и случайно, на первый взгляд, но по какому-то неизвестному для нас плану Творца, поэтому и нужно воспринимать жизнь как дар Божий и помнить о тех, кто был материальным носителем зародившейся жизни, твоей жизни. Забвение этой истины приводит не только к отчуждению от родителей как уже «отживших своё», но и порождает «иванов, не помнящих родства», способных на любые предательства и измену в силу своих убеждений заботиться только о себе, только об удовлетворении своих низменных инстинктов.
Сказанное выше больше относится, я бы сказал, к бытовым явлениям. В то же время кто бы помнил о каком-то Александре из Македонии, не соверши он успешные беспримерные походы со своей армией по странам и континентам. Кто бы знал много о египетских фараонах, не построй они (или лучше сказать, при них) такие величественные сооружения как пирамиды. Архимеда, Пифагора и многих других помнят потому, что их трудами уже сотни лет пользуются люди в своей практической деятельности.
Для истории совершенно неважно, сколько конкретный человек отсчитал лет и зим (это имеет значение только для самого человека), а важно лишь то, сколько и какого качества труда (какой глубины след) он оставил на земле своим потомкам в качестве «науки» для выживания и продолжения рода. Говоря другими словами, продолжительность человеческой жизни характеризуется в большей степени её насыщенностью событиями и делами, в которых принимал участие. Моя мать уже на склоне лет часто с болью говорила об однообразии своей жизни, о том, что она в свои 80 лет мало что видела, особенно хорошего, на этом свете «как будто и не жила». Потому что всё время была в работе, без выходных и отпусков, без тех атрибутов человеческой жизни, которые стали нормой для значительного числа живущих ныне на земле (хорошие бытовые условия и нормальное питание, посильная работа, обеспечивающая всем необходимым для жизни, обеспеченные отдых, старость, медицинское обслуживание и т.д.). А сколько таких матерей и отцов, бабушек и дедушек, которые неустанно своими руками и горбом обеспечивали другим возможность вкусить упомянутых прелестей жизни, осталось в истории на слуху? Сколько поколений тружеников сменилось на земле, сколько могил сравнялось с землёй? Кто знает. А мы, если и вспоминаем о них, то только чохом, ибо не знаем о предках ровным счётом ничего (кроме небольшой категории людей), забывая, вынужден повториться, об индивидуальности каждого жившего и живущего.
По буддийским верованиям каждый человек умирает дважды: первый раз — вместе с физической смертью тела, а второй — когда умирает память о нём. Люди давно уже пытаются хотя бы на какое-то время оставить память о себе: одни материальными приобретениями (квартиры, дворцы, сундуки и пр.), другие — духовными ценностями (музыка, картины, книги, скульптура и т.д.). Что из них долговечнее? По-видимому, здесь нет однозначного ответа, тем более что «ничто не вечно под луной». В бытовом плане, распространённом повсеместно, по крайней мере, в цивилизованных странах, память об ушедших ассоциируется с установкой на местах погребений (и не только) различных памятников — будь то христианский крест, мусульманский камень или монументальное сооружение, в том числе и при массовых захоронениях в местах боевых действий или чрезвычайных происшествий. Эти памятные знаки нужны в первую очередь живущим, чтобы они хотя бы на короткое время, определяемое продолжительностью собственной жизни, не забывали, откуда они пошли, и кто им обеспечил путь-дорогу. Не исключаю также и того, что, может быть, и душам усопших такое внимание со стороны живущих совсем не безразлично.
Я далёк от мысли считать, что все люди поголовно только и думают об увековечивании себя в истории. Нет, конечно. Увековечивание той или иной личности осуществляется не ею самой, а потомками. Есть, конечно, и исключения. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» — и мы верим А. С. Пушкину, что так и есть по воздействию его трудов на умы людей. Эта память о великом поэте не идёт ни в какое сравнение с памятью о Солженицине, выпросившим у патриарха Русской православной церкви место для погребения на кладбище Новодевичьего монастыря рядом с известными людьми. Так что память памяти рознь!
Не тщеславия ради остаться в памяти затеял я это повествование, но для того, чтобы показать мои истоки и людей, с которыми свела жизнь, и ту обстановку (изнутри), в которой прошли мои годы. Пишу с надеждой, что сей труд будет хотя бы в малой степени полезен, а, может быть, и послужит стимулом к более глубокому познанию истории нашего рода, да и истории государства, в котором мы живём.
Глава 1. Где мы родились и росли
Пути-дороги
Вся жизнь человека от рождения и до кончины связана с дорогами: длинными или короткими, обустроенными или не очень, в одиночестве или в семье, в коллективе; с комфортом или без, в хорошем климате или с постоянными ненастьями и т. д., что накладывает отпечаток и на саму жизнь человеческую, на насыщенность её впечатлениями, полученными от окружающей среды в объёме, зависящем от того куда глядел при перемещении и как далеко заехал, зашёл.
В этом смысле и сама жизнь есть дорога и у каждого она своя. Неисповедимы планы Господни и никому не дано заранее знать свою судьбу — дорогу. Одни рождаются на «асфальте» и по нему передвигаются всё назначенное время, другие — на «земляном полу» и весь свой отведенный срок месят грязь, не позволяющую высоко поднять голову, чтобы хорошенько осмотреться и подыскать другой путь. Печальна судьба тех, кто из-за неосторожности или излишней самоуверенности, не подчинившись правилам перемещения по асфальту, волею случая попадает на грунтовую, без твёрдого покрытия, дорогу, периодически размываемую дождями и разбиваемую такими же «передвиженцами» и где-нибудь, обессилив вытаскивать ноги из непролазной грязи, застревает на долгое время, а то и навсегда. Другой же, вытолкнутый из грязи какими-то силами на асфальт и сообразивший, что если внимательно следовать указаниям дорожных знаков, а при их отсутствии (указатели стоят не везде, где хотелось бы), то и сообразовывать своё передвижение с окружающей обстановкой на открывшемся пути, может уехать весьма далеко и даже получить удовольствие от этого процесса.
Волею судьбы я уж точно не «родился на асфальте», а так как кругом были одни чернозёмы, т.е. непролазная грязь, в прямом и переносном смысле этого слова, то моим родителям даже при всём их естественном родительском желании видеть своего ребёнка выведенным на хорошую дорогу оставалось только мечтать о ней. Но я всё-таки вышел на свою дорогу. Она была во многом грунтовой, но значительная её часть была пусть и не совсем с гладким асфальтом, но всё-таки с «твёрдым покрытием».
Свой жизненный путь часто ассоциирую именно с географическими дорогами, по которым приходилось передвигаться. Дорога, особенно длинная, заставляет задуматься кто ты, откуда, куда и зачем передвигаешься, как далеко удалился от начала своего пути и что ждёт впереди, что остаётся за спиной там, откуда уехал и куда больше не вернёшься. Либо там хорошо просматривается колея, обеспечивающая уверенное и безопасное движение в выбранном тобой направлении, а может и кому-то мешающая проторить свою колею в другом направлении, либо есть ещё и что-то светлое, помогающее, прежде всего, своим близким рассмотреть детали дороги твоей с тем, чтобы более уверенно передвигаться по своей, их дороге жизни. Конечно, не каждому дано правильно расставить свои фонари-светильники так, чтобы их свет не слепил глаза другим и не стал бы помехой, отвлекающей от выбранной дороги и тем самым не обеспечивающими безопасность перемещения по ней.
Но время всесильно. Дорожную колею могут и углубить последователи, но другие же для удобства их езды и выбора своего направления могут и сравнять её, уложив свежий асфальт так, что и следа от прежних «передвиженцев» не останется. Светильники же будут заменены на другие в связи с появлением новых более эффективных и изменением принципов организации самого освещения.
В реальной жизни оно так и происходит, этот процесс остановить нельзя, да и не нужно стараться сохранить то, что не обеспечивает надлежащего жизненного комфорта, способствующего воспроизводству и продолжению жизни человечества в новых условиях. Умиление былым не может быть причиной консервации достигнутого, но лишь основанием для извлечения уроков в поступательном движении вперёд.
Но вот что я ещё заметил для себя, передвигаясь при необходимости по нашим дорогам. Все изменения, происходящие на них и рядом с ними (в пределах досягаемости зрения и понимания ситуации вокруг) очень сильно влияют и на духовное состояние человека, а, следовательно, и на его личный жизненный путь. Прекрасно уложенный асфальт, оборудованная всей инфраструктурой дорога, позволяющая быстро и безопасно передвигаться по ней, возделанные поля, пасущиеся стада, возведенные новые современные дома и посёлки вызывают прилив бодрости, какую-то внутреннюю радость, что жизнь продолжается и ты даже не задумываешься о количестве жизни, позволю так назвать это состояние, оставшейся в тебе лично. А если проезжаемые километры изобилуют ухабами, примыкающие к дороге когда-то распаханные и дававшие хороший урожай поля заросли кустарником и всяким чертополохом, если становится всё меньше и меньше крестьянских домов, а на их месте не появляется новых, более благоустроенных строений и производств, если не видно ни одной пасущейся скотинки, а видна лишь многие годы заброшенная шахта Куровская, если видишь вдоль дороги женщин и мужчин с потухшим взором, предлагающих купить у них собранные в лесу грибочки и ягоду, выращенные на своих огородах овощи и фрукты, чтобы хоть как-то поправить своё материальное положение, когда видишь, говоря общими словами, «развал и запустение», то и радости в душе остаётся очень мало, разве лишь то, что ещё как-то выделяешься на этом фоне. В молодости, должно быть, ощущения были и не такие, но к старости невольно соотносишь своё внутренне состояние с окружающей обстановкой в надежде найти поддерживающие твой жизненный тонус стимулы.
Так уж сложилась жизнь и места моего проживания, что по дороге на мою родину, к месту моего рождения, приходилось пересекать в разных направлениях Московскую, Орловскую, Калужскую, Смоленскую и Брянскую области. И на этих дорогах и в разные времена видел массу примеров, свидетельствующих о пробуждении жизни и развитии нашего государства, затем доказательства всеобщего развала и запустения, олицетворением чего в определённой степени и является шахта Куровская в Калужской области своими разрушенными корпусами и инфраструктурой, но зато с упирающимися в небо огромными терриконами пустой породы. Справедливости ради замечу, что в последние годы в Калужской области появились довольно заметные ростки возрождения, вселяющие надежду и вызывающие ощущение того, что мы ещё поживём.
Автодорога «Украина», называемая в обиходе просто Киевским шоссе, по которой ездил на родину многие десятки раз, за годы ельцинско-путинского правления практически улучшения не претерпела, за исключением отдельных участков, а в условиях резко возросшего транспортного потока требует коренной модернизации. Но всё-таки несмотря на реальную угрозу разбить подвеску или лобовое стекло продолжаем преодолевать все трудности — это ведь дорога к дому, а дом и дорога к нему святы.
Ну вот и подъехали по Киевскому шоссе к пересечению с шоссе Брянск-Орёл, откуда путь лежит до Карачева и далее уже на мою родину — село Ружное, расположенное на самом краю района в 25 километрах от районного центра. Этот участок пути преодолевался мною пешком и на транспорте огромное число раз с детских лет и потому картина, нарисованная в сознании от увиденного в те далёкие годы, казалась долгое время прочной и незыблемой. А теперь, в каждый очередной приезд, начинаешь с болью понимать, что от той привычной картины остаётся всё меньше и меньше, что этот холст очень сильно обветшал и во многих местах зияют огромные дыры. Каркас, на котором держался холст, перекосился и частично разрушен и теперь нет уже таких материалов, красок и приёмов, чтобы восстановить былое изображение на этом холсте жизни, поэтому с тревогой ожидаешь, когда и эти оставшиеся кусочки старого холста рассыплются в прах, а на их месте и за ними откроются совершенно другие виды и перспективы, а на вновь натянутом холсте новые «художники» не оставят тебе места.
Пока не будем останавливаться в Карачеве и свернём на дорогу, ведущую в другой районный центр Брянской области, город Навля. Моё родное село расположено примерно на половине пути между этими районными центрами. Проезжаем Бережок, который по своим размерам и расположению не претерпел принципиальных изменений с тех давних послевоенных лет, когда я впервые его увидел. Строятся новые дома на месте сносимых старых, более комфортабельные, с гаражами и приличными заборами, появился хороший магазин (правда, ещё в советское время), возродилась церковь, находившаяся в прежние безбожные времена в полуразрушенном состоянии. Не стало «голубого Дуная» — небольшого ларёчка, торговавшего в советские времена кондитерскими изделиями (в весьма скудном наборе) и, конечно же, водкой на разлив и нехитрой закуской в виде ржавых кильки и селёдки, завёрнутых в кусок газеты. Название эта торговая точка получила от местных и проезжающих острословов, собирающихся здесь в ожидании попутного транспорта и не терявших времени даром, если, конечно, такая возможность была в кармане. Сейчас через Бережок идёт асфальтированная дорога, а мне ещё помнится булыжная мостовая, идущая до Согласия, куда мы и подъезжаем.
Согласие — один из немногих населённых пунктов, которые не только сохранились, но и значительно расширились, украсившись зданиями современной постройки (жилыми и торговыми). Причина такого относительного процветания заключается в близости к районному центру и наличию работы — в былые годы здесь был крепкий совхоз, а ныне в полутора километрах построен большой свиноводческий комплекс по производству мяса. Хозяева комплекса провели капитальный ремонт шоссе, идущего через Согласие, и теперь этот участок дороги по своему качеству не уступает лучшим городским дорогам, чего не скажешь о следующем участке — от комплекса до Рудаков. Здесь осталась та же «трясучая» щебёнка.

Уже многие годы при въезде в Согласие можно наблюдать семью аистов, избравших для своего жилья водонапорную башню. Такие же гнёзда можно увидеть и в других местах нашей дороги, в том числе и в Костихино, где они соорудили своё жилище на опоре линии электропередач. Удивительные птицы. Их стало очень много, и они предпочитают селиться поближе к людям. Может из-за того, что люди их не обижают, а вблизи от людских поселений легче найти пропитание.

Ближе к осени аисты, по-видимому, со всей округи, собираются в большие стаи и, готовясь к отлёту, кормятся на распахиваемом поле, здесь же, за Согласием, напротив свиноводческого комплекса, куда мы и подъехали.

Свиноводческий комплекс за Согласием производит впечатление размерами своих корпусов современной постройки, огромными сборниками и отстойниками навозной жижи, стекающей в них из производственных корпусов и, конечно же, специфическим запахом, присущим производствам такого рода, ощущаемым на значительном расстоянии. Хотя я и из крестьянской семьи и, как говорится, всего нанюхался в детстве, но такой концентрации «ароматов» в наших жилищах и даже в совхозных свинарниках не было. Но это неизбежные издержки крупных животноводческих производств, с этим надо мириться, так как пока ещё никто не придумал способов использования запахов ни в свинарниках, ни в курятниках. Примерно таких же размеров животноводческое производство возведено и на подъезде к Козинкам, как полагается теперь с многочисленной охраной и радующей глаз инфраструктурой. Хотелось бы, чтобы таких производств в нашей стране стало больше. Земель, пока не возделываемых и заброшенных вполне достаточно, да и люди найдутся, чтобы выращивать необходимое количество кормов на них.

Однако изучать технологию производства свинины мы не собираемся, а потому и продолжаем движение. Теперь уже трясясь и подпрыгивая на выбоинах, оставляя за собой огромный шлейф всепроникающей пыли от разбитой щебёнки, достигаем Рудаков. Половину пути проехали, и опять начинается более или менее сохранившийся асфальт. В Рудаках и в былые годы жителей было мало — три-четыре дома всего. Здесь успешно работал лесопитомник, обеспечивающий саженцами всю территорию Карачевского лесхоза. Лесоразведению в советские времена уделялось огромное внимание, поэтому благодаря такому заделу ещё не совсем «облысела» наша российская земля в ельцинско-путинское время. К слову сказать, у нас было очень много так называемых колхозных лесов, которые с ликвидацией колхозов оказались в руках проходимцев, безжалостно выпиливших огромные территории. Высоченные штабеля заготовленного строевого леса и вереницы автомобилей-лесовозов приходилось часто наблюдать на поле возле деревеньки Козинки, куда мы благополучно и подъехали, но уже опять по щебёнке.
Придорожные Козинки и Большие Подосинки (слева от дороги) приходят в полное запустение, бывшие совхозные постройки уже развалились, так как нет теперь хозяина земли в лице хотя бы бывших колхозов или совхозов. Но зато при подъезде к Козинкам, слева на горке, возведён довольно большой животноводческий комплекс, подобный увиденному нами возле Согласия. Может быть, такой поворот событий и есть воплощение моей давней мечты о переустройстве села, но не могу смириться с явным безразличием государства к судьбе многих и многих малых и больших сельских поселений, составлявших огромный источник людских ресурсов нашей страны.

Опять по щебёнке добираемся до Покрова, именуемого на картах как деревня Лужецкая. Границы этого поселения существенно не изменились с давних лет, но Покров как центр механизации утратил своё значение после ликвидации ещё в советское время бывшей здесь машинно-тракторной станции (МТС), что привело и к запустению и развалу объектов социально-бытового назначения. Очаг культуры, представленный в 50—60-е годы сельским клубом, сгорел в конце 60-х годов. Попыток его восстановления предпринято никогда не было. А зачем, говорят старожилы, если молодёжь всё равно не задерживается здесь, уезжает в города. Даже школы, полноценной средней школы, не только в Покрове, но и в радиусе 15 километров нет. В мои школьные годы покровские ребята обучались в Руженской средней школе, а сейчас и в моём родном селе школы не стало — некого учить.
Выезжая из Покрова, всегда всматриваюсь в то место, где когда-то стоял клуб и были установлены памятные стелы с именами сельчан, погибших в Великую Отечественную войну. Хотя стелы и сохранились, но нынешнее безлюдье на этом когда-то оживлённом «пятачке» наводит на грустные размышления, связанные, в том числе и с тем, что в 1955 году перед поступлением на учёбу клубом несколько месяцев заведовала милая девушка, ставшая потом моей женой.
Отсюда до Ружного осталось всего пять километров. Выехали на горку, пересекли трассу нефтепровода «Дружба», «французский ров» и на горизонте уже можно разглядеть небольшие зелёные пятна. Если в мои годы это были «Кожановы» дубы, служившие нам с давних пор не только своеобразным маяком, но и стимулом ускорить шаг (ведь часто из Карачева ходили пешком, никакого общественного транспорта не было) — до дома оставались какие-то три километра. «Кожановы» дубы имя своё получили по прозвищу владельца, в конце огорода которого и росли. Это были практически единственные высокие деревья во всём нашем селе. Когда они были посажены, никто из старожилов даже в мои детские годы не помнил. Теперь дубы не так заметны (не стало старых деревьев), тем более, на фоне большого зелёного пятна, указывающего на место расположения сельского кладбища. Но и оставшиеся меньшей высоты деревья по-прежнему напоминают нам, великовозрастным, о былом их значении как символе огромного села.
Я упомянул овраг, именуемый у нас «Французским рвом». Предание гласит, что в этом овраге захоронено много солдат армии Наполеона, погибших в Отечественной войне 1812 года. Так ли это или нет, доподлинно не знаю, но название оврагу было дано ещё в стародавние царские времена.
Однако, задержимся хотя бы на короткое время на, так называемой, Костихинской горке, получившей своё название от деревушки Костихино, расположенной под горкой. Отсюда уже можно рассмотреть некоторые фрагменты моего родного села и памятные места, связанные с трагическими событиями Великой Отечественной войны.
Деревня Костихино и во времена моего детства была небольшим поселением, не более тридцати домов. Она соседствовала с такой же небольшой деревенькой Трубчаниново. Своё название эти населённые пункты получили от фамилий их владельцев ещё во времена крепостного права, по крайней мере, так сказывали нам в школьные годы старожилы. По образу жизни население этих деревень значительно отличалось от наших, руженских. Разговорный язык здесь был более благозвучный, без всяких «чаго, каго», так режущих слух в нашем селе и до сих пор. Моя мать считала костихинских более «городскими», так как в домах у них всегда было прибрано и телёнка или поросёнка не тащили в дом в холодное время года — для этого имелись соответствующие постройки. В этих деревушках очень многие занимались разведением гусей и уток, так как тому способствовало наличие водоёмов вблизи жилья. В Костихино у нас были родственники по материнской линии, Стёпины, у которых мы ежегодно бывали на праздновании «покрова пресвятой богородицы» — престольного праздника в этих деревнях. Мой одногодок Леонид Стёпин был хорошим гармонистом, я пытался у него научиться этому ремеслу, но, к великому моему огорчению, Господь обделил меня музыкальным слухом, а потому пришлось усмирить амбиции стать «первым парнем на селе». Давно уже нет наших родственников в этих местах, да и самих деревенек практически не стало.
Конечно, с такого большого расстояния невозможно рассмотреть не только улицы села, но даже и значительно ближе находящиеся к нам строения бывшего животноводческого комплекса и полуразрушенной машинно-тракторной базы канувшего в Лету крупного и рентабельного совхоза «Ружное». Но зато сейчас хорошо видны разросшиеся деревья на сельском кладбище, находящемся на восточной окраине села. Такие вот метаморфозы времени.


И ещё о некоторых изменениях ландшафта, произошедших так же практически у меня на глазах. Это в настоящее время можно сразу же с Костихинской горки ехать дальше не задумываясь, а в годы моего детства и юности, а надо полагать и ранее, сразу же от Костихино начиналось болото, и при формальном наличии дороги, проехать по ней можно было только в очень сухое лето или морозной зимой. Протекающая внизу река Ревна заболачивала всю местность, тем более, что русло её проходило через мощные торфяники.
Непосредственно перед Костихино из земли бьёт родник, над его устьем можно наблюдать приличных размеров «шапку», замутнённую илом. Он никогда не замерзает, поэтому для местных жителей это не только источник прекрасной воды (я тоже заполнял ею термос в дорогу), но и водоём, где круглый год могут пастись гуси и утки. Через реку после войны был восстановлен относительно большой деревянный мост, с которого иногда ученики старших классов прыгали в воду, ныряли, так глубока была в этом месте Ревна. По рассказам моей бабушки Екатерины Кирилловны рядом с мостом в её времена, теперь от нас очень далёкие, была большая заводь, в которой местные рыболовы вылавливали огромных сомов. Уже на моей памяти было много энтузиастов, добывавших с помощью вершей и бредней линей, вьюнов, щурят и другой рыбы. Мне довелось вместе со сверстниками удить только пескарей, коих на песчаных отмелях было множество.
А вот проехать от Костихино на левый берег Ревны можно было только с помощью гусеничных тракторов, колёсные не проходили и сами утопали. Даже в 70-е годы приходилось оставлять свой автомобиль у родственников в Костихино, так как протащить «Жигули» трактором через эту трёхсотметровую пропасть означало проведение варварской разборки автомобиля на составные части.
В 50-е годы по полноводности и стабильности реки был нанесён сильный удар. Местным населением, прежде всего руженским, были разработаны очень большие площади торфяников для использования торфа в качестве высококалорийного топлива вместо отсутствующих в нашей степной зоне дров. Лишившись торфяников как аккумуляторов влаги, река обмелела. Но только в конце 70-х годов из-за назревшей, прямо кричащей, потребности наладить регулярное транспортное сообщение между крепко вставшим на ноги руженским совхозом и райцентром были проведены работы по спрямлению и углублению в некоторых местах русла реки и поднятию уровня дороги. В результате старый мост был снесён, реку упрятали в большую трубу, а асфальтированное покрытие всей дамбы позволило уже без проблем осуществлять транспортное сообщение со всей округой в любое время года. Конечно, если зимой дорога очищена от снега.
Кстати, в 1943 году немецко-фашистское командование, организуя оборону Брянска на дальних к нему подступах, очень эффективно использовало особенности рельефа местности, создав с восточной стороны села мощный узел обороны, перекрывающий узкое горло для наступления наших войск. Горло ограничивалось с северной стороны непроходимым для танков бассейном реки Ревна, а с южной — огромными по протяжённости и глубине оврагами (рвами, как называют их здесь) — Могольским, Орловиком и др. Попытка наших танковых соединений прорваться через это горло привела к огромным потерям на подходе к Ружному.
Вот и осмотрелись, убедились, что дорога в направлении села вполне пригодна для передвижения. Что ж, поехали! Но только до развилки, правда уже за мостом, где дорога разветвляется: влево уходит в сторону Куприно, а вправо — в село, на улицу, именуемую у нас Большаком. Так с какой же стороны заехать в село? Пока жива была мать, чаще всего я ехал до Большака, где и кончался асфальт, а там уже, в зависимости от погоды, либо оставлял автомобиль у хорошо знакомого мне «доктора», заведовавшего сельским здравпунктом, или, при хорошей сухой погоде, разными объездными путями за огородами, по прогонам для скота кое-как протискивался к дому. Проехать по селу было очень проблематично из-за отсутствия дорог, а лог в центре села, на котором ещё в 10-м классе мы гоняли в футбол, превратился в рукотворное болото из-за неустраняемых протечек воды в проложенном по улицам водопроводе. Так что водопровод, конечно, хорошо, но без надлежащего ухода за ним такое благо цивилизации становится разрушителем устоявшегося экологического равновесия.
Когда не стало матери, путь мой неизменно лежал к сельскому кладбищу, где похоронены дорогие для меня люди: мать, бабушка, брат и сестрёнки, отчим, крёстная мать, тётки, дальние родственники и другие, память о которых храню. В последние годы именно ради отдания почестей усопшим я и совершаю эти длинные поездки. Память о моих родных для меня священна и пока будут силы — буду и навещать место их последнего упокоения. В этих поездках из Брянска меня всегда сопровождает брат Анатолий или его сын Руслан, или оба вместе. По асфальтовой дороге, ведущей в Куприно, проложенной по Каниной горке, где развернулись драматические, события в конце августа 1943 года, доезжаем до поворота и вот мы уже на восточной стороне кладбища, откуда открывается вид на западный склон этой самой горки и на Руженские улицы — Малаховку, Бутыренку, Страконку, Куташенку и частично Слободку. Вот они на той стороне лога и упомянутые мной, правда уже не те, большие, которые были в наше время, «Кожановы дубы», мелкие овраги на склоне горки и рядом с ней, где нам, детям, пришлось воочию наблюдать трагические последствия минувшей войны. На представленном снимке слева просматривается западный склон Каниной горки и овраг, где в сентябре, октябре, да даже ещё и в ноябре 1943 года при поиске нами боеприпасов (патронов), мы, ребятишки постоянно сталкивались с застывшими навек в этих местах воинами Красной Армии в последнем своём рывке на запад. Запечатлённая в детском сознании эта непривычная для нас своим трагизмом картина сохранилась в памяти у меня и до сих пор.

Справа на снимке просматривается ухоженное ровное поле, но больше запомнившееся мне трагедией, произошедшей уже после войны, в 1947 или в 1948 году (точно не могу вспомнить), когда на противотанковой мине здесь подорвался колёсный трактор ХТЗ, на котором производилась вспашка этого поля. Взрывом разнесло не только трактор, но и смертельно изуродовало тракториста. Так фашисты продолжали воевать с нами и после войны, и не только в этих местах. К сожалению, война оставила неизгладимую травму в душах многих и многих ребятишек моего поколения, особенно у тех, у кого она отняла самых близких и дорогих для них людей. Так что эти запечатлённые поля и овраги не просто элементы ландшафта, но, прежде всего, невольное напоминание нам о понесённых утратах, боль от которых прорывается наружу даже спустя многие десятилетия.
В теперешние времена вся видимая вблизи территория заросла высокой травой, а толчок к такому интенсивному пробуждению первобытной природы был дан упразднением совхоза, приведшего к массовому оттоку населения и, как следствие, к резкому сокращению поголовья крупного рогатого скота и овец, поедавших всё это разнотравье. Но эта буйствующая травяная растительность практически ничто по сравнению с зарослями деревьев, кустарников, крапивы и всякого чертополоха, появившихся из-за отсутствия присмотра хозяев на месте заброшенных подворий. Земли то у нас хорошие, чернозёмные — всё растёт, а за дикой растительностью никакого ухода и не требуется.
С того места, откуда был сделан предыдущий снимок, взглянем на панораму, открывающуюся с восточной окраины Куташенки (там, где расположено кладбище) на Малаховку и Бутыренку.
Вот она, Малаховка, вернее то, что от неё осталось. На левой стороне улицы всего один домик — люди просто доживают здесь свой век, не надеясь уже ни на какое возрождение когда-то оживлённого поселения. За этим одиноким жильём так же сиротливо смотрится и единственный из оставшихся «Кожановых» дубов, да и самих Кожанов давно здесь нет. В центре бывшей улицы (почти в самом правом краю снимка), был невысокий дом с большим резным крыльцом, так он мне запомнился, где до войны со своими родителями жила моя бабушка, где родилась моя мама. В 1943 году немцы спалили всю эту улицу дотла, не оставив ни одного строения. Так как бабушка, потеряв в эвакуации свою мать (она была убита осколком во время немецкой бомбёжки) и похоронив перед самой войной своего отца (моего прадедушку Кирилла), осталась одна, то восстанавливать дом не было ни сил, ни особой необходимости.

После войны уцелевший народ кое-как, потихоньку, отстроился и уже в мои школьные годы (8—10 классы) Малаховка стала довольно оживлённой улицей. В первые годы после войны бабушка продолжала обрабатывать половину своего огорода, засаживая его картошкой, а перевозку выращенного урожая в немалой степени приходилось производить мне на сделанной собственноручно тачке с использованием большого шарикоподшипника, снятого с танка. В 60—70-е годы здесь были построены большие дома, крытые шифером или железом, достаток уже позволял. У каждого была всякая живность, а народ, по моим наблюдениям, был вполне доволен своим достатком, да и жизнью. Возрождённые из пепла города, сёла и деревни, разрушенные немецким нашествием, вне всякого сомнения, есть величайшее свидетельство настроенности на продолжение жизни нашего истерзанного войной народа. Нынешнее же запустение и разруху произвели без авиабомбёжек и артобстрелов пришедшие к власти ставленники мировой сионистской закулисы, отщепенцы и алкоголичные предатели интересов нашей Родины — разного рода горбачёвы и ельцины. Практические последствия их «деятельности» свидетельствуют лишь о полном безразличии к народу-победителю, народу-созидателю, о полном игнорировании интересов России как самостоятельного независимого государства.
Сразу оговорюсь, что я не за сохранение патриархального уклада жизни в сельской местности, но за то, чтобы преобразования на селе шли как на пользу населения самого села, так и всей страны в целом. Вариантов решения проблем преобразования села как в те сравнительно недалёкие годы, так и теперь имеется вполне достаточно. Но кто эти варианты рассматривал, кто проникся ответственностью за судьбу страны из тех «деятелей» и нынешних властей предержащих? Ответ почти однозначный. Потому что правильные слова, которые иногда произносятся, идут не от глубокого осознания потребностей страны и народа, не из сердца, как должно быть у патриота страны, а из бездушного электронного устройства типа айфона, заменяющего мозги у некоторых наших руководителей. России нужны прагматичные новые столыпины, преобразователи страны во имя процветания её коренных народов, но не тех интернационалистов, «историческая» родина которых находится далеко на юге. Ничего бы не имел против этих пришельцев, если бы они уважали законные права всех российских народов, прежде всего коренных русских, как своих единоверцев. К сожалению, правящая сионистская верхушка гребёт только для своих, особенно и не скрывая своих предпочтений.
Этот снимок произведен с той же точки, что и предыдущий, но по центру снимка уже другая улица нашего села — Бутыренка.

Слева на снимке продолжение Малаховки — её правая часть. Всё заполонила буйная растительность, за которой уже мало что можно рассмотреть. Домов и здесь негусто и если при ближайшем рассмотрении мы их и увидим, то многие из них давно уже пустуют. По скученности построек это была одна из самых непривлекательных улиц села. Но здесь была школа — десятилетка (высокие деревья в правой части снимка указывают на её нахождение), здесь жили и некоторые школьные учителя, в том числе и мой учитель физики А. З. Турков. Технический персонал школы тоже, в основном, был отсюда. Соседство со школой накладывало определённый отпечаток на поведение местных жителей, так что в «культурном» плане Бутыренка не выделялась в худшую сторону на общем фоне непривлекательной сельской действительности. Жители на этой улице, впрочем, как и малаховские, несли на себе какой-то отпечаток того, чего у других не было.
Может быть, это было связано с тем, что здесь многие десятилетия работала церковь, жили священники, которым в те времена отводилась не последняя роль в просвещении и обучении населения. У меня сохранились весьма смутные воспоминания о самой церкви — только как о большом сооружении, не более того. Лучше припоминается «поповский» дом, в котором была начальная школа. Во время войны (в августе 1943 года) церковь была разрушена практически до основания, а под её развалинами были обнаружены большие штабеля ящиков со взрывчаткой. Из развалин людьми были тщательно извлечены все сколько-нибудь пригодные для строительства обломки кирпичей, а оставшаяся «мелочь» после завершения строительства рядом с бывшей церковью средней школы легла в основу плотины, перегородившей лог между Бутыренкой и Куташенкой. Школа была построена прямо на территории бывшего кладбища, так что при закладке фундамента вскрывались захоронения и на божий свет извлекались бренные останки и даже сохранившиеся фрагменты убранства покойников, с которыми обращались по-варварски — куда-то выбрасывали. Может за такое кощунство и наказывает нас иногда Господь? Кто знает.
На приведенном снимке запечатлена внутренняя территория бывшей средней школы. Сама школа (на втором плане) зияет пустыми глазницами окон, а на месте действующей до 1943 года церкви местными приверженцами (кстати, довольно молодыми) православной веры воздвигнут памятный крест, возле которого и совершаются поминальные молитвы. Так что вера православная, несмотря на перенесённые тяжёлые испытания в народе всё-таки жива, хотя верующего народа в селе осталось очень мало.

Ещё во время моей учёбы вся территория школы была засажены ракитами, которые к настоящему времени выросли в огромные деревья. Теперь всё пространство заросло так, что с этой стороны очень трудно на автомобиле добраться до моей родной Страконки. Но надо. И вот мы уже на улице моего детства и юности. С каждым моим приездом на родину становится всё тоскливее и тоскливее — не с кем уже и перемолвится словом, даже беспробудные пьяницы покинули эти благословенные места.
Что бы ни говорили разные нынешние «демократы», но наш народ был приучен к своеобразному кнуту, в качестве которого долгое время выступали колхозы и совхозы. С ликвидацией последних работы не стало, никаких обязанностей перед государством тоже, о праве на труд для сельских жителей говорится вполголоса, что естественно для нынешней власти — сельский народ почувствовал себя совершенно ненужным в этой жизни, поэтому и пустился во все тяжкие. Пропив весь металлолом, который удалось добыть на заброшенных подворьях и, разворовав всё, что только можно, опять же на эти цели, «народ» оказался «без средств существования» и, как принято сейчас говорить, «свалил» либо к своим родственникам в города, либо — на кладбище.

А сколько пустующих земель пропадает? Но нет, очень мало находится людей, которые по своей инициативе берутся за возделывание земли для своего же блага. Так что вопрос о кнуте в нашей стране снимать с повестки дня ещё рано. К сожалению, конечно. Но таков менталитет наших людей и с этим надо считаться при проведении всяких реформ по преобразованию села. Пренебрежение этой данностью приводит лишь к деградации и вымиранию населения. Может такая задача и поставлена оттуда, «из-за бугра», нашим нынешним оккупационным властям? Не хотелось бы так думать, но факты — вещь упрямая.
Трудно узнать в этом первобытном ландшафте мою родную Страконку, где прошли мои детские и юношеские годы. Лишь высокая мачта линии электропередач свидетельствует о благих намерениях в недалёком прошлом приобщить население села к цивилизации. Куда же без электричества? Но не услышишь сейчас здесь на улице ребячьих голосов, мычания коров, блеяния овец, поросячьего визга, кудахтанья кур, т.е. всего того, что олицетворяет нормальную сельскую жизнь. И что же мы здесь видим? По эту сторону улицы не осталось ни одного жилого дома. Ушли люди — кто в другие города и веси, кто в мир иной. Как быстро всё заросло бурьяном, крапивой и всяким чертополохом. Вот так и уходят в небытие многие сельские поселения, да и целые регионы.
Вернётся ли сюда когда-нибудь жизнь? Не праздный вопрос. Если вернётся, то будет жить и Россия. Если не вернётся, то это будет уже не Россия. Пустыми такие территории долго быть не могут, особенно в наше время массовых миграций населения из густонаселённых и бедных природными ресурсами южных стран. Так что возможны варианты.

На снимке — «сельская идиллия» из недалёкого прошлого (1986 год). Перед нами тот самый пруд, который возник после сооружения плотины из остатков разрушенной немцами церкви. Школа на снимке не видна — она находится за кадром слева. У пруда спокойно пасутся гуси и даже лошади. Сам пруд пользовался большим «уважением» у молодых мужиков, возжелавших закусить самогон свежими жареными карасями и ротанами, коих водилось здесь предостаточно. Чем не идиллия? Теперь уже нет и пруда и, естественно, рыбы, исчезли и гуси. А лошадьми в селе теперь заниматься некому, да и «лошадиных работ» стало мало — техника неуклонно вытесняет их из обихода и производственного процесса.

Ну вот, наконец, и добрались до места. Это дом, в который мы практически ежегодно приезжали в отпуск. Построен он был в 1955—1956 годах прошлого века. Из него ушли в мир иной бабушка, брат Александр, отчим, мать. Сейчас его в более или менее приличном состоянии поддерживает мой брат Анатолий, приезжая сюда для возделывания огорода и походов на охоту.
Жилых домов на нашей улице в 2013 году оставалось всего четыре. Всего! А ведь был целый колхоз! Подворий было в разные времена, даже послевоенные, до шестидесяти. «Всё ушло, всё умчалося в невозвратную даль…». Осталась лишь тоска, да печаль по дорогому для моего сердца бытию.

Брат Анатолий ещё как бы по инерции продолжает обрабатывать огород — ведь здесь всё прекрасно растёт, хотя потребности в овощах давно уже не те, да и здоровье не позволяет трудиться в полную меру. Но мы же из крестьян и тяга к земле-кормилице заложена в наших генах. Такова наша ипостась, таковой и останется.

Моё родное село
Село Ружное располагается на возвышенных местах вокруг большого лога (так на местном наречии называется широкое низменное место) отдельными улицами, схематическое расположение которых представлено ниже в тексте. Названия улиц, конечно, своеобразные, но народная молва ни разу за всю мою жизнь в селе не «разгласила» тайн появления Страконки, Бутыренки, Малаховки и др. До Великой Отечественной войны на каждой улице было по 40—60 дворов с довольно плотной застройкой. После войны их число несколько сократилось, но село продолжало оставаться самым большим в Карачевском районе.
В дореволюционные времена лог был перекрыт плотинами (следы их сохранились и до сих пор), которые позволили иметь несколько прудов. По рассказам старожилов тех лет, в том числе и моей бабушки, пруды были обсажены ракитами, в прудах водилась рыба, гнездились дикие утки и даже одно время работала водяная мельница. Но после революции должного ухода за этими гидротехническими сооружениями не стало и нам, ребятишкам, лишь пришлось лицезреть огромные промоины в плотинах, в которые устремлялись паводковые воды.
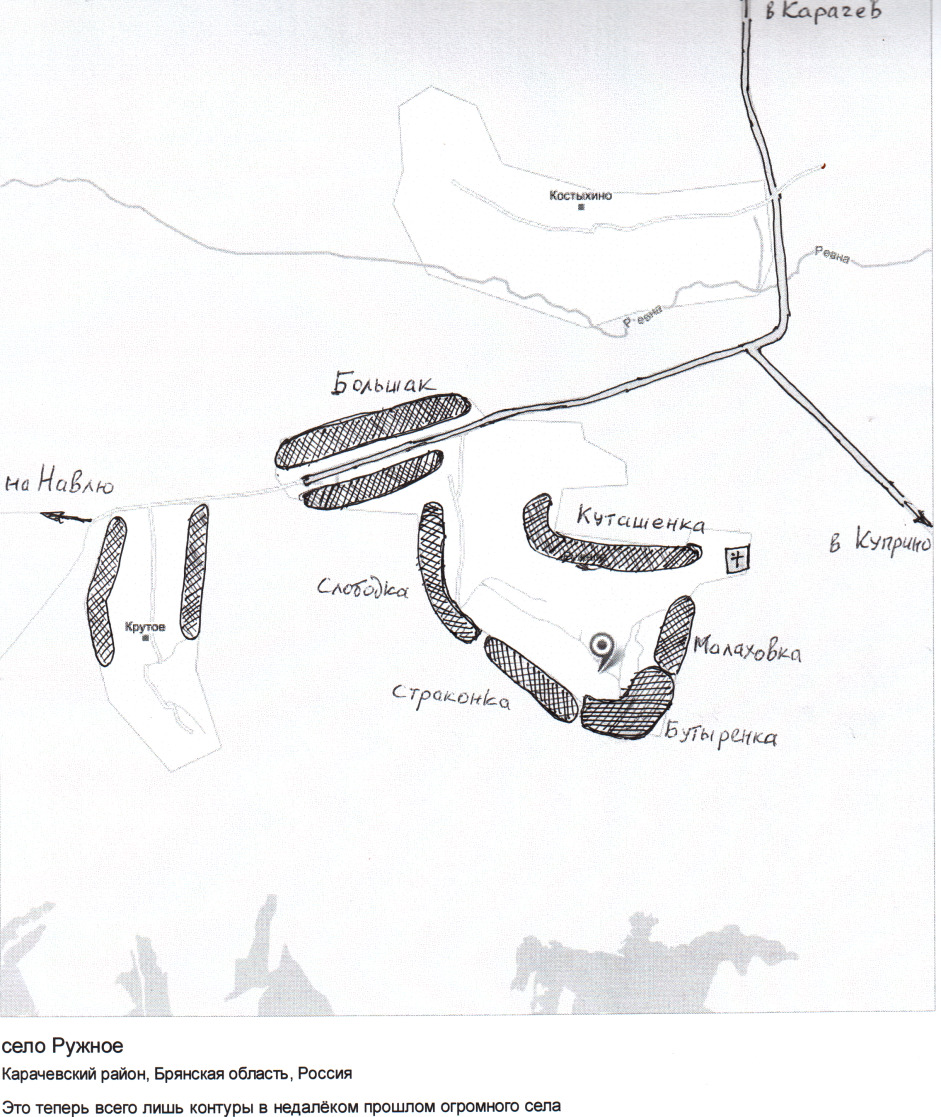
На Бутыренке была большая кирпичная церковь, к которой по установившейся традиции, примыкало сельское кладбище. Рядом с церковью было два больших дома, как у нас говорили, поповских, в которых уже в советское время размещалась начальная школа. Я помню и церковь, и поповский дом, так как в 1942 году недели две ходил в так называемую школу. Кто её организовал в те военные годы, в условиях оккупации, до сих пор не знаю. Но учительница довольно высокого роста (по моим тогдашним меркам, конечно) всплывает перед глазами даже сейчас.
Село окружено плодороднейшими чернозёмами то ли естественного происхождения, то ли благодаря ежегодно вносимым на поля органическим удобрениям многими поколениями жителей. Историей села никогда плотно не занимался, но так как и мои деды и прадеды похоронены здесь, то, надо полагать, село существует не менее трёх веков. Интересной особенностью в этнографическом плане является своеобразный говор (так у нас называют разговорный язык) жителей Ружного и расположенных примерно в трёх километрах деревень Сычёвка и Гремячее, представляющий смесь белорусского, украинского и русского языков с местными идиомами и фразеологией. А вот разговорный язык людей, живущих на Большаке и Крутом более «городской», как часто выражалась моя мать, так как среди них находится много переселенцев из других мест.
В годы коллективизации (1932—1933) в селе были организованы колхозы (практически по улицам), ставшие перед войной уже достаточно состоятельными хозяйствами, по нашим меркам, конечно, вполне обеспечивающими себя хлебом, овощами и продуктами животноводства. Значительная часть урожая изымалась, конечно, государством. Колхозы для этого и создавались. В нашем колхозе «Страконка», бессменным председателем которого со дня образования и до самой войны был мой дядя по отцу Пётр Михайлович, приносила определённый доход и пасека, а в «урожайные» годы на трудодни колхозники получали даже мёд. То ли мёд был очень вкусным и сладким, то ли таково свойство детской памяти, но помню и до сих пор, как отец с помощью длинной лучинки доставал это лакомство из бутылки — другой тары просто не было.
Люди постоянно строились, появлялись добротные дома, а в домах кое-какой достаток. Новый дом перед самой финской войной построил с помощью братьев и мой отец. Помню толстые брёвна, из которых он был срублен, пахнущие ещё смолой. Правда, в сенях размещались и насесты для кур, закуток для телёнка, что к запаху смолы добавляло и другие, менее приятные «духи». Но таков был уклад нашей сельской жизни.
Колхоз «Страконка» считался в районе передовым, поэтому и был премирован новым автомобилем ГАЗ-ММ (знаменитая «полуторка») грузоподъёмностью полторы тонны. Как много грузов он перевёз, сказать не могу, но для меня он остался в памяти в очень непонятном для моего детского ума виде — четыре лошади тащили за собой это чудо техники, чтобы завести его после ремонта двигателя. Оказывается, что «кривого стартера» — заводной рукоятки — было мало, чтобы провернуть какой-то там коленвал. Такая была техника, такие были специалисты. Но и этот автомобиль вместе с водителем были в начале войны мобилизованы для нужд армии.
Война же оставила неизгладимый след не только на облике села, его послевоенном переустройстве, но и на сознании людей, их отношении к реальной жизни.
В годы правления Н. С. Хрущёва всё настойчивее стали вестись разговоры об объединении мелких руженских колхозов в единый на селе. Это была новая государственная политика укрупнения всего: колхозов, сельских советов и т. д. Мой возраст позволял уже улавливать определённый смысл в происходящем. Запомнились ожесточённые споры на собраниях о нежелании объединяться, укоры страконских колхозников бутыренским и малаховским в лени, в нежелании работать и в других «грехах». Как не хотели принимать на себя название того колхоза, с которым предполагалось объединение — «мы не пойдём в подчинение страконским» — заявляли соседи, считая в сохранении названия колхоза своеобразное порабощение. По моим впечатлениям меньше всех вызывало возражений присвоить новому объединённому колхозу более нейтральное название «Власть труда». Это название носил колхоз на Куташенке, председателем его до войны был наш родственник по матери С. И. Алыренков, известный в районе партиец, в первые недели оккупации нас немцами избитый ими и появившимися их прихвостнями до состояния, как теперь принято говорить, несовместимого с жизнью.
После долгих споров и под нажимом райкома партии объединение состоялось и появился огромный колхоз, впоследствии преобразованный в совхоз «Ружное». К нему были присоединены и деревеньки Бражино и Власовка (сейчас этих населённых пунктов уже нет). При создании объединённого колхоза бывшие хозяйства вошли в него на правах бригад с сохранением инфраструктуры (конюшни, скотные дворы, инвентарь и пр.). В объединённом колхозе была создана крупная животноводческая ферма по производству молока и мяса. В собственности колхоза (совхоза) в связи с ликвидацией МТС появилось много сельхозтехники и автомобилей, поставляемых государством практически за символическую плату (термина «дотация» я в те годы ещё не знал), конечно же компенсируемую за счёт сдачи (затем продажи) продуктов растениеводства и животноводства тому же государству.
Не вызывает сомнения тот факт, что с самого начала создания колхозов советское государство прилагало серьёзные усилия по внедрению в сельское хозяйство технических средств обработки земли и уборки урожая. Исходя из слабости промышленной базы государства, технической безграмотности населения, возрастающей роли агрономической науки и др., было найдено рациональное решение о сосредоточении всей поступающей в сельское хозяйство техники в специализированных организациях — машинно-тракторных станциях (МТС), которые помогали обрабатывать землю и убирать урожай в колхозах по графику и по мере готовности земли и созревания урожая, но всегда под жёстким контролем райкома партии и райисполкома. Конечно, полностью исключить ручной труд в колхозах того времени, особенно на первых порах, было практически нереально по разным причинам.
Наши руженские колхозы обслуживала МТС, находившаяся в деревне Покров. Это было серьёзное предприятие с организованной подготовкой кадров механизаторов, квалифицированным ремонтом техники, со своим клубом, столовой, медпунктом и другими элементами социально-бытового и культурного назначения. Однако надо отметить, что в колхозах техника часто простаивала из-за поломок по причине её низкой надёжности, несоблюдению технических регламентов по её обслуживанию конкретными специалистами, её эксплуатирующими, всё-таки низкой профессиональной подготовки механизаторов, а часто и из-за откровенно наплевательского отношения — не моё и не буду беречь. Положение значительно изменилось в лучшую сторону после изменения системы оплаты труда механизаторов, когда они стали работать не за безликие трудодни, а за конкретные производственные показатели. По своему материальному положению они стали резко выделяться на фоне общей нищеты. Терять материальные приобретения уже никто не хотел и техника заработала. Это один из примеров разумного решения появляющихся проблем, но для поступательного продвижения вперёд такая вдумчивая работа обязана быть непрерывной, что в нашем великом государстве, к сожалению, было не всегда, или непоследовательно.
И ещё об одном аспекте нашей жизни в те годы. Надо отдать должное заботе советской власти о получении образования и поощрении материнства. Даже в тяжёлые первые послевоенные годы было организовано школьное образование, несмотря на полнейшее отсутствие учебно-материальной базы и нищету учеников и учителей. Уже в 1951 году в нашем селе начала работать только что построенная двухэтажная кирпичная школа-десятилетка с отдельными кабинетами физики, химии, богатой библиотекой, бесплатными учебниками, спортивной площадкой и другими атрибутам нормального учебного заведения. Правда, освещение классов в осенне-зимний период производилось большими (двадцатилинейными) керосиновыми лампами, что, конечно же, создавало определённые неудобства и было опасным в пожарном отношении. С этими светильниками проходил и наш выпускной вечер в 1954 году. Электрическое освещение в школе, как и во всём селе, появилось только в 1956 году, о чём я с гордостью поведал своим однокашникам-курсантам, вернувшись из очередного отпуска.
Для медицинского обслуживания населения в эти же годы в старинном «Гринёвском» саду был построен прекрасный фельдшерско-акушерский пункт с родильным отделением на несколько коек, укомплектованный необходимым оборудованием и персоналом. Сколько деток увидели свет в этом учреждении! Вот так на деле проводилась демографическая политика и оказывалась первая медицинская помощь в государстве, заинтересованном в сохранении здоровья и приумножении численности коренного населения.
Несколько позже в селе было построено большое здание сельского клуба, так как старый деревянный клуб уже был тесен для значительно увеличившейся численности молодёжи, да и для взрослого населения, проявляющего интерес к новым кинофильмам и концертам заезжавших иногда артистов. Строительство нового клуба не обошлось и без курьёза. В 1955 году в свой первый курсантский отпуск около старого клуба увидел приличной высоты кирпичные стены большого здания нового клуба. Каково же было моё удивление, когда во время очередного отпуска летом 1956 года увидел те же стены, без крыши и без признаков какой-либо работы на здании. Поинтересовался, Оказалось, что ещё при разметке траншей под фундамент местные мужики, расспросив девочку-техника о конфигурации клуба, убедили её, что зрительный зал узковат и надо бы его расширить хотя бы на один метр. Дипломированный строитель, идя навстречу «пожеланиям трудящихся», рассудила, что если уж и расширять клуб, то лучше на полтора метра и с помощью благодарного, участвовавшего в обсуждении люда, перенесла соответствующие колышки. Фундамент заложили по новой разметке, стены возвели, а когда привезли перекрытия, то они «почему-то» хотя и соответствовали проектным, но оказались на полтора метра короче требуемых, исходя из реального расстояния между стенами. На исправление ситуации ушло два года. Правда, после завершения строительства (сделали новые перекрытия) клуб производил довольно хорошее впечатление. Здесь был и большой зрительный зал, библиотека, помещения для кружков, оркестра (существовал и играл реально), танцев и др. Молодёжи в селе было много и клуб не пустовал.
А что в нынешние времена? Если ответить коротко, то налицо запустение и развал всего, что давало жизнь многочисленному населению села. Хотя конфигурация улиц сохранилась и сегодня, но число жилых домов резко сократилось, земля перестала обрабатываться и всё заброшенное пространство заросло крапивой, бурьяном, репейником и другими сорняками, процветающими на этих плодородных землях. Из всех улиц более или менее сохранился Большак, расположенный по обеим сторонам асфальтированного шоссе, которое здесь и кончается. Здесь проживает наиболее деятельная часть населения села, у которой имеется техника для обработки земли и транспортные средства, которое продолжает возделывать приусадебные участки и выращивать достаточное количество овощей, в основном, для нужд животноводства на своих подворьях. Хотя земли для возделывания можно задействовать гектары — это приусадебные участки, полностью или частично брошенные бывшими хозяевами, но такого рвения что-то не просматривается. Ещё в 90-е годы, когда была жива моя мать, она часто рассказывала мне о заброшенных и заросших травой полях, а ближайшие покинутые людьми территории мы иногда и обходили пешком. Ужасная картина пустующих, невозделанных полей на сельского жителя, преданного земле по своему рождению и, как принято сейчас говорить, менталитету, производила гнетущее впечатление. Всеобщее запустение, бегство молодых людей с земли, которую в великих муках возделывали их предки, чтобы прокормиться и дать жизнь последующим поколениям, у меня всегда вызывало массу вопросов о причинах и истоках этого разрушительного процесса.

Этот снимок сделан мною с нашего огорода, из сада. Перед нами на всю ширину объектива фотоаппарата бывшие приусадебные участки жителей Страконки. Такую картину запустения даже ещё в те 90-е годы можно было представить лишь в кошмарном сне. Тогда ещё теплились какие-то надежды на здравый смысл возродить эти плодородные земли в интересах нашего многострадального народа, в первую очередь для производства здоровой пищи для уверенного выживания нации. Но если бывшие колхозные земли разными пронырами, близкими к нынешнему оккупационному правительству, уже все тихо «прихватизированы» и даже кое-где предпринимаются попытки пустить эти земли в сельскохозяйственный оборот, то огромные массивы земель, примыкающих непосредственно к бывшим жилым постройкам, пока никак не используются. Это пока резервы страны и очень не хотелось бы, чтобы и они попали в руки захватчиков.
Остаётся незыблемой моя уверенность в том, что при разумном отношении к возделыванию ныне повсеместно пустующих, заброшенных земель, при глубоком понимании влияния климатических условий на производство различных культур, обязательном учёте требований агрономической науки, мы можем обеспечить не только себя, страну, доброкачественной продукцией сельского хозяйства и животноводства, но и без особых усилий накормить ещё полмира. А для того, чтобы это состоялось, нужна лишь политическая воля нашего, подчёркиваю, нашего, а не нынешнего продажного оккупационного правительства, ибо речь идёт не только о селе Ружное Брянской области, а о нашей огромной стране России.
Как бы Р.S. Пока шла подготовка этого моего повествования произошли и весьма заметные изменения на землях бывшего совхоза «Ружное». Ещё лет шесть или семь тому назад мой брат, являвшийся номинальным владельцем обезличенного надела земли площадью более семи гектаров, доставшемуся ему от родителей после раздела всех совхозных земель между членами бывшего совхоза, известил меня, что всем «владельцам» настоятельно предложено продать свои наделы. Сельский люд никаких возражений не высказал (а кому теперь пожалуешься?) и вынужден был уступить свои паи за «огромную» сумму — 11 тыс. рублей. Это стоимость даже не автомобиля «Жигули», «Лады» по сегодняшней терминологии, а всего-навсего колёс от него. Не более того! Организация, производившая формально скупку, а фактически захват земли, себя никак не афишировала, тем более, что и федерального закона о распродаже земель сельхозназначения в то время и в глаза не видели. Всё тайно, без всяких аукционов, хотя бы «для приличия», как говорят в народе. Кто мог стать владельцем этих огромных угодий площадью многие тысячи гектаров? Правильно! Только лица, «приближённые к особе государя», или, по крайней мере, к председателю правительства. А ими попеременно были и тот и другой, оба из сионистского «ларца», хоть и не одинаковые с лица, но с одинаковыми захватническими наклонностями. Известно, что тайное рано или поздно становится явным. Так и на Руженских просторах наступило некоторое просветление.
Работы по освоению земель активно начали проводиться с 2012 года, когда вся огромная территория была обнесена многокилометровым забором из колючей проволоки, да так, что были перекрыты все бывшие сельские дороги и оставшемуся сельскому люду для того, чтобы попасть в овраги, испокон веков в которых собирали грибы (какие у нас росли там рыжики!) и землянику, ничего не оставалось, как вооружаться кусачками для проделывания себе проходов. Но! На наших, простите, теперь не наших, просторах появились и «ковбои» на лошадях, охраняющие не только целостность ограждения, но и стада привезенных сюда из дальних стран бычков для откорма при свободном выпасе на территории и летом и зимой. Вот где нагуливается экологически чистая «мраморная» говядина. Куда поставляется этот продукт? Наш брянский народ достаточно наблюдательный, сказывается ещё наследство партизанской поры, и «засёк» появление на оккупированной территории людей в каких-то не наших одеждах. Выяснилось, что это представители арабских шейхов, которые захотели воочию убедиться в «халяльности» продукта, поставляемого к столу этих самых владык. Вот такие настали нынче времена. Впрочем, какая-то часть продукции реализуется и в Брянских и в Московских магазинах. Говорили знающие люди. Может быть и ещё в других регионах России, но этого не знаю.
Теперь о главном: кто владеет руженскими землями и производством? Формально — фирма «Мираторг», теперь это общеизвестно. Брянские «партизаны» вычислили и владельцев фирмы, даже и их фамилии, и очень родственные связи их с семьёй Медведева, заботящегося о нашем с вами продовольственном благополучии на посту председателя правительства аж всей Российской Федерации. Хотите верьте — хотите проверьте. На ваше усмотрение. Сам же я увидел не только ограждение хозяйских владений, всякие постройки, огромные штабеля вывезенных с дальних полей рулонов соломы, но и пасущихся многочисленных животных тёмного окраса, и огромные грузовики американского производства, другую технику. Всё оттуда. Зачем развивать собственное производство грузовиков, тракторов и прочего? Раз «мраморное» мясо поставляется туда, то и техника должна быть оттуда. Чистый бартер! Никакой политики, только экономика? Так уж никакой???


Ответы на некоторые вопросы
Разрушительные последствия политики, проводимой в государстве дряхлеющими вождями, но особенно в горбачёвские и ельцинские времена, по моим наблюдениям, начали «рисоваться» уже давно. Черновые эскизы их уже в шестидесятые годы были достаточно заметны для того, чтобы при заинтересованном отношении к сохранению страны и её процветанию, своевременно вручить кисти и краски «художникам», не только соображающим в своём ремесле, но и глубоко заинтересованным в том, чтобы их «творчеством» были довольны широкие массы обычных, нормальных, наших людей. На мой взгляд стало вылезать наружу явное несоответствие между затратами государства на развитие сельского хозяйства и отдачей от этих затрат. Чем заметнее стал достаток в домах, чем больше государство вкладывало в социальную сферу, чем больше поступало в колхоз (совхоз) новой техники, тем заметнее стала и вольность в поведении людей и их наплевательское отношение к сохранению и приумножению общественного богатства, которое, хотя может быть и в малой степени, но всё-таки было богатством и членов коллектива. Ещё в те годы у меня сложилось впечатление, что в нашем государстве всегда что-то не доделывалось практически для комплексного решения проблем, а лишь декларировалось. Работа по упреждению и исключению негативных последствий тех или иных принятых решений проводилась большей частью формально, без должной настойчивости и грамотности, обусловленных характером и стилем работы «руководящей и направляющей силы нашего общества».
Техники на село поступало много, минеральных удобрений были горы. А вот надлежащих условий для хранения и грамотного применения удобрений, повышения надёжности поставляемой на село техники, организации её качественного ремонта и эффективного использования создано, по большому счёту, не было. Хотя объективности ради нужно сказать, что в совхозе для обработки полей пестицидами применялась даже авиация, что требовало привлечения местной рабочей силы для подготовки необходимых растворов. Аэродром сельскохозяйственной авиации находился с южной стороны Липовского рва. Здесь же размещался и склад с удобрениями и химикатами, который, впрочем, впоследствии был сожжён пьяной шпаной.
Уровень профессиональной подготовки механизаторов после ликвидации МТС стал снижаться и, главное, была размыта персональная ответственность за свой участок работы. Каждый раз при приезде в отпуск меня наводило на грустные размышления всё увеличивающееся кладбище брошенной техники, расположенное по какой-то нечеловеческой логике рядом с сельским кладбищем. Правда, здесь же, недалеко находилась примитивная ремонтная мастерская и склад запасных частей, но никаких навесов для техники не было. Довольно сложные машины оставлялись ржаветь под открытым небом очень часто из-за мелких неисправностей, которые можно было устранить либо заменой отказавших узлов на запасные, либо проведением соответствующего объёма слесарных и сварочных работ. Но таким ремонтом перестали серьёзно заниматься. Почему?
В один из приездов в средине 70-х годов любопытства ради зашёл на склад запасных частей, которым по совместительству заведовал механик совхоза наш родственник Михаил Сергеевич Алыренков (по прозвищу Яёк — его так больше знали, чем по фамилии). Состояние поставок и наличие запасных частей я оценивал не как дилетант, а как инженер, занимающийся организацией эксплуатации сложнейших систем вооружения. Некоторые недостатки в организации поставок, хранении и использовании запасных деталей и узлов были видны, что называется, невооружённым взглядом, но по моим выводам снабжение было вполне приличным. Но не мог здесь же не обратить внимание и на то, что во всех рабочих взаимоотношениях, будь то связанных с ремонтом или получением запасных частей, особенно дефицитных, всё назойливее стало показываться из кармана горлышко бутылки с водкой-самогоном. Появление во взаиморасчётах этой дурманящей валюты свидетельствовало об определённых психологических сдвигах в сознании людей, произошедших, как это не парадоксально звучит, за счёт роста благосостояния, выражающегося, на мой взгляд, в следующем:
— за работу начали платить реальные деньги;
— уменьшились налоги, были отменены и такие «экзотические», как налог на фруктовые деревья и кустарники;
— абсолютное большинство населения обзавелось живностью (коровами, свиньями, овцами), были построены избы и даже стали заменять соломенные крыши, используя для этих целей шифер и железо;
— в магазинах стало появляться всё больше товаров народного потребления, хотя может быть и не высокого качества, но сравнивать тогда было не с чем;
— дети стали учиться в благоустроенных школах, причём учебники выдавались бесплатно по всем предметам обучения;
— появилось бесплатное реальное медицинское обслуживание, в том числе и акушерский пункт со своим стационаром. «Доктор» мог прийти по вызову к заболевшему домой и даже принести лекарства, а в случае необходимости организовать отправку нуждающегося в лечении в районную больницу;
— в домах появилось электричество, радио, в селе — очаг культуры — клуб, на почте — междугородняя связь;
— появилась дорога с твёрдым покрытием, что позволило организовать регулярные пассажирские перевозки до районного центра;
— появились вклады на сберкнижках, о чём раньше и помыслить не могли.
Такое «изобилие» благ для людей, перенесших ужасы войны и послевоенного нищенствования, не могло не пробудить в крестьянских, особенно и нетребовательных к комфорту, душах чувства достижения определённого потолка спокойного состояния, в котором можно находиться долго. «Лишь бы не было войны» — эта мысль, эта короткая фраза выражала не только глубокую внутреннюю убеждённость пожертвовать многими благами во имя сохранения достигнутого уровня жизни, но выражала надежды и чаяния мужчин и, особенно женщин, потихоньку приходящих в себя после понесённых утрат, избавиться от повторения подобных жизненных катастроф.
Может показаться странным, но состояние благодушия подпитывалось в некоторой степени и проводимой государственной политикой. Как однажды в те годы сказал мой друг детства Иван Андреевич Алёшин, прозванный нами за свой неуёмный характер Войной (в селе его все знали как Иван-война, а жену чаще всего называли не по имени, а Войнихой) — «государство нам теперь не даст пропасть». Такой ответ последовал на моё высказывание, что при прохладном отношении к работе и злоупотреблении спиртными напитками всё начнёт приходить в упадок. И не один Война так думал. Красивые слова о заботе партии и государства о своих гражданах лились непрерывной рекой из репродукторов и с телевизионных экранов. А каждый понимал смысл пропагандистских лозунгов в меру своей подготовки или желания получать блага как манну небесную. Так что было о чём задуматься нашей «руководящей и направляющей», так же как и о резко обозначившейся после войны тенденции к злоупотреблению спиртными напитками. Тот же Война хвастался тем, что уже успел выпить бочку спиртного, которая по размеру выше его дома. А дом у него был приличных размеров, несоизмеримых с первыми послевоенными постройками.
О нашем послевоенном быте
По своим внешним размерам, грязи вокруг и внутри, убожеству и примитивности обстановки и внутреннего убранства руженские хаты, должно быть, не имели себе равных во всей ближайшей округе. Это были «сооружения» площадью 25—35 м2 (хотя были и меньше), собранные из подручных материалов (жерди, хворост и т.п.), самана, обмазанные глиной, смешанной с рубленой соломой и иногда выкрашенные снаружи и изнутри в белый или синий цвет глиной, добываемой в Орловике, богатом на разные цвета этого минерала. Два или три маленьких оконца, пол, как правило, земляной. В одном из углов значительное место занимала русская печь, на которой все и зимовали. К этому жилому отсеку пристраивались сени, сделанные зачастую ещё хуже. Крыши были только соломенные. Так как сарай построить было проблематично из-за отсутствия материалов и необходимости экономить землю, используемую под огород (ведь только за счёт огорода и жили), то если приобреталась какая-нибудь живность (коровка, поросёнок, куры), то они размещались в сенях, а холодной зимой всё перемещалось в жилой отсек. Если зимой появлялся телёнок, то его «законное» место было в хате. Корова доилась в холодное время тоже в хате, со всеми вытекающими и падающими последствиями. Поэтому цену молоку, да и свинины, если удавалось довести купленного поросёнка до товарного вида, мы знали очень хорошо. В нашем домике, построенном «в столбы», печка была маленькая, но вмещала нас всех: бабушку, мать и меня с братом. Это было единственное тёплое место в хате. О чистом воздухе при непосредственном соседстве в одном маленьком помещении с живностью приходилось забыть до наступления тёплых дней.
Так выживало абсолютное большинство населения нашего села Ружное, да и не только нашего. Строить лучшее жильё вдовы с малыми детьми не могли, а помощи ждать в то время было неоткуда. Лес от нас находился далеко, так что, извините, даже своровать лесоматериалы было физически невозможно. Поэтому основу первых жилищ, как правило, землянок, после изгнания немцев в 1943 году составляли деревянные конструкции, добытые при разборке блиндажей, построенных оккупантами из наших же домов. В самом конце 40-х — начале 50-х годов селяне, у кого были необходимые средства, покупали в других отдалённых деревнях, уцелевших от нашествия, старые хатки-развалюшки, которые на колхозных подводах перевозились к месту установки. Мне запомнилась такая поездка в село Соколово Навлинского района (примерно в 15 км от Ружного) своей организацией, проявляющейся в том, что разобранный нами домик совместными усилиями, «толокой» — так у нас назывались такие авралы, не только перевозился, но на следующий день и собирался на предназначенном ему месте. Правда, собранному жилищу приходилось стоять без крыши до августа, когда появлялась солома нового урожая. Хозяин покупки обязательно должен был накормить участников «толоки». Каждому из них доставалось по полстакана вонючего самогона и закуска в виде примитивной окрошки из общей миски, а приходить нужно было со своей ложкой. Других «яств» я что-то не упомню. Нужно сказать, что такое проявление бескорыстной взаимопомощи было очень характерным для тех лет во многих сёлах и деревнях нашего района.
Однако ещё немного о «крыше». Солома с крыш в тяжёлые годы, когда заканчивалось сено, использовалась для корма скоту. Естественно, от такого «корма» на молоко рассчитывать не приходилось, лишь бы коровка дотянула до весны, до свежей травки. Себе отказывали в скудном пропитании лишь бы сохранить её, кормилицу. Как же без молока? С колхозным скотом (лошади, волы) было намного хуже. Из-за бескормицы к весне значительная их часть, обессилив, не могла уже самостоятельно стоять, поэтому часто доходяг подвешивали под брюхо на ремнях или вожжах. Ужасная картина и невольно накатывалась слеза — значительная часть конюшни раскрыта и практически под открытым небом подвешенные беспомощные животные. С появлением травки оставшиеся после зимы лошадки и волы («тягло») постепенно «приходили в себя» и могли уже использоваться по прямому назначению. Правда, первое время приходилось самим подтаскивать телегу к стоявшей еле на ногах лошади, впрягать её и только потом совместными усилиями тащить повозку. Горе и слёзы — и лошади немощные и такие же помощники: ребятишки и женщины.
Но как иногда бывает в жизни, трагическое и смешное соседствуют рядом. С лёгкой руки какого-то «начитанного» мужика колхозным лошадям были даны имена писателей и поэтов. Был у нас «Пушкин», отличавшийся своеобразным норовом, мог при случае, если не увернёшься, и лягнуть (так он оставил память о себе вмятиной на лбу одному слободскому пареньку — удивительно, но паренёк выжил). Был и «Лермонтов», спокойный, более стройный, были и «Толстой» и «Некрасов», более солидные, чем два первых. Да и разве сейчас всех вспомнишь?
В те годы в селе бывало много цыган, грязных, оборванных, голодных. Мы ребятишки, пообещав дать хлеба, уговаривали цыганят сплясать на животе, что они в пыли и делали, но хлеба получали за пляску очень редко — у нас его просто не было. Но, к счастью, они были какие-то беззлобные. Пожилые цыгане втягивали мужиков в тяжбу по обмену лошадьми, расхваливая своих таких же одров, как и наши, колхозные, но делали это столь искусно и убедительно, что несколько таких обменов состоялось в присутствии, конечно же, председателя колхоза. Одно время к нам в село были присланы маленькие юркие лошадки, прозванные нами «монголками», по-видимому, за предполагаемое место их происхождения. Телегу тащить могла не каждая из них. А вот верхом ездить на них было одно удовольствие. Правда, они были пугливы и один раз я слетел с такой лошади, когда кто-то из ребят неожиданно выскочил перед нами на дорогу. Не прижились они у нас, были быстро «израсходованы». Зато конское поголовье коренных пород постепенно увеличивалось и уже в конце 40-х годов приезжавшая комиссия из военных отбирала коней для службы в строю.
Послевоенное возрождение. Как мы взрослели
Детей в селе приучают к работе с ранних лет. Поначалу это лёгкие, физически не очень обременительные работы: отогнать в стадо или встретить из стада корову, присмотреть за живностью, выпускаемой на луг, нарвать или серпом нажать травы для скотины и для сушки впрок, на зиму, прополоть грядки, натаскать воды из колодца и т. д. С возрастом работы становятся серьёзнее и ответственнее. Но это, так сказать, домашние работы, на себя. В колхозе же начал «подрабатывать» в летние каникулы, после седьмого класса. Справедливости ради нужно сказать, что ребят школьного возраста официально колхоз не привлекал к работам, но в период уборки урожая зерновых привлекала школа, например, к подбору упавших колосков. С холщёвыми сумками на лямке через плечо целый класс идёт цепью, срывая оставшиеся после жатвы отдельные колоски и поднимая упавшие, тайком луща их для утоления голода — ведь дома никакого хлеба не было, но большую часть складывая в сумку для сдачи на склад. Спросят ведь. А мы тогда боялись всего.
Нужда заставляла идти на работу и хоть какой-то трудодень заработать, хотя и с совершенно не ясной перспективой получить материальное вознаграждение за свой труд. Работы были самые разные: от вывоза навоза со скотного двора на поля до участия в уборке урожая зерна, картошки, заготовке сена. На всю жизнь запомнились работы на молотилке подавальщиком снопов. Сил уже нет, глаза забиты пылью и остями, спина раскалывается, а молотилка (приводилась в действие широко ремённой передачей от трактора ХТЗ, у которого для этих целей снимали заднее колесо) начинает грохотать, если в зев её не сунешь сноп. Сразу услышат и сделают соответствующее внушение. Такая же работа и на копнителе за комбайном: ости и пыль летят в глаза, в рот, в нос. Никаких очков и средств защиты органов дыхания не было, понятия даже не имели, да и подсказать было некому.
Отдушиной в нашей ребячьей судьбе было пребывание иногда по нескольку дней, с разрешения матери, на реке Навля, где находились сенокосные угодья нашего колхоза. Это примерно в 12 км от села — за деревней Пластовое. Пока из-за малого возраста не работал, эти несколько июньских дней на реке с удочкой в компании сверстников были, несомненно, божеским подарком даже несмотря на то, что для пропитания мать выделяла только картошку, да и то по счёту. Когда же начал работать, то, конечно же, «увеселительная» часть пребывания «на лугах» сильно сократилась, но всё равно обстановка была куда более приятной, чем возить навоз на поля, да ещё на волах.
Дети, предоставленные сами себе, лишённые присмотра взрослых, могли совершать на воде и непродуманные поступки. Однажды мне пришлось пережить несколько очень неприятных мгновений, находясь под водой с живой ношей на шее. Дело в том, что ребятишек, не умеющих плавать, мы, более взрослые, переправляли на мелководье, для чего усадив мальчишку себе на плечи и набрав побольше воздуха, затаив дыхание, шли по дну, преодолевая «глубину» (до двух метров). Ширина этого глубокого участка была всего около пяти метров и транспортировка проходила довольно быстро. Тот раз мне попался какой-то боязливый «пассажир», судорожно начавший сдавливать своими ручонками мне горло, когда вода достигла его плеч, начавший предпринимать попытки как-то приподняться и ещё более усугубляя и своё и моё положение. Ходили мы под водой, как правило, с открытыми глазами, вода была очень чистой, прозрачной при солнечном освещении. Рядом с собой я видел проплывающих мимо рыбок, должно быть, любопытствующих на таких необычных существ, довольно яркое освещение и мне совсем не захотелось прощаться с такой идиллией. Собравшись, оторвал ручонки мальца с моего горла и как мог сильно толкнул его в сторону мелководья и вынырнул сам. Назад этого боягуза мы переправляли уже с использованием испытанного средства — обычных ребячьих длинных штанов, превращаемых путём некоторых манипуляций в хорошие два торчавших вверх поплавка.
Должен сознаться, что в эти короткие секунды нахождения под водой, будучи связанным ответственностью за жизнь мальчишки, я ощутил и большую угрозу для собственной жизни, которая в какие-то мгновения прошла передо мной как на экране и, должно быть, именно это видение и мобилизовало мои силы на спасение. Так что с водной стихией надо всегда обходиться уважительно и ответственно.
В связи с удалённостью покосов от села и отсутствием «мобильного» транспорта (на волах шибко не поедешь) все косари строили на правом берегу Навли для себя шалаши на весь период работ по заготовке сена, до месяца. Мне приходилось довольствоваться местом в шалаше дяди Петра Михайловича. Еду готовили здесь же на кострах. Пища была незатейливой и очень скудной — отваривалась картошка, превращалась в пюре, разбавлялась этим же отваром и если было немного сала (его специально берегли к покосам), то делалась зажарка с луком. Это было первое и второе. Было хорошо, если находилась щепотка пшена (у нас это была редкость), тогда можно было сварить кулеш по той же простой технологии. В качестве десерта и третьего блюда готовился чай со смородиной, которая росла невдалеке. Ведро с этим напитком постоянно висело над кострищем и каждый жаждущий мог его употреблять в любом объёме.
Практически в каждом шалаше были примитивные рыболовные снасти, однако рыбачить можно было только в дождливую погоду, когда сено убирать было невозможно. Умельцы же всё равно умудрялись и жерлицу поставить рано утром и вечерком посидеть с удочкой, правда, очень редко выдавалось светлое время — работали до потёмок. Рыбы в Навле было много (щука, окунь, голавль, краснопёрка, плотва и др.), так что иногда удавалось и полакомиться уловом. Когда колхоз стал подниматься, то на покос забивались либо телок, либо бараны. Конечно, когда разделят на всех работающих, этого мяса и не видно было, да и сохранить его в жаркое время не представлялось возможным. Но хоть один день был более калорийным. И за такую милость спасибо председателю колхоза.
Особо в моей памяти запечатлелись случаи «глушения» рыбы взрывчаткой, которой в районе села осталось очень много. В разрушенной церкви при её разборке обнаружили штабеля ящиков с толом, оставленных немцами. Пока информация о находке дошла до соответствующих органов больше половины ящиков растащили по домам-землянкам и запрятали. Зачем? По-видимому, сработал старый крестьянский принцип — «пригодится». Сейчас не всякий поверит, но некоторые пожилые хозяйки этим толом топили даже печки в землянках, готовили еду. Вонь ужасная, дым чёрный густой, так что и похлёбка пропитывалась этим смрадом. Но что было делать. Дров в нашем степном окружении не было. Мы же доставали и взрыватели — детонаторы, и бикфордов шнур. Этого «добра» в первые послевоенные годы хватало. Иногда находили целые коробочки с детонаторами, но чаще использовали взрыватели от гранат. С содроганием вспоминаю до сих пор о нашей мальчишеской бесшабашности при добывании детонаторов. У ручных гранат типа РГ-42 детонатор вытаскивался легко — надо было только сдвинуть крышечку на корпусе. А вот с «лимонками» (типа Ф-1) было сложнее — взрыватель вкручивался в корпус и силы пальцев иногда не хватало, чтобы его выкрутить и тогда он зажимался зубами и таким образом вывёртывался. Чтобы довести вывернутый из гранаты взрыватель до состояния, позволяющего вставить в него бикфордов шнур, делали просто — надпиливали корпус (алюминиевый) и обламывали эту трубочку, мы уже знали в каком месте нужно пилить. Быстро мы тогда учились «военному делу». По-видимому, Господь был милостив к нам, потому что не было ни одного несчастного случая при разряжании гранат и при самом процессе добычи рыбы с помощью взрывчатки. А как мы «добывали» рыбу? В деревянных, окрашенных зелёной краской, ящиках, притащенных нами, было по два «кирпича» тола и по три шашки в середине ящика. В центральную шашку вставляли детонатор, в него — сантиметров 50 бикфордова шнура, закрывали крышку на защёлки, поджигали шнур и два мальчишки, взяв ящик за ручки, забрасывали его с берега подальше. После чего все драпали от речки и падали на землю. Огромной силы взрыв не заставлял себя долго ждать, всё содержимое реки вместе с корягами и прибрежными кустами взлетало «до небес» и потом с грохотом возвращалось в реку и на берега. Река буквально становилась белой от погубленной рыбы, которая уже спокойно уплывала по течению, так и не доставшись большей частью никому. Ведь многие ребятишки и плавать то не умели. Это варварство было вскоре пресечено. Взрывчатку изъяли во всех домах и под угрозой сурового наказания мы больше такой рыбалкой не занимались.
Косить выходили рано. Ещё только начинает сереть, а дядя мой по старой привычке (после войны он уже не был председателем колхоза, но Петрака — так его звали в селе — по-прежнему уважали и слушались) уже всех поднимает. Сборы были быстрыми, косы отбиты и подготовлены ещё с вечера, завтрака никогда не было. Луга были разные: ровные, покрытые кочками, кустарником, местами залитые водой. Косьба — это тяжёлая работа, особенно без достаточных навыков, когда косу с размаху воткнёшь в одну кочку, садишься на вторую и, упёршись ногами, вытаскиваешь инструмент, а сзади уже окрик бывалых косарей (юнцов всегда ставили впереди — не увильнёшь) «давай быстрей, а то пятки обрежу». Конечно, пятки нужно сберечь, но откуда силы будут «быстрей» при таком возрасте и питании. Как-то находились — кому же хочется, чтобы шла недобрая молва о тебе, как о слабаке.
Постоянное нахождение при косьбе в воде и тёплая погода приводили к появлению кожных заболеваний ног. Сапоги и ботинки были далеко не у всех, поэтому большинство, как правило, ходило в лаптях — вода как вливается, так и выливается из них, но ноги-то мокрые. Для лечения опрелостей на ногах в нашем лагере (стане — так называли место нашей дислокации) стояла большая бочка дёгтя, которым по рекомендации фельдшера смазывали ноги. Помогало. Этим же дёгтем смазывали и ступицы колёс телег. Универсальный продукт!
Несмотря на многие трудности в нашей послевоенной жизни находилось время и отдыху на покосах. Вечерами иногда организовывалась и «художественная самодеятельность». Это случалось тогда, когда после дневных работ по уборке сена часть молодых женщин и девушек, у которых дома было кому заниматься хозяйством, оставались ночевать на стане. И вот у костра собиралось всё «население» в кружок, рассаживались «по голосам» и исполнялись народные песни. До сих пор убеждён, что такого чистого и, я бы сказал, прилежного исполнения, с душой, нигде больше не встречал. Особой популярностью пользовались именно народные творения — и камыш шумел, и тонкая рябина искала защиты у дуба, но по пронзительно изливаемой тоске по любимому становилось грустно, что не всякой рябине отыщется та опора, к которой можно прижаться для успокоения. Не было нужного числа этих дубов, многих положила война.
Женщинам приходилось тяжелее всех. Ведь ворошить сено и сгребать его в копны приходилось именно женщинам, потому что мужчины были заняты своими делами: свезти или перенести копны в одно место, сложить стог и т. д. Сложить стог — это целая наука, особенно в завершающей стадии и к ней допускались только опытные мужики. В этой роли запомнился мой дядя Пётр Михайлович, стоявший наверху стога с граблями, распределяя подаваемые снизу длинными деревянными вилами охапки сена по всей площади и утрамбовывая их так, чтобы не было потом протечек вовнутрь стога. Самая последняя операция — «завершение» стога (возведение макушки) — заканчивалась укладкой специальным образом больших веток, прижимающих сено для защиты от ветра, после чего дяде перебрасывали через стог длинные вожжи, по которым он и спускался на землю. Часто работы по перетаскиванию копен сена к будущему стогу заканчивались одними мужчинами, женщин отпускали домой, так как завтра был опять для них такой же тяжёлый день. Подоив коровок, а это происходило не позже 5 часов утра, женщины, взяв грабли и узелок с обедом, оставив хозяйство на попечение малолеток или стариков, шли пешком на луга, до которых было 12—15 километров. Целый день под жгучим солнцем ворошили и сгребали сено, с коротким перерывом на обед, часто даже не заходя на стан, и только к вечеру отправлялись опять же пешком в обратную дорогу. Хорошо помню то состояние ожидания матерей, когда мы, ещё пацаны по 10—12 лет, встретив стадо, разбирали своих коровок-кормилиц, поили их водой, давали заранее заготовленной травы, от которой они часто отказывались — были сыты, но требовали своим постоянным мычанием дойки. Уже темно. Ни одного огонька. Мы гурьбой сидим на каком-нибудь возвышении, жмёмся друг к другу — боимся темноты и… ждём звуков песни. Дело в том, что так было заведено, когда женщины подходили к Липовку (это примерно в полутора километрах от села) они запевали песню. Это был сигнал нам. Тут же раздавались радостные возгласы: «идут, идут!» и становилось не так страшно в сплошной сельской темноте.
Чем же платило родное государство за такой каторжный труд? Хорошо помню себя идущим от колхозного амбара с шестнадцатью килограммами пшеницы, которые мы вдвоём с матерью заработали за целый 1950 год. И этого зерна должно было хватить на предстоящую зиму. Каково?
В первые послевоенные годы мы не знали вкуса настоящего хлеба. Выручала картошка. Слава богу, она в те годы давала хорошие урожаи. «Хлеб» выпекали из тёртой сырой картошки с добавлением буквально горсти муки на ведро подготовленной картофельной массы. Крахмал иногда из приготовленной смеси изымали. Дрожжей не знали, а для закваски использовали тесто от предыдущей выпечки, которое хранили в специально предназначенной для этого стеклянной или глиняной посуде, как правило, за иконами в святом углу. Выпекали «хлеб» на целую неделю, так как времени не было, чтобы заниматься выпечкой чаще, а потом и из-за того, что совершенно не было дров для нагревания печи. Соломы и той было мало, да и длительность процесса подготовки печи занимала очень большое время. Этот «хлеб» горячим был вполне съедобным, но после остывания на второй и последующие дни превращался в плотную синевато-тёмную массу без особого желания её употреблять. А куда денешься, когда другого хлеба нет и не будет, а голод нужно чем-то утолить, есть-то хотелось постоянно. Однажды мать совместно с другими сельскими женщинами и мужчинами предприняла поездку на перекладных в южные районы страны (на Украину) в надежде привезти хоть немного зерна, выменяв его на то, что можно было взять из дома, а что возьмёшь из нашей нищеты? Попытка облегчить страдания детей была неудачной, мать долго помнила эту поездку на буферах товарных вагонов и больше отправляться в такие рискованные операции не соглашалась.
Где-то с лета 1948 года начали предприниматься попытки вывезти на продажу излишки картошки. Проблема была в доставке её к месту реализации. Районный центр, Карачев, отпадал из потенциальных покупателей, так как кругом была своя картошка; Навля была примерно в таком же положении, как и Карачев, хотя мы туда с дядей и ездили два раза. Основным потребителем этого продукта был Брянск, значительная часть населения которого работала на восстанавливаемых промышленных предприятиях и, естественно, сельским хозяйством не занималась. Но до Брянска нужно было преодолеть более 60 километров. В качестве транспорта за доступную плату водителю подряжались автомашины, едущие из Навли за бензином в Карачев. Картошка в мешках грузилась поверх пустых бочек, ну а мы устраивались ещё выше. Разве можно было говорить при таких перевозках о безопасности людей? Не единожды на ухабах слетали с такой верхотуры, но бог миловал — отделывались лишь ушибами. Поэтому такие поездки требовали определённого самообладания. Для меня так и осталось загадкой, почему в Навле, районном центре и крупном железнодорожном узле, не было своей нефтебазы, а все нефтепродукты для Навлинского района везли по бездорожью за 50 километров из Карачева. Для нас же это было благо, ибо всякий другой транспорт на наших просёлочных дорогах отсутствовал. Иногда смелые водители, дабы подзаработать, выгружали пустые бочки посреди села, а кузов полностью загружался мешками. Милиция, хотя и редко, но всё же останавливала такие «поезда», наказывала водителей, но ради заработка они продолжали рисковать. У меня в памяти остался случай, когда у нашей слишком перегруженной полуторки лопнули оба задних правых колеса как раз напротив милиции при въезде в Брянск. Возню водителя с заменой колёс, конечно же, заметили и нас отбуксировали прямо во двор отделения милиции. Но к чести милиции они заставили водителя после замены колёс всё-таки довезти наш груз до рынка на Брянске 2-м. Понимали нужду, ибо сами были из таких же горемычных.
Нас, мальчишек, матери пристраивали обычно к едущим взрослым и таким образом обеспечивалась погрузка, разгрузка и сохранность нашего товара. Но торговал каждый своей картошкой и деньги прятал у себя. Минимальным продаваемым объёмом было восьмикилограммовое ведро, которое каждый продавец вёз с собой или договаривался о совместном использовании тары. Цены устанавливались исходя из «конъюнктуры рынка» (по сегодняшней терминологии, тогда таких мудрёных слов не знали, а просто обстановку чувствовали), но самостоятельное изменение цены, особенно её снижение, в наших коллективах не приветствовалось, кроме случаев плохого качества картошки.
Из года в год обстановка в Брянске менялась к лучшему, восстанавливались дома, строились разные торговые точки, после 1947 года с отменой карточной системы можно было, отстояв большие очереди, купить настоящий хлеб. Какие вкусные были белые булочки и батоны! Таких сегодня, должно быть, больше не выпекают. Однажды, выгрузившись на рынке Брянска 2-го, увидели целый ворох пшеницы, привезённой на продажу с Украины. Так что уже можно было за проданную картошку купить и пшеницу, хотя цены пока не располагали к широкому обмену, да и вывезти её отсюда было весьма проблематично. В ларьках на рынке часто можно было увидеть большие подносы с бутербродами с красной икрой и буквально штабеля крабовых консервов. Но видит око, да купить эти деликатесы было не под силу. Не за что. Продав картошку, покупали в заранее обусловленных матерью расходах, хлеб, макароны и редко, очень редко, что-то ещё и начинался поход домой. Общественного транспорта в те годы в Брянске было очень мало, поэтому большую часть пути от рынка до мясокомбината, крайней точки для Брянска, но начальной для нас на шоссе до Карачева, преодолевали пешком. Здесь, у мясокомбината, ожидали попутную машину, договаривались с водителем о стоимости проезда и — до Карачева по узкому, но всё-таки асфальтированному шоссе дорога занимала около полутора часов. Замечу, что в те годы редкий водитель не откликался на просьбу подвезти попутно пассажиров, несмотря иногда на полную непригодность кузова (один раз мы ехали в машине, гружёной алебастром, выглядели после этой поездки белее любого мельника) и отсутствие всяких мер безопасности, что приводило иногда и к трагическим последствиям с гибелью людей, прошедших без ранений всю войну. Пассажирское сообщение между Брянском и Карачевом поддерживалось, в основном, пригородным поездом, правда, курсировавшим всего два раза в сутки. В Карачеве опять таким же образом решали транспортную проблему и, если не везло, то пешочком с шутками в начале пути, а потом и понурив голову с мешкам из-под картошки и покупками преодолевали 25-километровый путь к родному дому.
И об одном эпизоде о покупках. Однажды на свой страх и риск купил в Брянске два плавленых сырка — больно уж хотелось попробовать этот продукт, о котором узнал из книг, которых в те годы читал много. Мать отругала за несогласованную покупку, но все попробовали и отказались его есть, найдя этот продукт тухлым и вонючим. Печально и то, что я тоже нашёл вкус сыра таким же. Пришлось выбросить его курам. И только много позже понял, что это был настоящий сырный вкус. Так приходилось постигать блага цивилизации и можно по этому примеру судить, сколь полна была наша жизнь в те годы впечатлениями и их разнообразием, что запомнился такой, в общем-то, не заслуживающий какого-либо внимания эпизод.
Но время неумолимо шло, менялась обстановка, залечивались раны войны, взрослели и мы и приходило некоторое понимание «текущего момента» и перспектив дальнейшего развития села. В то время при отсутствии какой-либо дополнительной информации о положении в стране, в промышленности, сельском хозяйстве и др. трудно было нам, сельским ребятам прозреть до более или менее реального понимания складывавшейся ситуации. Радио и телевидения не было, в ходу были только «Правда» — орган ЦК ВКП (б) (КПСС), «Брянская правда» — орган обкома и облисполкома, «На социалистической стройке» — орган Карачевского райкома и райисполкома и иногда «Известия советов…». Между строк я ещё читать не умел, да и за строки надо было платить, поэтому и приходилось довольствоваться лишь своей оценкой из видимой картины жизни, на которой, как известно, художник-рисовальщик может что-то подретушировать или вообще замазать.
Убеждение в том, что в промышленности, сельском хозяйстве, политике нашего государства-СССР что-то не так делается, появилось у меня значительно позднее, когда начал военную службу. Действительно, приезжая ежегодно в отпуск на родину, видел, что наряду с увеличением парка сельхозтехники, постройкой больших животноводческих ферм, появлением на пастбищах многочисленных стад скота, заметных перемен в психологии людей с точки зрения их «окультуривания», отношения к труду, создания подобающих человеку бытовых условий, не происходило. Моя мать часто недоумевала, когда я жаловался, что в наших магазинах не всегда купишь мясо и молочные продукты. «Куда же оно всё девается? — Вон сколько в нашем совхозе скота». Ведь в эти же годы крестьянские хозяйства практически полностью обеспечивали себя и мясом, и молоком, и овощами со своих приусадебных участков, да ещё часть продукции реализовывали через заготконторы и на рынке.
Вызывало у меня возмущение отношением к хлебу, цену которому хорошо познал на своём голодном детстве. А теперь он мешками закупался населением в качестве корма для домашней скотины. Раз в неделю в село из Карачева приезжал грузовик, кузов которого был загружен в навал буханками очень вкусно пахнущего хлеба, и за весьма малые деньги, можно сказать, за символическую плату, растаскивался по хозяйствам. А ведь с высоких трибун декларировалось, что «хлеб — всему голова», когда эта «голова» реально втаптывалась в грязь домашними животными. Разве трудно было в достаточно богатом совхозе, а лучше бы в районе, наладить производство комбикормов — все исходные продукты для такого производства прекрасно произрастали на наших полях. Но ничего не делали. Значит, не всё хорошо было с руководящей головой и исполнителями. Когда начал приезжать на родину уже на личном автомобиле, то вопросов возникало ещё больше. При виде из года в год одних и тех же лачуг в Козинках, Подосинках и в др. населённых пунктах, видимых с дороги, однажды возникла «кощунственная» мысль о большом бульдозере, которым нужно снести эти деревушки под основание, а на их месте, проложив приличные дороги, построить дома со всеми городскими удобствами и обязательной сельской инфраструктурой (участок земли, подсобные помещения для содержания скота, хранения продуктов и пр.). Причём, я и до сих пор считаю так, что за первым «сносом», скорее всего, потребовался бы и второй. Тогда на селе в таких условиях жизни остались бы люди, преданные селу, любящие землю и живущие ею. Их бы было не так много, но это сравнительно малое сословие могло стать прочным фундаментом для решения проблемы продовольственной безопасности государства. Чего же не хватало? Проблемы выпирали наружу, варианты их решения обсуждались в курилках и на кухнях, но почему-то не затрагивали ни райкомы, ни обкомы. Приведенные здесь мои мысли не есть «измышления» сегодняшнего дня, как бы постскриптум, они мною выстраданы ещё в те времена, за что политработники навесили ярлык «троцкиста», а соответствующие органы вели откровенный надзор за мной и моей семьёй. Все рычаги и ресурсы в то время были сосредоточены в одних руках, только думай, хорошо думай, советуйся с народом, твёрдо и последовательно выполняй обоснованно принятые решения.
С тех пор много воды утекло, но сначала безмозглость партийного руководства КПСС, узаконившего за собой непререкаемое право на абсолютную истину, создавшего лизоблюдскую вертикаль власти, отучившую людей от способности и необходимости думать самостоятельно и нести ответственность за содеянное, огромные «интернациональные» расходы с весьма неясными перспективами, затем горбачёвская говорильня о консенсусе, а ныне ельцинско-путинская жидовская та же вертикаль власти вконец доконали село, сметая сначала школы, медицинские учреждения, очаги культуры, а затем и сами сельские поселения. Разрушив колхозы и совхозы, оставив огромные массы людей без работы и цели в жизни, ведя разнузданную компанию по пропаганде водки и пива, пробуждая самые низменные инстинкты, в значительной степени уже забытые, нынешняя сионистская оккупационная власть добилась того, что из сельскохозяйственного оборота бездействием и разными ухищрениями выведены плодородные пахотные земли, разрушены многочисленные животноводческие комплексы, а появляющиеся новые при всей их современной оснастке не могут решить проблему обеспечения страны мясными и молочными продуктами из-за их малочисленности. Оставшееся не у дел сельское население спивается и вымирает. Напрашивается логичный вывод о том, что такая политика проводится по повелению мировой сионистской закулисы, которой не нужны «отсталые» народы России, а лишь их природные богатства. Посмотрите кругом: кто находится у власти, кто и каким воровским способом «прихватизировал» народное достояние, кто процветает и жирует на лазурных берегах и кто страдает от отсутствия достойного медицинского обеспечения, современного, но доступного всем образования, разбитых дорог и разрушающегося жилья, под чьим «патронажем» разворовывается и покрывается воровство всего того, что только можно и т. д. и станет ясным, кому это выгодно. Факты — вещь действительно упрямая и неизбежно наступит такое время, когда они будут оценены с позиций защиты чести, достоинства и благосостояния коренных народов России.
Глава 2. «Война, война. Что же ты наделала…»
Отец
У каждого нормального человека, хочет он того или нет, на протяжении всего его жизненного пути встречаются всякого рода ухабы и неровности, преодоление которых накладывает определённый отпечаток на продолжительность и даже характер последующего участка этого пути, глубина же отпечатка зависит, должно быть, от приложенных усилий при преодолении жизненной невзгоды. Может, кому-то повезёт, и эти усилия будут вполне посильны и не потребуют для сохранения и продолжения жизни серьёзных материальных, физических или духовных потерь и жертв. Для моего поколения в самом начале жизненного пути возникли такие «противотанковые» рвы, через которые перебраться, выкарабкаться из которых, можно было только содрав кожу, иногда до костей. Таким испытанием для нас явилась Великая Отечественная война. Тогда, в 1941 году, мы ещё не могли знать, что начатая фашистской Германией против нашей страны война будет и Великой и Отечественной, но мы сразу же столкнулись с её ужасным, не божеским воздействием на нас, детей, только начинающих жить. В июне 1941 года мне ещё не исполнилось и шести лет, но детская моя память, то ли в силу заложенных во мне задатков к запоминанию, то ли из-за сильной психологической встряски, то ли вообще из-за детского возраста сохранила многие страницы трагических событий того военного времени.
Война для меня началась с известия о том, что в сельсовет прискакал из района верховой (так у нас называли всякого ездока на лошади) с красным флажком, придававшим особый статус гонцу, как вестнику какой-то беды в государстве. Никакой другой связи с районом в те годы ещё не было. И только этот демон с лоскутком красной материи мог нести страшное известие о войне и, как следствие, такой беды — приказ о мобилизации многих призывных возрастов, о скором расставании, о новых предстоящих потерях и жертвах. Сам я этого гонца, скорее всего, не видел, но в памяти моей накрепко засели известие о нём и плач женщин по всему селу. Опять война. Ведь свежа была ещё память о финской войне, с которой отец вернулся в 1940 году.
Может быть, само известие о войне и не сохранилось бы в памяти, но дальнейшие события, последовавшие за этим, связали всё в единую цепь. Не знаю, сколько времени было отведено отцу и другим мобилизованным на сборы, но день расставания настал быстро. Прошло уже 70 лет с той поры, но память моя неизменно воскрешает со слезами на глазах события того дня. Все мобилизованные и провожающие, а это был практически весь наш колхоз, собрались у амбара — конторы, располагавшейся внизу нашей улицы, на логу. Были ли какие-нибудь речи при этом, не помню. Лишь негромкие, но суровые распоряжения дяди назначенным мужикам о подготовке необходимого числа повозок. И такие же спорые действия по подготовке этого транспорта, который многих увезёт из родного села навсегда. Пока шло прощание взрослых, мы, дети, по-видимому, ещё глубоко не понимали происходящего, лишь прислушивались к наказам отъезжающих беречь детей и хозяйство. Но когда, попрощавшись и с нами, отцы усаживались в подводы тут-то, должно быть, пришло понимание, что происходит что-то ужасное, страшное. Совершенно не помню как вели себя другие ребятишки, но до сих пор вижу толпу плачущих провожающих, стоявших у колхозной конторы, вижу этот лог, по которому я долго бежал за телегой, увозящей отца, заливаясь горькими слезами, с разрывающими душу криками «возьми меня с собой». Помню, как остановилась на короткое время телега, как отец взял на руки своё ещё неразумное дитя, должно быть, успокаивал, что скоро вернётся и как я, снова оказавшись босыми ножками на земле, начал реветь и бросился опять бежать за всё быстрее и быстрее укатывающими подводами. Дальше уже ничего не помню, не помню, кто и в каком виде доставил меня домой, сколько времени находился в таком беспамятном состоянии. Всю мою жизнь постоянно помню о последнем дне общения с отцом, и до сих пор меня терзает одна и та же мысль, что может быть своим неразумным поведением при проводах я повинен, каким-то образом, в трагической кончине самого дорогого для меня человека. По прошествии многих лет я убедился сколь глубока могла быть душевная рана отца. Ему шёл 28-й год от роду и он оставлял на руках молодой жены (моей матери шёл 26-й год) троих малолетних детей, из которых старший, которого он очень любил, которого в своих мечтах видел лётчиком «как Чкалов», так повёл себя. Когда я уже значительно повзрослел, мать не единожды вспоминала наказ отца ей беречь несмотря ни на какие трудности детей и осуществить его мечту в отношении меня. Кстати, выбор имени моему первому сыну во многом был предопределён этим хранящимся в моей памяти наказом отца.

В жизни моей было много невзгод и иногда незаслуженных обид, но до сих пор молю Господа Бога об избавлении меня, моих детей, внуков и правнуков от таких жесточайших потрясений, как потеря отца, как преждевременная потеря близких. Сам, уже будучи отцом и дедом, постоянно ощущал отсутствие отца как защитника, советчика и помощника в разные периоды моей жизни.
После проводов отца наступило какое-то состояние подавленности, брошенности, незащищённости, как будто не стало хватать чего-то большого, очень нужного. Для меня это состояние невозможно или, по крайней мере, трудно описать словами, но оно-это состояние — продолжалось и до окончания школы, начале военной службы и только уже в зрелом возрасте стало затихать, но не ушло совсем. Разумом всё понимаешь, что отца не будет уже никогда, но душевные муки остаются. Так тяжела была для меня потеря отца. Состояние подавленности, неизвестности и какой-то виноватости перед отцом усугублялось и тем, что с получением в 1944 году извещения о смерти не было известно место его захоронения. Во всё время нахождения в оккупации мы знали только Москву, так как о ней говорили не только наши старики, но и немцы, коих у нас в 1942 году было множество. Поэтому неоднократно обсуждая с дядей вероятное место гибели отца, склонились к тому, что это должно быть ближнее или дальнее Подмосковье, где я и предпринимал некоторые попытки отыскать могилу отца. Но моя неопытность и чрезмерная загруженность службой отодвинули поиски на более позднее время, о чём крепко сожалею. Только по завершении военной службы, лично обратившись в Центральный военный архив Министерства Обороны, получил исчерпывающие данные о времени смерти и месте захоронения отца — командира отделения взвода связи 65-го кавалерийского полка 3-го гвардейского кавалерийского корпуса младшего сержанта Тюрина Тимофея Михайловича.
Подлинник извещения о смерти отца («похоронки») с подписями должностных лиц, сделанных, как тогда и было принято, цветными карандашами мне предоставили в Карачевском военном комиссариате. В пухлом деле, сохраняемом здесь, находятся подлинные документы о безвозвратных потерях в годы войны всего Карачевского района.
Отсутствие записи в строке о месте захоронения долгое время не давало мне покоя. По-видимому, скорбной работы по извещению родственников о гибели их близких было очень много, так что эту строку заполняли не всегда. То ли не успевали прочитывать до конца донесения о потерях, то ли эту информацию считали второстепенной, то ли…? О худшем не хотелось бы думать.
Но, слава богу, хотя и спустя десятилетия со дня окончания войны, движение за сохранение памяти о павших продолжается. А это дорогого стоит, ибо не может психически нормальный человек допустить забвения о тех, кто обеспечил ценой своей жизни продолжения самой жизни в своих потомках и существование нашего государства как такового.
Справку, в которой содержались сведения о месте захоронения, в довольно короткий срок со дня обращения предоставил Центральный военный архив МО (г. Подольск). Документ послужил мне стимулом предпринять поездку на могилу отца. Эту поездку надо было совершить обязательно как можно раньше, так как состояние моего здоровья не позволяло откладывать её на более позднее время.
По согласованию с военным комиссаром Волгоградской области в сентябре 2008 года совершил вместе с моей женой Натальей Александровной поездку на хутор Евлампиевский, находящийся примерно в шестидесяти километрах от города Калач-на-Дону. Самого хутора уже давно нет и только братские могилы между холмами остаются немыми свидетелями прошлых боёв и человеческих страданий убиенных и умирающих от тяжёлых ран дорогих для нас людей. Сопровождавшие нас в поездке представители Калачёвского райвоенкомата и администрации станицы Голубинской привезли к братской могиле, где на одной из стел мы увидели выбитую в граните фамилию отца.
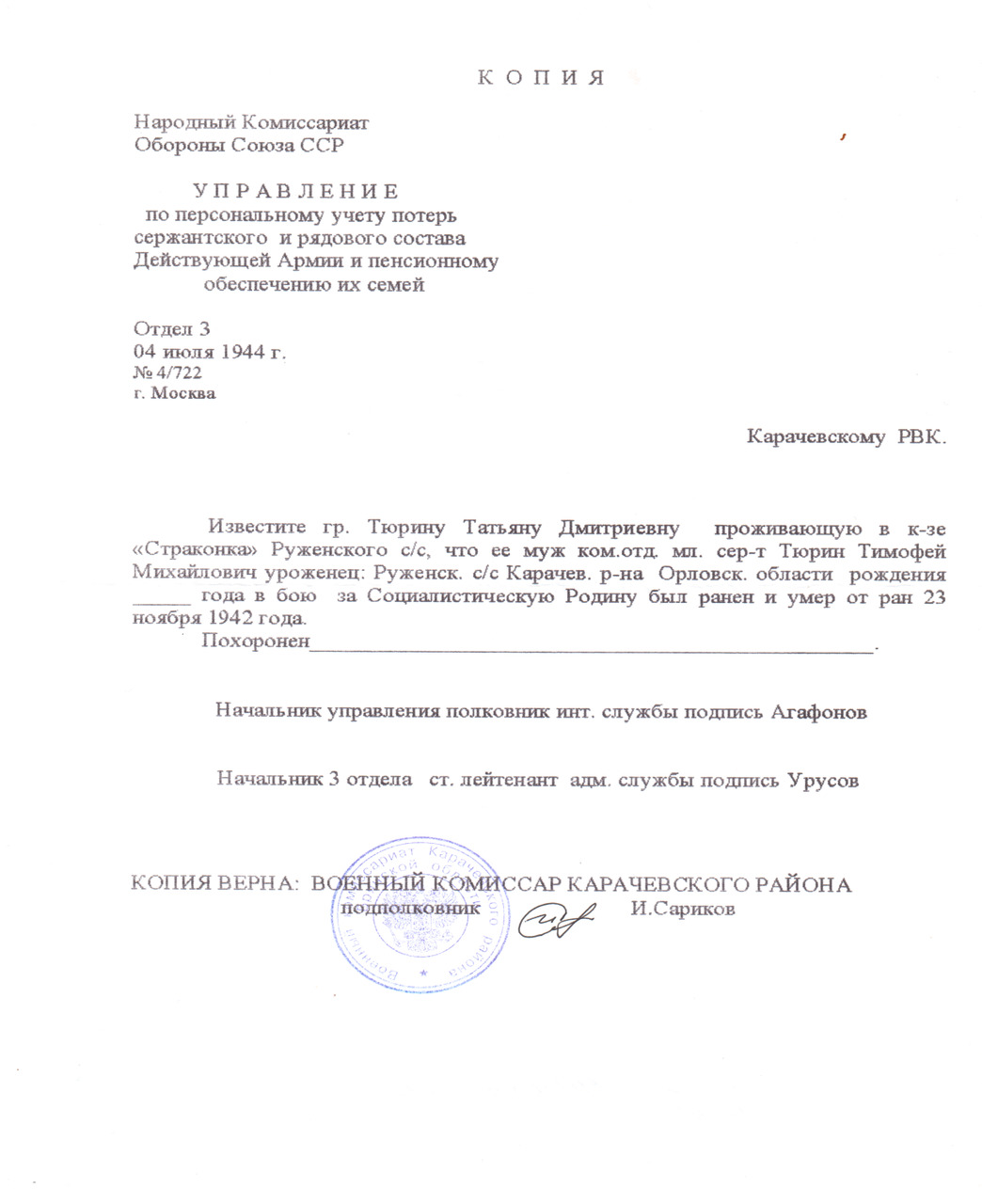
По нашему русскому обычаю на постамент возложили цветы, поставили стопку водки, закрыв её ломтиком хлеба, и зажгли свечечку. Погода была хотя и тёплой, но ветреной и казалось, что огонёк погас, но стоило ветру утихнуть, огонь возникал снова и снова. Значит, душа отца витала где-то рядом и давала понять, что мы приехали именно туда, где упокоилось его бренное тело. На одной из стел (их на братской могиле шесть) увидел фамилию Донцовых. Возможно, это были наши соседи, ушедшие на войну одновременно с отцом. Но спросить об этом уже не у кого. Нет давно Донцовых в Ружном.
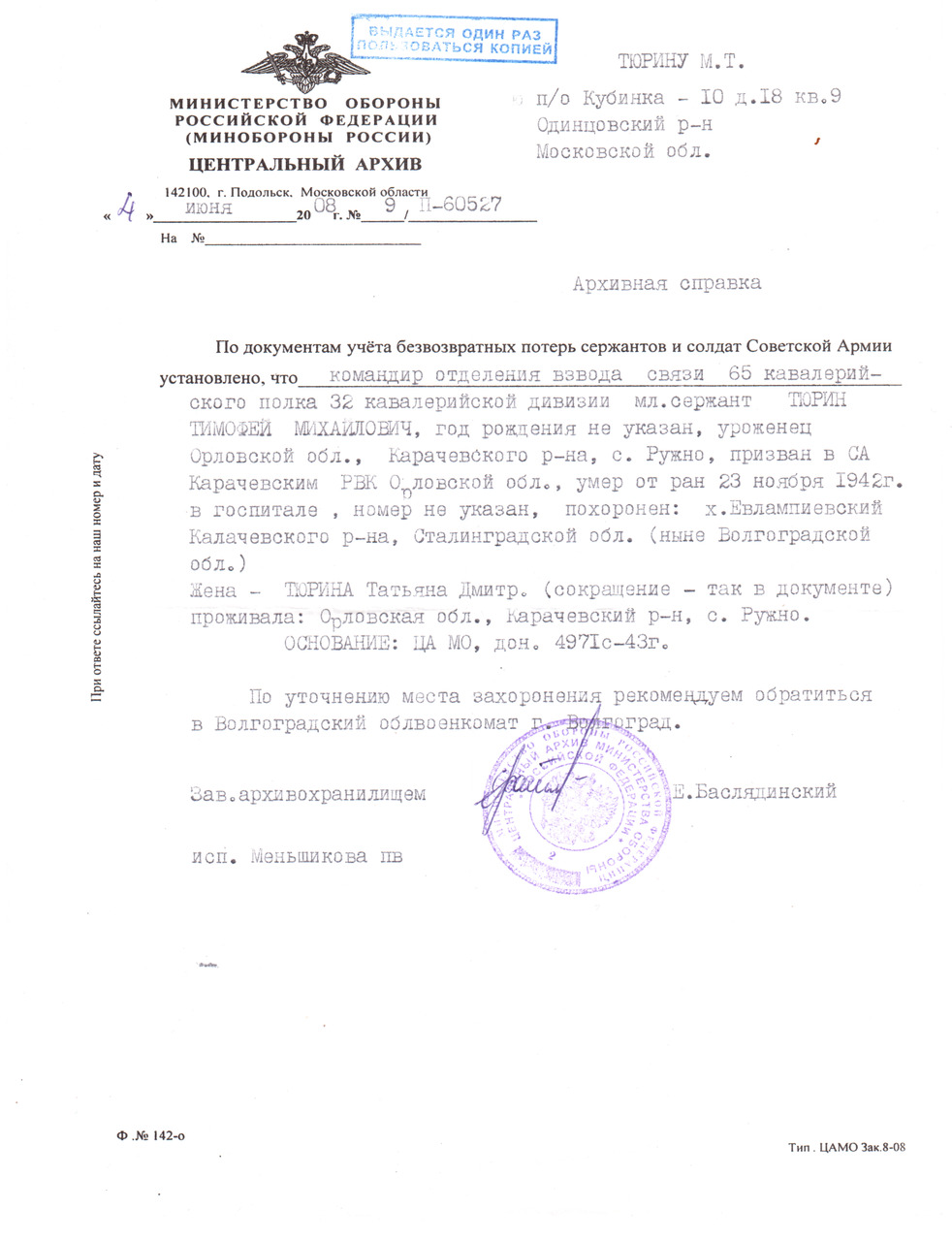
В этой поездке пришлось столкнуться с двумя сторонами отношения живых людей к сохранению памяти о павших. Мы весьма признательны руководству Волгоградского облвоенкомата, Калачёвского райвоенкомата, администрации станицы Голубинской за проявленное исключительное внимание к нам, обеспечивших поездку автотранспортом, сопровождающими и, особенно, за содержание захоронения в ухоженном состоянии в этом давно покинутом людьми месте. На этом фоне уважения и сострадания со стороны посторонних, в общем-то, лиц совершенно необъяснимым для нормального человека выглядит чёрствость и безучастность самых близких ныне для меня людей. Господь им судья! К сожалению, у меня в то время не было даже своего фотоаппарата, поэтому и не смог запечатлеть и представить документальных свидетельств увиденного.
Теперь немного истории. Собираясь в эту поездку к месту гибели отца, ещё раз просмотрел все доступные мне источники о великом и кровопролитном сражении за Сталинград. Операция по окружению и разгрому Сталинградской группировки немцев началась 19 ноября 1942 года. По-видимому, отец получил смертельное ранение уже в самом начале наступления и 23 ноября скончался в корпусном госпитале. Как он боролся за жизнь известно теперь только одному Господу. Но я уверен, что он боролся до последнего и в предсмертных муках своих, надеясь выжить, видел перед собой оставленных без отцовской защиты своих малолетних детей и старшего из них, так надрывно и тревожно не хотевшего отпускать его на войну.
3-й Гвардейский кавалерийский корпус, в составе которого и воевал отец, был переброшен под Сталинград из-под Москвы, наступал в полосе обороны 3-й румынской армии, усиленной 14-й танковой дивизией немцев. Как я могу теперь лояльно относиться к этим «мамалыжникам», пришедшим завоёвывать Россию и убивать наших родных и близких. Не мой отец в 1941 году пошёл на Бухарест, Будапешт или Прагу. Но вся эта свора итальянцев, румын, венгров-мадьяр и прочих чехов, финнов и др. под водительством бесноватого фюрера пришла к нам, чтобы дать нам «свободу» жить без отцов и братьев. И эти лицемеры и проституты ещё требовали какого-то покаяния от моей страны. Нет и ещё раз нет! Они врагами России были и в прежние времена, остаются ими и теперь, только в более изощрённых формах. Это моё непоколебимое убеждение, сцементированное кровью невинно убиенных моего отца Тимофея Михайловича, моих дядей Юрия Михайловича, Захара Михайловича, моего двоюродного брата Ивана Петровича и многих других родственников и односельчан. Такая же трагедия произошла и с миллионами граждан моей страны, оставшихся сиротами, без родительского попечения и заботы. Такие трагедии не забываются. А память о павших на полях сражений за правое дело защиты своих родных и близких священна и вечна.
Лицо войны, да и изнанка тоже
Мобилизованные из нашего села отправлялись в Карачев ещё несколько дней, слёзы и стоны провожающих, остающихся без мужской опоры, тому свидетельство.
Вместе с этим население, в основном женщины и мужчины непризывных возрастов, стали привлекаться к строительству оборонительных сооружений, прежде всего окопов и противотанковых рвов. О масштабах этих работ у меня сложилось мнение только после изгнания немцев, но во всех увиденных мною огромных по длине противотанковых рвах, прорытых между Рудаками и Подосинками, по Бутыренским и Страконским огородам не было видно нигде застрявших танков или каких-то транспортных средств. Скорее всего, этот труд был напрасным. Известно, что немецкие танковые соединения в начале войны обходили созданные заграждения стороной, что, надо полагать, делали и наши войска в ходе освободительных операций. Долго ещё оставались эти уродливые шрамы войны как напоминание о бессмысленности иногда огромных трудопотерь.
Карачев и Брянск были захвачены немцами 6 октября 1941 года, всего через три месяца со дня начала войны. Как быстро и нагло двигались немецко-фашистские войска! Большого движения немецких войск через наше село не наблюдалось, они прошли в стороне. Наших отступающих войск тоже не запомнилось. В августе-сентябре велись ожесточённые бомбардировки Брянска — крупного промышленного города России. Самолёты с крестами на крыльях летели днём большими группами, с надрывным воем и столь низко, что были видны лётчики в шлемофонах, а мы, глупые дети, бежали вслед и кричали «дядя, брось конфетку». Кто придумал такую просьбу, не знаю. Не понимали мы ещё какие «конфетки» вёз этот немец на головы брянских ребятишек. По ночам над Брянском стояло огромное зарево, а ведь от нас до Брянска по прямой около 45 километров. Не удивительно, что в послевоенном Брянске были одни лишь руины. Бомбёжки велись и по ночам, причём не только Брянска, но почему-то и окрестных полей, а несколько бомб упало и на наше село. Взрывы были настолько сильными, что казалось и дом взлетает в воздух. К счастью, бомбы падали на нас не очень часто. Чьи это были самолёты, и с какой целью сбрасывались бомбы — никаких объектов, «достойных» бомбёжки у нас явно не было. Может быть, под покровом ночи отдельные экипажи просто разгружались на маршруте, дабы не лететь бомбить объекты, прикрытые средствами противовоздушной обороны, а может, и ошибались штурманы. Воронки от взрывов по нашим ребячьим оценкам были огромных размеров; долгое время после войны мы купались в них, а глубина была, как мы говорили «с ручками».
Как только стало ясно, что немцы вот-вот придут в село, стали вестись разговоры о том, что колхозов больше не будет, а опять будут единоличные хозяйства. В силу малого возраста, конечно, не понимал о чём идёт речь. Колхоз, единоличник — для меня это были просто слова, которые и запомнились независимо от осознания этих терминов, тем более, что повторялись они матерью довольно часто.
Мой дядя Пётр Михайлович
В начале октября в селе появилась немецкая комендатура, появились тут же полицаи из пришлых, и какая-то часть из наших, руженских. Были назначены и старосты. Немцы в то время были «добрыми» и не ломали голову выбором кандидатов. Узнавали, кто был председателем колхоза и если по их данным (данные же предоставлялись пятой колонной — злопыхателями из обиженных советской властью) председатель не был ярым коммунистом — таких избивали до смерти или просто расстреливали — а был авторитетным хозяйственником, то его и назначали старостой. Так и оказался в списке «пособников немецкого режима» мой дядя, бессменный председатель колхоза «Страконка» со дня его создания. Возраст у Петра Михайловича был непризывной и поэтому он избежал горькой участи своих братьев и многих односельчан. Формально он числился старостой до июля 1943 года, когда нас всем селом погнали на запад, в эвакуацию, как говорили наши сельчане. В сложном положении оказался дядя Петрак (так его звало большинство сельчан). Этот мужественный и прозорливый человек понимал, что власть немцев не навсегда, но отказаться от такой «милости» он не мог. Немцы от своих прихвостней, вылезших из нор, в том числе и в Ружном, знали, что три дядиных брата (Захар, Юрий, Тимофей) и старший сын Иван находятся в рядах действующей армии, а такое немцы не прощали.
Это был исключительно честный и порядочный человек до конца дней своих. Перед самым носом у немцев дядя разделил всё колхозное имущество между членами колхоза по числу едоков в каждом доме. На результаты дележа я ни разу не слышал нареканий сельчан, даже после войны, когда мы вспоминали эти события. Наша семья получила имущество на двоих с дядиной семьёй. Самыми ценными были лошадь, телега, плуг, борона, без чего в крестьянском хозяйстве не обойтись. Мне почему-то больше запомнился делёж колхозного амбара и конторы, разобранных на брёвна и доски, но в нашем дворе этих строительных материалов почему-то не было. Мерин, который достался нам, отличался крупной статью, спокойствием и просто подпускал к себе даже маленьких детей, не причиняя им никакого вреда. Весной 42-го дядя усадил меня на коня, дал в руки повод и вот я, держась одной рукой за гриву, а другой за повод, боронил вспаханное, теперь единоличное поле. Колхозная земля ведь тоже была поделена между бывшими членами колхоза. Были поделены и поля, засеянные весной 41-го, в том числе и коноплёй. Про эту сельскохозяйственную культуру упоминаю потому, что ей засевались очень большие площади плодороднейшей земли — чернозёмов, которыми окружено всё село. Конопля давала волокно для производства канатов, верёвок, тканей, в том числе брезента, а из семечек давилось так называемое постное масло зеленоватого цвета с приятным специфическим запахом и вкусом. Масло использовалось не только в пищу, но и для производства олифы и других материалов в лакокрасочной промышленности. Культивирование конопли было прибыльным делом и её выращивали с давних пор. Мои предки по материнской линии (в частности, прадедушка Кирилл) ещё до революции 1917 года занимались ею, жили достаточно зажиточно и даже сколотили некоторый капитал в золоте. Их дом на Малаховке с резным крыльцом, гречневая каша с постным маслом, которой меня угощала прабабушка, вспоминаются до сих пор.
Площади посевов конопли в Ружном после войны были значительно расширены и в объединённом колхозе (потом совхозе) была даже учреждена должность коноплевода, которую долгое время занимал мой дядя. Конечно, эта культура специфична по тем продуктам, которые можно из неё получить. Но даже в 70-е годы у моих односельчан не было совершенно никаких мыслей об извлечении из неё каких-то наркотических веществ. Старшие знали, что находясь в посевах конопли во время её цветения можно «задуреть», поэтому детей во время уборки мужских особей — поскони, называемой у нас чаще всего замашкой, на эти работы не допускали. Замашку в конце её цветения продёргивали по всей площади посевов и из неё получалось, после соответствующей обработки, сравнительно мягкое волокно, использовавшееся для производства холста. Сейчас на тех землях лишь бурьян и всякий чертополох. Как всё изменчиво в этом мире!
Однако вернёмся опять в 1941 год. Конопля по моим детским впечатлениям выросла в тот год настолько высокой, что из неё видны были только кабины грузовиков немцев, едущих прямиком по посевам. Им ведь не жаль было топтать наш труд, наши надежды на получение урожая, чтобы выжить. Прошло совсем немного времени с момента появления в селе немецкой комендатуры, как наши «освободители» потребовали для себя свежего мяса. В 41-м году требование ограничилось двумя коровами и дядя отдал, прежде всего, свою. Пока было можно, он старался сохранить коровок у многодетных семей. Но аппетиты оккупантов росли и уже в начале 42-го года, когда немцы получили по зубам под Москвой, они уже не спрашивали дядю, а брали всё подряд. Понимая перспективу, что немцы заберут всё, значительная часть скота была забита на мясо и спрятана в погребах. К сожалению, некоторая часть населения надеялась, что немцы не будут ничего брать у них, а уж коровок-кормилиц, тем более, оставят малолетним деткам, поэтому и до последнего держала скотинку. Но эта молва о благорасположенности к местному населению, пущенная прихвостнями оккупантов, оказалась жестоким обманом. Доверчив наш народ, может от того и много страдает. Не хотелось бы думать, что такая детская доверчивость идёт от необразованности и бескультурья. Может это есть проявление широкой русской души? Думаю, что верно последнее.
Все мои детские годы после отправки отца на фронт тесно связаны с дядей, волею судьбы поставленного в очень сложную и опасную ситуацию. Всеми доступными ему способами пытался скрываться от оккупантов, дабы не выполнять их требования, идущие, понятно, в ущерб сельчанам. Была и другая опасность. Уже в конце 41-го — начале 42-го годов у нас заговорили о партизанах, лихо расправлявшихся с «пособниками» немцев без суда и следствия. Факты таких расправ доходили и до нашего села. Не хочу касаться моральной стороны этого вопроса, но, к сожалению, война и та обстановка, которая сложилась в стране в целом и на оккупированных территориях, в частности, диктовали необходимость принятия суровых мер к изменникам и действительным пособникам немцев. Фактор времени играл не последнюю роль, потому под эту молотилку часто попадали и люди, не совершившие сколь-нибудь значимых прегрешений. Кто будет тёмной ночью, накоротке, исследовать степень вины попавшего в прицел? Не всякий и не всегда. Потому и приходилось дяде днём прятаться от немцев, а ночью от партизан на чердаках, в сараях, в погребах родственников.
Партизаны были в нашем селе только один раз, ранней весной 42-го года. Было темно, когда в дверь сильно загрохотали с требованием открыть её. Мать, перепуганная таким напором, конечно же, открыла, мы проснулись и как галчата в гнезде с печки наблюдали за происходящим. В дом ввалились три вооружённых мужика, один из них парень (было видно, что молодой) и потребовали у матери продукты, сами обшарили все полки, сгребли в сумки, несмотря на слёзы матери, все наши припасы: остатки соли, муки, спички и быстро удалились. Кто это был — настоящие партизаны или просто люди, скрывающиеся и от немцев и от наших — трудно сказать. Больше таких налётов не было, ведь наше село от спасительных лесных массивов находится в десяти-двенадцати километрах, так что не набегаешься часто. Правда и немцев в селе в то время почти не было.
Ноябрь и декабрь 41-го запомнились ещё обильными снегопадами, трескучими морозами и некоторыми драматическими событиями. Немцы выгоняли жителей, а это были, как правило, женщины, на расчистку дорог от снега. В сугробах пробивались настоящие коридоры и дорога Карачев — Навля поддерживалась постоянно в проезжем состоянии. Но было и событие, потрясшее всех сельских жителей своим трагизмом. Это произошло либо в конце ноября, либо в начале декабря, за календарную достоверность не ручаюсь, не знал в то время я ещё названия месяцев и дней недели. В тот вечер мы всей нашей сиротской семьёй были в доме дяди, как это делали практически каждый день. По улице немцы гнали большую группу наших пленных солдат и распределяли их для обогрева по домам. В дом к дяде набилось, должно быть, человек пятнадцать-двадцать. Они заполнили всё свободное пространство и оторопь берёт меня до сих пор, когда всплывает картина одетых во что попало людей, полуразутых (может мне тогда показалось, что на ногах у некоторых были только портянки или какие-то тряпки, чем-то подвязанные), в нахлобученных пилотках или каких-то шапках, с измождёнными лицами и каких-то безропотных, то ли от великой усталости, голода и холода, то ли от чувства собственной вины за произошедшее. Эта группа отогревалась, должно быть дня два. Кормили их тем, что находили наши сердобольные солдатки в своих уже оскудевших запасах. Некоторые из пленных просили женщин заявить немцам, что они являются якобы их мужьями. «Добрые» в то время немцы действительно разрешали женщинам забирать «своих» мужей. Но, как рассказывала потом мать, на нашей улице таких женщин не нашлось: «а мой вернётся — что я тогда скажу ему?». Но слёз было пролито немало. О дальнейшей судьбе этих горемык, даже о моменте их этапирования дальше, на сборные пункты, к сожалению, ничего не знаю. Сколько их осталось в живых, кто знает. Эту печально-трагическую картину наблюдал всего один раз, в последующее время наше село такими процессиями как-то обходилось стороной. А сколько таких групп, печально, с опущенными головами, с ощущением всей глубины унижения, оказавшись в положении военнопленного то ли по личным мотивам (любой ценой сохранить жизнь), то ли из-за собственной вины, то ли в силу сложившихся обстоятельств, то ли из-за злобы на бездарное и безвольное командование, проследовало через другие деревни и сёла? А сколько одиночек, взводов, рот, полков и целых дивизий осталось лежать на долгие времена в безвестности и забвении по всем необъятным нашим лесам и перелескам, полям и болотам? Война все сражающиеся армии делит на три неравные части: одни дрались и выстояли, другие дрались и полегли, третьи оказались по приведенным выше причинам (конечно, это далеко не полный перечень) в плену. Страшнее войны может быть только война. И не всегда легко отделить правых от виноватых, доблестно сражавшихся не только за свою жизнь, но и за спасение отечества, от тех, кто нарушил святое правило «сам погибай, а товарища выручай», или тех, кто в силу сложившихся обстоятельств проявил героизм, либо остался нейтральным, а может быть просто не замеченным, или поддавшись эмоциям, свойственным человеку в экстремальных ситуациях, струсил из-за боязни за собственную жизнь. И к этому суду, упаси Господи, нельзя и близко подпускать людей бездушных, несведущих, ангажированных, преследующих корыстные цели, вымещающих злобу за свою неполноценность, действующих по указке заинтересованных сообществ с целью искажения реальных фактов. Таким зловредным для нашего народа, перенесшего все тяготы войны, является так называемая «десталинизация», проводимая, конечно же, не от великого ума всякого рода, якобы, Медведевых и Федотовых.
Завершая рассказ о дяде, хочу хотя бы кратко поведать о трагической его судьбе, оказавшегося после гибели на фронтах Великой Отечественной войны братьев Захара, Юрия и Тимофея, старшего сына Ивана единственным старейшиной нашего большого и уважаемого рода. Оставалась одна надежда на младшего сына Михаила, 1934 года рождения. Но и здесь судьба была жестока к нему. Петрович, так мы его все называли уже в старших классах школы, добросовестно отслужил три года в армии, работал сначала киномехаником, передвигаясь со своей кинопередвижкой по всей округе, затем перебрался в Брянск, работал на предприятии железнодорожного транспорта и одновременно заочно учился в институте. В его семье росло две дочери, была вполне пригодная для проживания квартира на Брянске-2, куда я и заезжал, находясь в отпуске. Мы вместе радовались жизни, детям и казалось, что ничто не предвещает беды. Но в начале 1972 года я получил от него известие, что он находится на лечении в центральной больнице МПС, куда мы с женой и приехали его навестить. О роковом характере болезни он уже догадывался. Моё общение с лечащим врачом подтвердило отсутствие каких-либо надежд на выздоровление брата. Развязка наступила летом этого же года. Похоронили мы его на Ковшовском кладбище Брянска. Вскоре не стало и жены дяди — тёти Анны. Дядя остался совершенно один, хотя подросшие внучки иногда навещали его. В один из приездов в отпуск в село, мы с женой пытались уговорить дядю переехать на постоянное жительство к нам. Жилплощадь наша и материальное положение позволяли обеспечить вполне хорошие условия для проживания, тем более, что наши дети стали вполне самостоятельными. Но дядя категорически отказался, в этом проявился наш родовой характер — не быть ни для кого обузой. Отказался он и от предложения невестки переехать к ним. Принял решение провести остатки своей жизни в доме престарелых, где и закончилась его сильно омрачённая тяжёлыми потерями жизнь. Вечная ему память!
В оккупации. Новые впечатления, но без радости
В то время грамоты я ещё не знал, но запомнил одну небольшую книжечку со звёздочкой на обложке и с картинками внутри, которую принёс к нам какой-то мужичок. На картинках был изображён наш солдат с винтовкой в разных положениях для стрельбы. Скорее всего, это было наставление по стрелковой подготовке РККА, но зачем нам её принесли — ума не приложу. Ещё раньше, в самом начале войны (июль или август) около нашего дома какой-то грамотей читал одиночную листовку небольшого формата, на белой бумаге. Я могу воспроизвести только то, что запомнил на слух и только так, как запомнил: «Бей жидов, спасай Россию. Хватит бессмысленно кровь проливать». Понятно, что эти листовки разбрасывались немецкой авиацией. Несколько раз той зимой старшие находили на полях, за огородами, кипы слипшихся между собой и частично раскисших листовок. Говорили, что это были листовки, сбрасываемые по ночам нашими самолётами. Больше никаких письменных свидетельств идущей войны не припомню, да может, их и не было в наших краях.
Несмотря ни на что пришла и весна 42-го. Особых изменений в поведении немцев пока не было, но их стало значительно больше, жили постоянно; в большом поповском доме около церкви располагались какие-то штабы, было очень много легковых машин, автобусов, мотоциклов с колясками. Поражало не только большое количество техники, но и её вид — до этого мы, кроме «полуторки», ничего не видели. А какие вальяжные военные в непривычных для нас фуражках выходили из легковых машин, поправляя иногда ремень с кобурой на левом боку.
Мальчишек, должно быть, всегда влечёт к технике. Однажды на логу мы решали непростую для нас задачу: как же поедет эта большая машина, у которой впереди колёса, а сзади гусеницы. Неожиданный ответ на мучивший нас вопрос был получен с появлением на логу большого поросёнка, сбежавшего из закутка по недогляду своей неразумной хозяйки на привычное место для выпаса. Ведь к этому времени весь скот, кроме лошадей был пущен под нож, чтобы не достался немцам. А тут такой «подарок». Машина весьма интересной для нас конструкции взревела и быстро догнала эту хрюкающую живность, которая несколько раз успела ещё и взвизгнуть от полученных ударов, а выскочившие с гоготом из машины фрицы своими огромными тесаками быстро завершили процесс. Добыча была быстро разделана тут же на травке, невзирая на истошные вопли хозяйки, и отправлена куда-то в сторону поповского дома. Свежий шпик — какой же немец пренебрежёт таким продуктом.
Пришлось познакомиться и с поварским мастерством «весёлых» немцев. Именно весёлым или очень довольным собой запомнился этот спец, так ловко выпекающий блины, подбрасывая их сковородкой так, что они шлёпались в сковородку же обратной стороной — может быть он «играл» на нашу ребячью публику, по крайней мере, он часто поворачивался в нашу сторону, хотя мы из-за боязни близко не подходили. Дивно для нас было и то, на чём он выпекал блины. Мы-то привыкли считать, что должен быть какой-то костёр (огонь, по-нашему), а тут стоит что-то вроде небольшого пня и шипит огнём. Подробнее не рассмотреть, далековато. Это уж значительно позднее примус пришёл в городской быт (я его увидел после войны в Брянске), а в сельской местности такие «игрушки» ещё долго не появлялись.
Но более всего поразило отхожее место, устроенное тут же, около церкви, на пригорке. Вдоль глубокой канавы на вкопанных в землю столбах была укреплена довольно широкая доска, на которую и садилась, спустив штаны, просвещённая нация. «Зрелище», конечно, незабываемое, тем более для нас, сельских мальчишек, которые о туалете вообще не имели никакого понятия. Для нас туалетом, как правило, был плетень на огороде, но справить нужду всегда старались незаметно. А тут такая картина для всеобщего обозрения! Не знаю, то ли это от высокой немецкой культуры, то ли выражение презрения к сельскому населению, да и вообще к России.
Это лишь отдельные фрагменты наших ребячьих наблюдений. Мы имели относительную свободу передвижения, поэтому и посещали иногда и запретные места, утаскивая плохо лежавшую коробку с сигаретами, нет, не для того, чтобы курить, а лишь бы ощутить аромат, исходящий из коробки. Иногда находили немного конфеток в обёртке — какие они были вкусные и ароматные. Для нас, сирых, эти ароматы были из другой жизни, неведомой доселе. Поэтому и проверяли все выброшенные немцами коробки из-под сигарет, вскрытые консервные банки, надеясь на хотя бы какой-то остаток в них. Не всегда такие поиски проходили гладко. Помню, как в нас запустил пустым ведром немец — конюх, ухаживающий за своими лошадьми на бывшей колхозной конюшне. Сюда мы долго боялись заходить, даже несмотря на нашу ребячью бесшабашность.
В том году весна прошла как-то быстро, даже незаметно. Но весна это и сельхозработы. Колхозная земля была поделена, семена сохранились и народ прикладывал большие усилия, чтобы посеять зерновые, посадить картофель. Тем более что пока немцы не отобрали лошадок, оставили семена и не мешали обрабатывать землю. Такое «благодушие» со стороны оккупационных властей возродило у многих сельчан уже несколько угасшую тоску по ведению «единоличного» хозяйства. Конечно, расчёт был простой и заключался он в том, что такой политикой на сторону немцев привлекались неустойчивые селяне, которые могли бы составить опору режиму не только производством продуктов питания, но и предоставлением людских ресурсов, что в условиях ведения войны чрезвычайно важно. Разговоры о возврате к доколхозным временам не минули и нашу семью, но они быстро прекращались дядей, по-видимому, понимавшим ситуацию значительно лучше всех других. Но разговоры разговорами, а посильное участие в сельхозработах принимал и я, ведь мне шёл уже седьмой год, а это для села серьёзный возраст.
Весной 42-го в селе стало всё-таки значительно оживлённей. Немцы постоянно передвигались, одни уезжали, другие приезжали (техника в каждой партии чем-то отличалась). Появились полицаи с повязками на рукавах, в униформе, с винтовками. Однажды, находясь в поле, наблюдали целый отряд полицейских, возвращавшихся в село после, по-видимому, прочёсывания близлежащих рвов. Запомнилась песня, которую они довольно прилежно и громко пели: «Эй, комроты, даёшь пулемёты, даёшь батареи, что б было веселее».
Именно так я и запомнил этот куплет. Потом уже в зрелом возрасте случайно узнал, что эта песня как строевая была ещё в русской царской армии. Должно быть, и в подготовку полицейских немцами закладывалась определённая идеология. Всё продумывали.
Этой же весной впервые увидел немцев в чёрной форме. Они зашли к нам в сени, такие надменные, как мне показалось, и сразу матери: «Матка! Млеко, яйка». Мать, естественно, в слёзы: «Пан! Нет уже ничего. Детей (показывает на нас) кормить нечем». Не знаю, что они поняли из этих слов, но быстро ушли. Кстати, немцев и всех их приспешников у нас в селе звали панами. Не знаю почему. Были ещё и другие немцы. Один раз в дом к нам зашёл небольшого роста солдатик, без оружия, уселся на лавку за стол и стал показывать маме фотографии. Из этого показа я понял, что фрау — это женщина, жена, а киндер — это ребёнок. Жестами и затем этими словами, показывая на мать и на нас объяснял, кто есть кто на фотографиях. Не знаю, с какой целью он это делал, то ли скучал по своей семье, то ли хотел показать, что война ему не нравится, но уж точно — не провоцировал. Трудно об этом судить, но тогда мать и другие женщины сделали вывод и, не только по этому эпизоду, что немцы бывают разные.
Война уже шла почти год и на свет божий открыто выползла всякая нечисть. Через три дома от нас появился начальник полиции, и мы интуитивно, без чьей бы то ни было подсказки, почувствовали какое-то зло, исходившее от этого сброда. «Теперь мы здесь хозяева!», — услышали однажды, проходя с опаской около застолья, устроенного полицаями на расстеленном рядне у хозяйского дома. Всё было заставлено бутылками, закусками, играл патефон, который я услышал впервые в жизни. Должен сказать, что этих «молодцов» боялись больше, чем немцев. Поэтому у нашего народа такое неприятие полицейского. К сожалению, недоумки, оказавшиеся у власти, узаконили такое название правоохранительных органов в современной России, что вызывает лишь негодование и ненависть к этим чужеродным правителям. Я не помню уже ни имени, ни фамилии полицейского начальника, но надменность и презрительное отношение к сельчанам запомнил хорошо. У него был сын, мой ровесник, и надо же было так случиться, что когда немцев изгнали от нас, то этот мальчик жил вместе с матерью и, по-видимому, с бабушкой тоже в землянке, как и мы, но уже в другом месте нашей улицы. Но нас, ребятишек в их жилище никогда не пускали, что было необычно — мы все ходили друг к другу. Как потом выяснилось, этот полицай скрывался здесь же и его смогли поймать только в году 46-м или 47-м. Всю его семью потом усадили в сани и тоже куда-то вывезли. Из присутствовавших при этих «проводах» сельчан никто о них не проронил и слезинки. Не те это были люди, чтобы на фоне потерь своих близких, погибших на фронтах от рук гитлеровцев, жалеть об их пособниках.
В 42-м году в селе стали появляться огромные телеги (у нас их сразу почему-то окрестили фурами), перевозимые здоровыми лошадьми — битюгами. Я познал ещё одно слово — мадьяры. На самом деле это были и румыны и венгры, приехавшие грабить оккупированные наши города и сёла. Хватали всё, что попадалось, вели себя нагло, но немцев побаивались. Один раз мать, видя, что эти «мадьяры» пытаются вытащить из погреба (он у нас был под окнами) наши пожитки, а дело происходило вечером, переборов страх (своего-то жаль) сказала грабителям, что пожалуется на них коменданту. И что же? Бросили всё и укатили.
Лето 42-го запомнилось ещё шумными перемещениями огромного количества техники и личного состав фашистской армии. Помню, как я с ребятишками сидел на Куташенской горке и с непонятным для меня волнением наблюдал за сплошным потоком в сторону Навли танков с солдатами на борту, автомобилей с пушками и солдатами, мотоциклов и даже очень много велосипедистов с винтовками. Это движение шло около суток и настолько стремительно, что даже упавший с танка ящик, из которого вывалились снаряды, не привлёк ничьего внимания. И только много позднее мне стала понятна эта массовая переброска войск и техники — фашисты усиливали свои войска, рвущиеся к Сталинграду. Может быть, в это же время из-под Москвы тоже под Сталинград был переброшен и 3-й Гвардейский кавалерийский корпус, в котором воевал мой отец, для усиления войск, сдерживающих натиск гитлеровцев на этом направлении. Не отсюда ли и то волнение, которое я испытывал, наблюдая за перемещением войск через наше село. Всё-таки есть предчувствия беды, упреждающие реальные события.
Однако вернусь почти на год назад, в сентябрь 41-го. Тогда мы стали свидетелями гибели нашего советского самолёта. Было раннее утро, но все были на огороде и убирали картошку. Откуда-то доносился звук летящего самолёта, затем к этому тягучему звуку присоединились и другие, более «лёгкие», а вскоре стали отчётливо доноситься и звуки выстрелов оттуда же, с неба. Небо было чистое-чистое, голубое. И вот уже довольно высоко стал виден большой самолёт, летящий примерно в восточном направлении, а вокруг него крутящиеся два самолётика поменьше. Очень хорошо были слышны и видны трассы выстрелов с обеих сторон. Это сейчас разбираюсь в направлениях движения, а тогда понимал только, что самолёты перемещаются в сторону Бутыренки. Через какое-то время большой самолёт вспыхнул и очень быстро развалился на три части, из которых вывалились три «фонарика» — так моя мать назвала раскрывшиеся парашюты. А вот четвёртый «фонарик» как-то неестественно летел вместе с горевшим обломком самолёта, потом отпал от него и летел уже быстрее обломка лишь с каким-то шлейфом позади, фонарика уже не было. Старшие ребята быстро рванулись к месту падения самолёта — видно было, что это наш самолёт, а истребители с крестами, значит немецкие — и успели добежать до упавшего практически без парашюта одного из членов экипажа раньше, чем туда подъехали полицаи на лошадях. Немцев в селе было мало и они подъехали ещё позже. Благополучно приземлившиеся три члена экипажа скрылись в оврагах, заросших лесом и дальнейшая их судьба мне не известна. А вот упавший на вспаханное поле с обгорелым парашютом стрелок-радист, когда подбежали наши ребята, был ещё жив. Он передал им свой комсомольский билет и другие документы и просил ребят, когда будет возможность, сообщить на родину о его судьбе. Свою безнадёжность, должно быть, понимал хорошо, так как после короткого разговора потерял сознание. Ребята наши успели убежать от полицаев и, таким образом, спасли документы. Мы же, малые ребята, только видели, как полицаи везли на совершенно голой телеге стонущего от болей лётчика, такого круглолицего, полного. Рядом с ним на телеге лежал снятый с самолёта пулемёт, из которого он отбивался от двух немецких истребителей. Умер он к вечеру этого же дня. Похоронили лётчика полицаи, даже несмотря на благосклонность немцев, по-варварски, без гроба и с нескрываемым злорадством. Уже после войны, в 50-е годы (я был в училище), приехавшие из Рязанской области родственники облагородили его могилку на сельском кладбище, которую знали и посещали многие из моих сверстников.
Было ли мне страшно?
Бывают в жизни события, которые оставляют по себе память на долгое время. Такую глубокую зарубку, не заросшую и до сих пор, я получил в 1942 году, на седьмом году моего пребывания на этом белом свете. В последние годы жизни матери, всякий раз, когда приезжал её навестить, она неизменно спрашивала: «А помнишь, как тебя из нагана немец хотел убить». Это событие было глубоко ею пережито как матерью, старающейся сберечь своего ребёнка. Как же не помнить? До сих пор иногда даже чувствую холодную сталь парабеллума (по выражению матери — нагана), которым тыкал в моё лицо этот фашист. В тот ещё ранний вечер, как обычно, все были у дяди, когда в дом ввалился высокий такой немец, одетый, что называется, по форме. Был ли это унтер или офицер, мне трудно судить, но на левом боку у него была кобура — это уж я запомнил хорошо. Он обратился к дяде с каким-то вопросом, одновременно жестикулируя руками. Дядя немецкого языка не знал, но, по-видимому, понял, что у немца что-то пропало ценное, причём пропало недалеко от домов, где они отрывали капониры для укрытия штабных автобусов. Дядя выразил своё «nein», такого быть не может, но этот фашист, должно быть, пояснил дяде, что он видел рядом «kinder». Дядя ко мне: «Ты был там на горке? Ты что-нибудь брал?». Так я и оказался крайним, я и сидел на лавке крайним, а двоюродный брат, тоже Мишка, сидел в углу под образами. Родной мой брат Шурка был, конечно, не в счёт — выглядел он совсем уж маленьким (ему не исполнилось ещё и пяти лет). Вот и начался «допрос» меня с пристрастием, потому что чем больше я пускал слезу, тем настойчивее и больнее фашист тыкал мне в лицо «наганом». Помню упёртый в меня взгляд, бормотание на непонятном мне языке. И что он хочет от меня? Дядя опять пытается выяснить, не брал ли я чего-нибудь там, где они укрывали автобусы. А что там можно было взять? Когда мы с ребятами подходили к этим раскопкам, то видели, что часть немцев, полуголая, работала лопатами, рядом была сложена их одежда, здесь же на пригорочке, сидело несколько человек, покуривая сигаретки и больше не на что было обратить внимание.
Скорее всего, дядя понял безвыходность ситуации, понял, что я не причастен к пропаже и дабы как-то разрядить обстановку спросил у меня с кем я там «бегал» (бегать на нашем языке означало гулять). Пришлось «выдать» моих постоянных компаньонов по играм, наших соседей, живших наискосок от нас через улицу, братьев Алёшиных (по-уличному, Черепковых) — Колю, Мишку и Ивана, с которыми я действительно играл недалеко от того места. Два старших их брата — Сергей и Александр в наших играх никогда не участвовали — возраст уже был не тот. Кстати, Сергей был в числе тех самых ребят, которые, опередив полицаев, первыми подбежали к нашему сбитому самолёту и забрали документы у разбившегося лётчика.
Дядя, как мог, объяснил немцу, что может быть пропажа найдётся в другом месте и предложил «kommen» к Черепковым. Спрятав парабеллум в кобуру, немец согласился и мы вышли на улицу. Я шёл рядом с немцем, постоянно всхлипывая, мать с маленькой Машей на руках вся в слезах: «Пан, пан! Он ничего не брал!» шла тоже рядом со мной. Был уже такой серый вечер, темнело. От дядиного дома до Черепковых около пятидесяти метров, а до нашего — метров тридцать пять. Когда уже вся «процессия» поравнялась с нашим домом, услышали крики «Пан, пан!». К нам бежала дядина соседка Забродина. Имя её, к сожалению, забыл. Из этой семьи Нина Забродина была женой моего второго дяди, кадрового военного, Юрия Михайловича, так что мы были в некотором родстве. Остановились. Подбежала эта женщина и показывает немцу какой-то предмет. Какая бурная реакция была у немца! Схватив принесённое, он начал что-то быстро лопотать, показывая дяде пальцем в одно и то же место, как потом выяснилось, на монограмму на, должно быть, дорогом для него портсигаре (это был портсигар). Затем открыл его, взял сигарету себе и предложил дяде, который отказался, так как никогда в жизни не курил. «Гут, гут!» и, о чудо, он этим же портсигаром и зажёг сигарету. Я всё происходящее наблюдал уже из любопытства, так как почувствовал, что «вопрос» решён в мою пользу. И действительно, толкнув меня то ли коленкой, то ли рукой (этого уже не помню) немец загоготал и по всему было видно, что облегчение почувствовали все присутствующие.
Что же произошло на самом деле? Оказалось, что маленькая дочка Забродиной, а ей было около пяти с половиной лет, играясь около капониров, увидела на сложенной одежде какую-то блестящую штучку, спокойно взяла её, поиграла с ней дома и легла спать вместе с «находкой». Немец, обнаружив пропажу и, по-видимому, не найдя её у своих, начал искать по домам. Дом Забродиных был самым ближним к месту пропажи и потому стал первым. А в доме всего одна женщина и маленькая девочка, да и та спит уже. Женщина поняла, что у немца что-то пропало и, как могла, убедила его, что у неё ничего такого быть не может. Следующими оказались мы, и начался описанный мною выше процесс. Так как разговор шёл довольно бурный, слышался плач ребёнка (т.е. меня) и причитания матери, то соседка, к чести её, почувствовав неладное, разбудила дочку, «допросила» её и обнаружила в кроватке этот злополучный портсигар. Что было бы со мной, не найдись он, сказать трудно. После такой встряски подходить близко к немцам какое-то время я уже не осмеливался. Ощущение холодного металла на лице долго приводило меня то в озноб, то в жар, вызывая какой-то внутренний ужас.
Зима 42—43 годов
В конце 42-го года появились новые фигуранты войны. Стали часто говорить о каких-то «власовцах», которые обращаются очень жестоко с населением, никого не щадят. Откуда нам было знать в то время о сдавшемся в плен советском генерале, вознамерившемся то ли в силу глубоких убеждений, то ли под влиянием обстоятельств и желания сохранить свою жизнь, «освободить» Россию от большевиков. Ну а носители «знамени» этого позорного военачальника пользовались своим положением врагов советской власти и, должно быть, упивались неожиданно появившейся возможностью объединиться в отряды разному отребью, дабы «освобождать» наше население от всякого имущества и продуктов питания. Больше всего именно этим, а не какой-то непонятной одеждой, они мне и запомнились. Как мать не упрятывала остатки мясных продуктов, эти «борцы за свободу» обыскали всё: погреб, чердак, пристройку к дому и не брезговали ничем. Всё, что обнаружили, несмотря на слёзы матери («чем же я буду кормить трёх детей»), рассовали по мешкам. Слава Богу, они в этот раз как-то быстро уехали от нас. Вторично мы с ними столкнулись уже в тёплые дни 43-го года, когда власовцы или кто-то под этой зловещей вывеской, занимались откровенным мародёрством, сопровождая свои действия реальными угрозами оружием.
В эту же зиму стала остро ощущаться нехватка некоторых продуктов и предметов обихода. К отсутствию сахара уже давно привыкли и не вспоминали о нём. А вот израсходованные запасы спичек и соли «неожиданно» создали большую проблему с организацией питания. А если ещё учесть и отсутствие освещения — керосина-то для ламп не стало — то можно понять причины погружения села во тьму. Но наш народ всё-таки изобретательный и огонёк для растопки печи передавался от соседа к соседу — о зажигалках, как у немцев, оставалось только мечтать. Они появились у нас уже в конце войны, правда, кустарные, когда к обычному винтовочному патрону, заправляемому бензином, припаивалась трубочка с колёсиком и камешком для добывания искры.
Соль же стали добывать «оригинальным» способом: разбивали старые деревянные бочки, использовавшиеся ранее для засолки мяса, на мелкие фрагменты и потом вываривали их. Получившимся отваром и сдабривали еду, в качестве которой преобладала картошка. Совсем плохо стало ребятишкам, привыкшим к молоку. Коровок многие жители давно уже забили, а у тех, кто пытался их сохранить для прокормления многочисленного потомства, безжалостно забрали немцы. Напрасно надеялись доверчивые жители на сострадание оккупантов. Всё становилось на свои места.
Никаких известий о положении на фронтах не было, да и откуда им быть — перемещение людей как носителей информации немцами не поощрялось. Немцы вели себя очень активно, более резко, чем раньше, что-то в их поведении (по моим детским впечатлениям) изменилось. Трудно сказать, на чём основывались эти впечатления. Может быть, что-то изменилось во мне — стал взрослеть.
Совершенно не помню, как вспахивали и засевали поля и огороды в весну 43-го, но они точно были засеяны рожью, пшеницей и горохом, засажены картошкой. Коноплю, конечно, не сеяли, так как все семена были съедены. Чем-то нужно было питаться. Как потом оказалось, высаженная весной картошка стала единственным, хочу это подчеркнуть, единственным средством выживания в последующие месяцы осени и зимы 43—44-го годов. Зерновые же «самообмолотились», не дождавшись прибытия на поля хозяев.
«Эвакуация»
С наступлением весны 1943 года немцы начали проводить какие-то строительные работы в оврагах (рвах), которые охватывают Ружное с юго-восточной и южной сторон, в полутора-двух километрах от села. Туда тянули кабели, для чего по огородам, по лугу пропахивали неглубокие борозды, в которые и укладывали неведомый для нас довольно толстый чёрный провод. Особенно большие работы велись в Орловике и Могольском рвах, доступ туда нашему населению был закрыт.
Вскоре заговорили о какой-то эвакуации. Такое слово многие слышали впервые, поэтому более сведущие втолковывали непонятливым, что нас всех погонят в Германию. Зачем погонят, как же можно оставить дома, а что можно взять с собой и т. д. и масса других вопросов, на которые понятных ответов дать никто не мог. Но события на фронтах подтолкнули к неизбежному оставлению родных мест. Немцы начали изымать в домах оконные рамы, двери и вывозить их вместе с другими строительными материалами в рвы Орловик, Могольской, Ящинский, Липовок, Клинский и др. для сооружения, как потом оказалось, землянок, блиндажей, дзотов и прочего. Не минуло сие разорение и наш дом.
А население стало собираться в неведомую дорогу. Мать упаковала свои пожитки, что считала ценным, в мешках вынесла из дома для длительного хранения (спрятала, как она говорила). А куда было прятать? У нас в огороде была яма для хранения картошки, а под окнами дома — погреб для хранения всяких солений, свёклы и других овощей. В погреб мать уложила все тряпки, а вход (жерело, по нашей сельской терминологии) засыпала землёй. В яму же опустила двухсотлитровую деревянную бочку, используемую обычно для засолки капусты, заполнив её пшеницей. Жерело ямы также засыпали землёй. Ещё одну бочку с пшеницей мать установила в подполе дома и тоже «замаскировала» доступными средствами. Кое-какие пожитки — одежонку для нас и для себя, какие-то продукты питания мать сложила в мешочки и приготовила в дорогу, совершенно неизведанную ни по времени, ни по протяжённости и с непредсказуемыми последствиями. Много не возьмёшь, ведь повозка всего-навсего одна на двоих с дядей, а нас набиралось в этот «экипаж» четверо взрослых (дядя, тётка Анюта, сестра дяди увечная с детства Мария, моя мать) и четверо детей: двоюродный брат Миша годом старше меня, и нас трое у матери. Как всех разместить на обычной деревенской телеге, загруженной ещё самыми необходимыми пожитками? Конечно, предполагалось, что взрослые будут идти пешком, я тоже был зачислен к ним. Двоюродный брат был, естественно, на особом положении — у него отец. Поэтому значительную часть пути он восседал на подводе. Тяжелее всех пришлось моей матери: на руках пятилетний Шурка и двухлетняя Маруся (так звали мы сестричку). Шурка отличался ещё и сонливостью, поэтому, когда ехали ночью, его усаживали сверху пожитков и привязывали верёвками или какими-то тряпками, чтобы не падал с телеги. Но даже и привязанный он «умудрялся» иногда свалиться на землю. По каким дорогам мы ехали! Впрочем, в своём изложении событий я забежал далеко вперёд.
После разорения дома мать по ночам сидела у оконного проёма и, как она говорила, «караулила» и нас, спящих на печке, и добро, «спрятанное» в погребе, при этом боясь каждого шороха. Конечно, когда на месте окон и двери зияют пустые проёмы, то в это тревожное время невольно будешь оглядываться на каждый шорох. И, тем не менее, мать однажды набралась смелости и прогнала мародёров, о чём я рассказал уже выше.
Всё это разорение домов, сборы в дорогу происходили в июне — начале июля. Немцев в селе оставалось постоянно мало, все куда-то двигались, быстро, сосредоточенно. Воцарялась гнетущая тишина. Откуда нам было знать, что потерпев крупнейшее поражение в Сталинградской битве, немцы готовились взять реванш на центральном участке советско-германского фронта, а именно ликвидировать орловско-курский выступ, разгромив советские войска, сосредоточенные здесь, и вновь попытаться овладеть стратегической инициативой. Но это уже другой разговор.
За несколько дней до эвакуации пришлось отведать и немецкого варева. Около дядиного дома дня три или четыре была развёрнута полевая кухня, но немцы однажды так быстро укатили, не съев приготовленное, что повар, то ли от того, что у него проснулись родительские чувства, то ли от простой человеческой жалости к снующим рядом голодным ребятишкам, зачерпнув половником из котла варево, скомандовал: «Ком!». А с чем «ком», ведь у нас никаких тарелок и кастрюль никогда не было и в помине, а чугунки были либо спрятаны, либо упакованы в дорогу. Мать вытащила большую семейную миску и вот я уже несу её полную, горячую, с каким-то белым, сладковатым на вкус, содержимым. Съели всё тут же. Потом уже вместе с другими более «просвещёнными» соседями пришли к выводу, что это были разваренные макароны (типа сегодняшней вермишели). Я их ел первый раз в жизни. Принёс ещё с собой и маленькую буханочку тёмного хлеба, отличавшуюся от наших «коммерческих» не только своим малым размером, но внешним видом и вкусом. С боков она была покрыта какими-то «опилками», правда, мелкими (предположить что-то другое мы не могли — фантазии наши далее отрубей и древесных опилок не простирались), а корочка припахивала каким-то маслом («знатоки» утверждали — автолом, который они нюхали при заправке трактора). На самом деле, конечно, это был хлеб, приготовленный для длительного хранения и защищённый от воздействия внешних неблагоприятных факторов. На вкус это был явно не ржаной хлеб, но и на чисто пшеничный тоже не походил. Твёрдый был хлеб. Кстати, уже находясь в эвакуации (по пути туда), с проезжавшего навстречу немецкого грузовика в наш обоз бросались пачки какого-то продукта. Развернув упаковку, увидели зеленоватую довольно плотную массу со специфическим запахом, доселе нам неведомым. Те же «знатоки» объяснили, что это маргарин и употреблять в пищу его можно, что мы после такого обнадёживающего утверждения моментально и реализовали. Все наши помыслы в то время постоянно были на утоление голода. Но это были единственные подачки от оккупантов за всё время нашего перемещения в Европу. Больше не подкармливали.
Так постигали мы некоторые плоды цивилизации, не задумываясь в то время о достигнутом уровне производства в странах Европы и качестве подготовки фашистской Германии а войне. На это нам пока ума не хватало.
Но вернёмся немного назад. Мы пока ещё дома. Но вот и нашу улицу обошли несколько немцев с полицаями — завтра с утра «нах вест!». Такая же команда проследовала и по все остальным улицам нашего села. Обозы формировались по бывшим колхозам, так уж народ привык, хотя формально колхозов уже не было.
Сколько же слёз было пролито женщинами и старыми и молодыми, особенно теми, у которых были малые дети. Бросить всё нажитое своим горбом за долгие годы, даже оставить те же засаженные и ухоженные огороды, распрощаться с родными от рождения местами, где прошла жизнь, длинная или короткая, как у кого, проститься со всем дорогим, что было здесь — это становилось невыносимым. Атмосфера гнетущей тоски по оставляемым родным домам, какому-никакому имуществу, буквально пропитала всех. Нам, детям, может и трудно было понять происходящее, даже, возможно, было легче, но слёзы матери, суровая сосредоточенность дяди и других пожилых мужчин невольно передавались и нам. «Ну куда же я с вами пойду, где меня ждут, где меня приютят, чем же я буду вас кормить, кто мне поможет?!». Эти вопли матери вошли в меня на всю оставшуюся жизнь и даже сейчас, на склоне лет, вызывают невольную слезу, когда перед глазами встаёт немногословный брат Шурка, державшийся за подол маминой юбки, маленькая совсем Маруся, научившаяся только говорить и ставшая, по воспоминаниям матери, очень мудрой, «как старушка». Как такое забыть? Нет и таких слов, чтобы выразить весь трагизм начинающего движение обоза, сопровождаемого громкими всхлипываниями и причитаниями женщин. Плакали и мы, ребятишки.
Под окрики немцев и полицаев выехали из села по направлению на Навлю, проехали Крутое, Липовский ров и тихо вдоль Ященского рва двинулись в сторону деревни Пластовое. Так как выехали из села во второй половине дня и приближался вечер, то наша «охрана» — немцы и полицаи — исчезла в районе посёлка Пролетарский. Ведь мы приближались к партизанской зоне, а ночью немцы предпочитали отсиживаться в гарнизонах. Кстати, такое повторялось во все дни нашего печального путешествия — ночью никакой охраны не было.
Проехав Пролетарский, свернули к кустам лозняка на ночлег. Здесь уже находился один обоз из нашего села, с улицы Слободка. Они заняли, что называется, плацкартные места. Дядя провёл обоз чуть дальше, и там оказались кусты более подходящие для остановки. Но как организовать ночлег? Никаких спальных принадлежностей, одеял, даже обычного сухого сена не было. К счастью, погода была тёплой и сухой и, по-видимому, усталость от пережитого за день взяла своё и мы, кто как мог и где мог, уснули. Утром мать покормила чем-то из взятых в дорогу припасов, но вот чем, как не напрягаю память, не могу вспомнить. Точно знаю, что ничего не варили, костров не разводили, а других источников тепла просто не было. Чем мы питались и во время дальнейших наших скитаний, не помню. То, что пища была скудной, не вызывает никаких сомнений, но это точно была не манна небесная. Скорее всего, довольствовались тем, что находили по дороге, т.е. практически освоили понятие подножного корма.
Утром ни немцев, ни полицаев не было. Не было их и днём. Нас, ребятишек, никуда из кустов не выпускали, да и боязно было — незнакомые места. Старики о чём-то шушукались, что-то решали, расходились, затем опять начинались разговоры, иногда даже очень громкие, образовались какие-то группы со своими разговорами. К вечеру стало ясно, что весь сыр-бор разгорелся из-за того, как быстро надо ехать. Ведь уже целый день стоим и никуда не движемся. Небольшая группа стариков призывала быстрее ехать в Германию: «Я там был в плену в ту войну, там хорошо живут, и мы тоже устроимся. Надо быстрее ехать». Приводились и прочие «доводы» обретения счастья на чужбине. Вторая, более многочисленная и авторитетная группа во главе с дядей Петром Михайловичем, настаивала на том, чтобы от дома не удаляться и если есть возможность, как сегодня, то этим и надо пользоваться. Дядя очень резко совестил желающих без оглядки бежать за призрачным счастьем: «Немцы только и думают о нас, как нам устроить райские кущи». «Надо держаться гуртом, всем вместе. Скоро наши придут!», — таково было заключение дяди на все эти споры. По сути, шла речь о вере или безверии в победу Советского Союза над фашистской Германией, хотя прямо так вопрос, должно быть, и не стоял. Конечно, нашего ребячьего мнения никто не спрашивал, в споры не приглашали, но складывающуюся обстановку, я думаю, мы понимали. По крайней мере, некоторые нюансы ведущихся споров мне памятны. Может быть потому, что я часто был рядом с дядей и его реакцию в более резких выражениях, чем привожу здесь, слышал не от третьих лиц.
Ведущиеся споры не могли не сказаться и на поведении детей. Произошло какое-то обособление их не только по группам, но и в самих группах. Хотя ребят моего возраста было в обозе не так уж мало, но не помню ни одной ребячьей компании, которая бы нас объединяла. Просматривалось явное тяготение к своей семье, к своим родственникам. По-видимому, семейные узы держали крепче и вселяли надежду, пусть и неосознанную, на спасение.
В результате всех споров большинством было принято решение никуда с этого места не трогаться. Так и поступили. Прошёл и второй день — ни одного немца, ни одного полицая. Забыли что ли про нас? Но зато ребятня не забыла про голод и требовала их накормить. И вот на третий или четвёртый день стояния группа женщин, в том числе и моя мать, оставив нам на попечение маленькую сестричку, решили сходить в село и принести что-нибудь из продуктов, хотя бы накопать картошки. И пошли, а до дома ведь около шести километров. С каким нетерпением мы ждали их и, слава богу, дождались под вечер. Мать принесла картошки — это был праздник. Она рассказывала, что в домах за прошедшие дни немцы выдрали потолки, полы и вообще всё, что можно было снять. Тишина в селе необычная, такой никогда не бывало, немцев не встретили — они, скорее всего, занимались своим обустройством и подготовкой этого района к обороне. Не хочется думать о том, как бы сложилась наша судьба — моих братишки и сестрёнки, если бы немцы или кто-то ещё задержали женщин. Мама потом неоднократно рассказывала о своих волнениях в том походе, но… голод не тётка.
Рассказы «сходивших в разведку» женщин, должно быть, подтолкнули к принятию решения покинуть это место и переехать ближе к Навле-реке, т.е. к лесу, а там уже начинается партизанская зона. Старики об этом знали. На следующий день, действительно переехали километра на четыре, на свои луга и спрятались, насколько это было возможно сделать, в кустах. Не знаю, сколько времени мы там прятались, но это была мука для всех. Детей нужно кормить, а где сварить ту же картошку? Костры разводили очень маленькие, а чтобы они не дымили, нас ребятишек, заставляли искать сухие веточки. Помню один случай, когда только развели костерок, а дядя уже командует «туши!» — послышался гул самолёта. А их стало летать всё больше, мы внимательно смотрели на небо в надежде увидеть наш, со звёздами на крыльях, но, увы… Только одни кресты и этот зловещий рокот. В один из дней переезжали в другое место — теперь решили чаще менять пристанище — и как-то неожиданно появился немецкий самолёт и мы услышали какие-то хлопки по земле рядом с нами. Впереди обоза подхлестнули лошадок и все побежали под густые кусты, казавшиеся такими спасительными. И только там нам объяснили, что самолёт обстрелял наш обоз. Слава богу, пули прошли мимо, а самолёт больше не вернулся. Но, по-видимому, нас засекли и теперь нужно ждать «гостей». К этому времени по берегам Навли в кустах отсиживались и другие обозы из нашего села, так что заметить с воздуха большое скопление подвод, должно быть, не представляло особого труда. К вечеру того же дня куда-то двинулись дальше, ехали по очень плохой дороге, на которую выступали большие корни деревьев, представляющие дополнительные преграды, усиливающие и без того частые глубокие ухабы. Мы, дети сидели на телеге. Моей задачей было удерживать братика, чтобы не свалился; все взрослые, в том числе и моя мать с Марусей на руках, шли рядом по этой ухабистой и почти совсем тёмной дороге. И вдруг: «Halt!» и выстрел из винтовки. Погнали лошадей, все побежали, я еле удержался на телеге сам и удержал всё-таки братика, когда перескакивали какую-то колдобину и колёса грохотали по корням деревьев. Было совершенно темно, мне врезалось в память только множество ярких звёзд на небе, на которое взглянул, по-видимому, совершенно случайно при таком «комфортном» путешествии. Сколько времени гнали лошадей, где остановились и как провели остаток ночи — из памяти стёрлось. Утром только узнали, что ночью мы проезжали недалеко от нашей руженской мельницы, построенной на реке Навля. На мельнице немцы держали небольшой гарнизон, охранявший, конечно же, не саму мельницу, а плотину, по которой шла дорога на левый берег Навли, в лес, к партизанам. Ночью устраивать погоню даже за большим обозом немцы не решались.
Должно быть, им надоела наша «вольница», а может быть обстановка на фронтах требовала очистить тылы от нежелательного присутствия, когда в один из дней на нас была устроена настоящая облава на всей большой территории по правому берегу Навли. Немцев и полицаев было множество, причём немцы были вооружены, в основном, автоматами, а полицаи — винтовками. Под гортанные команды немцев и угрозы полицаев обозы выстраивались в колонну, вначале которой была группа немцев верхом на лошадях. Где-то недалеко были слышны короткие автоматные очереди. Как стало известно много позже, стрельба велась по живым людям. Пострадал наш дальний родственник, тогда ещё совсем молодой, Митя Колесников. Пытаясь убежать от одного немца, наскочил, не заметив, на другого, который и прошил его автоматной очередью. Односельчане подбежали к упавшему, перевернули на спину, из живота в нескольких местах текла кровь. Подошедшие немцы, по-видимому, посчитав, что с такими ранами долго не живут, отогнали всех и бросили Митю одного под кустом. Но бывают же чудеса на этом белом свете. Провалявшись долго (он сам потом не мог сказать сколько) без всякого присмотра, без всякой помощи, без еды и питья, Митя пришёл в себя и выжил. Конечно, такие события не проходят бесследно, что-то изменилось и в характере молодого человека, но не было в селе после войны более добросовестного, более исполнительного и ответственного пастуха, коим он нанимался многие годы.
Но это было потом, а пока выехали на открытое безлесное пространство и только слышался скрип колёс да редкие всхлипывания женщин. Ведь все поняли, что удаляемся всё больше и больше от родных мест, надежды отсидеться в кустах рухнули. Что-то нас ждёт впереди?
На второй или третий день пути наш обоз в сопровождении всё тех же «охранников» уже тащился по лесной песчаной дороге, ноги утопали по щиколотку, лошади еле-еле тащились. И, тем не менее, мы догнали большую колонну немецких автомашин, рёв двигателей которых был слышен издалека. Поравнявшись с колонной, поняли причину медленного её передвижения. Оказалось, что одни машины буксировались другими, двигатели которых так надрывно и ревели на весь лес — по сухому глубокому песку далеко не уедешь. А причина «траурного марша» обнаружилась сразу же — на буксируемых машинах были пробиты пулями боковые и лобовые стёкла кабин, тенты на кузовах из-за множества дырок просвечивались насквозь. Это то, что прежде всего бросилось нам в глаза, значит и двигатели машин тоже пострадали. По обозу пошёл слух: «Это партизаны повредили машины». Говорили тихо, но глаза у всех горели радостным блеском, значит, что-то меняется вокруг нас, если немцам наносятся такие потери. Но до понимания обстановки у нас было ещё очень далеко. Эта встреча произошла где-то в районе Синезёрок и наши обозные «мудрецы» пытались понять причины, по которым обозы гнались в том направлении. Кто-то высказал предположение, что нас гонят к мосту через Десну, который находится где-то около неведомых для нас Выгоничей. Так ли это было или нет, по какому мосту мы переправлялись, у меня совершенно не удержалось в памяти, так как никакую географию в то время ещё не знал, тем более названия мест, через которые пришлось проследовать.
За всю многодневную дорогу проезжали много маленьких и больших деревушек и сёл, но хорошо удержался в памяти только Красный Рог из-за непривычности двухсловного названия села больших размеров, да Старое и Новое Задубенье, где произошло освобождение нас Красной Армией.
В Красном Роге запомнился огромный обоз от горизонта до горизонта. Сколько же там было страдальцев и пеших и на подводах? Не сосчитать. К этому времени немцы забрали нашу лошадь, дав взамен уже сильно истощённую, но пока справляющуюся с обязанностью тащить телегу. А затем и эту лошадку заменили на совсем уж доходягу, худую, измученную. На небольшую горочку приходилось всем нашим «экипажем» помогать коню затащить телегу, но под неусыпным дядиным обихаживанием этого одра он смог потом и довести нас домой.
Уже в наши дни (в 2010 году) волею случая пришлось проехать значительную часть пройденного босиком пути, но уже в хорошем автомобиле и по вполне приличному асфальтированному шоссе. С большой тоской и волнением проезжал небольшие деревушки, названия которых всплывали в памяти, подъёмы и спуски, на которых надрывались и кони и люди, но сейчас вблизи этого тракта практически уже ничего не напоминало внешне об ужасах нашего «путешествия», а спокойно разгуливающие вдоль дороги аисты создавали некоторую атмосферу спокойствия и умиротворения.
Ну а тогда при проезде через Красный Рог погода была дождливой, и я в сплошной дорожной грязи распорол ступню осколком разбитой бутылки. Кровь хлещет, нога по колено в грязи, идти не могу. Посадили на подводу, мать перевязала какой-то тряпицей рану, но кровь всё равно идёт, практически так же. Что делать? Но вскоре почему-то обоз остановился и мать, расспрашивая всех встречных и поперечных, узнала, что в селе есть какой-то медпункт и мы поковыляли туда. Нашли это «лечебное» учреждение — дом почти рядом с дорогой. По-видимому, здесь и до войны был сельский медпункт, так он выглядел, отличаясь от рядом стоящих крестьянских домов. Запомнился мне «доктор» — пожилой мужчина, вроде бы русский, сразу обругавший мать за то, что она привела такого грязного ребёнка. Вышли в сени. Сердобольная помощница «доктора» поставила на крылечке тазик, дала воду и мои ноги «заблестели», стал виден большой сантиметров шести-семи разрез, из которого продолжала течь кровь. Доктор обработал рану йодом и закрепил бинт какой-то липкой белой лентой. Если с йодом был уже знаком, то лейкопластырь увидел впервые. Вскоре белизна повязки исчезла, ещё не дойдя до нашей подводы. Но нога потом зажила. По-видимому, немцы всё-таки позволяли существовать такой медицине, а может, и организовывали её, иначе, откуда бы взялись медикаменты и тот же лейкопластырь.
Каждый раз, в преддверии ночи, сопровождающая нас на всём протяжении пути охрана, уплотняла обозы на весьма ограниченной территории и, Боже мой, что это были за стоянки. До сих пор вспоминаю с содроганием загаженность этих площадок, на которых не только негде было лечь на ночлег, но даже стать без опаски вляпаться в отходы жизнедеятельности людей и лошадей, оставленных прошедшими раньше нас за лучшей жизнью на запад такими же горемыками. На ночь охрана «испарялась» и тогда проходила тихо команда дяди запрягать. И опять в путь, но назад и не по той дороге, приведшей сюда, а куда-то в сторону, но неизменно по направлению к дому. Как ориентировались наши деды — не знаю. Проезжали за ночь километров двенадцать-пятнадцать и укрывались в какой-нибудь деревеньке или в кустах, где и отсиживались иногда по два-три дня. Потом опять нас находили и выгоняли на «большак», где опять вливались в этот бесконечный обоз. Потихоньку ряды наших обозников-односельчан стали редеть. «Техника» крестьянская не выдерживала: ломались колёса, оси телег, да и лошади начали падать. Вот и прибивались лишившиеся своего транспорта либо к кому-то из односельчан и продолжали путь на запад, либо упрашивали местных жителей приютить на время. Приёмом объяснить стоянку поломкой техники не раз пользовался и дядя. Так было и перед нашим освобождением. Мы уже проехали какое-то Задубенье, то ли Новое, то ли Старое (к сожалению, не помню) и, пользуясь наступающими сумерками, въехали в глубину этого села. Около какого-то дома (метрах в трёхстах от большака), стоящего на краю довольно большого оврага, с разрешения хозяина поставили телегу в сарай, сняли исправное колесо и спрятали, а рядом положили сломанное хозяйское. Утром пришли немцы, но дядя сумел убедить их, что ищет исправное колесо. Ушли. Такой же разговор состоялся и на следующий день. И опять удачно. То ли у немцев других задач прибавилось, то ли произошло что-то очень важное и для них и для нас. Мы, конечно, ни за каким календарём не следили, не до того было, но уже наступил сентябрь и по поведению немцев (в населённых пунктах, через которые мы проезжали, коренных жителей уже не выгоняли в Германию) можно было заключить, что надвигаются серьёзные события. Не знаю, из каких соображений, но однажды днём дядя разместил нас всех внизу оврага, рядом с домом, к которому мы прибились. Скорее всего, дядя догадался сам или получил от кого-то информацию о скором изгнании немцев и предстоящих возможных боях.
Из оврага хорошо просматривался большак, по которому непрерывным потоком двигались и пешие, и конные, и пушки на конной тяге, и автомобили легковые и грузовые с солдатами и пушками на прицепе. Движение шло в ту же сторону, куда гнали и нас. Значит, немцы перемещаются сами на запад, причём делают это очень поспешно. Кто-то из взрослых ещё обмолвился про гремящие котелки, так как от большака довольно часто доносились специфические звуки, характерные для соприкасающихся металлических предметов. Поток техники и людей не иссяк и с наступлением сумерек, хотя большак уже не просматривался, но сплошной гул с частыми металлическими стуками выдавал происходящее передвижение войск. Мы так увлеклись наблюдением за большаком, что не сразу поняли, что к нам кто-то грозно обращается. На краю оврага стоял немец, если судить по одежде, по-видимому, офицер и взмахом руки, в которой был то ли пистолет, то ли автомат, скомандовал: «Auf!». Эту команду мы усвоили уже давно, поэтому все быстро вскочили. Двоюродный братец мой от неожиданности и испуга тут же заревел. Должно быть, убедившись, что перед ним одни женщины и хныкающие ребятишки, махнул рукой: «Nieder!». Это был последний немец, которого я видел живым за эту страшную войну.
А взрослых мужчин среди нас не было. Ещё до вечерних сумерек дядя и все мужчины, наши и местные, куда-то исчезли, спрятались. Куда, мы, дети, не знали.
Стало уже совсем темно, шум с большака от передвигающихся больших масс людей и техники стал слабеть. Мы начали понимать, что немцы отступают и делают это поспешно — «драпают» — на нашем ребячьем языке. Наши размышления о сути происходящего прервал летевший прямо над нами с сильным гулом настоящий огонь в сторону уходящих немцев, причём никаких громких звуков стрельбы и взрывов слышно не было. Перепуганные этим необычным для нас зрелищем («живой» огонь над нами!) сидели, прижавшись и друг к другу и к скату оврага, боясь пошевелиться. Сколько времени продолжалось это огненное действо сказать трудно. Гул затих, огня над нами не стало, но в той стороне, куда летел огонь, стояло огромное зарево, где-то далеко вспыхивали яркие языки пламени. Это уже потом мы стали «просвещёнными», свободно оперировали понятиями «Катюша», «Ванюша», но этот единственный в моей жизни случай увидеть реально работающую «Катюшу» памятен до сих пор.
Проснулись мы здесь же в овраге от какой-то необычной, непривычной для нас тишины. Утро было солнечным, небо чистым-чистым и в такой идиллии раздававшиеся где-то вдалеке пока непонятные громкие голоса, заставили нас потихоньку выползти из оврага. И что мы видим? По полю, с той стороны, откуда летел вечером огонь, в нашу сторону движется большая цепочка людей, кто-то впереди размахивает пистолетом и вот стал уже явственно слышен отборный мат, исходивший от размахивающего пистолетом.
Женщины, поднявшиеся тоже на край оврага, оценили ситуацию быстро и однозначно. Помню, как моя мать с какой-то лёгкой улыбкой на лице и выступившими слезами только и сказала одно слово — «наши». Сбегали за мужчинами, оказывается, они прятались в хозяйском погребе, замаскированном кустами, и сразу же дядя дал команду собираться в дорогу. Домой! Никто, по-моему, теперь не сомневался, что немцы больше не вернутся. Сборы заняли не так уж много времени, поставили исправное колесо, смазали оси телег, поблагодарили хозяев за приют и ранним утром следующего дня выехали на большак и взяли курс на Брянск. Теперь уже никакой охраны не предвиделось, поэтому и дорогу выбирали попрямее, без прежних отклонений. Обоз наш изрядно сократился — кто-то отстал раньше, кто-то уехал дальше, кто-то просто отбился в царившей суматохе. Но настроение было довольно приподнятым, особенно у нас, ребятишек, повзрослевших, как мне показалось, и готовыми исполнить всё ради быстрого возвращения домой. Правда, настроение несколько омрачали глубокие вздохи матерей, как бы предвосхищавших большие потери, которые нас ожидали впереди. Но дети пока не могли представить всего ужаса от встречи с родными местами, с родным домом. Может и к лучшему.
Глава 3. Выжить и жить
Дорога к дому. Возвращение
Начав движение к дому на второй день после нашего освобождения, мы смогли ещё по горячим следам оценить некоторые последствия войны. Дорога изменилась, кое-где валялись разбитые немецкие машины, повозки, но немного. Проехали мимо брошенного отступающими немцами огромного орудия на гусеничном ходу, с виду совсем целого.
А навстречу нам уже двигались наступающие войска Красной Армии и на автомобилях, и на лошадях, и пешком, иногда целыми колоннами. На третий день подъехали к Почепу, ныне районному центру. Город ещё догорал, стоял невыносимый смрад, едкий дым шёл от кирпичных домов (их было на нашем пути всего несколько), что вызывало у меня недоумение — как это могут гореть кирпичные дома? Когда нас гнали туда, Почеп объехали стороной, а сейчас предстало во всём многообразии ужасное зрелище сожжённого города с неубранными по пути нашего движения трупами. Потом встречались ещё не раз сожжённые сёла и деревни, но это было первое впечатление, гнетущее, ставшее неким критерием для сравнения и оценки понесённых потерь.
После Почепа на наше передвижение были наложены очень серьёзные ограничения. На ближайших к дороге деревьях, а если их близко не было, то на воткнутых в землю кольях были прибиты таблички с угрожающей надписью «С дороги не сходить. Мины». И тогда стали понятны причины валявшихся в нескольких метрах от дороги трупов разорванных лошадей, остатки телег и даже наших «полуторок». Эти наглядные примеры возможных последствий непослушания сразу научили нас азбуке и не нужными стали словесные уговоры. Хотя прошло ещё каких то три дня с момента изгнания немцев, но наши сапёры уже поработали, разминировав саму дорогу и ближайшие к ней полосы. Серьёзная работа по разминированию была ещё впереди. Правда, встречались и участки дорог без табличек — то ли мин не было, то ли они не были ещё обследованы, но и следов подрыва на минах не просматривалось. Но мы так торопились домой, что и некогда было отходить от подвод. Ведь была уже средина сентября и, хотя пока погода стояла тёплая, но не за горами были и осенние заморозки, что в наших местах не редкость в это время года.
По дороге домой запомнилось какое-то большое полусгоревшее село, через которое мы не проезжали раньше. В центре села целым остался большой дом, скорее всего это было школьное здание, около которого кругом валялись немецкие книжки, журналы с цветными картинками и масса всяких немецких бумаг. Но не этим запомнилось село, названия которого так никто и не сказал. Навстречу нашему обозу двигалось подразделение, человек шестьдесят, а замыкал колонну маленький солдатик с винтовкой, приклад которой был почти у земли, а штык — значительно выше головы. Он даже не шёл, а бежал вслед за строем вприпрыжку и с какой-то невинной улыбкой на лице. Настолько эта сцена была трогательной, что женщины разревелись: «Зачем же тебя такого маленького взяли в армию? Как же ты будешь воевать?». И я до сих пор помню даже поднимающуюся вверх дорогу и оглядывающегося на наших плачущих матерей молодого паренька, которому выпала эта нелёгкая доля быть солдатом.
Утром следующего дня въезжали в какой-то лес. По опушке шли окопы и мы, ребятишки, любопытства ради (табличек с предупреждением о минах не было) подбежали к ним. То, что сразу мы обнаружили, заставило нас быстро вернуться к взрослым и поведать об увиденном. В окопе, недалеко от дороги, по которой мы ехали, застыл навеки в сидячем положении, обхватив винтовку руками, с пилоткой на голове, наш солдат. Подошли взрослые, матери наши всплакнули: «Может быть и мой где-нибудь так же застыл», помолчали, но оставаться, тем более что-то предпринимать, не было никакой возможности. Ещё при подъезде к лесу почувствовали какой-то тяжёлый запах («дух» — по нашему руженскому говору). Погода стояла тёплая, сухая и безветренная. В лесу этот «дух» чувствовался значительно сильнее, чем на опушке. Дядя торопит всех: «Поехали, поехали!». Быстро тронулись, метрах в пятидесяти от опушки открылась большая поляна и…, о ужас! На поляне до её противоположной стороны очень густо валялись трупы немецких солдат, некоторая часть из них была только в одних трусах и казалась нам, ребятишкам, жирными, толстыми. Дышать было нечем, бежали до тех пор, пока запах стал менее ощутим. Взрослые объяснили нам, что, должно быть, немцы попали в засаду и были скошены из пулемётов и автоматов. Почему в трусах? Да, скорее всего, содрали одежду с них проехавшие раньше нас такие же беженцы, как и мы. А толстые они потому, что уже мертвецы и тепло стоит. Вот так и познал впервые в жизни запах тленья; его ни с чем не спутаешь, он специфичен и неумолим. По приезде домой в родное село пришлось видеть не менее ужасную картину на Каниной горке, где окончился жизненный путь большого числа наших солдат и офицеров. Но это было ещё впереди. А пока торопимся домой под впечатлением увиденного и услышанного.
Наконец подъехали к Десне. Мост разрушен, едем по указателю к переправе. С горки открылся вид на реку, за ней сразу лес, справа от дороги расположился, по-видимому, какой-то большой госпиталь — кругом сидели без гимнастёрок, в белых рубахах, перебинтованные люди. Кусты были очень густо завешаны выстиранными бинтами. По территории шло оживлённое передвижение и людей и подвод. Но это взгляд, что называется, со стороны и только краем глаза, так как наше внимание было приковано к переправе. Перед ней скопилось огромное количество людей и подвод. Пропускали по очереди. С того берега прошли машины с солдатами и какими-то грузами, затем начали пропускать и с нашего берега. Когда подошли ближе, открылось перед взором это творение рук человеческих, в значительной степени разрушившее наше представление о мостах. Оказывается, это мост лежал на воде, шевелился и прогибался, когда на него въезжала очередная подвода, ступать на него было даже очень боязно. То, что рядом, а точнее прикреплённые к мосту, стояли две огромные лодки, ничуть не успокаивало. Особенно упирались лошади, не хотевшие по своей воле наступать на это зыбкое сооружение, окружённое водой. Но охрана моста действовала решительно, хозяин брал лошадь за узду, телегу накатывали, кнут оказывал на лошадь своё воспитательное воздействие и переправа на тот берег совершалась. Было очень страшно, держась и за телегу и за мать одновременно, преодолеть этот, метров сто шириной, участок реки.
Переправившись, даже немного развеселились, что без потерь преодолели такую шаткую переправу, и стали гадать, как же сделан мост: на бочках или на лодках. Сошлись, что на бочках. Может, так оно и было, но скорее всего, это были всё-таки понтоны.
Устроив привал для отдыха, разбрелись по нужде в ближайшие кустарники и здесь, метрах в тридцати от воды увидели свежую могилку с фанерной некрашеной звёздочкой на ней вместо привычного для нас креста. Подошли матери, опять слёзы и были они обильнее из-за того, что под этой фанерной звёздочкой была похоронена сержант Мария (фамилию и отчество не запомнил), тут же названная по нашему сельскому обычаю Марусей. Для наших женщин было открытием и то, что, оказывается, в нашей Красной Армии воюют и женщины.
Вот и опять оплакав встреченную по пути человеческую душу, быстро двинулись к дому. Откуда было знать, сколько слёз будет пролито уже через несколько десятков километров пути.
Во встречных потоках перемещающихся людей постоянно находились те, кто интересовался, откуда и куда путь держим. Это был источник взаимной информации, других просто не было. И на одной такой встрече, километрах в 60—70 от дома, узнали, что Ружного нет, всё сожжено. И ещё больше захотелось быстрей домой, мало ли что скажут, надо убедиться самим, может это было и не Ружное вовсе, а какое-то другое большое село. Но информатор уверял, что речь идёт именно о нашем селе и это известие подкосило и без того уставшие ноги. Как же жить? Где? Зима не за горами. Что с нами будет?
Это сейчас 70 километров не расстояние, а пешком их можно одолеть лишь дня за три — на большее мы уже были не способны. И все эти дни предстояло идти с тяжёлым грузом непоправимой большой беды. Надо. Другого варианта не было. И пошли, побежали с минимальными остановками для отдыха. Казалось, что ничего более не занимало за пределами этой мысли: «Быстрей домой, может всё цело, или может что-то маленькое сгорело, но дом-то стоит, как же без него».
Проезжали какую-то сожжённую лесную деревушку и я, совершенно машинально, по детской мальчишеской привычке рассматривать всякую железку, поднял с земли изношенную подкову и вдруг слышу: «Положи назад, это теперь всё наше, партизанское». Оглянулся. Около небольшого уцелевшего от пожара куста стоял мальчик, может на несколько лет старше меня, но с таким властным выражением, что у меня, почему-то, невольно всплыл в памяти эпизод из 42-го года с нашим деревенским полицаем, провозгласившим, что теперь пришла их власть и всё отныне принадлежит им. Конечно, никаких параллелей между этими двумя эпизодами в то время я провести не мог. Просто так отложилось в памяти. Сейчас же понимаю, что власть реальная (как у полицая), или внушённая, номинальная (как у того партизанского мальчика) отчётливо пробуждает у людей (может быть, за небольшим исключением), обличённых этой реальной или номинальной властью, заложенное природой желание обладать, иметь и командовать другими, даже себе подобными. «Если хочешь узнать человека, сделай его начальником», т.е. дай ему власть — такова, немного перефразированная, офицерская «мудрость». Но это так, к слову.
Не помню, с какой стороны — западной или юго-западной, мы подошли к Ружному. Увиденное заставило нас на какое-то время замереть в совершенном оцепенении. А где же наше большое село? Вместо привычной картины множества домов и улиц виднелись лишь обломки печных труб и то все чёрного цвета. Ноги отказывались двигаться даже у нас, ребятишек, обычно прытких в других ситуациях. Кое-как добрались до своей Страконки, навстречу уже попадались вернувшиеся раньше люди, с выражением безмерного горя и страдания на лицах. От нашего дома осталась лишь печь с частью трубы и больше ничего. И такая же картина слева и справа от нас.
Мать, увидев, что там, где стояла под полом бочка с пшеницей, всё разрыто, а зерно вытащено, лишь взмахнула руками и, заплакав, пошла проверить яму, где была вторая бочка с зерном. Но и там картина та же, яма вскрыта, бочка стоит в яме, но совершенно пустая. То же и с погребом. Но в нём хоть какие-то тряпки остались. Кто нас ограбил? Мать была убеждена, что это сделали односельчане, вернувшиеся раньше и проверившие не только наше поместье, но и другие. Но кому пожалуешься, кто поможет в этой беде? Некому и никто! Каждый надеялся только на себя, на свою изворотливость, на откровенное пренебрежение жизненными интересами своих же соседей, с которыми в лучшие времена водили дружбу, находились, по крайней мере, внешне, в хороших отношениях. Вот в этих или подобных им житейских ситуациях и проверяется человечность человека — остаётся ли он христианином или в нём просыпается и приобретает главенство звериный инстинкт самосохранения. Такова, к сожалению, реальность жизни. Другой нет.
В этой жестокой реальности нужно было искать возможность выжить. Такой, практически единственной, возможностью зацепиться за жизнь был огород, засаженный в мае картошкой. Её надо было срочно убрать. Вот-вот октябрь наступит, а в наших местах и в сентябре иногда выпадал снег. Совершенно не помню, какую помощь матери в уборке картошки оказал я — мне исполнилось уже восемь лет, но отчётливо помню, как мать укладывала спать нас рядом с ворохом картошки, укрывая оставшимися тряпками и сухой картофельной ботвой. Помню это чистое звёздное небо, по которому в сторону фронта и назад низко летели самолёты со светящимися окошками кабин и ещё какими-то огоньками. Но никаких успокаивающих мыслей эти медленно перемещающиеся огоньки в недалёком небе, даже необъяснимость мироздания, подчёркиваемая огромным количеством таких ярких в наших краях больших и малых звёзд, не вызывали. Весь ход мыслей, если они у меня и какие-то были, концентрировался на чувстве голода и потребности укрыться потеплее в эти уже довольно свежие ночи. Становилось холодно. Слава Господу, что этой осенью стояла сравнительно тёплая и сухая погода.
Конечно, картошка — это хороший продукт, но употребление её каждый день и без соли становилось мучительным, так как приводило к тошноте и рвоте. А соли ни у кого не было. И бочек старых, просолённых, уже не осталось. Мать начала добывать из картошки крахмал и варить его, но разве это был кисель, без сахара, без каких-либо сдабривающих добавок? Очень неприятным был этот клейстер, так как через несколько дней употребления вызывал уже рвоту. А что было делать нашей бедной матери с нами, чем кормить этих ещё, в общем-то, неразумных и очень голодных деток. На огороде больше ничего не было. Картошку пока варили в сохранившейся печке, но где укрыться от холода? Таким местом был избран наш погреб, в который мать принесла сухой травы и картофельной ботвы — это была постель, на которую мы и укладывались на ночь. Никогда не забуду пристального взгляда обитавших здесь же лягушек, словно вопрошающих необычных для них постояльцев, ограничивших их жизненное пространство. Боялись мы этих взглядов и просили мать избавить нас от таких нежелательных соседей. Но разве всех переловишь? Потом привыкли и к такому соседству, хотя прыжки этих четвероногих на нас, спящих, вызывали не только испуг, но и чувство брезгливости. Признаюсь: я и до сих пор не испытываю никакой симпатии к этим земноводным.
Такое «комфортное» проживание в сыром погребе привело нас ко многим простудным заболеваниям со всеми вытекающими последствиями. А из погреба по крутой лестнице, да ещё в полусонном состоянии, «до ветру» часто не набегаешься. Можно представить состояние матери, видящей ослабленных голодом и холодом, да ещё и мокрых своих деток. Скорее всего, я был покрепче своих младших братика и сестрички, но, видит бог, из-за болезней совершенно не могу вспомнить, как строил дядя для нас землянку с печью, хотя, по-видимому, посильное участие в её строительстве принимали все мы. Землянка на то горемычное время была самым доступным, дешёвым и самым надёжным сооружением для укрытия от холода и непогоды. Всё это строительство от замысла и до исполнения исходило от дяди, который силами своей семьи и моей матери заготовил строительные материалы для землянок себе и нам, разбирая немецкие блиндажи, построенные из наших же домов. Наш «дворец» представлял из себя небольшое полуподземное помещение с земляными стенами, земляным полом и земляным же покрытием кровли (по настилу из досок), с небольшим, на уровне земли, оконцем на южную сторону, пологим входом с земляными ступеньками, примитивным навесом над этим входом, покрытым какими-то растительными остатками. Но, самое главное — в землянке дядя сложил кирпичную печь по образцу и подобию бывшей в доме из того же сохранившегося после пожара кирпича. Вот на этой иногда тёплой лежанке и обитало длинными осенними и зимними вечерами и ночами всё наше семейство. Стало уютнее в этом относительном тепле, и мы кое-как оклемались. Теперь появилась возможность уже выходить на улицу и общаться с деревенской ребятнёй, хотя проблема отсутствия необходимой обуви и одежды ограничивала время пребывания на свежем воздухе. Мы были, конечно, привычные и до наступления отрицательных температур совершали короткие вылазки по окрестностям пока босиком. Шустрые соседские ребятишки, пока я болел, обследовали всю ближайшую округу и уже хвастались приобретениями — полными карманами патронов россыпью и в обоймах. Тяга ребят к оружию и ко всему, что, так или иначе, связано с оружием, заложена, должно быть, в генах и нужно создать только соответствующие условия, чтобы это внутреннее состояние проявилось в реальном поведении. Эта психология не изменилась и ныне, и нет никаких реальных предпосылок к тому, что наступит время, когда ребячья, а вообще говоря, мужская рука не будет тянуться к рукоятке пистолета, автомата или к кнопке, приводящей в действие оружие.
Занятые уборкой картошки и участием в строительстве жилья, ребятишки были ограничены взрослыми в свободе передвижения, а закончив эти работы, начали «действовать» несмотря на запреты родителей. Запрещать вольные походы даже на самой нашей улице были весьма веские причины. Немцы после себя оставили не только позиции батарей крупнокалиберной артиллерии с массой отстрелянных гильз, которые тут же были оприходованы жителями для хозяйственных нужд в качестве посуды для приготовления пищи из-за отсутствия традиционных для села чугунков, утраченных при перемещении и пожаре. К слову сказать, гильзы были латунные, диаметром не менее 150 и высотой около 300 миллиметров. У нас эта «посуда» использовалась для варки картошки ещё и в 50-е годы. Но если отстрелянные гильзы не могли принести какого-либо вреда, то здесь же находились и снаряжённые взрывателями и порохом (в белых шёлковых мешочках) боевые гильзы. Было несколько случаев, когда пожилые женщины, высыпав из гильзы мешочки с порохом, загружали её картошкой, ставили на огонь и переживали несколько неприятных мгновений при взрыве детонатора. Мы-то уж научились отличать стреляную гильзу от нестреляной, но женщинам это было неведомо. Но и это ещё не самое страшное. В одной из ям для хранения картошки на западной стороне улицы нами был обнаружен целый штабель ящиков со снарядами. Подходили мы к ним совершенно без какого-либо страха и даже не задумывались, что вся эта масса может по какой-нибудь причине взорваться, например, будучи заминированной. Власть в селе пока отсутствовала, и принять меры по ликвидации этого и других «арсеналов» было некому. Но главная опасность и, в то же время, предмет наших ребячьих интересов были всё-таки за пределами села, примерно в полукилометре от его восточной окраины Малаховки.
Канина горка
(Высота 247,3 м)
На Среднерусской возвышенности Европейской равнины России найдётся немало возвышений с абсолютной отметкой над уровнем моря и более 350 метров. Но в памяти жителей нашего села, практически не знавших географии и тем более рельефа далёких мест, навечно осталась высота с отметкой на топографических картах 247,3 м. Высотой её в наших краях никто и никогда не называл, этот ничем ранее непримечательный, хотя и большой, но всё-таки холм, был всегда и таким остался до сих пор под названием Канина горка. Расположенный примерно в полукилометре от восточной улицы села — Малаховки, в сентябре 43-го он дополнил наши представления о войне удручающей картиной потерь, понесённых нашими войсками при освобождении родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Трагедия, разыгравшаяся здесь в августе 43-го, не оставила равнодушными ни малых, ни старых.
Вся Канина горка, особенно её макушка, восточный и южный склоны, была усеяна огромным числом разбитых и сгоревших наших танков, причём ширина этой трагедии была не менее километра. По ребячьим подсчётам танков было не менее шестидесяти, у меня же в памяти осталось число 70, которое услышал от старших. Подсчитать их было трудно из-за хаоса, царившего на огромной площади побоища: некоторые танки валялись на боку, у какой-то части боевых машин даже башни были отброшены на несколько метров, были разворочены двигательные отсеки, обнажена и разрушена трансмиссия, везде валялись траки гусениц, катки и другой металлолом. Невозможно описать словами эту удручающую картину: груды искорёженного металла, огромные воронки от взрывов то ли авиабомб, то ли крупнокалиберных артиллерийских снарядов, то ли противотанковых мин, а самой печальной «краской» на этой трагической картине были трупы наших солдат, навечно застывших по всей огромной Горке. Значительная часть павших находилась на западном и южном склонах. Винтовки были либо в руках, либо валялись рядом, патроны же из открывшихся подсумков в обоймах и даже россыпью были тут же. Их мы и забирали с собой. Автоматов было очень мало, может их уже собрали до нашего возвращения из эвакуации. В некоторых танках, особенно там, где находится люк механика-водителя, застыли в своём последнем рывке к спасению танкисты в обгоревших комбинезонах, со спекшимися волосами (видели и такое). По-видимому, какая-то часть танкистов так и осталась в искорёженных машинах, ибо выжить при такой силе взрывов было немыслимо. Может поэтому среди разбросанных по земле павших воинов, танкистов, отличавшихся своей формой одежды, было немного — преобладали гимнастёрки, были даже телогрейки, а на некоторых — шинели в скатку.
Немецкая траншея, проходившая почти по гребню высоты, была частично разрушена взрывами. В нескольких местах траншеи виднелись трупы немцев, в одном месте труп был прикрыт офицерским немецким плащом. Но это число убитых немцев не шло ни в какое сравнение с нашими потерями, видимыми по всей территории Горки.
Оборона немцев была очень продуманной и готовилась заблаговременно. Весь восточный и южный склоны были заминированы на большую глубину и все эти минные поля хорошо контролировались из отрытой для этого сплошной траншеи. Батареи противотанковой и крупнокалиберной артиллерии были размещены на защищённых позициях на окраине и непосредственно в селе (на Бутыренке и Страконке) и имели прекраснейшую возможность практически прямой наводкой поражать наши танки, преодолевшие минные заграждения на восточном склоне и появляющиеся на гребне. Именно на гребне и на восточном и южном склонах была основная масса разбитых танков.

«Исследуя» территорию побоища, кто-то из бывалых солдат объяснил нам, ребятам, что наши танки зашли на минные поля и что мины установлены здесь в шахматном порядке. Вот так мы, не имевшие ни малейшего понятия о шахматах, уже знали, как нужно минировать местность в «шахматном порядке». О масштабах выполненной немцами работы по подготовке рубежа обороны может свидетельствовать тот факт, что разминирование местности, начатое в массовом порядке только в конце войны, производилось силами двух сапёрных рот около трёх лет. После разминирования всей территории, на которой застыли танки, начались работы по их разделке и отправке металлолома на Брянский сталелитейный завод (город Бежица).
За эту первую осень после возвращения из эвакуации, пока не было ещё снега, мы облазили не только территорию этого ужасного побоища, но и ближайшие окрестности. Мне до сих пор удивительно, что мы особенно и не боялись никаких мин. То ли это была детская бесшабашность, то ли Господь миловал неразумных сирот, уберегая семьи от потерь продолжателей рода. Не хотелось бы впадать в мистику, но факт остаётся фактом — подрывов на минах среди ребят практически не было. Страдали от других проделок, но об этом речь впереди. При «обследовании» всей территории вокруг села и далеко за его пределами мы нигде, я подчёркиваю — нигде, не увидели разбитых немецких орудий, танков, машин или повозок, кроме одного сгоревшего прицепа у Клинского рва. Как же так? Видя потери наших войск, мы интуитивно ожидали увидеть не меньшие потери и со стороны немцев. Но не было никаких потерь, если не считать несколько трупов в окопе на Каниной горке. И если бы не оставшиеся блиндажи, боеприпасы, стрелянные гильзы в местах расположения батарей, множество брошенных предметов быта, то можно было бы подумать, что немцев вообще здесь не было, а наши сожжённые танки есть следствие воздействия какой-то нечистой силы. Это был вопрос из вопросов, на который долго искал исчерпывающий ответ.
Выше я уже упоминал, что с юго-востока и юга наше село окружено очень глубокими и длинными рвами — Могольским, Орловиком, Бутыренским, Ященским, Липовком, Клинским и другими, более мелкими. Учитывая, что с северной стороны село прикрыто непроходимым для танков заболоченным бассейном реки Ревна, создавалась предпосылка, используя особенности рельефа местности, вынудить наши войска наступать в узком горле. Немецкие генералы, полагаю, прекрасно понимали стратегическую важность этих естественных преград и использовали природный фактор по полной. Конечно же, не для удержания какого-то села Ружное, а для прикрытия целого направления на подступах к Брянску. В перечисленных рвах были сооружены блиндажи, созданы запасы боеприпасов и оборудованы огневые позиции артиллерии и миномётов. А высота 247,3 как раз и оказалась тем горлом, через которое и предстояло протиснуться нашим войскам.


В поисках ответа на жгучий вопрос о причинах больших потерь на подступах к селу, пришлось ещё раз перечитать мемуары советских полководцев времён войны, так или иначе причастных к организации боевых действий в наших местах. Хочу подчеркнуть, что никаких других письменных источников информации, проливающих свет на описываемые события, у меня не было. К моему великому сожалению по известной мемуарной литературе совершенно невозможно объективно оценить действия командиров и начальников по проведению тех или иных операций, в том числе и рассматриваемой здесь. А если не выявлены и не чётко изложены причины таких крупных поражений, то и научиться воевать с минимальными потерями практически невозможно. В мемуарах, как правило, содержится больше дифирамбов себе, чем объективной информации об упущениях и просчётах. Особенно это характерно для командования на уровне соединений и объединений.
Позволю себе процитировать «Воспоминания и размышления» Г. К. Жукова, относящиеся ко времени боёв по освобождению Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году: «Западный фронт вначале (с 12 июля 1941 года) наступал 11-й гвардейской армией генерала И. Х. Баграмяна, усиленной танковым корпусом и четырьмя танковыми бригадами. Действия войск этой группы поддерживались 1-й воздушной армией, которой командовал генерал М. М. Громов. Через несколько дней эта группа была усилена 11-й армией генерала И. И. Федюнинского и 4-й танковой армией генерала В. М. Баданова».
Вот такая огромная сила была привлечена на Брянско-Орловском направлении, но… К сожалению, «начавшееся наступление Западного и Брянского фронтов развивалось медленнее, чем предполагалось» (там же). И всё же, несмотря на ожесточённое сопротивление немцев войска фронтов упорно продвигались вперёд. 15 августа был освобождён Карачев силами 16-го гвардейского стрелкового, 2-го гвардейского кавалерийского и 1-го танкового корпусов, входивших в 11-ю гвардейскую армию генерала И. Х. Баграмяна и частями 11-й армии генерала И. И. Федюнинского.
Я неоднократно бывал в послевоенном Карачеве и могу свидетельствовать, что этот зелёный и ухоженный город (по воспоминаниям старожилов) был полностью разрушен и сожжён. Ещё в 1947—48 годах на месте домов (как правило, деревянных) были сплошные пепелища и только кое-где начали появляться домики, больше похожие на жалкие деревенские лачуги. Да и откуда было появиться городским домам при полном отсутствии строительных материалов, да ещё и потому, что в город стали перебираться сельские жители со своими понятиями об архитектуре. Но в это время уже начал работать колхозный рынок, конечно, с весьма скудным ассортиментом товаров. Возле рынка (находится и ныне на том же месте) мне запомнилась огромная воронка диаметром метров двадцать и глубиной около пяти метров. Даже и сейчас трудно представить силу этого взрыва, разметавшего всё вокруг.

Что же касается освобождения Брянска, то это событие произошло только через месяц, а виной тому в значительной мере стала трагедия, разыгравшаяся на Каниной горке, затормозившая наступление наших войск.
Как свидетельствует И. Х. Баграмян («Так шли мы к победе») «за Карачевом мы наткнулись на новый мощный оборонительный рубеж, прикрывающий подступы к Брянску… Попытка прорвать его с ходу не удалась. Пришлось остановиться и готовить новый удар. 5 сентября вражеский рубеж был сокрушён и через два дня войска 11-й гвардейской освободили город и железнодорожную станцию Навля». Брянск же был освобождён только 17 сентября 1943 года.
То, что за Карачевом войска Баграмяна «наткнулись на мощный оборонительный рубеж» может свидетельствовать только об отсутствии поставленной должным образом разведки и грубых просчётов командования, своевременно не остановивших войска, когда стало ясно, что они идут на верную гибель. Не жалели наши «прославленные» полководцы ни людей, ни техники. Только тупое «Вперёд! Взять, во что бы то ни стало!» и, может быть, не всегда с угрызениями совести, мол «на войне потери неизбежны».
Здесь я рассматриваю только мне лично известный «маленький» в масштабах советско-германского фронта эпизод, но, думаю, что он является очень показательным для характеристики стиля и методов управления войсками нашими военачальниками времён минувшей войны. Многие миллионы потерь наших отцов и братьев как раз и сложились из множества вот таких «каниных горок» на огромных по протяжённости и глубине фронтах Великой Отечественной войны. Нисколько не претендую на роль стратега, «видящего бой со стороны», многое из тех событий мне неизвестно, но, к сожалению, не могу согласиться с И. Х. Баграмяном, что «вражеский рубеж был сокрушён», ибо нет и не было никаких следов сокрушения — ни разбитой немецкой техники, ни убитых немецких солдат. Наоборот, всё свидетельствует о том, что нанеся нашим танковым соединениям огромные потери и остановив, таким образом, продвижение наших войск, немцы вывели свои войска и технику практически без потерь, по-видимому, в связи с общим ухудшением обстановки на советско-германском фронте из-за провала попытки ликвидировать орловско-курский выступ, а не из-за их «сокрушения» в районе села Ружное, между Карачевом и Навлей.

на постаменте с легендарной «Тридцатьчетвёркой»
Вот такие грустные размышления не оставляют долгие годы меня, как невольного очевидца тех трагических событий, наряду и с другим, очень важным, по моим убеждениям, вопросом сохранения памяти не только о тех бедах, которые пришлось пережить, но, прежде всего, о людях, павших на полях сражений, может быть и не всегда осознававших идеалы борьбы с фашизмом, но, объективно, сложивших свои головы ради того, чтобы подобные ужасы для своих детей и близких не повторились в будущем.
В начале октября в селе появилась похоронная команда численностью человек двадцать пять пожилых солдат во главе с таким же пожилым и крикливым сержантом. С момента гибели наших бойцов прошло больше месяца, а это обидно долгий срок от момента смерти до погребения. Может быть у этих людей, уже прошедших часть своего пути в действующих войсках и видевших, возможно, не одну смерть, было много скорбной работы в других местах, не знаю. Знаю точно, что таких больших потерь, как на подступах к нашему селу, от Карачева до Навли не было. Хочу сказать о другом. Мы, ребятишки, видели, как обыскивались трупы, видели даже, как из кармана гимнастёрки одного погибшего воина была вытащена пачка тридцатирублёвых купюр (они были красно-оранжевого цвета), перерубленная наискосок осколком, но мы тогда понятия не имели, что у каждого солдата и офицера должен быть медальон с адресными данными родных. У всех ли павших они были изъяты, все ли они были включены в списки захороненных? Не знаю этого. Но точно знаю, что никакой братской могилы для захоронения не делалось. Трупы просто стаскивались в ближайший ровик и кое-как закапывались. И так по всей огромной территории. При этом никаких знаков — ни крестов, ни звёздочек или хотя бы колышков — не ставилось. А ведь время и обстановка уже позволяли произвести не санитарные захоронения, а в соответствии с воинским ритуалом или, хотя бы, по христианскому обычаю. Не задумывались организаторы таких погребений об огромном нравственном уроне для остающихся на земле и старых и малых, о зловещих семенах забвения павших, высеваемых в ещё неокрепшие детские сердца и души — неуважительное, нечеловеческое отношение к павшему как к отработавшему своё механизму, как будто он и не нужен был даже тем, кто лелеял долгое время надежду дождаться родного человека или, хотя бы, узнать место последнего упокоения, чтобы, когда представится возможность, поклониться его праху. Обидно и за погибших и за себя.
И только в конце 60-х, начале 70-х годов по инициативе бывших фронтовиков, в том числе и нашего соседа Сергея Васильевича Алёшина, при поддержке Карачевского военкомата и при участии учеников Руженской средней школы на самой высшей точке Каниной горки был сооружён обелиск, поставлена оградка, высажены деревья. А в самом селе, на Большаке, в старом Гринёвском саду, в эти же годы был сооружён и памятник тем, кто сложил свою голову на Каниной горке и в окрестностях села. Всего на памятнике значатся имена 178 павших бойцов и командиров — такова цена освобождения одного только села Ружное. На стелах же в память о павших наших сельчанах, установленных ранее, записаны имена 196 погибших жителей Руженского сельского совета. Перечисление имён произведено по улицам в порядке расположения на улице домов, живших там до войны сельчан. Сложив вместе эти два приведенных числа, можно представить себе количество оставшихся вдов и сирот. Разве можно забыть нам, оставшимся без отцов, братьев и сестёр, такие потери. Нет, никогда! Как нельзя забыть те лишения и невзгоды, которые нам пришлось пережить. Война — это страшная беда и ни один здравомыслящий человек не захочет впустить такую беду в свой дом.
Слава вам, павшие, вечная слава!
Спасибо организаторам и исполнителям монументальных знаков памяти павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.



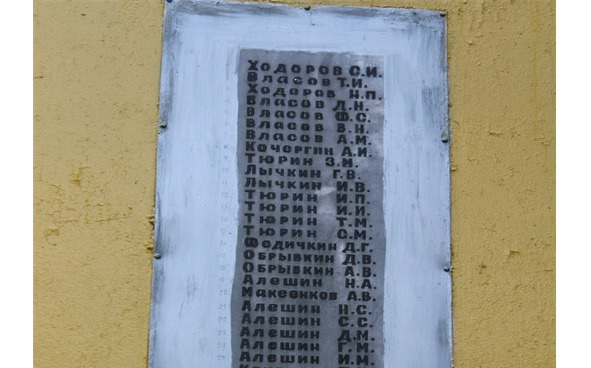
«Находки» и потери на Каниной горке и рядом
Осенью 43-го наше ребячье сообщество довольно досконально «обследовало» и саму Горку и ближайшие к ней окрестности. Ранней весной 44-го года, когда были ещё там и сям непросохшие лужи от растаявшего снега, мы уже вновь вышли, босиком, на поиски патронов и приключений. Все трупы, в пределах досягаемости похоронной команды, были убраны и кое-как захоронены. На тех местах оставались лишь винтовочные и автоматные патроны, как правило, россыпью, да кое-где пилотки с запекшейся кровью. А раз есть патроны, то по мальчишеской логике они должны быть использованы. Примитивные способы заткнуть патрон в щель в большой деревяшке и затем с помощью гвоздя и молотка ударом по капсюлю заставить его «стрельнуть», перестали быть популярными, да и покалеченные пальцы требовали отказаться от таких забав. Часть патронов расходовалась и при стрельбе из найденного боевого оружия, даже в Бутыренском прогоне несколько раз устраивали стрельбу по мишеням из автомата ППШ, винтовок, но с прибытием похоронной команды, на которую, по-видимому, были возложены и обязанности по сбору оружия, такие вольности прекратились. Оружие растащили по домам, кто запрятал, а кое-кто из винтовок сделал обрезы. Обрез из немецкой винтовки целую зиму был и у меня, сделал его Мишка-Яёк, который потом презентовал мне и ракетницу, из которой можно было стрелять любым патроном — были бы подручные материалы: бумага, тряпки. Обрез я использовал для «охоты» на лисиц, коих развелось в те годы великое множество, а больше всего для показухи перед другими мальчишками. А ракетницу потом, по-моему, году в 46-м, у меня кто-то стащил. Наложенные ограничения на баловство с боевым оружием заставили искать другие способы «пострелять» — патронов ведь было много. Нет предела мальчишеской изобретательности, и вскоре было найдено «техническое» решение использовать пистолетные патроны. Обследуя разбитые танковые двигатели, обнаружили, что штуцеры топливной системы по внутреннему диаметру почти точно соответствуют диаметру пистолетного патрона. Укрепить всё это на самодельной рукоятке, приделать курок, боёк из обычного гвоздя, движимого силой резинки, вырезанной из найденного противогаза, было одним днём работы. Все комплектующие были, как говорится, под рукой. Поэтому стрельба у нас на улице велась довольно часто, что доставало много хлопот сержанту похоронной команды, метавшемуся в поисках стрелков из одного конца улицы в другой. Но и как всё под луной рано или поздно умирает, так и оружейное производство года через два заглохло и из-за дефицита комплектующих и боевых патронов и из-за, считаю это главным, понимания «оружейными мастерами» пагубности занятий и небезопасности создаваемых «игрушек».
К сожалению, были и другие, даже более опасные занятия, приводившие не только к травматизму и появлению калек, но и к смертельным исходам.
При обследовании Орловика мы обнаружили большие штабели ящиков с противотанковыми минами, даже без укупорки, сложенными просто кучей. Немецкая противотанковая мина — это круглая металлическая «тарелка» (так мы её обозвали) с двумя ручками. Взрыватель с фигурной чёрной пластмассовой головкой находился сверху «тарелки» и мы быстро научились их выворачивать и вворачивать. Несколько раз предпринимали попытки подорвать мины, скатывая их с крутой горки. К счастью, ни одна из мин не взорвалась, по-видимому, сила удара на взрыватель была меньше требуемого давления, создаваемого наезжавшей на неё тяжёлой техникой.
Но вот миномётные снаряды унесли не одну ребячью жизнь или оставили калеками без рук, без глаз, без ног. Любопытные ребята обнаружили, что если вывернуть из мины головной взрыватель, то из корпуса после некоторых небольших разборок можно извлечь порох в виде длинных макаронин — это и было конечной целью разряжания мины. А зачем были нужны эти «макаронины»? Да для баловства: зажжённая она взлетала с земли, описывала в воздухе невероятные кульбиты, что вызывало у ребятни восторг, а у взрослых ругань, так как горящие «макаронины» летели непредсказуемо и могли стать причиной пожара. Обычно взрыватели отворачивались руками легко и проблем с дальнейшей разборкой и извлечением пороха не возникало. Но на отдельных снарядах выкрутить взрыватель не удавалось и тогда некоторые «смелые» безумцы легко постукивали головкой о ближайший пень. Я при таких действиях отбегал подальше — откровенно боялся. Некоторое время такие «фокусы» заканчивались благополучно, но потом всё-таки «достукались». Однажды у пня собрались трое ребят, один из них, который повзрослее и, по-видимому, подурнее, стукнул головкой мины о пень и… был разорван на куски, второй остался без рук по самые плечи, третий — без глаза и с посечённым осколками лицом и туловищем. К сожалению, этот случай был не единственным. Не хочу судить погибших ребят, на их месте мог оказаться любой, в том числе и я, но только скажу — безотцовщина и бесконтрольность были тому виной в этой объективной реальности. Вот и получалось, что и отцы погибли от рук фашистов и дети гибнут и получают увечья от них же, т.е. фактически война ещё продолжалась. И она, эта война, продолжалась в наших краях ещё долго и после официальной победы.
Приведу здесь один глубоко врезавшийся в память эпизод продолжения войны с нами, оставшимися в живых. В один из погожих дней сентября 47-го или 48-го года, возвращаясь из школы, услышали грохот сильного взрыва и увидели взметнувшийся столб пламени и дыма за Малаховкой, в районе Кожанова дуба (этого своеобразного ориентира в нашем селе). Прибежав на поле, увидели страшную картину: разбросанные вокруг огромной воронки плуги, колёса, двигатель и другие узлы трактора «ХТЗ», производившего здесь вспашку. На краю воронки, истекая кровью, стонал тракторист с оторванными ногой и рукой, развороченным животом и только слышалось «пить, пить». Потом и эти звуки стали всё тише и тише. Какую медицинскую помощь могли мы в то время оказать этому растерзанному человеку? Даже воды и то рядом не было, да и «бывалые» не советовали при ранении в живот давать воду. А это был как раз другой случай, когда глоток воды не столько мог навредить, сколь успокоить угасающее сознание. Воды, конечно, принесли, но она уже не понадобилась.
Это поле после изгнания немцев обрабатывали уже два года подряд, правда, лошадьми, и никаких мин не выпахивали, но стоило взойти на поле трактору, как случилась беда. И вот как иногда случается в жизни: на этом тракторе рядом с трактористом на крыле над колесом сидел прицепщик (в те годы это был штатный работник, которому полагалось сидеть на плуге и регулировать глубину вспашки), ушедший от исполнения своих прямых обязанностей, как часто бывает, к товарищу поболтать. Взрывом он был отброшен метров на десять и в горячке или от естественного испуга смог подняться и добежать до Бутыренки к своему дому и там уже упасть без сознания. К счастью, он выжил и стал нормальным человеком. Не знаю, к какой категории отнести такое спасение — простое везение, или наличие всё-таки чудес на этом белом свете.
Не менее драматичный случай произошёл во время разминирования на самой Каниной горке. Для сбора извлечённых из земли противотанковых и противопехотных мин привлекались и местные жители с транспортными средствами (телегами или, как в этот раз, с санями). Мины свозились в одно место, почти на самой вершине и сбрасывались в кучу для последующего их уничтожения путём подрыва. Образовавшаяся пирамида была уже внушительных размеров и надо же было такому случиться, что в одной мине, по-видимому, по недосмотру сапёра и свозившего «урожай» деда, остался взрыватель и при сбрасывании мины так рвануло, что от деда, лошади и саней не осталось даже следов. Так что война для нас ещё продолжалась.
Ещё осенью, «обследуя» Канину горку, мы заметили стоявший на северо-восточном склоне по нашим понятиям совершенно целый танк, почти с полными баками горючего, с целыми гусеницами и с боекомплектом снарядов, не очень больших, как мне запомнилось, расположенных примерно на уровне пола. Внутри он был выкрашен белой краской и выглядел очень уж чистеньким. Почему-то у нас его окрестили английским. Снаряды мы не трогали до весны 44-го, когда в мае вернувшийся с фронта калека показал, как обращаться с пушкой и потом мы несколько снарядов выпустили значительно левее деревни Куприно, повернув предварительно, кстати, очень легко, башню. Но эту стрельбу нам вскоре решительно пресекли, и этот танк разделил ту же участь, что и остальные — был разделан на металлолом. Разделка танков на металлолом началась после разминирования всей территории, продолжалась более двух лет, а металл вывозился «студебеккерами» в Брянск. Эти американские автомобили нам хорошо запомнились своей непривычной для нас формой кабины и кузова, большой скоростью и грузоподъёмностью. Но больше всего, конечно тем, что мы пытались на них «прокатиться». Некоторые водители так резко тормозили, чтобы дать нам нахлобучку за влезание на ходу в кузов машины, что часто у нас были разбиты и носы и коленки. Другие же водители, понимая, что ребятня всё равно будет рисковать, останавливались сами, следовала команда «залезай» и с ветерком ехали уже до самой Горки. Всё-таки хоть какое-то развлечение для нас, обездоленных.
Выживание
Мобилизация «резервов»
Пока шло обустройство примитивного нашего быта, хоть какая-то подготовка к предстоящей зиме, люди большей частью молчали и старались заниматься своими делами и для себя. Потом как-то кратковременно прошли разговоры о будущем: будут ли единоличные хозяйства или опять вернутся колхозы. Хотя второй вариант многих не устраивал, бунта, как говорится, не было. Потому что появилась советская власть в лице сельского совета, которая и объявила, что все сохранённые лошадки, телеги, упряжь, плуги, бороны и прочее, а так же поля, засеянные весной каждым хозяином, становятся колхозной собственностью. Были мобилизованы наличные силы на строительство конюшни, на заготовку кормов для лошадей и выполнение других неотложных работ. Материалы для строительства добывались там же — разбирались немецкие блиндажи. Мне же почему-то запомнилась конюшня, построенная в 45-м году из самана, замешанного босыми ногами наших матерей, которая долгое время и служила колхозному конскому поголовью.
В один из дней поздней осени 43-го года прямо к нам, на нашу улицу, привезли долгожданную соль. Мать взяла и меня в помощники. В среднего размера деревянных ящиках была насыпана серо-грязная масса — соль, вперемешку с камешками и откровенной грязью. Не знаю, на каких условиях, но мы получили небольшой кулёк этой массы. Уже можно было теперь сдабривать картошку — основной продукт питания и в этом 43-м году и в предстоящие долгие голодные годы. Наша мать предпринимала отчаянные попытки и делала это неоднократно, чтобы добыть, хотя бы какие-нибудь добавки к нашей скудной пище. Вместе с другими женщинами тёмными вечерами отправлялась на участки, засеянные горохом. Днём нельзя — это квалифицировалось бы как воровство колхозной собственности со всеми вытекающими последствиями в условиях военного времени. Помочь нам нашей власти было нечем, а вот карать власть находилась быстро. Мы же втроём сидели в полной темноте на печке — другого места в землянке просто не было — и с нетерпением ожидали возвращения матери, говорили, конечно, о волках, которые могут загрызть и однажды стали упрашивать мать не ходить вечером на поле из-за боязни волков. На все наши опасения мать ответила, что «надо бояться не волка, а человека». Эту материнскую мудрость помню и до сих пор. Что могли наши бедные матери насобирать в темноте? Ведь сроки уборки зерновых давно прошли и, естественно, колоски пшеницы, ржи и стручки гороха в большинстве своём осыпались и проросли. Но женщины были рады и крохам, поэтому и шли в ночь добывать пропитание голодающим малолетним детям своим. Надеяться было не на кого и не на что.
Жизнь в землянке замирала с наступлением темноты, на улице было холодно, одежонка не для зимы, а из обуви у нас одни на всех были отцовские сапоги, в которых он пришёл с финской войны. Это были добротные кожаные сапоги, подбитые мелкими латунными спиралевидными «гвоздиками». Они были, правда, тяжёлые, но другой обуви не было. Мы с Шуркой попеременно ходили в них гулять, и потом я в них же пошёл и в школу. Мать их тоже надевала.
Освещение в наших жилищах долгое время было очень примитивным, а по конструкции однотипным. Светильники делались из орудийных гильз подходящего размера, для чего горловина гильзы сплющивалась, в образовавшуюся щель плотно вставлялся фитиль — кусок суконной ткани, в плечике пробивалась дырка для заливки в неё керосина и получалась известная в те времена «катюша», по-видимому, названная так по каким-то схожим признакам с грозным оружием — гвардейскими миномётами. Если не было керосина, то использовался бензин, но в него тогда добавлялась соль, якобы препятствующая воспламенению и последующему взрыву. Добыть керосин, а тем более бензин, было очень сложно, продажа керосина в магазинах началась значительно позже, году в 45-м или 46-м. Точно так же в большом почёте были спички, потому что их просто негде было приобрести. Зажигалок тоже пока не было. Приобрели права гражданства «первобытные» способы добычи огня — кресало и кусок твёрдого металла, лучше обломок напильника, кремень и фитиль (трут). Женщины не могли себе позволить даже этот примитив в добывании огня — не было соответствующей сноровки. И вот мать, как и многие другие женщины, утром выходила из землянки, обнаруживала у кого-то поднимающийся из трубы дымок и с баночкой, заполненной хорошими древесными угольками, шла за «огнём». После добычи «огня» начиналась растопка печи. Конечно, старались как можно дольше сохранить в печке свой «жар», но из-за отсутствия дров такое случалось очень редко. Топились ведь соломой, в лучшем случае — хворостом. В окружении холода, голода и тьмы начала процветать полная антисанитария: люди не только не мылись в бане, но и неделями даже не умывались, что привело к повальному заражению вшами, блохами, клопами. К своему стыду до сих пор не знаю вразумительного ответа на вопрос: почему и, главное, откуда появляется вся эта кровососущая нечисть при скоплении людей в одном месте и несоблюдении ими санитарно-гигиенических правил. Эта эпидемия завшивленности характерна для воюющих армий и брошенного на произвол судьбы гражданского населения. Вшами были заражены и немецкие войска, но должен признать, что они боролись с ними и специальными средствами. Уже весной 44-го года на местах установки палаток и в немецких блиндажах нами были обнаружены эбонитовые баночки серо-коричневого цвета, наполненные каким-то вонючим серым порошком. Посчитав, что это какая-то «отрава», найденные баночки забрасывали подальше. А не надо было выбрасывать. Хотя и много позже, но всё-таки узнали, что этот серый порошок является смертельным для вшей. Его потом начали производить и в СССР, где он стал широко применяться для уничтожения насекомых, в том числе и в сельском хозяйстве. И только потом он был запрещён к применению как действительно ядовитое вещество. Речь идёт о знаменитом «Дусте» — порошке ДДТ. Вот ещё когда пришлось соприкоснуться с чудом немецкой химической промышленности. Хотя и вонючий был порошок, но вши от него действительно дохли.
Попутной находкой в тех же местах были маленькие светильнички в виде картонных плошек с фитильком, заполненных каким-то горючим составом.
Готовилась фашистская Германия к войне очень основательно, даже, казалось бы, такие мелочи для облегчения солдатского быта и то были учтены. Да и проблема тех же спичек у них была решена своеобразно — их в значительной степени заменяли бензиновые зажигалки. У нас это средство добывания огня начало появляться только в конце войны и то, кустарное, с использованием винтовочных патронов. А пока не было ни спичек, ни зажигалок. Не по силам было тогда нашему государству решить эти «мелкие» проблемы и тем самым облегчить страдания народа.
Бабушка

Поздней осенью 43-го года, когда уже всё было покрыто снегом, вернулась из эвакуации бабушка Екатерина Кирилловна, которую я не видел, должно быть, с последнего предвоенного лета. Бабушка Катя, как мы её звали дома, до войны жила на Малаховке в родительском доме вместе со своими родителями и женой брата Якова Кирилловича. Но эту женщину я видел очень редко, поэтому в памяти она и не удержалась. Моего прадеда Кирюшу похоронили ещё перед войной, когда мне было годика два, так что в памяти остались только контуры бороды пожилого человека. А вот прабабушка запомнилась мне своим белым платочком на голове, очень мягкой, светлой улыбкой на лице, когда она кормила меня вкусной гречневой кашей с постным маслом. И почему-то ясно помнится позеленевшая медная ложечка, которую я долго ещё держал во рту после того как справился с кашей. Может быть потому, что у меня сильно заболела голова, и бабушка на руках отнесла меня домой, хотя к ним на Малаховку я пришёл сам. Мать разрешала мне, пятилетнему, иногда такие «путешествия».
В эвакуацию бабушка отправилась вместе со своей мамой и женой Якова в составе Малаховского обоза. Тяжёлые испытания ожидали их впереди, особенно мою несчастную бабушку Катю, на которую ещё в молодые годы свалилось большое горе. Рождённая в зажиточной семье Каёнковых, где её очень любили, в 1913 году вышла замуж за Дмитрия Васильева, который хотя и вернулся целым с первой мировой войны, но где-то загинул в войну гражданскую. Так что не долгим было её бабье счастье, и замуж больше бабушка не выходила. А за кого? Непрерывно идущие войны извели очень многих мужиков её возраста. Единственным её ребёнком была моя мать Татьяна Дмитриевна, родившаяся в январе 1915 года.
Обоз, с которым эвакуировалась бабушка, с самого начала из-за отсутствия разумного вожака, как мой дядя Пётр Михайлович, взял курс на быстрейшее прибытие в Германию, хотя, как рассказывала бабушка, и в их обозе было много несогласных покидать родные места. Во время одной из бомбёжек бабушка выбегала со своей мамой из дома, в котором их временно приютили, чтобы спрятаться где-нибудь от взрывов. Но ещё на крыльце при взрыве очередной бомбы в грудь прабабушки, выбегавшей первой, попал большой осколок, перерубивший даже нательный крест и грудину. Прабабушка ещё успела распорядиться снять с неё небольшой мешочек, висевший у неё ниже крестика, что бабушка ещё до подхода сельчан и исполнила, повесив теперь уже ей принадлежащие семейные ценности себе на грудь. Прабабушку похоронили там же на деревенском кладбище. К сожалению, бабушка из-за перенесённого горя и длинного потом пути домой не могла даже вспомнить название той деревни, где случилась беда. Поэтому она и вернулась на родину одна с небольшой лишь сумой, в которой были кое-какие сухарики, собранные у сердобольных жителей по пути её домой. Она мне той поры запомнилась очень усталой, грустной и с выражением безмерного горя на лице. И даже потом, когда жизнь стала понемногу налаживаться, стали удаляться события прошедшей войны (я не могу сказать, что стали забываться, нет, ибо такое пережитое не забывается), бабушка оставалась всегда ласковой, заботливой, довольствующейся всегда малым, много трудившейся по хозяйству и, я бы сказал, какой-то беззащитной. Улыбка не так часто посещала её печальное доброе лицо.
Она всегда радовалась нашему приезду в отпуск, нашим городским угощениям, на которые мы тогда были способны по своим средствам. И если выдавалось относительно свободное от хозяйственных работ время, бабушка охотно рассказывала о прошлой жизни, о тяжёлом труде, которым зарабатывалось богатство, о соблюдении религиозных канонов, постов, о заботливости родителей, о руженских прудах с рыбой и дикими утками, о нравах сельской жизни того времени. Один из её рассказов о действиях сельской общины по поддержанию спокойствия в селе запомнился мне своей финальной частью, подтверждённой и моей матерью, свидетельницей тех событий, добавившей некоторые подробности в рассказ бабушки о периоде безвластия на селе. События, о которых они поведали, происходили уже в 20-е годы, после окончания гражданской войны, когда жизненный уровень населения уже значительно поднялся после прошедших разорительных войн. На селе в разных местах стали гореть избы, сараи, риги. Подозрения в поджоге пали на трёх уже взрослых парней, но на месте преступления застать их не удавалось. В один из дней эта троица изгадила даже алтарь в нашей сельской церкви, чем переполнила чашу терпения населения. И, наконец, при очередном поджоге они были почти схвачены, но сумели вырваться и убежать. Взрослые мужики на лошадях пустились в погоню, задержали сначала двоих, а затем и третьего уже за Костихино на ржаном поле. Привели задержанных на площадь перед церковью и сходом решили забить злодеев кольями, что тут же и исполнили, отдав потом искалеченные тела родственникам. Сурово, беззаконно? Конечно. Но после такой расправы в селе долгое время не было никаких поджогов, да и заметных хулиганских выходок. Мне кажется, что этот случай наглядно демонстрирует, во что может вылиться разбуженная такими событиями человеческая ярость в условиях отсутствия твёрдой государственной власти, да и воспитательной работы по соблюдению принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе и в отношении святынь.
Но вернёмся опять в 43-й год. Бабушка, уже не надеясь ни на что, сходила на Малаховку, к сгоревшему дому и, о счастье! Подвал, в котором были спрятаны их пожитки, оказался практически нетронутым. Может быть, это было связано с тем, что большинство малаховских жителей находилось ещё далеко от дома, поэтому и число потенциальных «экспроприаторов» было незначительным. Быстро, как это было только можно, были перевезены кули с одеждой, сундук, ткацкий станок со всеми принадлежностями, прялка и какая-то посуда. Все эти приобретения разместили в нашей маленькой землянке и в погребе. Мать с бабушкой оборудовали в землянке какую-то маленькую лежаночку для бабушки, так как на печке все поместиться не могли и отныне мы стали жить все вместе. Содержимое кулей оказалось очень ценным для дальнейшего нашего выживания: там был овчинный полушубок, несколько бабушкиных пальто, одежда в старинных русских традициях (понёвы, расшитые сарафаны, кофточки, бусы-монисто и много других нарядных вещей). Бабушку очень любили её родители, поэтому и одевали очень богато. К сожалению, с потерей мужа и приходом советской власти носить дорогие одежды в условиях обнищавшего после первой мировой и гражданской войн села было уже некуда, да и небезопасно. Какие это были пальто! Сшитые из тонкого-тонкого чёрного сукна, расшитые спереди большими красивыми цветами, с красивыми пуговицами, узорчатыми карманами — они и до сих пор у меня перед глазами. Но судьба их была предрешена — надо было во что-то одевать нас, детей, поэтому все пальто пошли на перешивку. Цветы убрать было очень сложно и приходилось мириться с такими украшениями на груди, несмотря на подтрунивания ребятишек. А вот шубку мне уже на зиму 44—45-го годов сделали хорошую, тёплую, оставили старые большие карманы, в одном из которых помещался даже тяжёлый обрез немецкой винтовки.
Судьба других одежд сложилась иначе. Уже после войны, когда в селе стали справлять свадьбы, к матери постоянно приходили молодые женщины с просьбой дать им на свадьбу понёвы, монисто и другие наряды. Мать, добрая душа, всегда удовлетворяла просьбы с одним единственным условием ничего не порвать и не растерять. Но куда там! Назад приносили уже измазанные, часто даже без видимых попыток очистить от грязи, свадебной еды и других спровоцированных выпитым самогоном неприятностей, взятые с заверениями, одежды, а в монистах часто не досчитывалось одной, двух ниток. Мать, конечно, расстраивалась из-за неаккуратности и безалаберности сельчан, но не помню, чтобы она кому-то в следующий раз отказала: «да пусть веселятся — куда теперь наденешь понёву, как только на свадьбу?». Должно быть, она была права. Так и растеряли на свадьбах сельчане монисто, износили вышитые кофточки и понёвы — эти красивейшие произведения искусства, дорогие даже по тем далёким временам. Бабушка, конечно же, сожалела, что прошедшие лихие времена не позволили ей покрасоваться во всём увиденном мной великолепии одежд, но философскому рассуждению своей дочери не перечила и смирилась с неизбежностью утрат.
Наше крестьянство испокон веков вело натуральное хозяйство, обеспечивая себя не только продуктами питания, но и предметами одежды и обуви. Особую актуальность такой подход к обеспечению выживания людей приобрёл в ходе войны и последующие годы. Ведь всё было разрушено и сожжено фашистами, приобрести те же предметы одежды было негде и не за что. Опять начали возрождаться старые промыслы по изготовлению того же холста — универсальной ткани в крестьянском обиходе для пошива всякой нижней и верхней одежды, для использования в качестве постельного белья и в других целях. Бабушка владела всеми крестьянскими специальностями, начиная от приготовления волокна из конопли или льна, изготовления из него пряжи — толстых и тонких ниток (в зависимости от предполагавшегося изготовления тонкого холста или толстого рядна), самого процесса ткачества, дальнейшего отбеливания и заканчивая пошивом примитивной одежды. С выходом из землянки и постройкой хотя и очень маленького, но всё-таки домика, практически ежегодно бабушка занималась «производством» холста, используя для этих целей весь арсенал, к счастью, сохранившейся оснастки: гребней разных размеров для вычёсывания волокна, прялки и самого ткацкого станка. Ткацкий станок, в обиходе называемый просто станом, представлял довольно сложную разборную деревянную конструкцию, но собираемого бабушкой самостоятельно, со всеми его комплектующими бёрдами, челноками и всякими регулировками. Ткацкие работы всегда заканчивались к марту, когда с началом таяния снега сотканный холст расстилался нами в огороде для отбеливания, действительно превращаясь из серого в почти белый. Из-за великой бедности, невозможности приобрести краски, холст часто пускался в пошив в его первозданном виде даже на штанишки ребятам. С появлением, так называемых, анилиновых красок бабушка и мать осваивали и этот процесс, помещая сшитые штаны и юбки в раствор краски, приготовленный в тех же гильзах от артиллерийских снарядов, и нагревая эту ёмкость до кипения раствора. Окраска «продукции» могла быть и лучшей, но из-за трудности соблюдения технологии покраски и низкого качества красок приходилось «щеголять» и в пятнистой одежде, это было всё-таки более приличным, чем серо-белые некрашеные одежды с прекрасно видимыми на них следами всякой деревенской грязи.
Проблемы с обувью также решались бабушкой, изготовившей самостоятельно колодки и освоившей плетение лаптей для нашей семьи. Конечно, они получались не такие красивые, как «городские», но мы в них отходили несколько зим. Изнашивались они очень быстро, поэтому бабушке приходилось много трудиться, чтобы обеспечить нас всех обувью. Даже, уже будучи учеником 8-го класса (1951 год), я ещё носил лапти. Нищета послевоенная заставляла. Куда денешься от неё, кто нам купит ботинки, безотцовщине. Поэтому труд нашей тихой, скромной, очень редко выражавшей своё неудовлетворение жизнью бабушки, в моём понимании был и остаётся спасительным для нас в те тяжёлые послевоенные годы. У меня нет и быть не может других оценок.
Скончалась бабушка скоропостижно в марте 1973 года. К сожалению, я не смог проводить её в последний путь, так как известие о её кончине получил значительно позже похорон — находился очень далеко от дома. Похоронена она на нашем сельском кладбище, где нашли последний приют и мой брат, её внук Шурка, её дочь — моя мать и многие близкие и дальние родственники. Царствие ей небесное и вечная память!
О некоторых наших родственниках
Начало зимы 43—44-х годов стало памятным и из-за появления, считавшегося пропавшим в эвакуации, ещё одного родственника. Мария Сергеевна Алыренкова — двоюродная сестра матери, принесла известие о том, что в селе Клинское нашёлся её брат Михаил, пытавшийся самостоятельно вернуться домой, но по каким-то причинам он передвигаться пока не может. Моя мать вместе с Машей (так у нас её звали) пошли в Клинское, находившееся километрах в двадцати от Ружного, и на себе притащили Мишку. То, что я увидел, когда его положили в нашей землянке и размотали какие-то тряпки на ногах, было ужасно. На месте пальцев обоих ног была тёмная бесформенная масса, из которой вытекал гной вместе с кровью и соответствующим запахом. Это было следствие полного обморожения пальцев ног. Кто подсказал промывать эти раны раствором марганцовки и где взяли саму эту марганцовку и бинты, ведь никакой официальной медицины не только в селе, но и в районе не было, не знаю. Но месяца через два таких промываний произошла полная самоампутация пальцев, раны начали зарубцовываться, хотя ещё долго молодая кожица травмировалась и происходило нагноение. Но Мишка мужественно начал осваивать передвижение на култышках, к весне 44-го преуспел в этом деле, и у нас с ним впереди была целая цепь событий, иногда даже с риском для жизни, когда мы добывали патроны и разряжали гранаты. С этого времени за ним закрепилась кличка Яёк, совершенно не помню за какие «заслуги», но под этим вторым «именем» его больше и знали во всей округе. Был он, несомненно, деловым и деятельным человеком вплоть до своей кончины в 2003 году.
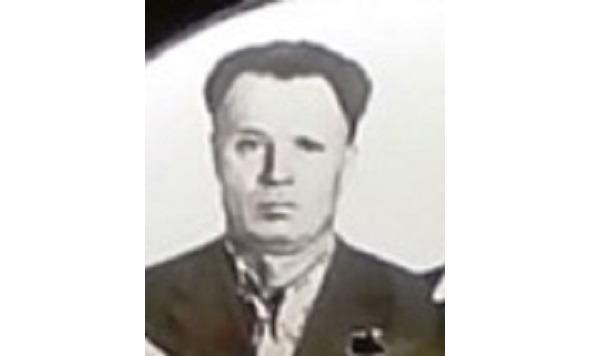
Здесь будет уместным упомянуть о третьем члене семьи Алыренковых, старшем брате Иване Сергеевиче. В 1941 году он ещё не подлежал призыву в действующую армию по возрасту, но с приходом немцев его вместе с пятью или шестью парнями-одногодками новая власть определила в полицаи. Так как служить немцам они не хотели из-за своих убеждений, то устроили побег. Прятались недолго, были пойманы, избиты и для «воспитания» заперты в холодной сельской церкви. Затем они вновь были экипированы и отправлены в начале 42-го года в какой-то другой район, ближе к Москве.
При приближении наших войск опять совершили побег, перешли линию фронта и оказались в руках нашей контрразведки. Преступлений за ними найдено не было, а так как молодые и здоровые были крайне востребованы, то и загремели ребята в Среднюю Азию добывать «спецруду» для обеспечения Курчатовского уранового проекта. Там Иван Сергеевич женился на девушке, эвакуированной из Москвы, там же у них родились две дочери. Заработал он на этой руде силикоз лёгких, но лишь в 1952 году они смогли выехать из Средней Азии. Местом проживания им назначили городок Лодейное Поле на севере Ленинградской области и только после смерти Сталина и полной реабилитации в конце 50-х годов переехали в Москву, получив квартиру на Сретенке. Иван Сергеевич периодически приезжал в гости к младшему брату и, естественно, к моей матери, где мы и встречались. Это был очень спокойный, деликатный, рассудительный и добрый человек, отягощённый тяжёлыми заболеваниями, приобретёнными «во благо нашей Родины». Он никогда не жаловался на свою судьбу — ничего уже не изменишь. Да и кто вернёт братьям здоровье, подорванное войной, кто возместит материальные и моральные потери…
Вот так распорядилась война с одной конкретной добропорядочной во всех отношениях семьёй Алыренковых из села Ружное в числе многих ей подобных по всей европейской территории России, попавшей под власть немцев-завоевателей. Разве можно забывать об этом?
Земля и люди. О выживании
Закончился 1943 год. Кто смог, тот вернулся домой, хотя на пепелище, но домой, к себе. А об отце моём, ни о братьях его, ни о двоюродном брате не было никаких известий. Живы ли они? Кто знает. Почта не работает, а больше и узнать не от кого.
С началом весны 44-го весьма злободневной стала проблема подготовки земли к посевам и посадкам. Колхозы юридически возродились, но де-факто они не имели ни лошадей, ни инвентаря, ни тракторов, тем более. После создания колхозов приоритет всегда отдавался обработке в первую очередь колхозной земли, а приусадебные участки обрабатывались, как бы сейчас сказали, «по остаточному принципу» по времени и средствам. В последние предвоенные годы наши Руженские колхозы нашли баланс в решении этой двуединой задачи, и особых проблем не возникало, разве если только погода вмешивалась. Но как быть сейчас? Приоритеты прежние, а выполнять их некому и нечем. Появившееся районное начальство было неумолимо: «хлеб нужен фронту» и никаких других мнений не допускалось. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-то из начальников малых и больших публично озаботился решением нужд оставшихся без своих кормильцев семей. Было ясно как божий день, что спасение от голода в предстоящую зиму может быть только за счёт своих приусадебных участков — надежды на колхоз не было никакой. В нашем Карачевском районе, да и в Брянской области в целом, размер приусадебного участка был определён всего в 25 соток. Намного позже я узнал, что размер приусадебного участка, например, на Украине, составлял 40 соток. Как говорится, почувствуйте разницу. Здесь в чистом виде просматривалась дискриминация сельского населения Европейской части России. Разве не хватало земель в России? С избытком, только обрабатывай.
А пока все оставшиеся в живых лошади, молодые и старые мужчины и женщины бросались на обработку колхозных полей, целыми днями. И только вечернее время взрослые могли уделить своим приусадебным участкам. А каково это в условиях голода отощавшим людям от рассвета и до заката солнца заниматься земляными работами? Это труд потяжелее каторжного, изматывающий и тело и душу. А куда было деваться? Можно было как угодно долго и крепкими словами ругать (про себя, конечно, а не на публике) всякое начальство от района и до Кремля, но какой выбор был у них, руководителей? Их можно, в конце концов, понять. Если на Гитлера весьма угодливо работала практически вся Европа, то наше государство, Советский Союз, долгое время один на один противостояло этому двуличному конгломерату, должно быть не менее ненавидящему Россию, чем отъявленные фашисты. А американская помощь продовольствием и техникой была и весьма ограниченной (мы, сельчане её никогда не видели) и довольно запоздалой — только в последние годы этой изнурительной для моей Родины войны. Но, как говорится, и за это спасибо. Были всё-таки в войсках и тушёнка, и «студебеккеры», и «шевроле», и авиационная техника.
Однако весна не ждёт, а настоятельно требует обратиться к кормилице-земле; нельзя упускать время — сроки посадки картошки установлены и выверены многолетним опытом. Поэтому надо брать инструмент в руки и на огород. Мне шёл уже девятый год, брату Шурке — седьмой. И хотя мы взрослели в те годы быстро, но по своим физическим возможностям оставались, по сути, ещё детьми. Поэтому основная тяжесть по обработке огородов ложилась на плечи мамы и бабушки; основными инструментами являлись лопата и грабли. Мы, конечно, в меру наших сил старались помочь быстрее вскопать, взрыхлить и подготовить землю к посадке, но дети есть дети и накапливающаяся усталость давала о себе знать. Всякие отлучки за пределы огорода пока прекращались. Пока. Ибо стремление наше вырваться к «патронам» было огромным.
Не менее печальную картину представлял сам процесс посадки картошки, этой единственной в те годы в наших краях продовольственной культуры, когда шесть или восемь женщин впрягались в плуг, которым управлял дед «Белундай» — Михаил Иванович Тюрин — наш дальний родственник, прозванный так за свою абсолютно белую седину. Таким образом поочерёдно и засаживали огороды. Это ни в коей мере не сгущение красок — так было и в последующие два или три года. Правда, большие семьи обходились и без плуга, производя посадку, как стало принято говорить, «под лопату». Так и остались эти мучения в памяти нашего поколения вместе с проклятиями в адрес гитлеровского фашизма и его приспешников румын, венгров-мадьяр, итальянцев, испанцев, финнов и прочих чехов, обрекших наш народ на такие неимоверные страдания и лишения. Не мы должны каяться за какие-то несовершённые преступления, так называемую оккупацию восточноевропейских стран, а эти изверги должны расплатиться сполна за гибель наших отцов, слёзы детей и наших матерей, за отнятые у нас детство, отрочество, да и юность тоже.
К сожалению, многотерпимость нашего народа позволяет ставленникам и пресмыкающимся американского сионизма типа Горбачёва, Яковлева, Ельцина, Медведева и прочих унижать достоинство действительно великого, благодушно всё прощающего, хотя в некоторой степени и безалаберного народа, получившего от Творца огромные территории и широкую душу словно бы для того, чтобы в неё легче было этим продажным «руководителям» плевать.
Это так, из наболевшего за многие годы наблюдения за деятельностью наших «вождей» и, особенно в последние годы, откровенно продажных просионистски и проамерикански (что одно и тоже) настроенных ничтожных ельциных, медведевых и Ко.
Попутно о табаке и табакокурении
Во время войны, да и после неё, особым спросом пользовался табак. Не хотелось бы здесь углубляться в выяснение причин такого явления. Но замечу, что «конъюнктура» рынка была уловлена, и мы начали выращивать эту южную культуру. Не знаю, где в 44-м году взяли семена или рассаду, но рядом с землянкой мы раскопали участок, на котором и культивировалось это зелье. Ценился «крепкий» табак, характеризующийся тем, что при вдыхании глубоко в лёгкие дыма происходит настоящий спазм дыхательных путей с кратковременной остановкой дыхания и иногда потерей сознания. А чтобы табак обладал такой «крепостью» мать заставляла постоянно обрывать цветки, такие желтоватые, липкие, горькие на вкус со специфическим запахом. Этот процесс я освоил, но и… Так как появился собственный табак, то почему и не закурить, тем более, что многие ровесники уже приобщились. Технология приготовления курева была проста: табачные листья помещались в трубу, торчавшую из землянки и процесс сушки, таким образом, много времени не занимал. Сложнее было найти бумагу на самокрутки, поэтому старые газеты высоко ценились, их было мало. Курение табака пацанами стало практически повсеместным, друг перед другом демонстрировали, чей табак крепче, уговаривали курнуть «в затяг», а иначе как проверишь «крепость» — и молодые «курцы» впадали в полуобморочное состояние, но курить не бросали. Вот такая это зараза, как она притягивает и не отпускает. А почему табакокурение приобрело характер эпидемии, так этому есть вполне логичное объяснение: мер отцовского воздействия или не было вовсе, или явно не доставало. Безотцовщина, порождённая войной, была тому причиной. Правда, были примеры и элементарной распущенности, когда отец не только не пресекал курение детьми, но и сам организовывал и поощрял эту пагубную привычку: «меньше будут просить еды». Кстати, эта «теория» была у нас в те годы довольно популярной. Наиболее показательна в этом смысле была семья Кожановых, жившая на Малаховке, «знаменитая» не только дубами, растущими в конце их огорода, но и крепостью табака, который они употребляли — отец и три его сына. Были они все маленького роста, с жёлтым цветом лица, ходившие всегда вместе, сквернословившие по всякому поводу и без оного.
Несомненно и то, что распространению этой заразы способствовал и целый ряд бытовых лишений, отсутствие нормального питания, а так же и своеобразная реклама (правда, такого слова мы тогда не знали) о пользе табака, как чуть ли не заменителе пищи и как средстве, «прочищающем» мозги.
Всматриваясь в наше время, не могу не отметить, что с началом ельцинской заварушки, поставившей во главу поведенческих мотивов культ «золотого тельца», обогащение любой ценой, пренебрежение духовными ценностями народа, а по сути, растление молодого поколения, употребление табака, алкоголя и всяких курительных наркотических, одурманивающих смесей достигло своего апогея. Благодаря разнузданной рекламе всяких «марлборо» и в ковбойском обличье, и на диванах в интимной обстановке, суперменов с сигаретой в зубах или в руке, в боевиках, заполонивших экраны телевизоров и кинотеатров, жеманных и развязных девиц с длинными тонкими сигаретами в ухоженных руках и т. д. в процесс табакокурения были вовлечены не только юноши, но и дети и значительная часть молодых девушек и женщин, что уж никак не способствует рождению здоровых детей и сохранению генофонда нации. И глубоко ошибаются те правители, которые принимают дурацкие законы о запрете курения табака, глубоко не вникая в причины и истоки табачного безумия, охватившего российское общество.
И опять о выживании
С появлением первой зелени мы стремились перейти на подножный корм: искали щавель, заячью капустку, полевой чеснок, жевали молодые побеги сосенок, собирали на хлеб лебеду; после схода снега выходили на огород и собирали пропущенную при осенней уборке картошку, конечно, перемороженную. Из неё выпекали так называемые «гопики» или «тошнотики» — само название говорит о качестве этого продукта. Всё употребляли. Куда денешься, если есть больше нечего.
В июне-июле в оврагах появлялась земляника, других ягод в наших местах практически не было. Когда в колхозе высевали горох, то умудрялись, несмотря на охрану, иногда полакомиться этим деликатесом. Не было у нас никаких других источников удовлетворения голода. На приусадебных участках морковку, лук и другие овощи стали выращивать значительно позже описываемого мной времени из-за отсутствия семян, но более всего из-за стремления занять любой клочок земли под картошку.
Летом 44-го, да и 45-го годов ребятишки были предоставлены практически сами себе, потому что кроме прополки грядок и окучивания картошки делать дома, исходя из наших детских возможностей, было нечего. Никакой скотины, даже кур, не было. Откуда взять, да и где содержать — сами ютились в землянке. Вот и занимались мы одновременно добыванием пропитания и «оружейными» делами, собирая патроны, разряжая боеприпасы, а потом переключились на снятие с разбитых танков разных узлов и, в первую очередь, шарикоподшипников, которые ох как пригодились потом для изготовления тачек, использовавшихся для перевозки разных грузов, в первую очередь, конечно, собранной картошки. Пробовали мы и разобрать найденный нами в Ященском рву сбитый самолёт, но от этой затеи пришлось отказаться — слишком глубоко он врезался в землю, даже кабины не было видно.
Так и выживали в этот уже третий год от начала войны. Всё было серо, обыденно, голодно и холодно, что и вспомнить больше нечего, если бы не несколько событий, произошедших в конце лета практически друг за другом. Умерла сестричка Маруся, ей ещё не исполнилось и пяти лет. Это случилось как-то неожиданно для нас, болела она недолго, да и лечить было некому — всякая медицина отсутствовала. Причины смерти я не знаю, всё осталось в каком-то тумане. Горе было большое для нашей семьи, но больше и дольше всех убивалась мать — потеря дочери для матери — это практически потеря всяких надежд на уход и заботу в старости, такое мнение бытовало в нашем селе, да и сейчас оно, по моему убеждению, не потеряло определённого смысла и своей актуальности.
Вскоре я очень серьёзно заболел, как потом говорила мать, тифом. Не помню, что меня кто-то и чем-то лечил, по-видимому, никакого лечения не было. Валялся на печке в каком-то бреду и в один из дней увидел, что потолок землянки падает на меня. Испугавшись, соскочил с печки и по ступенькам дополз до выходной двери, она оказалась закрытой снаружи, попытался её открыть, стал стучать, кричать и наконец-то пришёл в себя, увидел, что землянка цела, потолок не обрушился и тихо-тихо кругом, никаких звуков, даже мышиного писка не слышно. Должно быть, это был переломный момент в моей болезни, хотя самого процесса выздоровления совершенно не помню. К сожалению, эта болезнь повторилась через два года, по определению матери это был «возвратный тиф». К этому времени у нас уже был небольшой домик. Я лежал горячий под грудой какого-то тряпья, есть было нечего, кроме картошки, лечения тоже никакого не было. Выживай, как хочешь. Каковы были страдания матери, не имевшей никаких возможностей помочь своему больному ребёнку, один Господь знает. Ещё не зажила глубокая рана после смерти дочечки, а тут и старший сын еле-еле, «на ладан дышит», как выражалась мать. И она решила добыть для меня мяса. Да, именно мяса. Колхозные лошадки, на которых мы вернулись из эвакуации, из-за недокорма, непосильной работы, ужасных условий содержания постепенно вымирали. Трупы лошадей вытаскивали за огороды, где и оставляли на растерзание одичавшим собакам, лисам и волкам. Но наш народ, презрев отвращение к конине (не принято было в наших краях уподобляться мусульманам-татарам), использовал павших лошадок в пищу, стараясь не афишировать свои действия. Но кто-то подсказал матери эту идею, но поздно и ей досталось отрубить только несколько позвонков с небольшим содержанием мякоти. Уже всё было растащено и людьми и зверьём. «Мясо» долго варилось, ещё дольше мать сомневалась давать мне эти кости или нет, но наконец-то трясущимися ручонками я держу это «спасение от болезни» и пытаюсь откусить хотя бы капельку мяса. И мало его было, и показалось оно мне жёстким и невкусным, но проглотил всё, что сумел отодрать. Помогло это или нет — судить не берусь. Мать потом вспоминала, что очень боязно было брать это «мясо», так как к нему прикасались помимо людей зверюшки малые и большие. Кстати, в этот и последующие годы развелось очень много зайцев, затем и лисиц, а затем и волков. Правда, численность зайцев как-то внезапно уменьшилась и теперь на огородах они появлялись редко и уже не табунками как прежде; должно быть, к этому были причастны лисы и волки, сократившие заячье поголовье на прокорм себе. Природа — это саморегулирующаяся система и причины изменения численности тех или иных зверюшек практически понятны.
С выходом населения из землянок начали предприниматься попытки производить мясные продукты «цивилизованным» способом, в частности, некоторые начали разводить кроликов. Не обошлось и без курьёзов. Первопроходцами в этом деле стали наши соседи Алёшины — «Черепковы». Нужно сказать, что в селе разведением кроликов никогда ранее не занимались, понятия о технологии разведения и регулирования численности ни у кого не было, поэтому и работа эта была организована примитивно, т.е. практически пущена на самотёк. Кроля с крольчихой помещали под пол, у кого он был деревянный, ребят обязывали носить им зелёную траву и бросать её в проделанную заранее дыру в полу. Вот таков был весь уход и контроль. Травы требовалось всё больше и больше, но ни у кого, как говорится, и за ухом не почесалось, что с лопоухими надо бы построже обходиться. Гром грянул, когда соседи вдруг обнаружили, что с грядок исчезли и саженцы капусты, и морковная ботва, и вообще все огороды стали приобретать вместо зелёного землистый цвет. Но зато, сколько же серых зверьков, почти не пугаясь, прыгало по огородам. Оказалось, что кролики очень легко сделали норки-подкопы под стенами (фундамент в его классическом понимании в селе под домами не делали) и вырвались на свободу. Началась погоня, отлов и убиение зверьков. Мясная продукция оказалась слишком дорогостоящей для хозяев и совершенно неприемлемой для соседей. Отлов продолжался всё лето, и только наступившая по осени бескормица сделала своё дело. На следующий год такого буйного нашествия кроликов уже не допустили.
Возвращаясь к «посетившим» меня болезням, вспоминаю и малярию. Этой болезнью не только я, но и многие жители нашего села болели по нескольку лет, дней по пятнадцать-двадцать в году. К счастью, с 46-го или 47-го годов с ней уже начали бороться, так как в селе появился фельдшер, одетый в уже изрядно поношенный офицерский китель. Но фельдшера больше запомнили по желтоватым таблеткам хины, которыми он нас лечил. До чего же они горькие! Малярия — очень своеобразная болезнь. Посмотрев на высоту солнца над горизонтом (часов-то не было), определяешь, сколько времени осталось до начала «трёпки». У меня приступы лихорадки начинались в полдень. К этому времени, где бы ни был, бежишь домой, ложишься на солнышке, брат Шурка взваливает сверху всю одежду, которая есть в доме, но всё это не спасает от жесточайшего озноба, сопровождаемого перестукиванием зубов и продолжающегося около часа. Затем прошибает пот, обессиленный, еле встаёшь, но через небольшое время уже приходишь в себя и, как будто, ничего и не было. Когда стали принимать хинин процесс выздоровления ускорялся и, главное, болезнь больше не повторялась. Так что о перечисленных болезнях знаю не со слов других, а по своим личным ощущениям.
1944-й год запомнился очень важными для нашей семьи событиями, запечатлевшимися на всю оставшуюся жизнь. Стала работать почта, и мы получили извещение о смерти отца, как оказалось погибшего ещё в 1942 году. Не могу описать весь ужас нашего состояния, наших страданий, увеличившихся от того, что у нас долго жила надежда, что отец жив и просто ему некогда написать письмо, да и почта не работала. А тут все надежды рушились и рушились навсегда. Спасибо дяде Петру Михайловичу за его поддержку, хотя и у него двойное горе — в Кронштадте погиб его старший сын Иван и вот ещё и брата лишился. Тогда он не знал ничего о судьбе других братьев — Юрия и Захара. Но война не пощадила и их. Кадровый офицер Юрий Михайлович сложил свою голову под Курском в 1943 году, а Захар Михайлович пропал без вести ещё в 1941 году.
Печально было и то, что в похоронке не было указано место захоронения отца, да и сама похоронка вскоре была утеряна. Много-много лет спустя я смог увидеть подлинник подшитого в дело извещения о смерти с пустой строкой о месте захоронения. Предположение дяди о месте гибели отца под Москвой, с детских лет переросло у меня в убеждение искать могилу на Московском направлении. Действительно, как потом мне стало известно, отец воевал под Москвой в составе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, затем переброшенного в 42-м году под Сталинград. И только уже в зрелые годы на профессиональном уровне удалось установить место последнего упокоения отца, о чём я и рассказал выше.
Не меньшее потрясение лично я испытал в 1945 году, когда начали возвращаться демобилизованные солдаты, когда дети вернувшихся с войны отцов сразу преображались, становясь «хозяевами» положения, потому что теперь у них была защита, было кому пожаловаться и получить поддержку. Как обидно было остаться осиротевшим, без отца, именно в этом возрасте, когда так нужно отцовское присутствие. До сих пор не могу без слёз вспоминать события тех дней, даже и те мимолётные соболезнования оставшихся в живых друзей отца, которые приходили к нам, чтобы погоревать вместе. Даже и листы чистой разлинованной бумаги, вырванные из каких-то бухгалтерских немецких гроссбухов, передаваемые мне уже как ученику, вызывали не меньшее страдание.
Тяжёлые времена, тяжёлые испытания легли на плечи ещё совсем неокрепших ребят, родившихся в 30-е годы теперь уже прошлого века. Не хотел бы никому желать такого детства и таких потрясений.
Взросление
Начало учёбы
В 1944 году началось официальное, хотя и с опозданием на два года, приобщение меня к получению знаний. Я пошёл в школу. Школы, как здания, в селе не сохранилось. Всё сгорело. На Куташенке, вернувшийся ещё в 43-м с фронта инвалид, имевший разные прозвища («кутузов» или «мичурин»), в силу своей напористости и изобретательности, построил себе небольшую хатёнку, в которой районная власть и решила устроить школу. За четырьмя или пятью сколоченными из неструганых досок примитивными столами и на такого же качества лавках примостились ученики всех классов от первого до пятого. Из письменных принадлежностей у нас были коротенькие карандаши (стандартные разрезали пополам, чтобы на всех хватило) и совсем мало бумаги. Для письма часто использовались газеты, так что наши крючки и палочки не всегда были различимы на таком фоне, а белую бумагу использовали по нескольку раз, вытирая ранее написанное, поэтому в образовавшихся на бумаге дырках все выводимые нами каракули приобретали вид «совершенно аккуратных», «ровненьких» линий и «круглых» кружочков. И, тем не менее, как потом выяснилось, писать всё-таки научились.
Это был мой второй поход за знаниями. Первый раз я начал обучение ещё в 42-м году в бывшей церковно-приходской школе. Не знаю, кто был инициатором открытия этой школы, но, безусловно, такие действия не могли быть без разрешения немецких властей, шла война. Но эта школа существовала короткое время. Как только в селе увеличилась численность немецких войск и стало меняться к худшему для них положение на фронтах, школьное здание было занято под штабы и уже в начале 43-го о школе забыли. А у меня учёба продолжалась и того меньше — неделю или две. Когда пропал у меня карандаш, выданный в школе, то инструмента для письма не стало, а новый выдавать никто не собирался и я с большим сожалением покинул это чистое помещение с чистыми крашеными полами, чистыми столами и вежливую молодую учительницу высокого роста. Попа тоже запомнил, но о нём не сожалел.
С наступлением холодов положение учеников сильно усложнилось. Одежды и обуви почти никакой нет, часто болели, пропускали уроки. Но я был настырным. Выручали меня отцовские сапоги. Они были, конечно, велики, тем более что носить их приходилось на босу ногу — понятия о носках, да и портянках тоже, пока не было. В последующие годы проблему обуви в значительной мере помогла решить бабушка, освоившая плетение лаптей. Кстати, весенние каникулы у нас объявлялись только с наступлением периода бурного таяния снега и половодья, когда до школы в нашей обуви (лаптях) дойти сухим было невозможно. А после схода снега лапти сбрасывались и в школу ходили уже босиком, конечно, с грязными ногами. Тогда за такие «вольности» нас здорово не ругали, по крайней мере, из школы с уроков не выгоняли, Учителя понимали, что реально обуви у нас просто нет.
В этот первый школьный год, должно быть, чему-то научился, так как был переведен во второй класс. У меня даже сложилось такое впечатление, что я в один год прошёл программу нескольких классов. Может это от того, что одновременно в одной комнате занимались ученики нескольких классов и, естественно, подсознательно часть услышанного и увиденного оставалась в памяти.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
