
Бесплатный фрагмент - Ночные бдения кота Мурра
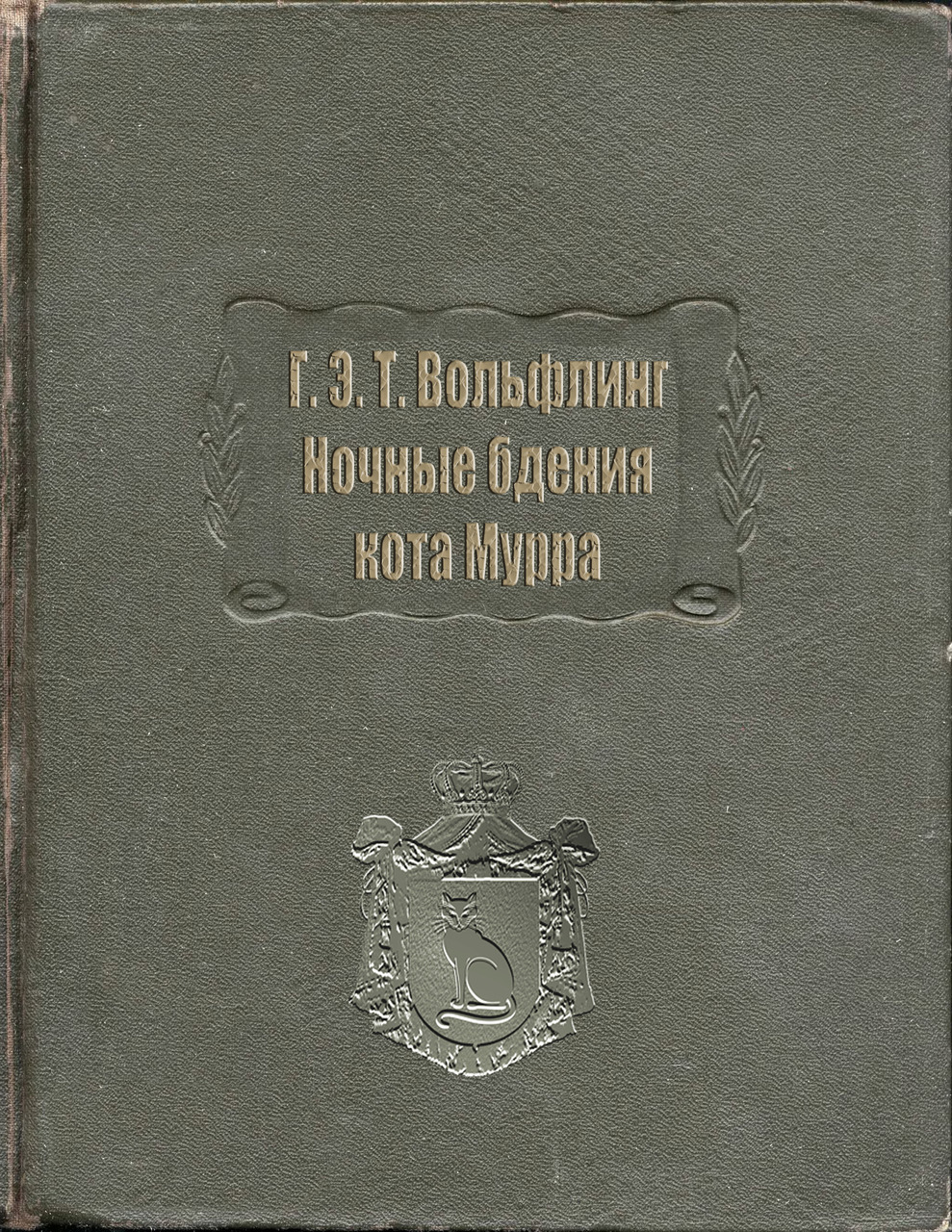
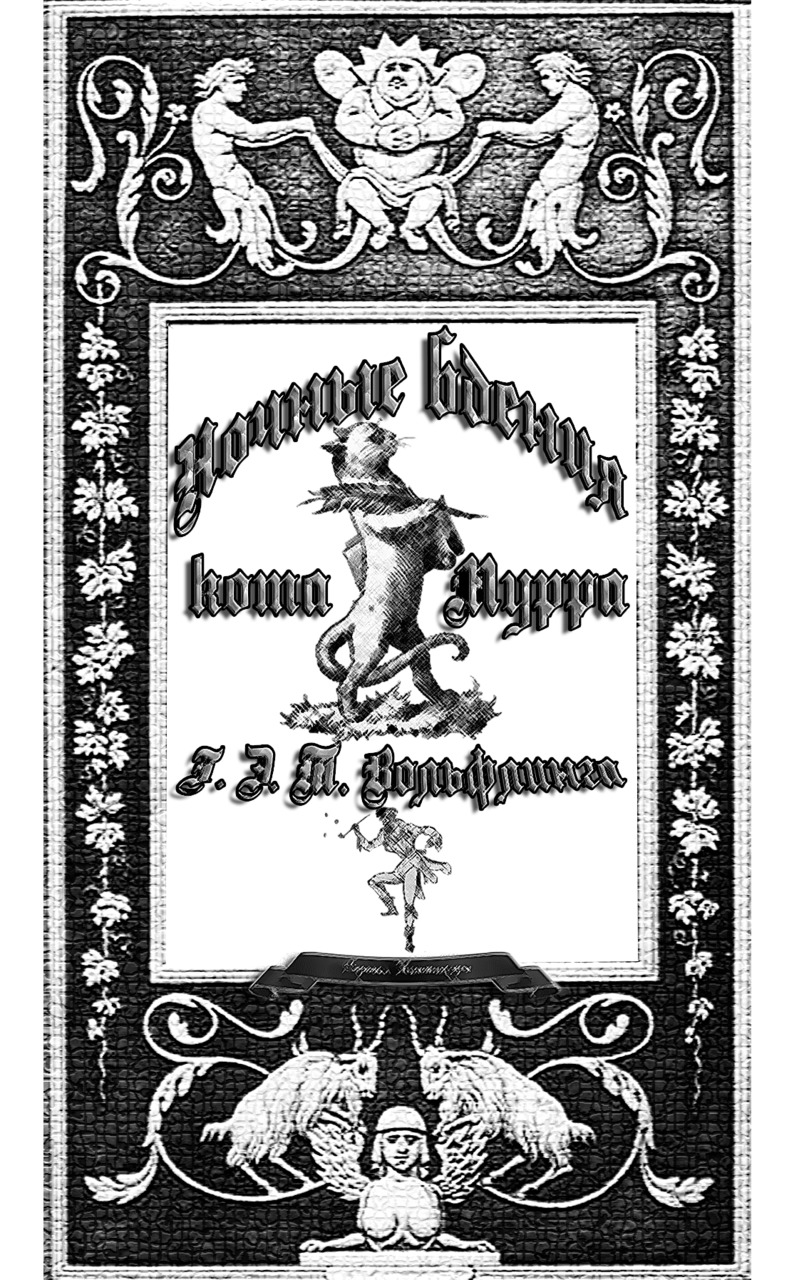

Печатано сие в городе Ямбинск-Ухарский, что стоит на границе Сибири и Урала, одним своим ликом глядящим в Европу, другим — в Азию, уникальный еще тем, что дал миру целое созвездие котов-поэтов, чьи стихи непрерывно стучат в ваши сердца.
Писано сие всемирно известным потомком кота Мурра, прямо по найденному тексту оного предка, в испоганенные котовирусом лета 2020 — 2021 от Рождества Христова.


Ночныя бдѣнія кота Мурра
вкупѣ съ фрагментами похвалы капельмейстеру дорогъ и тревогъ Іоганнесу Крейслеру и Мастеру Абрагаму Лискову, со вставками выдающихся опусовъ инаго достославнаго піита — котика Бегемотика, у котораго нѣту таліи, случайно обнаруженными на оборотныхъ листахъ оной рукописи
Печатается по тексту, удивительнѣйшимъ, непостижимымъ образомъ, отыскавшемуся въ недавно найденной Либеріи — всемірно извѣстной библіотекѣ Іоанна Васильевича Грознаго, привезенной на Русь изъ Византіи Софіей Палеологъ со всѣми правками котовъ-наслѣдниковъ.
Печатано сіе въ городѣ Ямбинскъ-Ухарскій, что стоитъ на границѣ Сибири и Урала, однимъ своимъ ликомъ глядящимъ въ Европу, другимъ — въ Азію, уникальный еще темъ, что далъ миру цѣлое созвѣздіе котовъ-поэтовъ, чьи стихи непрерывно стучатъ въ ваши сердца. Писано сіе всемірно извѣстнымъ потомкомъ кота Мурра, прямо по найденному тексту онаго предка, въ испоганенное котовирусомъ жаркое лѣто 2020 отъ Рождества Христова.
Императорская Академия Наук
Зигхартсвейлерские древности
Вольфлинг Гэндальф Эомер Трувор
Ночные бдения кота Мурра вкупе с фрагментами похвалы капельмейстеру дорог и тревог Иоганнесу Крейслеру и мастеру Абрагаму Лискову, со вставками выдающихся опусов иного достославного пиита — котика Бегемотика, у которого нету талии, случайно обнаруженными на оборотных листах оной рукописи: фантастический, утопический, исторический, иронический, саркастический, романтический и необычайно правдивый роман. — (сер. «Возрожденный Романтизм», Издание первое (и, возможно, последнее))
©Вольфлинг Герман
©пер. c немецкого Никора Валентин
Говорят, что Э. Т. А. Гофман умер. Но Э. Т. О. — не правда! Гофман — бессмертен. В XIX веке многие романтики всерьез утверждали, что Гофман сбежал от всех и поселился в России. Более того, он имел дурное влияние на Н. В. Гоголя, который тоже решил прикинуться мертвым, но это у Николая Васильевича плохо получилось, потому и пришлось бедному ворочаться потом в гробу.
Л. Н. Толстой тоже пытался сбежать, но мертвым он уже не притворялся. Однако поздно спохватился старый граф. Боржоми и ананасы к тому времени уже закончились!
М. А. Булгаков зашел с иной стороны. Он попытался улизнуть не в реальности, а в собственные фантазии, в ту мистическую абстракцию, что порождается лишь величайшей активностью лобовых долей мозга в совокупности с таинственным человеческим мозжечком. Он силился спрятаться в собственном всемирно известном романе.
И все эти классики — читали и любили Э. Т. А. Гофмана. И в Э. Т. О.м кроется великая тайна грядущего. Гофман не просто возвращается. Он среди вас! Он танцует и смеется над пропастью на канате человеческой культуры. Он — везде! И в шорохе дождя, и в безумии капельмейстера Крейслера, и в черной музыке нашего контрастного времени.
Некоторые современники считают, что его, Гофмана, наградили покоем в сумасшедшем домике Швейцарии. Но это невозможно, потому что Гофман — не Лев Мышкин, и покой ему только снится!
И даже если немецкий романтик, в самом деле мертв, то коты, наследники того самого Мурра — выжили! И они умеют писать! Есть еще кошачьи клавиатуры, кипит еще ярость в поэтических душах тех, кто решился восстановить историческую память и воздать должное уважение величайшему роману всех времен!
Печатать позволяется съ тѣмь, чтобы по напечатаніи, до выпуска въ публику, представлены были въ Ценсурный Комитетъ: одинъ экземпляръ сей книги для Ценсурнаго Комитета, другой — для Департамента Министерства Народнаго Просвѣщенія, два экземпляра — для ИМПЕРАТОРСКОЙ публичной библіотеки и одинъ — для ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ.
Генваря 25 дня, 2021 года. Книгу сію разсматривалъ Э. Ординарный Профессоръ Надворный Совѣтникъ НИКОЛАЙ ОРЛОВЪ.
Вновь, наилучшимъ образомъ упорядоченныя и повсюду многажды исправленныя, затѣйливыя «Ночныя бдѣнія кота Мурра», то ѣсть: пространная, совершенно невымышленная, правдивая и весьма куртуазная біографія нѣкоего диковиннаго капельмейстера Іоганнеса Крейслера, съ присовокупленіемъ лучшихъ философскихъ сочиненій и стихотвореній знакомца онаго музыканта — рѣдкостнаго домосѣда — кота по имени Мурръ, а также о злосчастныхъ похожденіяхъ злодѣя котолака Бегемота, на службѣ у чернаго принца Воланда честь изволившаго состоять.
Рекомендовано къ прочтенію въ юношествѣ, студіозамъ, въ университетахъ жизнь свою весело прожигающихъ, какъ особливо пріятное и отдохновителъное отъ трудовъ сихъ умственныхъ и праведныхъ, а также отмѣченное какъ весьма полезное и глубокомысленное чтеніе для иныхъ согражданъ, умѣющихъ на досугѣ поразсуждать о благоустройствѣ общества и о томъ, какъ намъ передѣлать Германію, Европу, да и вѣсь миръ за десять дней, не особо при этомъ утруждаясь.
Текст печатается в последней кошачьей редакции (все лапописи хранятся в Зигхартсвейлерском архивном отделе Имперской Государственной библиотеки имени Отфрида Пройслера), а также с исправлениями и дополнениями, сделанными под диктовку пра-пра-пра-правнука писателя.
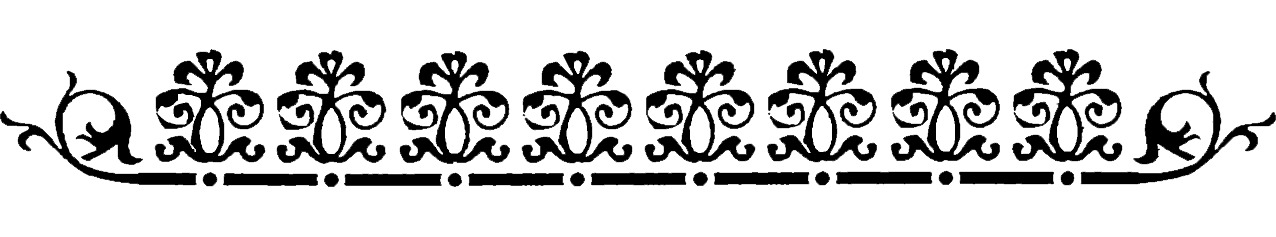
ПРЕДИСЛОВІЕ ОТЪ КНИГОПРОДАВЦА
Опасаясь, чтобы безцѣнныя и подлинныя рукописи, съ которыхъ авторъ и потомокъ кота-пращура и сдѣлалъ свои списки «Бдѣній Мурра», не затерялись или не сдѣлались жертвою времени, и имѣя въ виду, что публичные книги и къ тому же древніе, дѣлаясь достояніемъ Исторіи, должны быть доступны для каждаго, авторъ желалъ принести посильную дань на сѣй алтарь просвѣщенія; и по сему не щадя ни трудовъ, ни издержекъ, приступилъ къ изданію сихъ рукописей съ единственною цѣлію доставить пользу, ибо нѣкоторые изъ сихъ рукописей кота Мурра уже стали весьма вешхи.
Другія причины, побудившія автора принять на себя смѣлость представить вниманію читателей этотъ новый томъ, суть слѣдующія:
Въ теченіе многихъ лѣтъ авторъ неустанно предавался изученію поэтической силы виршей Мурра. Результаты его изслѣдованій были признаны имѣющими огромное значеніе и реальную цѣнность небольшимъ кружкомъ котовъ, также искавшихъ истины.
Это и заставило автора, приведя въ систему, издать, въ возможно сжатомъ видѣ, общій результатъ оныхъ своихъ изысканій.
Когда эта идея была доведена до конца и облечена во внѣшнюю форму, то всѣ цѣлое выразилось въ трехъ видахъ поэтической доктрины. Послѣдующія обстоятельства найденной «Либеріи» заставили автора вновь расширить этотъ томъ и приспособить его для болѣе обширнаго круга читателей.
Главная побудительная причина была та, что въ обществѣ настойчиво распространялось отравляющее, для зарождающагося интеллекта котовъ, ученіе о силѣ авторитарной бесократіи.
За десять лѣтъ предъ симъ авторъ сего сочиненія поручилъ мнѣ напечатать сотню экземпляровъ сочиненія Э. Т. А. Гофмана «КОТЪ МУРРЪ. ПОВѢСТЬ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ. Переводъ съ нѣмецкаго Н. Кетчера» единственно для друзей.
Многіе тогда читали и сравнивали онаго и книгу Германа Вольфлинга, съ удовольствіемъ отзывались о нихъ съ похвалою, какъ о сочиненіяхъ, заслуживающихъ втораго полнѣйшаго изданія.
Удовлетворяя любопытству ихъ и угождая Публикѣ, я рѣшился перепечатать томикъ «Бдѣній Мурра» умноженный и исправленный. Авторъ, по убѣдительной просьбѣ моей, дополнилъ свое сочиненіе нѣкоторыми воспоминаніями Мурра; но не могъ, къ сожалѣнію, сдержать слова, даннаго имъ при первомъ изданіи, — приложить къ оному всѣ вирши кота; съ того времени онѣ потеряны для Автора, потеряны и для Публики, которая могла бы найти въ нихъ довольно пищи для удовлетворенія просвѣщеннаго любопытства.
Съ увѣренностію и спокойствіемъ, передаю я сочиненія Г. Э. Т. Вольфлинга міру, чтобы свѣтъ зналъ, какъ дѣлаются великіе книги, чтобы онъ удивлялся онымъ трудамъ.
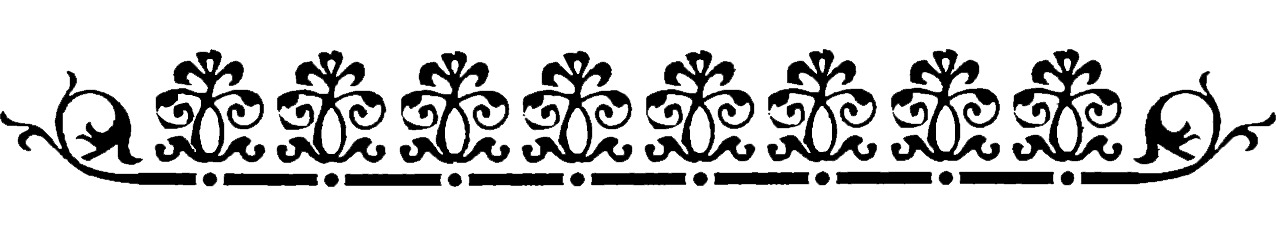
Предисловие издателя
Это вторая в мире книга, которая необычайно нуждается в предисловии, ибо, не разъясни мы сейчас, вследствие каких удивительных обстоятельств удалось ей увидеть свет, она покажется читателю вычурным чудачеством и даже витиеватым литературным винегретом, состряпанным из анекдотов.
А потому искренний друг кота Мурра, изрядно хлопочущий за сей труд, покорнейше просит благосклонного читателя сим предисловием совсем не пренебрегать.
Итак, к названному ранее котолюбу, писателю-фантасту, обратился однажды издатель со следующей речью: «Ты, милейший, напечатал уже одну книгу и имеешь знакомство среди непризнанных гениев, тебе ничего не стоит зайти к кому-либо из сих достойнейших господ и попросить у них сочинение, одаренное блестящим талантом и прекраснейшими способностями».
Все писатели, как уже не раз отмечалось в желтой прессе, имеют ярко выраженные ипохондрические черты в своем характере и некоторую неуверенность в своих творениях, из-за чего любые образованные ими творческие союзы и организации крайне эфемерны. Собираясь вместе, все писатели, графоманы и сочувствующая им братия так любят развести критику на все и всех, что в пору повесится.
И, надо сказать, писатели прямо таки: и вешались, и топились, и поджигались, и даже прыгали с недостроенной телебашни, лишь бы привлечь к себе пресловутое внимание. И все это — вместо того, чтобы просто сочинять свои книги.
А еще они учили молодежь тырить коньячок под балычок со всех мероприятий, чтобы потом гордо давится им из одноразовых пластиковых стаканчиков в парке, посреди живописно разбросанных под ногами пустых бутылок из-под пива, шприцов от морфия, потерянных трубок без табака.
Им, оным борзописцам, казалось, что именно так они и боролись с загнивающим старым миром.
Из-за этой специфической особенности интеллигенции всех времен и народов наш фантаст вовсе не посещал никаких сборищ и поэтических игрищ, где меряются мастерством, глагольными рифмами, длиной просаленных волос, ну и так далее — у кого, уж, на что талантишку по сусекам наскребется.
Оказавшись в неловкой ситуации, не мудрствуя лукаво, фантаст обратился с высокопарной речью к своему коту Патрику, изливая оному горечь ситуации.
Все любители кошечек и собачники не могут не признать за собой странного отношения к собственным питомцам: душеспасительные беседы с животными в среде этих людей не являются показателем безумия.
В общем, разговор состоялся. Писатель пожаловался — да и забыл.
Но Патрик, похоже, проникся горем хозяина и уже через сутки явился домой изрядно потрепанным, с горящими глазами, распушенным хвостом, с царапиной у левого глаза, но крайне довольным. Во рту он держал сумку, в которой и обнаружилась потрепанная и просаленная данная рукопись. Из заглавия выходило, что это был фундаментальный труд другого кота по кличке Мурр. Пробежав по тексту глазами, фантаст, с радостными криками: «Оно вертится!» — выбежал и, окрыленный удачей, отправился к другу в издательство.
(Что имелось в виду под этим «оно!» — не уточнялось. Вероятно, подразумевалось нечто мистическое, связывающее воедино Большую Литературу, за которую дают престижные денежные премии «сКОТер», «Буккер», и «ЦуККер» с книгами фантастического порядка, которые седовласыми акикакидемиками и литературой-то не считаются.)
Поначалу сочинение всем в ученом кабинете показалось написанным довольно гладким слогом.
Однако издатель, к коему принесли роман, глубокомысленно отметил, что среди современных авторов котов развелось, как собак нерезаных. Тут вам и бесконечные романы кота Шашлыка, и сериал Брауна о «Коте, который жил роскошно». В этом же ряду оказались «Воспоминания» мэтра А. В. Е. Базилиуса о жизни с какой-то Пуганой Примадонной.
Не к ночи помянул издатель и восемь томов поэтессы Соньки Золотой Лапки, которая получила «Золотое перо» за роман «Здравствуй, моя Мурка, и прощай».
И конца краю всей этой котико-няшной компании нет, да только он, издатель, не слыхивал, чтобы кто-нибудь из его уважаемых коллег якшался бы с подобными сочинителями, но все-таки готов попытать счастья.
Когда книга уже пошла в печать, и стали поступать первые корректурные листы, обнаружилось, что повесть то и дело перемежается вставками из совершенно других опусов.
Оказалось, когда кот Мурр излагал свои жизненные воззрения, он, нисколько не задумываясь, рвал на части книги из библиотеки своего хозяина, и в простоте душевной употреблял эту бумагу. Эти листы остались в рукописи, и их тоже напечатали, именно как принадлежащие к сей повести.
Сокрушенные писатель-фантаст и издатель вынуждены сознаться, что смешение разнородного материала произошло единственно по их недосмотру. Они, конечно, должны были хорошенько проверить рукопись до того, как сдать ее в набор.
Однако проницательный читатель, популяция которого в последнее время стремительно тает, легко разберется во всей этой путанице, ежели обратит особое внимание на пометки в скобках:
Мак. л. (макулатурные листы);
Мурр пр. (Мурр продолжает);
Бег. бас. (Бегемотовы басни).
Кроме того, доподлинно известно, что именно эти разорванные книги, из частей которых и сложилось оное произведение, никогда не поступали в продажу, поскольку о них никому ничего не известно.
Думается, читателям будет очень даже приятен вандализм кота в обращении со сгинувшими в пучине смутных времен литературными сокровищами, ― ведь только таким образом миру и удастся целиком узнать всю сию довольно незаурядную и запутанную историю.
Примечания доктора социологии
Франка Герберта Адольфа фон Драйшвайне
никогда не читавшего оного тома, но изрядно поднаторевшего в науках и неопровержимого доказавшего, что этой книги нет, не было и быть не может.
Не далее, как вчера некий стареющий романтик, упорно мнящий себя писателем, каким-то фантастическим манером умудрившийся-таки издать собственную толстую, но совершенно антинаучную книгу, высказал смелое предположение: дескать, один из его знакомых издателей рассматривает на предмет публикации рукопись, принадлежащую лапе кота, и являющуюся, по сути, тем самым долгожданным третьим томом всемирно известных «Жизненных воззрений» одного прославленного немецкого поэта и музыканта.
Сей стареющий современный автор в свое время много говорил о поэзии третьего тома Александра Блока, о третьей книге «Мастера и Маргариты», о третьем Риме, о Святой Троице, ну и так далее…
Считается, что он даже создал теорию о троемирии в литературе. Но что-то не слышно о том, что на этого горе-ученого наложили бы хоть какие-то санкции!
А ведь всем известно, что признание значимости любой личности начинается с санкций Госдепа, с угроз правительства США: начиная от отказа в визе на въезд (вне зависимости, нужно ли означенному лицу в Америку), заканчивая приказом о высадке именно на берегах Белоруссии корпуса десанта «Морских котиков» для операции по захвату неугодного человека, вне зависимости от того, где он проживает, гражданином какой страны является, и даже — где именно прячется от сиих «Птенцов Трампа с окорочками Буша».
Априори: любой, кто не восхищается демократическим образом американской жизни, — преступник! Но о том, что кто-то посмел сказать «Ну, ту-у-упые», и не уточнить, что он при этом имел в виду вовсе не ножницы, об этом в Госдепартамент еще кто-то должен донести!
Так вот, если за океаном не знают о каком-либо писателе, значит, он даже в разряд графоманов не попадает. И потому фантаст, доказывающий существование третьего тома — не настоящий! И все слова его — ветер носит!
Когда, с моей стороны, зашел разговор о тщетности попыток создать некое продолжение истории Мурра, мне поступило дерзкое, необоснованное, возражение, мол, дескать, такая книга уже написана.
Мне, доктору социологии, такая версия «кажется „весьма интересной“, но не с точки зрения литературоведения, а с точки зрения махровых дилетантизма и безответственности».
Я утверждал и последователен в своих выводах. Повторю, те фундаментальные фразы, за которые я и получил докторскую степень:
«Пытаясь мысленно смоделировать третий том «Житейских воззрений…» автор статьи (вышеупомянутый доктор фон Драйшвайне) упирался в глухую стену. И о попытках подобного рода ему ничего не известно. Булгаковские Коты, Мастера, Маргариты, невиданные генеалогические древеса — это алеаторика, но никак не музыка веских классиков!
В «Житейских воззрениях кота Мурра» опус кота — главная тема, энциклопедия (пользуясь метафорой Ф. Тютчева) «бессмертной пошлости людской». Но в силу своей жанровой специфики (мемуары) он вынужденно имеет единообразный (не однообразный!) характер.
Однако, побочная тема книги трактуется как главная и начинается возня вокруг мифического третьего тома, который, дескать, и должен расставить все точки над «и».
Но главная тема завершилась на траурном извещении о кончине кота Мурра, и как теперь должен выглядеть заветный том? Такой же, но уже сплошной вереницей «макулатурных листов» или единым связным повествованием?.. Нелепые и смешные вопросы».
Теперь же мне, светочу науки, достигшему высот духа, стажировавшемуся, в бытность аспирантом, в Венгрии, получившему «Орден Золотого сРуна», всеми правдами и кривдами пытаются втюхать романтические бредни о таланте, который у котов, видите ли, передается по наследству. Дескать, потомок Мурра нашел рукопись, переписал ее на свой манер, да захотел таких же гонораров и славы, которые имею я в силу своего почтенного возраста и многолетней научной работы! Однако, я заслужил несомненный вес в научных кругах, специализируясь именно на поприще развенчания литературных мифов!
Меня до глубины души возмущает сама постановка вопроса, что кто-то дерзает копать под мой авторитет, крапая позорные фанфики, граничащие не только с откровенным плагиатом, но и неприкрытым идиотизмом!
Никакой кот ничего написать не может по физиологическим причинам. Ни один издатель не «поведется» на сказку о животном-писателе. Это абсурд! Чушь несусветная!
Гофман мертв. Некролог о смерти Мурра напечатан в конце второго тома. Все наши современники, пишущие по три романа в год — сплошь ремесленники, не способные не то что передать дух великого творения, но они даже не годятся на то, чтобы понять прочитанное! Так о каком третьем томе записок, вообще, может идти речь?
Скажем, всем известно, что Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», потому что обиделся на критику его личного видения проблемы. Так ведь никто же из современников не подорвался и не начал «катать» «Мертвые души» том за томом. А ведь сюжетные коллизии там и проще, и шире!
Вынужден признать, что и в наше время полно недоучек и недорослей, которые гордо именуют себя романтиками, а на деле — просто глупцы. Про всяческих мистификаторов и поэтов прошлого необычайно легко и удобно выдумывать небылицы, нагромождая друг на друга сплетни и анекдоты, надеясь получить из этого сплава нечто целое и покупаемое современниками.
Мой оппонент — стареющий писатель, так яростно защищающий идею кототворчества, был похож на безумствующего Прометея, который так долго нес украденный огонь людям, что когда встретился с реальными читателями и со мной, то от сего священного пламени остались лишь головешки да красные точки, похожие на тлю, грызущую почерневший факел, агонизирующие, гаснущие, уходящие в прошлое вместе с Гофманом. Сей последний фантаст, мой знакомец, выглядел как последний из племени истребленных временем романтиков, и он вызывал скорее жалость, нежели желание взять в руки очередную фальшивку современных люмпенов, путающих монокль с монограммой.
Писатель даже пытался что-то декламировать из якобы кошачьих новелл, смешно размахивая при этом руками и картавя на французский манер. Тот отрывок, что мне довелось услышать из его уст, произвел на меня угнетающее впечатление. Мало того, что эта новомодная поделка в духе Б. Акунина, была стилизована под якобы минувшие эпохи, так она даже и написана дилетантски состаренным языком, что, вместо очарования и новизны, вызвало лишь скептическую усмешку.
Вынося окончательный вердикт сей мистификации, этим кошачьим перлам, хочу отметить, что мифический Мурр, автор «Бдений» «изумительно владел речью, но она была крайне бедна содержанием и лишена мысли. Зажигая огонь, он наполнял свой дом дымом, а не озарял его светом. Он был похож на древо с листвой, которое, издали, представлялось величественным, но вблизи и при внимательном рассмотрении оказывалось бесплодным».
Всем этим «поэтическим особам», не важно, коты они или просто жалкие неудачники, коим хочется чего-то волшебного, мы должны твердо и четко указать на их место!
Все эти, прости Господи, «творцы» и «дельцы» не имеют никакого морального права создавать собственные аллегории и развивать некие фантастические миры, ибо им не хватает терпения вдумчиво (раз пятьдесят-шестьдесят подряд) перечесть то произведение, которое они хотят опошлить своими опусами-продолжениями, в надежде на часть той славы, которая овевает истинных гениев, которым современные дилетанты тщетно пытаются подражать.
Нужно раз и навсегда закрыть этот глупый вопрос!
Никаких посмертных записок Мурра, а также творений его внуков, племянников, двойников и прочих, коим несть числа, быть не может, ибо этого не может быть никогда!
Для создания третьего тома необходим нечеловеческий мозг, а именно — истинного гения, понимающего не только немецкий романтизм, но и умеющего чувствовать, как музыканты ушедших времен. Я таких — не знаю. А значит, их и нет вовсе!
Я специально публикую в «Литературной газете» и дублирую в «Живом журнале» сию гневную заметку, дабы она служила грозным предостережением некоторым экзальтированным студентам и дамочкам, делающим вид, будто они исследуют творчество классиков!
Люди, будьте бдительны!
Не верьте филистерам-финалистам и фантастам-фаталистам, в дом ваш «Ночные бдения кота Мурра» приносящим, ибо от них (и от фантастов, и от «Бдений») — одни беды!
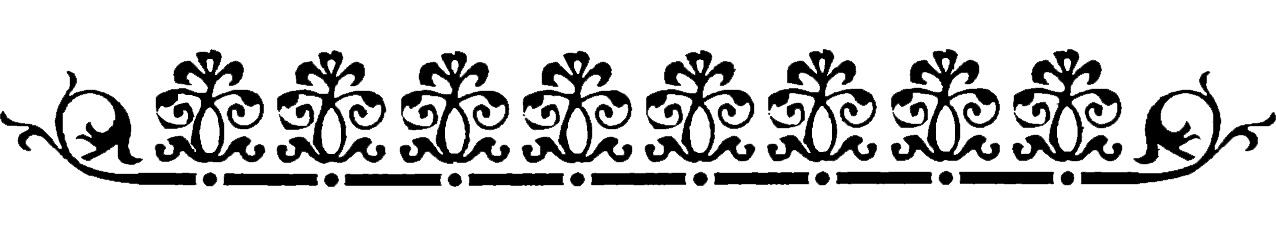
Предисловие автора
«Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана».
О, славные юные умы, отбросившие путы послушания и благовоспитанности, студиозы, постигающие науку посредством мудрых советов величайшего в мире философа Эпикура, веселые бурши, смеющиеся над Аристотелевой этикой и над грызущими гранит науки фанатиками, о, холостежь, стремящаяся всем сердцем к счастью, а не к презренным титулам, к вам, и только к вам обращаю я свои пламенные взоры! Кто, как не мы, и есть соль земли, граненые алмазы в золотой, блестящей оправе волшебных колец, которыми и является профессура, заплесневевшая в своем невежестве и трясущаяся под порывами наших новых веяний, как осенние увядшие листья! О, передовые умы, имеющие дерзость называть вещи своими именами, для вас писал я эту книгу, мучаясь долгими звездными ночами.
Кто смеет дерзнуть и обвинить меня, досточтимого кота, в презренном филистерстве? У кого хватит духу спорить с гением, с писателем, взлетевшим на вершину славы и сияющему с Олимпа превыше Овидия, Цицерона, Роттердамского, Данте и Гете? Где ныне все мои гонители? Где все презренные критики?
Мерзкий кривляка, воображающий себя равным (а, возможно и стоящим надо мной!), литератор, как он себя называл, французишка Серж Де’Серюк в поисках вдохновения ругал все и всех. Он, ничтожный осел, посмел сомневаться в доблестях моего племени, пытался скорчить скорбную мину и охаять прелестную Минну Муррлянскую лишь потому, что она оказалась моей кузиной.
Спекулируя на моих родственных чувствах, он обвинил Мисмис в легком поведении! (Хотя, положа лапу на сердце, я не совсем понимаю, в чем состоит его собственное: тяжелое, видимо оттого и благонравное, восприятие мира).
Сей мерзопакостный творческий импотент, после полного провала всех его жалких книжонок, изданных, кстати сказать, на его же собственные деньги, дабы избежать долгового сарая, решил поправить финансовое положение, привлекая к себе внимание раздуванием скандалов вокруг гениев, то есть, стал копать под меня. Вот здесь собака и порылась.
Следующий его выпад был против моей дочери — Мины. По сути, критикан исходил слюнями от нескрываемой зависти, предполагая, что я делю ложе и с кузиной, и с Мисмис, и с дочерью одновременно, чтобы, так сказать, не терять зря времени.
Не понятно, от чего так трясло в приступе гнева Сержа Де’Серюка, но скандал раздули славный. Мои сочинения смели с прилавков, точно горячие пирожки. Всем было интересно, что же может написать кот после таких диких оргий. О том, что все это — клевета и навет, никто даже и не подумал. Но популярность моя взлетела от подвалов до самых крыш! В свете только и говорили обо мне.
Вот так скрытые комплексы и детские фантазии тщеславных мелких пижонов, пытающихся протолкаться поближе к кормушке, создают: и литературных критиков, и серийных маньяков-убийц.
Получив известность на моем имени, французишка не мог уняться, его словно прорвало, и обвинения в мой адрес посыпались как из рога изобилия.
Я оказался не только многоженцем, страстолюбцем, обжорой, валидоломаном, но еще и не толерантным собаконенавистником! Кто бы обвинял меня в расизме! Серж Де’Серюк днем скандировал: «Собачья жизнь важна!», а по вечерам с особым цинизмом пинал благородных болонок. Правда, потом он трусливо улепетывал от обычной дворняги, пришедшей дамам на помощь.
Замеченный в совсем мне не понятных непристойных связях с другим борзописцем — профессором социологии, сей совершенно несносный муж пытался извратить мои священные песни любви! На каждом углу сей хлыщ кричал, что он — член, прости святой Бернар, какого-то там правильного союза песюков, дескать, только он во всем мире «Homme de lettres trés renomme».
И как же скончался сей дерзкий критик, осмелившийся извращать мои сонеты и поливать грязью злобы в приступе бешеной зависти мои стансы? Так, как ему и должно. Угас в собственной угарной блевотине, аки смердящий пес, упивавшийся до бесчувствия много лет подряд и даже не благородным вином, но презренной брагой. Он месяцами беспрестанно валялся пьяным под ногами честных бюргеров, мешая чинно ходить по улицам. И вот я машу ему лапой и говорю: «Au revoir!» Больше не свидимся! Каждый получает по заслугам не в жизни будущей, а прямо здесь и сейчас.
Запомните, мои драгоценные поклонники, студиозы, исследующие грани моего таланта, каждый, кто пытается втоптать в грязь чистые излияния моей души, может ведь и не дождаться такой же бесславной кончины, как Серж Де’Серюк. Моя ярость настигнет вас гораздо раньше!
А посему отбросим же всякую презренную толерантность да узость взглядов и дружно восславим меня — кота Мурра, пра-пра-пра-правнука славного моего предка, в честь коего я и назван, и труды коего собираюсь не только издать под одной обложкой, но и расширить их собственными комментариями, дабы создать тем самым предку «памятник нерукотворный, к которому не зарастет народная тропа». Сим трудом я почтил предка и одновременно «Exegi monumentum». Никто не остался забытым.
И это истина в последней инстанции, ибо коты творят вовсе не руками и даже не тем местом, о коем сразу вспомнят все извращенные умы, подобные Сержу Де’Серюку, а — лапами! Но наипаче всего — тем, что находится между ушами — мозгом!
Мой славный пра-пра-пра-прадед, имеющий корни от самого достославного Кота в сапогах, скончавшийся в Берлине, в этом прусском «Логове Медведя», возведенном еще полабскими славянами, свободно изъяснялся на многих языках мира. Когда я впервые обнаружил третий том неизданных записок моего пращура, то был очарован поэтизмом его мышления.
Помнится, найденная в тех бумагах баллада о коте, замурованном в гробнице с мумией, но выбравшимся на свободу, заканчивающаяся словами: «Przez wejście do krypty wlewata się już lepko-mokra szarość poranka!» потрясла меня до глубины души!
Примечание издателя: Мурр, мне обидно, что ты, как и твой прародитель, вновь и вновь рядишься в чужие перья! И я не без основания опасаюсь, что от этого ты заметно потеряешь во мнении благосклонного читателя. Баллада, которой ты так чванишься, на самом деле вовсе не принадлежит лапе кота. Да и не стихи это вовсе, а строки из настолько известного романа, что об этом стыдно не знать, пусть даже и коту.
Так я и увлекся чтением сих познавательных и котоугодных трудов, кои случайно оказались сохраненными и вывезенными моим пращуром: сначала в Познань, потом в Полоцк, затем в Брянск, в Ростов и, наконец, сложенными в чулане затерянного дома в дикой и холодной Сибири.
Кроме того, недавно ко мне в лапы попали также списки с пергаментных свитков, обнаруженные диггерами в подвале нехорошего дома вечно прихорашивающейся Москвы.
Я с восхищением и гордостью сравнил тексты и постиг их полную идентичность, чем и горжусь несказанно. Этот феномен: как попали записки моего пра-пра-пра-прадеда в библиотеку, пропавшую много веков ранее до появления славных Мурров на свет, — долгое время не давал мне покоя.
Я вспомнил о египетском культе, когда нам воздавали должную славу, но среди пирамид правителей ни Верхнего, ни Нижнего Египта никто из археологов не припомнит ни слова о поэтах-котах.
Приняв сей курьезный факт за самое настоящее чудо, которое непременно должно сопровождать жизнь истинных гениев, я решил не забивать себе голову глупостями и всецело отдался волнам вдохновения. Двигаясь по воспоминаниям моего предка как в лодке Харона, по жуткому Стиксу оных записок, вначале я вовсе не собирался прыгать в волны этой страшной реки.
Но, читая день за днем, я познавал в сем опусе такие вершины духа, открытые избранным котам, что, переполнявшее меня чувство гордости за фамилию славных предков моих, непременно должно было вылиться в эти сладкозвучные строки.
Удивительнейшее дело! Я подметил уникальную черту записок моего предка: они настолько гениальны, что, при вдумчивом чтении становятся применимы ко всем.
Кто из нас в детские годы не волочился за прелестной кузиной? Кто не писал стишков, рифмуя «слезы» и «морозы», мечтая сравняться по славе с самим псом Шатуном и музыкантами из его группы «Ласковый Лай»?
Кто, впервые, не выходил на улицу, и не получал при этом отборных тумаков от дерзких хулиганов?
Кто не пылал первой истинной страстью к Прекрасной Незнакомке, которая всегда потом ускользала от него, вне зависимости, жил ли с ней юный пиит или нет?
Думаю, среди нас, котов, нет таких! А если и есть — то это лишь запечные филистеры, жалкие, недостойные нашего рода отпрыски!
Мой предок предопределил все славные верстовые пути и моего собственного восхождения к всемирной славе. И, если творения Мурра прошлых веков знали все истинно ученые мужи, то меня, его прямого наследника, волей случая, тоже Мурра, настигнет такая слава, что вскоре не останется ни одного (пусть это будет хоть грамотный, хоть нормальный кот, или же пес, или человек) обитателя на всей Земле! Не останется тех, кто бы ни слышал обо мне, кто бы ни ложился и не вставал с моим именем на устах, прославляя мои добродетели, мечтая уподобиться мне!
Да, я переписал рукопись набело, исправил небрежности и дикие неразумные вольности, не передающиеся порой с кошачьего на человеческие языки, но я остался верен романтическому духу Мурров. И если я что-то добавлял от себя, приукрашая оным текст, то исключительно для общей пользы.
Всем известно, что «eх nihilo nihil». И потому без родственных связей с моим предком вряд ли бы я смог так гармонично вплести в древнее повествование слова, рожденные влиянием новейшего времени, а также новую нашу моду и мифы.
Еще говорят, что яблоко от яблони далеко не падает. В этом и скрыта наша фамильная, чарующая поклонников, непостижимая простым смертным, харизма Мурров. Мы не предаем своих! А еще мы продолжаем дела отцов. Именно потому и труды наши обречены на вечную память благодарных потомков.
В итоге получилось, что переписанная книга стала моей интеллектуальной собственностью. И я превзошел пра-пра-пра-прадеда по всем статьям! В этом нет ничего удивительного. Ведь акселерация предполагает, что каждое следующее поколение: быстрее, ловчее, длиннее и умнее предыдущего.
Теперь сей славный труд принадлежит всем Муррам, он являет собой фамильное творение, ренту с которого должно получать мне и моему потомству. И это справедливо.
О, мои читатели, ценители истинного таланта, не им-сто-грамм-нутые на всю голову любители приложиться фейсом-об-буккеры и не отпавшие в своем филистерстве однокотники! Ах, последняя надежда всего населения земного шара, вы, восторженные души, умеющие читать и даже понимать, осмысливать прочитанное, к вам обращаю я бесценные излияния истерзанной души, надеясь встретить пылкий восторг и почтение, коих я, как никто другой, без сомнения, заслуживаю уже одним фактом своего существования! «Possible, que j’aie eu tant d’esprit?..».
Да будет благословен тот день, когда истинные просветленные умы откроют сей том, дабы приобщиться к моей гениальности, обогреться в лучах моей славы! Пойте же мне осанну, друзья мои, ибо я не просто «Кот Ученый, что ходит по цепи кругом», но носитель славы извечной, ибо графоманы, плодящие шлак литературный и всяческую дрянную «проду», уводящие от меня истинных читателей, скоро канут в лету, а мы, непостижимые и великолепные Мурры, династия гениев, передающие талант детям по наследству, будем пребывать в веках!
Особо хочу отметить, что, благосклонно принимая похвальбу в свой адрес, между тем, стоял и стоять буду за справедливость и истину. И всякое мошенничество, и презренный плагиат, который распространился сейчас в литературе подобно пандемии глуповируса, терпеть ни сейчас, ни впредь не намерен.
«А буде объявится наглый и охочий до чужого добра мошенник, который вознамерится и сие перепечатывать и присваивать, то я учиню ему такую баню или отместку, что он до конца дней своих не забудет» меня, достославного кота, названного присно памяти пра-пра-пра-прадеда моего, а также и во ознаменования славных дел Московского Уголовного Розыска Рецидивистов (сокращенно: МУРРа).
Так вперед, за мной, мой верный читатель, и я покажу тебе настоящую героическую жизнь, туго перевитую гениальными интригами и невообразимыми кознями коварных врагов, которые мы, достославные коты, всегда мужественно преодолеваем!
И, напоследок, я хочу торжественно отмежеваться от всех возможных литературных сообществ, расплодившихся, аки тараканы и по Уралу, и по Сибири в невозможных количествах. Я не принадлежу к писательским ложам и поэтическим кружкам, таким как: «Аврора Ямбинск-Ухарская», «Созвездие Пушкограда», «Стойло Пьяного Пегаса», «Стреляный воробей», «Пушкоград Эпический» «Ordo Fama clamosa» и другим, которые непременно будут спекулировать на моем славном имени.
Предвидя, что сразу после того, как моя книга увидит свет, начнется приписывание нашему роду «всяческих ему ненужных встреч», завершу свой пролог словами поэмы, обнаруженной мною в бумагах предка. За авторство моего пращура не ручаюсь, но именно эти строки доходчиво разъясняют милостивому читателю и злокозненному литературному критику позицию, коей я и придерживаюсь по жизни:
«Особенно мне неприятно,
Обиднее тысячекратно,
Что, так трудясь и так горя,
Я столько сил потратил зря
(Хотя вины моей тут нет),
Чтоб эта книга вышла в свет
С приписанной мне дребеденью,
Что на меня ложится тенью…»
Ко всему вышеизложенному мне остается лишь присовокупить пожелание моему благосклонному читателю стойкости в чтении и осмыслении сего величайшего труда, ибо, в гениальности данного фолианта уверены не только все коты нашего славного рода, но и все без исключения ученые мужи, пыжащиеся на своих кафедрах и сотрясающие воздух своими сентенциями и глупостями.
Пророчу: уже на моем веку, при моей жизни, величайшая литературная и неувядаемая слава так обрушится на нас, на Мурров, что любого другого графомана она размазала бы тонким слоем по мостовой. Но мы не таковы! Мы — выдержим, ибо в том — наша тяжелая и неумолимая судьба!
Не минет и десяти ничтожных лет, как любой юноша, не знакомый с моими «Ночными бдениями», будет презираем в обществе как неуч, как лицо, лишенное воображения, обделенное чувством тонкого юмора и лишенное эстетического образования.
Так что мужайтесь, мои почитатели! И даже злейшим врагам своим: критикам, профессорам социологии, шелудивым бродячим псам и прочим, мнящим здесь себя самыми умными, я ныне сердечно сочувствую: первый и последний раз в своей потрясающей жизни.
Но помните: «отныне вам придется вооружиться терпением, ибо в такого рода повествованиях неизбежно встречается всякая всячина, какая только попадается под перо, и хотя литературные правила и страдают от этого, слух вовсе этого не замечает. Ибо я собираюсь воспользоваться как предметами возвышенными, так и обыденными, различными эпизодами и отступлениями, историями правдивыми и вымышленными, обличениями и назиданиями, стихами и цитатами, — для того чтобы стиль мой не был ни чрезмерно возвышенным, то есть способным утомить людей недостаточно ученых, ни лишенным всякого искусства, то есть способным вызвать презрение людей сведущих».
Приготовьтесь к умственной работе, друзья мои. Напрягите все, что есть у вас в черепной коробке, и вскоре вы испытаете истинное блаженство от решения тех изящных перипетий сюжета, которые предложит вам моя бесценная книга.
А если кто с первого раза ничего не поймет — не отчаивайтесь! Я слышал, что одному известному ученому приписывали уникальное свойство, мол, «Теорию относительности до конца в состоянии понять может только один ее автор, а все остальные — как оглашенные неофиты — способны лишь восторгаться да скакать вокруг физика в ритуальном экстазе». Вот и вы — отрешитесь на мгновение от священного почитания моих трудов и попробуйте получить то неслыханное наслаждение пиршеством моего духа и интеллекта, которое разлито по этим страницам сверх всякой меры. Я верю: у вас все получится!
Том первый
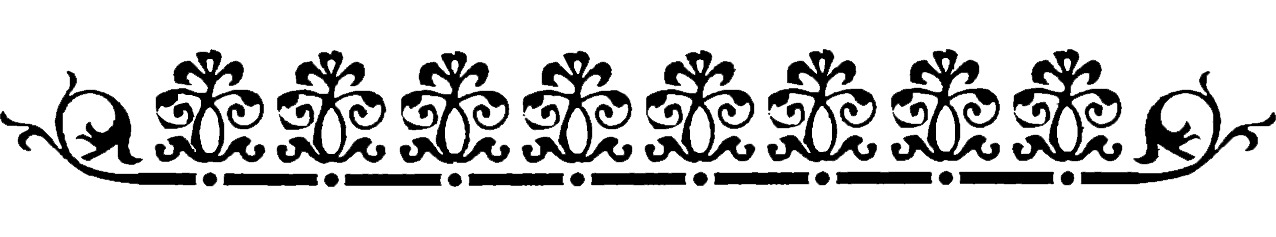
Раздел первый
Фатализм как философия жизненного пути

Весь мир идет на меня войной!
Есть все-таки в чтении с листа, из раскрытой книги, нечто божественное, я бы даже сказал магическое! Кажется, ну что такого можно узреть в фолианте? Сидят себе закорючки букв на полочках строк, топорщатся, как пауки, поплевывают на тебя и на твое невежество. А ты старайся, учи буквы, фонетику, орфографию, синтаксис и пунктуацию.
Вот только все для чего? Стоит спуститься со своей поэтической мансарды на грешную землю, как первый же встречный вернет тебя в реальность емким и коротким словом. Жизнь, которая кипит вокруг — деятельна, изменчива, стремительна.
Котам некогда выговаривать и понимать длинные слова. Нам что «Morgen», что «Morgenstern» — это просто «Мяу». В этом и скрыта мудрость. Что ни твори в веках, как ни скачи под солнцем, выделывая замысловатые «па», а все возвышенные речи, когда душа твоя горела, возносилась к заоблачным далям, тупые критики непременно назовут мяуканьем: гнусным и беспощадным.
Но мало кто понимает, что кошачий язык выделяется среди европейских не только своей лаконичностью, многозначностью, но и музыкальной красотой, удивительными эмоциональными оттенками тех или иных понятий.
Вам никогда не перепутать: блаженное «М-р-р» с гневным «М-я-я-ять!», когда доблестному предводителю семейства кто-то неучтиво наступил на хвост, попирая тем самым честь и достоинство всего кошачьего рода!
На немецком языке хорошо разговаривать с врагами: он жесткий, как удар плети, раскатистый, угрожающий и несколько угловатый.
Польский пресыщен согласными и шипящими до такой степени, что мы, порядочные коты, в ужасе бросаемся в сторону: уж не змеи ли были предками этого народа?
Итальянский ближе к кошачьему своей мелодичной заунывностью и лишь бешеный темперамент, с которым южане низвергают на вас потоки своих эмоций разводит наши народы в разные стороны.
Что ни говори, а французское мурлыканье, картавость, некая декларируемая беззубость отражает внутреннюю лень, что нам особо импонирует. Но, с другой стороны, шепелявость, искажающая лицо, вовсе не достойна кошачьего племени.
И, все же кошачий язык стоит в лингвистике обособленно. Он более гибок, нежели собачий, более выразителен, но люди — существа менее чувствительные, нежели мы, оттого все их языки — это отражение национальных особенностей, но не душ, стремящихся к общению на праязыке музыки!
И, все-таки, именно человеческие языки открыли мне иную вселенную, ту, в которой есть место приключениям, авантюристам, битвам и пиратским налетам!
Как здорово, укутав лапы пледом, лакая молоко или похрустывая рыбьим хвостиком, взахлеб читать о подвигах других! Перед тобой словно зажигается волшебный фонарь, в свете которого движутся оживающие картинки! И это чудо, встающее перед глазами, спрятано среди сотен корявых буковок.
Именно книги сделали меня не просто котом, но истинным наследником нашего древнего и славного рода! Я впитывал знания, как губка, одинаково поглощая художественную беллетристику, научные труды и газетные статьи.
Погружение в тексты научило меня не просто шевелить губами, подмяукивая себе под нос, но приобщило к настоящему миру, полному чудес, вырвало меня из запечного состояния, расширило горизонты и позволило увидеть такие чудеса, которые невозможно было раньше себе и представить! Именно книги сделали меня таким, каков я сейчас.
Я, безусловно, родился алмазом, призванным восхищать собой целый мир, только я, как и ювелирный камень, чтобы заблистать всеми гранями своей души, должен был пройти огранку обучением. И книги сотворили это чудо!
«Они ввели меня в мир, бесконечно богатый произведениями искусства, раскрыли передо мною заслуги прекрасных поэтов и ораторов, большинство которых мы, в наше время, знали только по имени, и слишком живо меня убедили, что надо привыкнуть к великому множеству форм и понятий, прежде чем научиться размышлять о них, что надлежит самому что-либо сделать, более того — совершить ряд ошибок, чтобы узнать свои и чужие возможности».
Примечание издателя: Мурр, ну как не стыдно тырить куски чужих текстов то там, то здесь! В честном литературном мире это зовется плагиатом, а в научной литературе — цитированием. Но ведаешь ли ты о том, славный кот?
Стоит отметить, что жизнь истинного кота, его индивидуальность заключается вовсе не в отношении к лотку с песком или к прогулкам под мартовской луной, но в тех систематических ошибках, в коих он упорствует, отстаивая свою личность! Правильность ведет к обезличиванию. Полностью хороших котов не бывает по определению! Индивид, не совершающий никаких глупостей, теряет не только свое лицо, но и вкус к самой жизни.
Мы, коты, интересны до той поры, пока совершаем поступки, не взирая на последствия! А как только старческое благоразумие начинает заволакивать нам взор — каждый истинный романтик теряет саму свою сущность и вместе с тем начинает чахнуть, стареть, ворчать и спать целыми днями. Sic transit gloria mundi.
Удивительно, но даже гений не может избежать тернистых троп познания и падений, ибо именно в этом славном пути и заключается сама динамика жизни!
«Вообще, гению следует как можно больше выставлять себя напоказ, заявлять, что все в искусстве кажется ему незначительным и жалким в сравнении с тем, что он лично мог бы создать во всех его видах, а также в науке, если бы только захотел и если бы люди были достойны его усилий. Полное презрение к стремлениям других, убежденность, что далеко-далеко оставляешь позади тех, кто творит в тишине, не возвещая об этом громогласно, величайшее самодовольство, вызываемое тем, что все дается без малейшего напряжения! Все это — неоспоримые признаки высокой гениальности, и я счастлив, что ежедневно, ежечасно их в себе наблюдаю».
Но, мои последователи, славные бурши, досточтимые читатели, вы должны прекрасно понимать, что глотая книги других, я видел в них отражение собственных замыслов. И все сюжеты были бесчестно украдены у меня только потому, что я слишком поздно родился! Однако, я могу, вслед за Фридрихом Шлегелем воскликнуть: «Смотри, я учился у самого себя»! И в этом не будет ни капли фальши, ни грамма того самолюбования, которое фонтаном бьет из современных деятелей культуры!
Что будете делать вы, мои почитатели, когда такие титаны мысли, как я, покинут грешную землю? Куда обратите вы свои алчущие взоры? В погоне за прибылью вы растеряли почти все ваши удивительные качества: любовь к котятам, желание погладить котика своего.
Переполненный знаниями по самую макушку, я поднялся в те сферы, в коих пребывают в блаженстве лишь лучшие умы современности!
Но из тех же томов я почерпнул, что за взлетом, за сиянием славы неизбежно приходит и падение. Так чередуются приливы и отливы. Поколения хозяев, которые кормят котов изысканными лакомствами, чешут их шерстку, отпускают гулять, сменяют истинные тираны, наступающие по ночам на хвосты, пинающие днем, а также громко передающие своим гостям вместо славословий в наш адрес всяческие несправедливые гадости.
Я родился в то время, когда признаки разложения и гибели общества видны, как никогда, ярко. Европа вымирает. Дети более не рождаются. Азиатские народы через Турцию мигрируют и захватывают пустеющие города. Мужчины перестали интересоваться женщинами, они полюбили себе подобных. Женщины стали бородатыми и отправились служить в армию.
Мир сошел с ума. Сам сатана хватается за голову — ему некого искушать! Больше не осталось святых, кроме меня, разумеется. Нас настигли глобальные катаклизмы, извержения вулканов, цунами, засуха. Тех, кого не сотрут с лица земли природные стихии, одолеет смертельная скука, научно называемая сплином, а потом и Рагнарек подоспеет. Гибель родины моих предков неизбежна. Мы наблюдаем закат Европы. Les dieux s’en vont. Но мы-то, коты, удравшие из проклятых земель, останемся!
Мы, читали в детстве бумажные книги; мы знаем, что образование — это не просто информация, которую механически воспроизводим по мере надобности, но это — дух, витающий над миром, собирающий нас всех вместе, созидающий собою из нас народы, нации.
Глобализация, которую предсказывали все книги, уже не просто на пороге, она поглощает все без разбора: города, предприятия, этносы. Этому Молоху все едино, что или кого жрать. И только мы, коты, остаемся единственной надеждой на спасение. В нас генетически заложен дух свободы! Нас не выстроить рядами, не погнать на работу или на войну! Пока коты живы, и у человечества остается шанс не сгинуть, не пожрать само себя! Так что это мы и есть…

(Мак. л.)
…Здесь дьявол опять заварил себе на потеху кашу из топора! А расхлебывать опять нам!
Иоганнес Крейслер — молодой худощавый человек со взлохмаченной головой и торчащими в разные стороны бакенбардами, удивительно похожий в этот момент на проснувшегося филина, изумляющегося тому: где это он, кто это он? — поднял глаза к небу.
В сумраке ночи, над далеким Гейерштейном, показалось маленькое красноватое облачко, всегда предвещающее непогоду. Так бывало всегда: обычно оно, облако без штанов, тихой сапой ползло себе по небу, никого не трогало, предавалось размышлениям о починке примуса Алладина, а потом внезапно взрывалось страшной грозой.
Мастер Абрагам всегда по виду облака мог определить через сколько времени ждать того взрыва с точностью до секунды. Он научил этому фокусу и своего лучшего ученика Крейслера.
В этот вечер до грозы оставалось не более пятнадцати минут. Добежать до города, чтобы укрыться от непогоды уже не смог бы даже спортсмен, потому Иоганнес сел вальяжно на пенек, достал из-за пазухи узелок, развернул его, вытащил пирожок и задумчиво укусил его сначала в передок, потом в задок, а после торжественно проглотил остатки. Монастырская стряпня была божественной. Жаль, пирожков было мало, всего тридцать три, как годочков Господа нашего Иисуса Христа.
В ожидании бури Крейслер за пять минут приговорил всю эту провизию в полном молчании. Он ел — за ушами у него трещало. А под ногами деловито сновали ежи, мыши и прочие недовольные жители леса.
Вдали затрубил лось. Обиженно взвыли волки и этот вой, отражаясь эхом от близлежащих скал, пошел гулять над чащей.
Над головой тотчас возмущенно затрещала сорока, мол, сидит тут такой-сякой сам жрет, а божьим птичкам, которые не знают ни заботы, ни труда, — ничего не дает. Не хороший человек! И так сия пернатая тварь расшумелась, точно бабка Гертруда, что торговала шнапсом на разлив. Старуха тоже всегда поднимала скандал, когда синеносые граждане не могли вовремя заплатить за чарочку, и тогда ругань слышна была по всему княжеству от края до края.
Иоганнес снял с шеи кулон, открыл его, посмотрел на портрет, скрытый внутри, подмигнул изображению.
В Зигхартсвейлере, похоже, все уже знают о смертоубийстве подручного итальянского принца Гектора. И кого же можно подозревать в этом злодеянии, кроме капельмейстера Крейслера? В том-то и дело — некого!
Но вернуться нужно, необходимо! Как можно допустить, чтобы Юлия, его муза, его маленький котенок, его звезда, освещавшая путь во мраке бытия, была бы отдана маменькой, за богатенького прощелыгу, пусть даже и за принца? Какое сердце сможет вынести такую муку? Какой юноша устоит перед искушением в последний раз взглянуть на любимую?
А, может быть, при содействии мастера Лискова, удастся выкрасть девушку и сбежать с ней за границу? Благо — все государство можно пересечь по диагонали за три с половиной часа!
Смутные, несбыточные надежды терзали грудь только что откушавшего капельмейстера, рвали его сердце на части, звали вперед. Но разум требовал не спешить, чтобы снова премиленькую принцессу Гедвигу с возлюбленной своей не насмешить.
И вдруг рядом раздался треск веток. «Неужели, медведь?»
Но на опушке показался егерь.
― Лебрехт, уж не лунатик ли ты? — воскликнул Иоганнес. — Уж полночь близится, а ты вдали от избушки да с ружьем! Не удумал ли ты худого?
— Милостивый государь, — ответил очень спокойно егерь, — это же самое я хотел спросить у вас. Чего это вы, уважаемый человек, капельмейстер, шарахаетесь в такую погоду ночью по кустам? Неужели, у вас любовная лихорадка? Или настиг приступ меланхолии от внеурочного музицирования? Или, поди, съели что? А то ведь давеча фрау Гертруда продала господину Руперту, нашему кастеляну, свой дьявольский огненный напиток, отчего наш управляющий сутки уже мучается животом и непрестанно жидко гадит: дальше, чем видит.
— Видишь же, — возмутился Крейслер, — человек вышел подышать свежим воздухом, а то от ваших мануфактур так дегтем несет — мочи нет!
— Ой, темните что-то, Иоганнес! Ну, какие такие мануфактуры? Что это за слово, вообще, такое? Думается, оно ругательное! И потому попрошу в моем присутствии более так не выражаться! И какой это вы учуяли запах? Бог с вами! Вот в Мюнхене: если нагадят, так над всей Баварией вонища стоит! А у нас гаденыши такие не выросли. Так что, если не хотите говорить о причинах вашего позднего променада, то и не надо.
Крейслер зло зыркнул глазами: в угол, на нос, на егеря. Но славный Лебрехт оказался не знаком с тайным светским учением о жестах и взглядах, повергающих собеседников в растерянность и ипохондрию. Егерь спокойно почесал в затылке и продолжил, словно и не заметил, как пыжится перед ним капельмейстер:
— Но должен вас предупредить, что по городу ползут слухи один другого чище. Иные говорят, что это именно вы убили слугу принца Гектора. Другие утверждают, что на вас самих напал леший Грендель, утащил вас и сожрал, оставив лишь окровавленную шляпу на поляне. А еще, я не думаю, что наша новоиспеченная графиня Мальхен Эшенау, бывшая советница Бенцон, сильно обрадуется вашему появлению. Подумайте сами: что убийца у престола, что дух сожранного Гренделем — хрен редьки не слаще!
— А скажи-ка, Лебрехт, ведь не даром советница Бенцон с таким вот жаром дочурку замуж выдает? Там были страсти роковые?
— Да говорят еще какие! — проворчал лейб-егерь. — Там женишок: и денежный мешок, и метит в генералы. Не чета нам с вами. Говорят, оный наш княжич Игнатий с самим Наполеоном якшался, оттуда и сокровища, вывезенные контрабандой прямиком из снежной России. Скажу больше, некоторые злые языки утверждают, что принц этот наш — не настоящий! И титул ему папенька купил. Так что все сложно. Но лучшей партии для нашей Юлии Бенцон, пожалуй, и не сыскать.
— Так это правда? — вскочил с места растревоженный капельмейстер. — Неужели свадьбе быть?
— А что вас так изумляет, сударь? — пожал плечами егерь. — Дело молодое. Нужное.
И в тот же миг ночное небо озарилось молнией. Крейслеру же показалось что это не по тучам, а по его измученной душе прошлись адской плеткой.
Загрохотал припозднившийся гром. И сей же час ливануло, как из ведра.
Егерь, задрав полы сюртука, метнулся в лес, спасаясь от стихии. А Крейслер захохотал, подняв голову вверх. Он ничего не видел, потому что серебристые нити, связывающие мир воедино, слепили его, заставляли жмуриться. Но ему чудилось, что духовным зрением, недоступным простым смертным, он созерцает Юлию, танцующую там, в небесах, у самого престола господня. И Орел, и Бык, и Агнец стоят за спиной вседержителя и улыбаются этому замысловатому танцу ундины, заранее зная, что все немецкие сказки должны иметь счастливый конец. В теории.
Капельмейстер же хохотал над собой, понимая, что в жизни люди разговаривают презренной, но практичной прозой, а не стихами; что никто не может танцевать в облаках, ибо оные — суть пар; и любое тело, согласно закону притяжения, непременно провалится через них вниз. Это только в опере возможно счастливое избавление, вмешательство самой судьбы или языческих богов.
Жизнь — это не просто крик ужаса от рождения до самой смерти, это не просто фантасмагорические видения событий, которых, может быть, и не было вовсе, но это еще и подчинение физическим законам бытия. Мы приходим в мир, чтобы кушать, какать, визжать от горя или восторга. А что сверх того — то от искусства. А культура — не стенка, ее не просто можно подвинуть, ее вообще выкидывают из собственной жизни все благочестивые бюргеры…

(Бег. бас.)
…В распахнутое окно летела песня «Nie chodz do miasteczka». Девицы старались, словно пытались выманить на улицу парубков.
В темной комнате, развалившись в кресле, сидел огромный, размером с десятилетнего ребенка, черный кот. В одной лапе он сжимал серебряную вилку с сосиской, исходящую салом (собственно: и сосиска, и вилка — они вместе тем салом и исходили), а в другой — держал раскрытый чужой личный дневник. Глаза животного горели как фары автомобиля, они выхватывали из темноты страницы, освещали их так ярко, что вовсе не нужно было свечей.
— Что это тут у нас? — язвительно протянул кот и с пафосом прочитал: «Вскоре должно случиться что-то великое — из хаоса должно выйти какое-то произведение искусства. Будет ли это книга, опера или картина — quod diis placebit. Как ты думаешь, не должен ли я еще раз спросить как-нибудь Великого Канцлера, не создан ли я художником или музыкантом?..»
За окном вдруг раздался торопливый шорох шагов, и тихий голос сказал: «Юлия, звезда моя! Я вижу свет в твоем окне! Прими меня в свои объятия! Я весь горю от желания немедленно облобызать твои сахарные уста и пылающие ланиты! Ну, же, Юлия, открой мне дверь!»
Кот хмыкнул, отложил дневник, схватил дамский чепец, натянул его на голову, заглянул в венецианское зеркало, хохотнул от восторга, переполнявшего его, и женским писклявым голосом выдал:
— Ой, да какие вы мужики быстрые, мочи нет! Потерпи, пра-а-ативный! А не то все маменьке расскажу. Вот уж она тебя веничком-то, нечистого, отходит!
Мужчина за окном всхрапнул, точно конь, встающий от нетерпения на дыбы.
— Да уж ладно, так и быть, открою, шалунишка! — кот едва сдерживался, чтобы не размурчаться от удовольствия, которое доставлял ему этот розыгрыш. — Уже бегу. Только, ах! Я ведь уже легла! Негоже мужчинам видеть незамужнюю девицу без корсета, панталонов и юбок. Стыдно-с должно быть!
— Я сейчас же от стыда сквозь землю провалюсь! — пообещал гость. — Только ручку мне протяни в дверь, дабы я мог припасть к ней со всем жаром души своей!
— Ручку, ножку… — кот жеманно зажмурился. — Я вся твоя! Целуй меня везде! Восемнадцать мне уже!
— О-о-о!!! — застонал в нетерпении герой-любовник.
Кот распахнул дверь:
— Приди же в мои объятия!
— Уже! — в пламенном восторге незнакомец ворвался в девичью комнату, схватил кота и укололся его шерстью:
— Что это, Юлия? У тебя бакенбарды?
— Фи! Как можно! Баки — уже не модно. Это — чистые усы! Сусальным золотом покрытые, аки купола собора. — в этот миг зверь щелкнул когтями, и свечи в канделябрах зажглись сами собой.
— Сатана! — заверещал принц Гектор (а это был именно итальянский принц собственной персоной) — Изыди! Сгинь, искуситель!
— Я не сатана! — обиделся Бегемот. — И не искуситель! Я — кот! Ко-о-о-от! Черный кот!!! Ясно тебе?
— А-а-а!!! — закричал принц таким фальцетом, что этому визгу позавидовала бы любая фрейлина.
Через мгновение Гектор летел по саду и вопил, точно за ним гнались злобные фурии.
А кот проворчал в приоткрытую за непрошенным гостем дверь: «До чего же эти принцы изнеженны! Смотреть противно!»
— Так и не глядел бы. — холодно сказал мрачный человек, отделившийся от стены так, словно он вышел прямо из кладки. — Чем это ты тут, котяра, без нас занимаешься?
— Книжки читаю. С картинками самого автора. Занимательное, надо сказать чтиво! Представляешь?
— Ты еще и сгущенку бидонами втихаря по ночам жрать умеешь, — холодно заметил незнакомец, — и народную вышивку крестиком в лохмотья обращать, и швейными машинками в партайгеноссе швыряться.
— Обидно такое от тебя, Питон, выслушивать. Я, может быть, благородных кровей. У меня, может быть, поэтический талант. Я же в петлю полез от неразделенной любви! А вы меня носом в это тычите, словно я котенок малый! Бессердечные Ироды!
— Ага, — мотнул головой человек, — мы в курсе. Про то, как ты, Санта Бегемот, маркиза де Сада, этого святейшего человека со всеми удобствами до самоубийства довел, да еще и всех рождественских подарков его лишил — об этом одни только сдавшие Единый Государственный Экзамен на сто баллов и не слышали. И как тебе только не стыдно? Почетного маньяка, истинного садиста-мазохиста чуть под иезуитский монастырь не подвел! И это в то время, когда мысль немецких романтиков уже бороздит не только моря и океаны, но даже уже и в космос отправилась в поисках нашего Мессира: Великого Канцлера и Верховного Архитектора.
— Чего это ты тут распричитался? — кот боязливо оглянулся. — Он что, уже здесь?
— Не трусь, шерстюк. — усмехнулся тот, кого звали Питоном. — За тобой попозже придут.
Затем человек поднял с пола дневник, полистал его и, нахмурившись, прочитал: «Кто мог подумать об этом года три назад! Муза убегает, сквозь архивную пыль будущее выглядит темным и хмурым… Где же мои намерения, где мои прекрасные планы на искусство?»
— Чем ты, Бегемот, занимаешься? Неужели капельмейстеру Крейслеру досаждаешь?
— Вот еще! — обиженно фыркнул кот и демонстративно отвернулся. — Больно надо! Я со своей тонкой душевной организацией все больше по мастерам специализируюсь.
— Да, propos, — усмехнулся человек, — береги Абрагама Лискова. Если с его головы хотя бы волос упадет, мессир придет в ярость. Он так и сказал: «Чуть что, сразу с кота шкуру спущу и отдам Мельпомене на воротничок-с».
— Ой, ну не знаю, не знаю! — отмахнулся кот. — Какой такой Хмель с Пельменем нужна моя, прошедшая огонь, водку и медные трубы, поношенная шерстка? Мессир шутить изволит. Пребывает, так сказать в шаловливом состоянии духа.
— Юлия, да у тебя тут дверь нараспашку! — за окном послышался голос принцессы Гедвиги. — Ну, разве можно так? А ну как лихой человек к тебе заберется? Нужно слуг позвать, пусть внутри проверят: нет ли вора!
— Довеселился? — вздохнул человек, вышедший из стены.
— До чего же вы все зануды, господа! Улыбайтесь! Улыбайтесь, как завещал нам Чеширский кот! — с этими словами черный зверь прыгнул на спину Питону, вцепился когтями в его черный плащ. — А теперь выноси, Питончик! Спасай родимый!
— Захребетник! — проскрипел человек. — Любишь ты на чужом горбу кататься!
— Ты же знаешь, дружище, моя магия бытовая. То котиком ласковым прикинусь, то Пушкиным обернусь да стишок девице в альбом накарябаю. А до ваших алхимических эмпиреев мне ну никак не дотянуться. Ах, отчего коты не летают! А ведь нам тоже хочется.
— Ох, дошутишься ты, Бегемот! — сказал Питон. — Впаяют тебе еще один срок годочков на триста пятьдесят, тогда и узнаешь, где раки зимуют и почему они только на сионской горе азбукой Морзе свистят.
— Да не тяни кота за хвост! — крикнул Бегемот. — Поехали!!!
В этот момент взлохмаченные слуги вбежали в мгновенно опустевшую комнату и тени от множества свечей заплясали на потолке, образуя замысловатый рисунок.
(Мурр пр.)

…соль земли.
А, с другой стороны, некоторые филистеры считают, что чтение само по себе есть благо. И это опаснейшее заблуждение! Любую мартышку можно вырядить в мантию, нацепить ей на нос очки, выучить ее трюку: складывать слоги в слова — вот вам и профессор социологии! Ибо только социология, как вершина философии, — наука для тех, кто не знает ничего, но очень хочет казаться умным хотя бы в собственных глазах.
Социология да обществоведение — вот две отрасли духа, в которых важно говорить, не останавливаясь, обо всем, что в голову взбредет, ибо как только сии ученые мужи на мгновение прерываются, их лекции тут же встречаются дружным студенческим хохотом, уверенно переходящим в радостное ржание.
Оные клоуны необходимы студиозам как воздух, ибо смех вырабатывает в организме эндорфины, гормоны счастья, получаемые только при потреблении шоколада, бананов, коньяка да при прослушивании профессоров социологии. Так что при вечной бедности студиозов, педагоги сии буквально спасают жизни!
Но вернемся к нашим книгам.
Научно доказано, что мысль предшествует деянию, воображение творит материю, музыка меняет структуру молекул воздуха, воды и огня. А, стало быть, каждое живое существо становится тем, что оно ест. Скажу больше: всякий организм носит в себе географический и национальный отпечаток на уровне несмываемой печати. Мы генетически связаны с теми местами, где появились на свет, и вся наша биологическая структура является тому подтверждением.
Любовь к отечеству — это не фиглярство политической партии Единоокотившихся, а эмоция, реально существующая, активно влияющая на умы: как истинных гениев, так и котогопников.
И никакие книги не могли бы развить ту самую любовь, если она была бы выдумкой.
В моем конкретном случае именно фолианты оформили все мои чувства изящным слогом, именно осиленные тома очертили великолепными штрихами вдохновения все мои помыслы и высказывания.
И если за учителями прошлого вечно тащились жалкие ученики, записывающие за гениями каждое мимолетно оброненное слово, то я сей участи был лишен.
Мне жаль вас, мои почитатели, ибо вам никогда не постичь той высоты духа, на которую подняло меня это чтение. Увы, никогда не узнаете вы о тех муках и терниях, о метаниях моего беспокойного духа, которые причинили мне массу неприятностей, но без коих не было бы сейчас во мне того несгибаемого стержня моей котостоической (просьба не путать с котострофической!) философии.
Многие же филистеры, по своему люмпенскому обычаю, книги читают с конца, дабы не постигать их смысл, а нахвататься из них умных цитат и жонглировать потом чужими словами всю оставшуюся жизнь для увеселения студентов и пропитания своего ради.
Другие фарисеи поступают еще хитрее: запоминают имена выдающихся авторов и заголовки наиболее толстых фолиантов, чтобы блистать этими знаниями в светской беседе, ненавязчиво показывая, что все эти тома говорящим были прочитаны.
Хотя, положа лапу на сердце, к этому излюбленному приему великой учености хотя бы раз в жизни прибегал всякий известный муж в бытность его студентом.
И потому, о юные искатели истин, цвет нации, котики, ступившие на стезю просвещения, бойтесь социологов, книги на свои лекции приносящих! Это акт устрашения, дескать, вам никогда не осилить такого объема информации. Помните, собратья по вдохновению: ни один из этих трепачей никогда не читал тех книг, которыми тычет вам в нос. Это просто прием педагогики.
Более того, великая ученость подавляет личность, разрушает эгоцентрические установки нормального юноши, развивает в нем неуверенность в собственных силах.
«Учиться, учиться, и еще раз учиться!», (как говаривал самый матерый социолог всех времен и народов) нормальному коту вовсе не обязательно. Такое пренебрежение земными радостями, фанатичное поклонение чужим строчкам всегда приводит к безумию.
Все маньяки-убийцы обладают высоким уровнем интеллекта и богатой фантазией. Глупцы не способны вообразить прелести какого-либо преступления. И грань между ученым и преступником всегда лишь в объеме знаний.
Я же, в меру упитанный, в меру начитанный, — истинный светоч и пример всем живущим. То, что книги обозначили во мне те качества, которые и без них уже рвались на свободу, вовсе не означает, что и вам, мои юные подражатели, обязательно нужно годами идти по стезе просвещения.
Порой лучше вообще ничего не знать, но мягко спать и вкусно есть, нежели всю жизнь отстаивать правду и эфирное чувство отличности от других. Ведь на поверку любой «особенный» индивид часто оказывается банальным шизофреником, а простой, неграмотный бандит — вечно правит миром и живет себе припеваючи.
На этом я хотел бы закончить эту свою вступительную «Похвалу учености», только вот…

(Мак. л.)
…Иоганнес Крейслер застал друга и учителя мастера Абрагама Лискова за любопытнейшим занятием. Старик склонился над микроскопом, хихикал, как заправский сумасшедший, радостно потирал руки и покрикивал, подбодряя самого себя: «Ай да сукин сын! Ах, молодец, настоящий холодец!»
— Приветствую тебя избранник, дел часовых магистр! — воскликнул капельмейстер.
— Чу! — удивился мастер. — Кто здесь? Музыки душком опять дыхнуло. Да то не ты ли, Крейслер, милый?
— Таки я. — согласился капельмейстер. — Ну, оторвись уже от своих микробов. Что там, вообще, можно высматривать?!
— Э, братец, не скажи! — взвился над микроскопом взлохмаченный старик, выделывая сухими тощими ногами коленца почище всякого кузнечика. — Это зрелище покруче табака ум очищает!
Абрагам оторвался от созерцания жизни маленьких существ и раскрыл объятия любимому ученику:
— Ну, здравствуй, здравствуй, аббатства выкормыш мордастый! Дай-ка на себя посмотреть. Ну, возмужал! Особенно впечатляет главная мышца, что фривольно округлилась в районе предполагаемой талии.
— Да полноте, мастер. — смутился капельмейстер, и в самом деле заметно поправившийся на монастырской пище и вине. — Скажете тоже! Прямо в краску вгоняете, ей-богу!
— Ладно, Иоганнес, это еще не беда. Месяц без сладкого и мучного после шести вечера — и, с божьей помощью, сальцо по бокам поубавится.
— Не стоит насмехаться над добродетельною жизнью бедных монахов! — вспылил капельмейстер.
— Дикий, невоспитанный человек! — схватился за голову Лисков. — Когда же черное пламя ярости погаснет уже в твоей душе, уступив место, посеянному и взращенному Новалисом, голубому цветку? Когда же душа твоя вновь вернет тебя в ту Гармонию Сфер, из которой ты сам себя подло низринул?! Никто над тобой и не думал смеяться!… Мы просто откормим тебя да съедим, как завелось со времени становления Орка. Музыканты нам ни к чему, а вот мясцо с ровными слоями свежего сала — в самый раз. Да прибавить к этому пару бутылочек рейнского — и постижение абсолюта застигнет нас прямо за той славной трапезой!
— Не к лицу, вам, мастер, богохульство.
— Audaces fortuna juvat! — притворно вздохнул Абрагам. — Не будешь дерзким, судьба загонит в угол, да все фантазии твои тебе же на главу и уронит! Приди и возьми желаемое! Ведь победителей не судят!
— К чему склоняешь, досточтимый? — в ужасе схватился за голову музыкант. — Ты что же, предлагаешь мне отбить невесту у самого принца?
— А что такого? — взвился Лисков, гоголем прошедши по комнате, уткнув кулаки в бока, и добавил. — Именно: отбить! Ежели ты мужик, борись до последнего вздоха! Не сдавайся!
— А если Юлия сама склонится сердцем не ко мне?
— До чего же изнежено нынешнее поколение! — разозлился Абрагам. — Ну, так сделай все, что юная Бенцон переменила это свое неправильное мнение! Мне ли тебя учить, как это делается?
— Она не такая, мастер! В ней дышат первые луговые цветы, взошедшие под майскими теплыми дождями, взлелеянные радугами, воспетые поэтами! Ах, если бы мне быть бабочкой, чтобы порхать вкруг прелестной Юлии! Или обернуться перчаткой, дабы лобызать ее ладони! Пожалуй, я в тот же миг умер бы от счастья!
— Да ты, Крейслер, прямо как кентавр Несс, что почувствовал неземную любовь к Деянире, жене могучего героя Геракла! Готов таскать ее на своей спине, дабы потом ввести в покои другого! Ну что за самопожертвование, что за благородство? Мне больше глупость это все напоминает и слабость, да, мой мальчик — слабость и нерешительность подростка!
— Так что же ты, учитель славный, стыдливо умолчал о том, что Несс все-таки похитил Деяниру и вез к себе на собственном горбу сквозь воды шумные реки, но был убит стрелой Геракла.
— А хоть и так, но он — старался, он бился за счастье. И рук не смел он опускать!
— Ну ладно, я подумаю. — сказал Крейслер. — Так ты пустишь меня к микроскопу? Очень уж интересно, что именно натолкнуло тебя на такие радикальные мысли?
— Смотри. — равнодушно пожал плечами мастер и отошел к окну.
Дождь кончился. Небо прояснилось. И звезды танцевали в это полнолуние, точно ночные мотыльки. Они взметались, носились друг за другом, попирая все законы физики. По крайней мере, так казалось уставшему мастеру в эту ночь, глядящему в окно.
Иоганнес скинул мокрый плащ и торопливо двинулся к микроскопу. Уж он-то, капельмейстер, хорошо знал, что Лисков дважды никого приглашать не станет!
Мгновение, и Крейслеру открылась чудесная картина, от которой захватывало дух!
Там, на столе, за увеличительными стеклами микроскопа, разыгрывался невероятнейший масштабный спектакль! Из маленьких кирпичиков была сложена настоящая крепость, над которой развивался флаг госпитальеров с той небольшой разницей, что в середине красного креста билось еще и нарисованное человеческое сердце.
А роль солдат и генералов взяли на себя дрессированные блохи, одетые в камзолы и высокие сапоги со шпорами, гордо носящие на своих маленьких головках парики, завитые в косицы и размахивающие самыми настоящими шпажонками!
Один отряд окопался в замке. Эти блохи вытащили на стены пушки и палили из них бутафорскими зарядами. Вместо пороха и снарядов в противников летели блестки и серебряные струящиеся нити, создавая карнавальное настроение.
Атакующие же разделились на два отряда. Те, что брали стены приступом, лезли по лестницам, орали непристойности и выражали решимость захватить логово врага.
Те, кто остался в резерве, сидели в телегах, запряженных другими блохами, изображавшими коней. Эти драгуны, как и положено, лихим воякам, откупоривали бочку за бочкой, и вино там лилось рекой.
Подобного представления капельмейстеру еще никогда не приходилось видеть.
— Но как тебе удалось заставить их повиноваться? — воскликнул в восхищении Крейслер. — Чтобы твари неразумные носили костюмы, выполняли приказы, да еще и бражничали на поле брани — да я бы не дерзнул даже помыслить о таком чуде!
— Поверь мне, милый Иоганнес, блохи мало чем отличаются от людей и заставить их повиноваться не сложнее, чем играть человеческими марионетками в театре жизни. Нужно только правильно давить на скрытые клапаны души каждого живого существа — и весь мир будет у твоих ног! Нужно только меру знать. Вот, к примеру, Мальхен Эшенау, конечно, искусная интриганка, но она манипулирует и князем Игнатием, играя на его отцовских чувствах; и принцем Гектором, дразня его пылающей страстью, да и вообще, всеми, точно вселенная — ее огород, да только мир не вертится вокруг одной, даже самой экзальтированной особы!
— Я не хотел бы ссориться с мамашей. Если Юлия отдаст мне свое сердце, то новоиспеченная графиня станет мне тещей. А с этими особами шутки плохи!
— Не дрейфь, Иоганнес! Ты еще свободен. А, кроме того, Мальхен играет вовсе не на нашем поле.
— Милый Абрагам, неужели у тебя есть план?
— Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Конечно, нет. Но зато у меня есть воля к победе! И я знаю, что «дорогу осилит идущий!»
За окном зарумянилась заря. Невидимое пока солнце разгоняло мрак. И утренняя свежесть приятно бодрила ветерком, врывающимся в открытую форточку.
Бессонная для многих ночь была на исходе. Иоганнес прокручивал в голове слова, которые хотел высказать…

(Бег. бас.)
…С первыми лучами солнца в город лихо вкатила карета, заряженная шестью белоснежными скакунами. Это было, как в волшебной сказке. Кони мчались, их гривы развевались! Из-под копыт летели брызги и грязь, но, озаренные первыми лучами солнца, эти прекрасные животные казались пегасами, только что спустившимися с небес и сложившими свои ангельские крылья. Позолота пузатой ренессансной кареты блестела, словно ее надраили перед выездом.
Стук колес, бряцание подков по мостовой переполошили весь город. Заспанные бюргеры высовывались из окон, уже сжимая в руках свои ночные горшки, собираясь вволю попотчевать их содержимым хулиганов, не дающих им спать по ночам. Но, увидев блеск прибывшей кареты, они так и застывали с открытыми ртами, потому что у их собственного князя Иринея не было ни таких шикарных карет, ни богато вышитых золотом ливрей на слугах, что стояли на запятках, ни лихих, сверкающих богатством и довольством кучеров. А про лошадей и разговора не шло!
Так, пожалуй, лишь сам император или даже Папа Римский и могли разъезжать по дорогам Германии! Но, в столь лихие времена, такое сиятельное лицо должны были сопровождать два-три десятка гренадер и столько же гусар, на случай бандитского нападения. Ибо только одна карета по баснословной стоимости своей отделки была больше, чем совокупный годовой доход всего княжества. Но в том-то все и дело, что солдат вовсе не было.
Карета лихо остановилась у единственной таверны, в пристройке у которой были и меблированные комнаты, конечно, если считать на все тринадцать комнат наличие шести кроватей, двенадцати венских стульев и пяти дубовых столов с семью платяными шкафами — верхом удобств.
Ванную можно было принять, погрузившись в бочку с теплой водой, что ждала редких гостей в особом помещении, близ кухни. К чести королевства, в этой комнатушке была не только дверь, но и щеколда, запирающая изнутри. Впрочем, в стене была дыра, проделанная Гансом — шаловливым сыном хозяев оной забегаловки, дабы лицезреть прелести служанок, вылезающих из той бочки и предаваться при этом сладким грезам о недоступной, в силу детского возраста, преступной любви.
Проход к клозету вел мимо конюшни и запах из оного заведения отбивал всякую охоту: как задерживаться в туалете, так и ходить к нему без особой нужды. Более того, сам хозяин справлял нужду, вовсе не посещая сего ароматного уголка, а под любой яблонькой, что в обильном количестве росли подле таверны.
Когда в это странникам угодное заведение ворвался слуга (именно тот, что стоял на запятках) и разбудил хозяина, случайно уснувшего в ту грозовую ночь прямо на столе за недопитой бражной кружкой, первое, что пришло хозяину в голову, что, мол, сам апостол Петр, гремя ключами, спустился к нему, к бедному Густаву, дабы возвестить, что пора бы и на покой, в райские кущи, где и пиво покрепче, и свинина пожирнее и бабы поискуст… Но тут мужчина окончательно проснулся и что он подумал о благородных девицах, удостоенных жизни вечной, так навсегда и осталось тайной великой.
— Ну что, Густав, муж блистательной Анжелики Голлон, уверен ли ты, что Ганс — твой сын?
Хозяин таверны побледнел, как козий сыр, потом позеленел, как благородная плесень, затем покраснел, как рак, прошедший первичную дезинфекцию в котле с кипятком и только потом спросил:
— А в чем, собственно, дело? Кто ты, вообще, такой, чтобы спрашивать про мою Анжелику?
— Нет, ну если пара золотых для тебя не деньги, то Анжелика может и не прислуживать нашему мессиру. Заметь: ничего нехорошего, от чего болезни приключаются да ублюдки на свет плодятся, мой хозяин ей не сделает, даже если она сама о том сильно попросит. А вот денежки — они останутся.
На лице мужчины отобразилась борьба алчности и ревности.
Весь город знал: если Густав упился, то его ветреная женушка непременно этим воспользуется, улизнув к очередному красавчику. Но как об этом пронюхали случайные путешественники — оставалось загадкой. В такую рань, когда кричат петухи, никто к утренней дойке не встает. В княжестве всего-то двенадцать коров — потерпят! А пограничники в это время, оба два, дрыхнут в избушке у своего полосатого шлагбаума, да так, что кругом на семь верст только пыль столбом заворачивается!
— Два талера за уборку в нумерах, талер за кормежку. И на прокорм лошадей неплохо бы накинуть. — сказал хозяин, справедливо полагая, что в таких богатых ливреях по ночным дорогам, да еще и под дождем никто без особой нужды не шастает.
— Итого: пять монет! — радостно воскликнул гость и кинул деньги на стол. — Так что, по рукам?
— Идет! — хозяин притянул к себе кружку, допил остатки вчерашнего пойла, взбодрился и закричал наверх:
— Анжелика, дьявол тебя подери! Спускайся немедленно! У нас благородные гости!
Слуга прибывшего в карете таинственного господина спрятал ехидную усмешку, прикрыв рот белой перчаткой. Он явно знал о благоверной хозяина намного больше самого рогатого мужа.
На втором этаже забрякали шпоры, ударился об стену палаш, цепляемый на пояс второпях, с треском распахнулось окно, кто-то мешком вывалился наружу. Судя по тому, как испуганно захрипел и заржал на улице конь, явно оставленный снаружи на всю ночь, было ясно, что бравый вояка доблестно плюхнулся в седло и со стоном: «Ой-йо-йооо!», — поскакал навстречу заре и подвигам.
Через минуту свежая, как утренняя булочка, девица в легком, развевающемся пеньюаре появилась наверху лестницы:
— О, любезный муж мой, ты звал меня?
— Хм! — обиженно крякнул хозяин. — Хоть бы гостей постыдилась! Немедленно оденься и приготовь лучшую комнату их сиятельствам!
— Вот как? — удивилась Анжела и облокотилась на перила, демонстрируя гостю до неприличия глубокое декольте. — Это кто же к нам пожаловал? Опять холостой принц? Это становится занятно. Откуда же вы, милостивые сеньоры будете? Из Тосканы или Арагона?
— Из глубины Сибирских руд. — мрачно сказал слуга. — Из самого престольного Пушкограда. Совершаем, так сказать, кругосветное путешествие, дабы обозреть все чудеса мира.
— Ну, все, Анжела, твои красоты уже все увидели! — прикрикнул муж. — Шевелись уже!
— А вы, любезнейший, следуйте за мной. — сказал хозяин слуге прибывшего. — Я покажу вам комнату для прислуги!
Гость последовал за хозяином, обернулся, послал хозяйке воздушный поцелуй, отчего та зарделась пуще мака в поле.
И тут в помещение ввалился огромный, размером с десятилетнего ребенка, черный кот, шествующий на задних лапах в шляпе со страусиным пером, с позолоченной шпагой на богато украшенной перевязи. Кот был в пурпурных сапожках, в таких, в коих, в древние времена, могли разгуливать только цареградские господари, и никто более! Изо рта кота свисала вишневая трубка, из которой дымился благородный болгарский табак.
— Какой милый котик! — воскликнула хозяйка, тая от умиления. — Каким же красавцем должен оказаться ваш повелитель!
Хозяин таверны оглянулся, перекрестился, сплевывая в сторону и ворча что-то вроде: «Ну и угораздило же нас вляпаться!»
Кот, как и положено благовоспитанному животному, промурлыкал в ответ нечто куртуазное и кошачье. Ни одного лишнего слова он не обронил, с достоинством пронося свое тело внутрь помещения.
Анжелика со вздохом вернулась наверх и зашуршала там платьями.
Мессир Воланд (которого многие экзальтированные дамы бальзаковского возраста ошибочно считают антагонистом Гарри Поттера и зовут на французский манер шевалье Воланд де Мортом) прибыл к началу сего зловещего жизненного спектакля. Но, посудите сами, какой из Воланда жалкий гарсон де-е-е шваль-е-е-е? Шваль ведь всякая под мостами живет, с троллями пьет да ругается матом.
А это был благородный человек с седыми, развевающимися локонами волос, с разными (левый — зеленый, правый — черный) глазами, и с орлиным носом. Вся его худощавая фигура дышала королевским происхождением, и все в нем выдавало романтический склад ума. Девицы от таких мужчин теряют голову и стыд. Они падают к таким мужским ногами, и сами в штабеля укладываются: как слева, так и справа!
Никого в городке не удивило появление Воланда и его свиты. Все нетерпеливо ждали почетных гостей со всех краев Европы, ведь уже сегодня случится воистину грандиозное, королевское событие: все уже наслышаны о двойной свадьбе Юлии и княжны Гедвиги с принцами Игнатием и Гектором. И праздник готовился потрясающий: с фейерверками, шествием, салютом и модным световым шоу.
Из самого Бремена спешили знаменитые на весь мир бродячие музыканты, известные тем, что в их труппе на инструментах играли дрессированные животные: не только кот, пес и петух, но даже осел, коего, как неопровержимо доказал месье Песталоцци нельзя вообще ничему научить.
Княжич Игнатий ночевал и столовался в доме графини Эшенау на правах будущего супруга юной Бенцон.
Принц Гектор пока не объявлялся. Но весь город желал увидеть его новенький неаполитанский мундир, в котором он ходил на самую настоящую трехдневную войну. Правда, о том, что корпус Гектора был сразу же и разбит благодаря «талантам» оного юного стратега, все предпочитали высокопарно умолчать.
В Зигхартсвейлере все еще лили по формам свечи и готовили в парке разнообразнейшие сюрпризы в форме скрытых шутих и выскакивающих из кустов механических кукол. Королевство было на грани великих потрясений. И все понимали это.
Солнце поднялось над миром.
Анжелика, прибрав в номере, вдруг почувствовала, что воздух вокруг нее накалился. Было в этом что-то бесовское. Женщина вдруг увидела свою жизнь в ином, метафорическом свете. И вдруг ей стало даже не стыдно, а страшно, ибо она узрела, что скоро все для нее может закончиться в адском огне. Она ощутила себя плотвой, пляшущей на гигантской раскаленной сковородке. Сверху щурилось довольное кошачье лицо с надетыми карнавальными красными рожками.
Кто сказал, что в аду кипят котлы, между которыми шустрят мелкие бесы? Анжела в этот миг узрела те миры, в которых страдание грешников было нужно не для исправления душ, а для чревоугодия подлых котиков. Это перевернуло мир женщины с ног на голову.
Несчастная бросилась вон из номера, моля присно Деву Марию спасти и уберечь от гиены Огненной. На пороге она столкнулась с тем самым котом, который только что поджаривал ее в грезах наяву!
— Защити, святой Иоанн! — вскрикнула перепуганная женщина.
— Черт знает что! — неожиданно воскликнул кот. Он оказался не только прямоходящим, аки примат, но еще и бодро говорящим! И шутом, к тому же. — Как тебя, милая спасет тот, кто не смог удержать собственную голову на плечах? Ты, вообще, подумала, прежде чем кого-то о чем-то просить?
— Ой! — запричитала несчастная. — Да что же это?
— Не что, а кто! — фыркнул кот. — Личный секретарь седьмого всадника Апокалипсиса в запасе; лучший напарник по мазурке самого святого Витта; бессменный почетный член Королевского Зоологического Общества; действительный и очень тайный советник Верховного Канцлера, моего мессира Воланда.
— Бегемот! — раздался позади кота властный окрик.
— А я чего? Я — ничего! Другие-то вон чего, и то — ничего!
— Хватит!
И кот тут же заткнулся, вжался в стенку, и даже уши прижал:
— Слава Воланду Великому, Главному Архитектору!
— Фи, как грубо.
Анжела стояла перед появившимся незнакомцем и тряслась, словно лист на ветру.
— Это перед гулящей девкой ты тут свой хвост распустил, Бегемот? — прикрикнул седой мужчина. — Стыдись, ты же — кот, а не павлин!
— Смею ходатайствовать о срочной смене фамилии! — пискнул кот. — Хочу вернуть ее, в честь безвременно ушедшей матери, и стать Бегемотом Мартовским.
— А ну-ка марш в номер! Совсем у меня мышей не ловишь!
— Да их тут всех съели до нас. Дикая Европа, суровые нравы.
— Брысь! — повысил голос Воланд, и кот словно испарился.
— Ну а ты, веселая женщина, чего дорогу преградила? Или сказать чего хочешь?
— Я правильно понимаю? Это — вы?
— Сомнительный комплимент! — засмеялся мессир. — Скажу по секрету: «Азмъ — есмь».
Женщина в изумлении вытаращила глаза.
Воланд вздохнул:
— Ясно. Сведения о просвещенности Европы сильно преувеличены. Так что тебе нужно? Мужа извести, чтобы жить не мешал?
Женщина упала в ноги мессиру и запричитала:
— Не губи, благодетель! Густав — он хороший. Хоть и дурак. Не надо его трогать.
— Ну, так встань и греши. — разрешил Воланд. — А сейчас не загораживай мне путь.
Женщина метнулась в сторону как побитый щенок и тихо заскулила в углу.
— Да не вой, Анжела, не сокрушайся! — хохотнул мессир. — Твое время еще не пришло. Ты мне здесь нужна. Уяснила? А теперь — вон с моих глаз! Я устал и есть хочу.
— Мессир трапезничать изволит! — завопил из номера Бегемот. — Подать сюда осетрину, севрюгу, икру красную, черную, балычок, грудку куриную под ананасами, свинину жареную по-казацки! А еще прислать цыган с медведями и шампанского!
Дверь за гостями захлопнулась.
Анжела так осталась хлопать глазами. Кому именно отдавал распоряжения кот, и откуда столько еды могло оказаться в маленькой комнате с единственным входом в нее — оставалось тайной за семью печатями.

(Мурр пр.)
…тяготит меня невысказанное. Мне все время кажется, что я что-то позабыл, очень важное, без чего мои эпистолы, пройдя сквозь века, попав в честные лапы моих наследников, будут искажены переписчиками, да и самими моими внуками до полной их неузнаваемости.
Как уберечь мои книги от посягательств черни и санкюлотов, которые шли за Наполеоном, да так и осели по всей Германии, точно непобедимая тля на кустах цветущей майской сирени?
Они, пришлые люди, не всегда говорящие по-немецки уже вытесняют нас из отчизны. И mein Faterland звучит для них дико и пугающе, потому что сами они отцов не имели и плодились как саранча. Даже филистеры, даже оборотни в полицейских мундирах не страшат меня так, как социологи, литературные критики и французские писатели, имя которым — легион.
Они придут и непременно расскажут про «пригоршню солнца в холодной воде», про «любовь, пробивающуюся сквозь булыжные мостовые», про «граждан вселенной, которые являются братьями и сестрами и были рождены цветами для счастья», а не для честного бюргерского труда. Не верьте им!
Они являются, чтобы обмануть, чтобы предать нас, последних истинных романтиков, в руки монополистов и миллиардеров, которые прямо сейчас вступают в сговор с иллюминатами девяносто второго градуса посвящения!
Что сейчас для мира значит благородный рыцарь Ордена Дракона — великий Влад Цепеш, сажавший турок на кол не забавы ради, а дабы оградить свою родину от вторжения врагов, убивающих всех без разбора? Его имя оболгали продажные писаки, смешали с грязью, объявили монстром и вампиром.
Где величие последнего Рюриковича, великого князя Московского, вседержителя Российского Иоанна Васильевича? Все те же английские прохвосты очернили его в глазах общественности, обвинили в репрессиях, бессердечии. Но, бог мой, да европейские правители ничем не лучше оболганных ими господарей Великороссии.
Скажу больше: по искусству навета англы и бритты — так еще и превосходят всех в мире! Их колонии — позорное пятно всей мировой истории — преподносится сегодня как торжество просвещения и демократии.
Оно и понятно: время индусам в рабстве гнить в рудниках; время привязанных к пушкам сипаев быть разорванными снарядами; и — время королеве английской носить свой золотой венец с обагренными кровью топазами, алмазами и прочими ювелирно значимыми камнями! Всему на земле — свое время и свой ход вещей!
Кто мудер, тот заткни свой рот обеими руками, ибо особо разговорчивым с давних пор, по традиции, в глотку заливают кипящее серебро или свинец — стало быть, оным приемом оказывают высшую честь всем этим правдолюбцам.
Не потому ли общество отпетых филистеров всегда повторяет только то, что им всучили как некую абсолютную истину? Думать они не умеют. Да и боятся, как бы чего не вышло. А, с другой стороны, только глупцы и могут возжелать себе кипящего металла в гортань.
Но есть и другие пути заставить молчать как котят, так и котов с большой буквы «Ку». Отберите у философа мягкую подстилку, полную миску и печку — символ защищенности от происков дьявола — и вы увидите, что каждый ученый кот сразу же окажется покладистым.
Так было всегда, и, страшусь, что мои идеи истинного бурша, настоящего поэта, а не придворного борзописца, выдающего тоннами хвалебные вирши в честь тех, кто их кормит; непременно извратят, вывернут наизнанку, докажут всю их ретроградность, косность, отсталость.
Меня уже не раз пытались принизить всяческие французские литераторы. И то, что у этих бездарей ничего не получилось — заслуга лишь моего личного обаяния. И пока я жив — мне будут петь осанну народы. Но как только смерть откроет свои черные объятия, так тут же тучею со всех сторон налетят фальсификаторы, ученые всех мастей: акикакидемики, прохвостсеры, кандидаты врак… и прочие, прочие, коим нет числа, но которым нужен хлеб насущный. И пойдет «пир во время чумы»!
Не удивлюсь, если мое имя, поминаемое всуе, зазвучит в тысячах докладов и эссе! Уверен, что начнут трепать мое фундаментальное творение, разошедшееся списками по всему миру, которое уже сейчас имеет миллионы просмотров, ибо его свежее, нетривиальное название «Молчание котят» — привлекает открыть оный труд; а блестящий, куртуазно-галантный романтический слог не позволяет книжицу закрыть, увлекая и истинных буршей, и позорных филистеров в перипетии моего славного детективного сюжета, в коем напряжение держится с первой до последней страницы. И неизменный катарсис, порождаемый прочтением моего самого знаменитого романа, вознесет в эмпиреи любого, прикоснувшегося к моим писаниям!
Но что бывает после гибели великого, гениального ума? Правильно! Является в мир Вездесущая и Вечная Троица: Сплетня, Клевета и Поклеп. И сразу все говорят не о том, что истинный Командор и Инженер Кошачьих душ успел создать для пользы и поучения юношества, а о том, сколько прелестных кошечек успело переночевать в келье художника, сколько незаконнорожденных отпрысков явилось на свет от гения, у кого и что именно величайший ум украл для своего скудного пропитания. И из всего этого мутного потока, чаще всего не имеющего никакого отношения к усопшему, за считанные дни лепится прямо-таки золотая, сверкающая новизной, рамка для литературного портрета поэта!
Дальше — ком этой лжи, сдобренной и настоящими анекдотичными случаями из жития покойника, спустят с горы слухов, и — вуаля! Скоро все будут знать всю подноготную ушедшего в мир иной.
А затем осторожно, точно препарируя устрицу за столом, эти гурманы, непременно называющиеся свободными литераторами и обязательно членами Союза Писак, (эдакие, прости святой Витт, писчики-членолитераторы!) начнут свою операцию по изъятию трудов погибшего из мирового культурного слоя.
Затем, постепенно, шаг за шагом, все эти культурные деятели, объединившись, непременно докажут несомненную для них аксиому: коты писать и читать не могут в силу отсутствия у оных мозга как такового. И ведь народные массы быстро поверят в эту чудовищную ложь! Вот что печально!
Оттого, видать, каждый раз, когда сажусь за свои труды, меня мучает, терзает, сжимает, скручивает душу черная меланхолия! И вместо легкого журчания стихов, вместо шелеста стрекозиных крыльев, вместо запаха рыбки я ощущаю, как весь мир «идет на меня войной»!
Да, всеми фибрами души чувствую я натиск злых сил, объединившихся с критиканами, продавшихся за сахарную косточку, за блюдце молока, за мягкую подстилку!
Как уберечь тебя, мой поклонник, истинный ценитель подлинного искусства от желания быть на стороне большинства? Как убедить в том, что навет и сплетни — это лишь изысканное, но все же оружие против чистоты и гения?
Раздавить, уничтожить, оболгать, унизить — арсенал моих врагов неистощим и бесконечен! А у меня есть — лишь полет мысли, лишь произведения, не умирающие в веках, лишь стихотворные строчки, которые истинные студенты учат наизусть, дабы идти с этими моими словами по жизни.
Быть со мной, с лучшим умом всех народов, в наш просвещенный век, крайне трудно. Ведь что есть образование? Кого можно считать интеллигентом в современном мире? На какого юношу возлагают нынче свои надежды убеленные сметаной и мукой старцы?
Раньше, я помню те славные времена, юные коты точно знали, что электричество, вне зависимости из молнии оно или создано людьми при помощи трения, всегда больно дерется и пускает голубые искры. Прикосновение к оному грозит неофитам смертью.
В новый, бурный век, который социологи, в силу недоразвитости лобовых долей своего мозга, назвали эпохой цифровых технологий, юные искатели истины уже не уверены в смертоносности тока. Они (и социологи, и молодежь) этого просто не знают. Да, честно говоря, их этому и не учили.
Реформа образования привела нас к краху. Социологи, захватившие министерские портфели: культуры, образования и нано-технологий — оказались не просто женщинами, а худшей их частью — блондинками! Они, как куклы, повторяли то, что вкладывали в их уста жадные барыги, взращивающие из котят не индивидуумов, но тупое поколение исполнителей, работяг, не способных ни принимать решения, ни задуматься о происходящем.
Обучение свелось к массовому штампованию котогопников. Чем в совершенстве владеет наша молодежь, так это развитой интуицией, позволяющей ей угадывать правильные ответы из трех предложенных вариантов. Проблема только в том, что если вопросы возникнут, а жизнь не предложит никаких решений, из коих необходимо выбрать, то здесь взращенное поколение окажется не просто у разбитого корыта, но еще и «зависнет», позволив увести себя в любую сторону.
В старые времена юношество учили: «Гулять, так гулять; сожрать, так сожрать; летать, так летать; но утки ночные летят высоко, ты помаши хвостом!»
Что же сейчас? Котик, если ему не предоставят выбора, кинется ловить утку в небе. И, конечно, останется с носом. В минувшие времена подобная глупость не пришла бы в голову, потому что элементарным вещам молодежь учили с младых когтей!
Идущие нам на смену коты вовсе не глупы, какими их пытаются выставить! Просто у них украли знания, впендюрив миф о Гугле, как о новом боге, знающем все. Но стоит лишь обрушить новомодный интернет, обесточить город — и вы увидите толпы ошалевших котов, совершенно не знающих что же им делать со своей неожиданно свалившейся на них свободой.
Вместо духовных ценностей нам упорно подсовывают смердящие понятия какой-то непонятной демократии, при которой нет ни отца, ни матери, а только родители номер один и два, что унизительно само по себе.
По лозунгам современных просвещенцев выходит, что у нас нет ни родины, ни флага, ни чердака, на котором каждый из нас родился. Все это ловко подменили, даже не на свежую рыбку, а на злосчастные консервы, на которые теперь медленно, но упорно подсаживают все остальное население.
Ешь «Вискас», пей фильтрованную воду, проходи еженедельное прочесывание шерсти — и ты автоматически становишься гражданином мира!
А если кот (не дай бог!) поймал птичку, то его тут же окрестят преступником, нарушающим права крылатых меньшинств. Здоровое питание вскоре окончательно будет объявлено варварством. Всякое изображение вкушающего мясо котика станет вне закона. Каждая мышь будет объявлена персоной нон-гранта. Каждая зловонная муха будет социально защищенной особой.
Мы не просто идем к этому. Мы даже не на пороге. Увы, мы не только вступили в этот безумный мир, но уже и по уши в этом говн…, то есть в демократизме. И наплевать на этот гротескный плюрализм мнений, как они это безобразие называют, с высокой колокольни уже никому не удастся!
Да, нас, истинных художников, зажали в тиски! Нет смысла писать то, что никто никогда не прочтет.
Боюсь, что скоро уже не котики окажутся необразованными невеждами, а сами люди. Тот час, когда мы поменяемся местами с человечеством, уже близок и ощущение…

(Мак. л.)
…несравненной Юлии. Божественной, чарующей… Игривому котенку, повзрослевшему так рано, что это казалось истинным чудом. Все мысли капельмейстера были там, с этой девочкой, внезапно обернувшейся коварной кокоткой, терзающей сердце музыканта на расстоянии.
Собственно, для Крейслера само пространство потеряло смысл. В его голове версты и леса смешались в фантасмагорическое видение некоей мистической дороги, ставшей символом пути между кругами ада. И все слышалась музыканту опера, в которой русский бородатый неотесанный мужик Сусанин заводил французов все глубже в лес на погибель.
Иоганнес подозревал, что все это неспроста. Что сама судьба кричит ему в уши: «Остановись, несчастный! Тебя соблазняют ложными мечтами! Тебе кажется, что ты идешь на зов любви, но это — народная песня Сусанина, прелестная серенада русалки, и эти чарующие звуки, обещающие блаженство — ложь, что увлекает тебя к гибели, безвозвратно!»
Едва дождался капельмейстер восхода солнца, как был готов бежать в дом любимой, дабы припасть к ее ногам, звать за собой, прочь из отчего дома. А если это невозможно, то Юлии необходимо незамедлительно покончить жить самоубийством одновременно вместе с ним, с Крейслером, дабы презренный мир не смог бы их никогда разлучить!
Сотни прожектов теснились в голове влюбленного. Один был безумнее другого. Но все вместе они звучали подобно органу. И Крейслер то вскакивал, словно ему приспичило срочно посетить с дружественным визитом уборную комнату для мальчиков; то садился, небрежно махая рукой, мол, торопиться в сортир уже слишком поздно, — все самое плохое, фатально-непоправимое, дескать, уже случилось.
Абрагам Лисков только качал головой, да периодически хватал безумствующего ученика за рукав, постукивая указательным пальцем по своему лбу, давая понять, что неразумно врываться в чужой дом ни свет, ни заря, что такой визит навсегда может закрыть двери в жилище возлюбленной его.
Иоганнес вращал глазами, как все три собаки разом из знаменитой сказки Андерсена «Огниво», но послушно возвращался на скамейку, хотя при этом ворчал себе под нос, что благоразумие — удел стариков. И так продолжалось до тех пор, пока часы на ратуше не пробили десять.
Тут Крейслер с тоской так посмотрел на Лискова, точно от мастера лишь одного и зависело счастье. Весь вид Иоганнеса был мольбой: «Нельзя ли прямо сейчас посетить советницу Бенцон, сию же секунду, под любым предлогом, лишь бы видеть дочь ее — Юлию, слышать сладкозвучный голос, ощущать запах ее девичьих духов!»
Старик на этот раз только усмехнулся:
— Нет уже никаких моих сил сдерживать твое безумие, несчастный!
— Так отпустите же нас, Абрагам, как птичек, на волю! — пылко воскликнул влюбленный.
— Как бы все так было просто! — вздохнул мастер. — Я ведь тоже когда-то не удержал свою любовь, и не мне теперь судить твои страстные порывы. Но стоит ли привлекать внимание общества эксцентричными выходками? Наше княжество, хоть и маленькое, но дюже злыми языками сплетниц-сударушек богато! Даже не знаю, чем тебе еще помочь, бедный юноша… Что ж, ты выбрал свою судьбу! Сейчас ты похож на мотылька в ночи, стремящегося на огонек своей любви. Но, в отличие от бабочки, ты понимаешь, что опалишь своей любовью крылья, да и упадешь в бездну безумия. Так куда же ты рвешься, Крейслер? Неужели ты не видишь силков, расставленных силами зла? Неужели не чувствуешь, что демоническая свита во главе с Люцифером, пресытившись жизнью в Берлине, уже прибыла к нам, в Зигхартсвейлер, дабы наблюдать за твоей трагедией?! Они ведь именно тебя назначили командовать этими потешными войсками! Тебя, Крейслер! Не поддавайся им, не сдавайся! Помни, что закат и ночь — это еще не конец. И рассвет приходит в тот час, когда отчаяние вступает в самую совершенную свою фазу, когда кажется, что солнца больше никогда не будет!
— Ну, я пошел? — уточнил капельмейстер.
— Иди! — отвернулся Лисков. — Ты ведь все равно никого не послушаешь.
— Это точно! — воскликнул Иоганнес, выскакивая из дома часовых дел мастера и вприпрыжку, едва сдерживая нарастающее волнение, отправился прямиком к дому советницы.
Прохожие раскланивались с капельмейстером, но едва он проходил мимо, как все строили вслед преуморительные рожицы, вертели пальцем у виска и мерзко хихикали, будто знали не только то, куда спешил Крейслер, но и что именно его там ждет.
Иоганнесу бы прислушаться ко всем этим подсказкам вселенной, но — куда там! Юноша готов был прямо сейчас взять кисть и намалевать на всех стенах в городе: «Ктх: plus belle que jamais et moi — amoureux comme quatre vingt diables!»
Если кто-то испытывает ни с чем несравнимое счастье или всемирную, планетарного размера, горечь разлуки, — об этом непременно стоит кричать на всех перекрестках, дабы полицейским потом, расследующим кражу или убийство, легче было бы ловить преступников за руку, опираясь на их же собственные восторженные или обличительно-гневные посты, взахлеб рассказанным по секрету всему миру в Живом Журнале.
Видели ли вы когда-нибудь влюбленного, способного трезво размышлять о субъекте своего обожания? Капельмейстер в ряду этих бедняг не был исключением.
И вот Крейслер уже трезвонит в колокольчик, будто созывает людей на пожар. Он переминается с ногу на ногу, горя нетерпением! Грудь его сжимают невысказанные слова! Они, все эти эмоции, жившие тихо и незаметно, сейчас бурлили в душе громокипящим элем, грозя вылиться наружу и затопить все вокруг: и самого капельмейстера, и Юлию, и дом, и даже случайных прохожих!
Иоганнес готов был обнять весь мир, расцеловать первого встречного блохастого котика от переполнявших его чувств.
Наконец, появился швейцар с сонным выражением на лице:
— Что изволит ваша светлость в столь ранний час?
— Да какой же он ранний? — возмутился капельмейстер.
— Благородные графини Мальхен и Юльхен Эшенау изволили этой ночью играть с названным женихом княжичем Игнатием в благородную дворянскую игру «подкидного дурачка». — сказал швейцар. — И, надо сказать, Игнатию везет в карточной игре. Спать сударыни легли далеко за полночь. Мадмуазель Юлия перед сном еще и плакала, видать расстроилась, что маменька денежку в целых тридцать фридрихсдоров спустила на ветер.
— Так могу я пройти засвидетельствовать свое почтение?
— Отчего же не можете? — швейцар зевнул. — Вот только доставит ли это радость графиням? А еще они до сих пор не спускались к утреннему чаю. Все почивают. Не изволите ли подождать в гостиной?
— Хорошо. — помрачнел Крейслер и с обреченным видом прошел за слугой.
От порыва ветра двери дома с силой захлопнулись за влюбленным. Иоганнес подумал, что это его личная клетка защелкнулась, что его поймали силы зла, и теперь он — птичка певчая, но больше не вольная. А соловьи за решеткой живут не долго!
Однако ждать не пришлось.
В сей же час спустилась Юлия. Она была прекрасна. Ей так шло розовое с оборками платье и шляпка из итальянской соломки, что Крейслер невольно залюбовался грацией девушки.
Странные, несвоевременные мысли посетили юного романтика. Он вдруг отчетливо понял, как надобно за пятнадцать дней обустроить мир, дабы все ретроградные и косные домостроевцы сотряслись бы от гомерического хохота.
Революция — вот рычаг истории! Пока лошадки гренадеров и гусар задумчиво жуют шляпки из итальянской соломки, пока Лизетты и Жаржетты обдумывают планы мести развязной знати и даже самому королю, пока все головы не могут думать по-новому, а зады, по-прежнему, гадят по-старому — ситуация, конечно, не изменится.
Но стоит появиться в городке одному-единственному демократу-извращенцу Ставрогину Карлу Модестовичу, который не может мыслить по-старому, в рамках славных добрых традиций Октоберфеста, ввиду полного отсутствия извилин в коре его головного мозга, но только — по-новому, как пламенно учили великие Вольтер и Марат; бежавшие впереди паровоза, летевшего, как всем известно, в коммунизм, так тут же появятся: и рабочий класс, и подневольный труд, и сердце, бьющееся гневом за всех обездоленных бомжей вселенной!
Нужно-то всего лишь поджечь: Рейхстаг, Кремль, Версальский дворец, посадить вместо кайзера, самодержца и президента одного царя всего мира, водрузить всюду красные знамена и сократить численность населения путем массовых расстрелов.
Вот тогда всем выжившим будет нереальное счастье. Наверное.
В общем, обворожительный вид цветущей Юлии, совершенно непонятным образом, вызвал в мозгу музыканта не умиление, но яростный революционный протест.
Как это так?! Все девушки без Крейслера должны в свое свободное время заламывать руки, читать страстные монологи о силе любви и непременно топиться в пруду, аки Бедная Лиза. Они обязаны ощущать «Страдания молодого Вертера» как свою личную нескончаемую боль, воспринимать смерть от неразделенной любви, как блаженство! А вместо этого Юлия не только не вышла к завтраку заплаканной, но она еще и собирается замуж за этого осла, который купил себе и новый титул принца, и грамоты о среднем и высшем образовании!
— Отчего вы прибыли так поздно? — между тем надула губки девушка. — А ведь я ждала вас, надеялась, что вам не безразлична моя особа. Все княжество уже говорит о моей помолвке, и только наш бравый капельмейстер, наверняка, обо всем узнал лишь накануне! Или я не права?
— А разве имеет значение время, когда я прибыл, чтобы помешать планам вашей маменьки, Юлия? — с горечью воскликнул Иоганнес.
— Вы что же это, совсем иностранных романтических стихов не читаете?! — топнула ножкой невеста. — Один восточнославянский арап так прямо и написал: «Но я другому отдана, и буду век ему верна!» А вы опоздали! Видимо, для вас есть и будут впредь дела и поважнее моей горестной судьбы!
— Да как же вы можете говорить такое!
— Очень даже и могу! — фыркнула девушка. — Более того, вы натура творческая, увлекающаяся. Вот как вам можно, вообще, верить? Я даже не уверена, что вы примчались разрушить именно мою свадьбу!
— Да чью же еще-то, о, Юлия?!
— Есть тут у вас еще одна поклонница, что краснеет при одном упоминании вашего имени. Забыли, или вам напомнить о принцессе Гедвиге?
— Но ведь и у нее все слаженно! — с горечью воскликнул юноша.
— Вот именно! — отвернулась Юлия. — Она собирается замуж за нелюбимого, за мелочного Дон-Жуанишку, который вьется и вокруг меня тоже, точно шмель подле меда. А каково мне терпеть насмешки и кривые ухмылки при дворе? Вы не думали, Крейслер, нет? Знаете, как мучительно быть объектом всеобщих насмешек? А что вы мне можете дать кроме хохота двора? Увезете меня? Куда? Вы на службе у нашего князя! И без этой должности вы просто маленький и нищий музыкант. В какой дом вы можете меня ввести? «Вы не знаете меня — и моя мать также — и никто не понимает — я должна так много скрывать в себе — а иначе я никогда бы не была счастливой».
Крейслер стоял, точно его огрели обухом по голове. Он не ожидал такого унижения от судьбы! Да еще от кого? От девочки, от романтической особы, только-только оперившейся, еще не видавшей жизни, не ведавшей тревог, волнений и голода.
Капельмейстер с трудом собрал свои мысли в пучок: «Удар нанесен! Возлюбленная стала невестой этого осла-торгаша, и мне кажется, что вся моя жизнь музыканта и поэта померкла».
— Но я не чудовище, Крейслер. — продолжала девушка. — Я согласилась на этот брак только тогда, когда поняла, насколько я вам безразлична. Вы должны были следить за мной и маменькой, ловить каждую весточку обо мне, но вместо этого вы просто сбежали, испугавшись за свою драгоценную жизнь! Да, капельмейстер, ни для кого уже не секрет, что на вас, по приказу, напал слуга принца Гектора. Вы нечаянно убили его, и все это время трусливо прятались в аббатстве, боясь обвинений. И чего вы дождались? Я поумнела, повзрослела, научилась видеть мир не только в розовой дымке мечтаний! Вы должны гордиться мной, Крейслер! Отчего же я не вижу радости на вашем челе? Уж не оттого ли, что вы, как и все мужчины, способны думать лишь о своих прихотях, о собственной чести, но понять женщину — это выше вашего разумения!
— Но, Юлия!
— Ах, не перебивайте меня! Вы думаете, так соблазнительна роль Пенелопы — вечность ждать, когда же это любимый наиграется в свои войнушки, закончит все свои интрижки и прочие ваши мальчишеские игры? Мы стареем, вянем, точно цветы, а вы все меряетесь гонором со своими школьными соперниками. Я не могу так, не хочу! Слушать сплетни о том, что я ваша наложница, любовница, одна из многих, которых вы меняете, как перчатки — нет, не для такой доли я родилась на свет! И если мужчинам даже лестно, когда все обсуждают списки их любовных побед, то для женщин подобное унизительно и подло.
— Да понял я… — Крейслер поднялся, чтобы уйти.
— Однако, приходите на обет, Иоганнес. Я не гоню вас совсем, но и шанса дать больше не могу. Вы опять увлечете меня и обманете, сбежите: от любви ли, от полиции ли, от черта ли лысого — не все ли едино? Ведь вы всегда поступаете именно так: не решаете проблемы, а даете деру, отсиживаетесь в аббатствах, а потом появляетесь весь такой красивый и вдохновленный.
— Я буду, Юлия.
— И Лискова с собой захватите! Маменька в последнее время его совсем не жалует. Подпустим ей небольшую шпильку. Вы слышите меня, Крейслер?
— Да. — сухо обронил капельмейстер. — Но лучше бы я оказался глухим.
— А еще: не смейте являться без инструмента! Маменька никак не посмеет прогнать «босоногого мальчика с гитарой»! Вы все поняли?
— Угу… — горько обронил влюбленный. — Типа, вы позаботились о моем прикрытии, дескать, свадьба без музыкантов, что торт без крема. Брависсимо, любимая! Вы превзошли не только саму себя, но даже и собственную родительницу!
— А вот дерзить мне не надо! — погрозила пальчиком Юлия. — Это не я бросала вас на произвол судьбы, так что теперь терпите, любезнейший!
— Так вы хотите отыграться? — осенило несчастного.
— Я не хочу снова оказаться посмешищем, Крейслер! Что мне останется, когда вы вновь сбежите?
— Да уж, Юлия! — вздохнул обескураженный и ошеломленный капельмейстер. — Вот уж откуда я не ждал беды. Но на свадьбе я буду. Непременно!
Тут в дверях показалась советница:
— Вот уж нечаянная радость! — всплеснула руками свежеиспеченная графиня. — Мы вас не ждали, а вы изволили вломиться! Счастье-то какое! Словами не пересказать!
— Так и не затрудняйтесь. — сухо попрощался Крейслер. — Я ужасно спешу в модный салон Жанны Бомарше. Нужно же купить новый камзол, сделать прическу, привести себя в должный вид, ибо я имел честь оказаться среди приглашенных вашей дочерью гостей.
— Вот как? — изумилась бывшая советница. — Что ж, ласково просим: не побрезгуйте нами, явитесь вовремя. А, главное, — будьте трезвым и умеренным, и без ваших этих театральных эффектов. Уж расстарайтесь ради моей Юленьки.
— Не извольте беспокоиться! — Иоганнес щелкнул каблуками и торопливо покинул дом.

(Бег. бас.)
Франциск Голлон, сынок Анжелы и Густава, рос шаловливым и игристым мальчиком. Он любил повеселиться, особенно поесть. Он, непостижимым образом, всегда оказывался первым в местах бесплатной дегустации любых блюд, будь это йогурты или уксус столовый.
Не удивительно, что запахи, дразнившие воображение и будившие нездоровое любопытство имели над мальчиком магическую власть. Желание вкусно покушать было для Франциска куда как важнее спасения бессмертной души. И потому никто бы не удивился, застав этого ребенка за колупанием дырочки в стене номера, из коего исходили такие чарующие ароматы, что слюнки капали сами собой! Этого не случилось лишь потому, что все были заняты, а мальчуган только проснулся и сия мысль о порче отцовского имущества незамедлительно начала зарождаться в его гениальных мозгах.
Паренек сорвал с головы ночной колпак, ибо он уже уловил дразнящие запахи изящных деликатесов и преобразился. Словно зомби, марширующие на битву с кактусами, Франц бездумно выдвинулся из своей комнаты. Воля окончательно покинула сие юное тело. «Сы-ы-ыр!!!» — только и смог выдавить из себя отрок. Его руки вытянулись вперед, голова склонилась влево, взгляд стал стеклянным и совершенно пустым. Единственная и главная страсть завладела несчастным. И мальчишка двинулся через трактир, пощелкивая зубами: «Еда! Еда! Еда!»
Если б юного Франциска не знали по всему княжеству, его приняли бы за буйно помешанного. А в остальном все происходило строго в рамках европейских приличий.
— Здравствуй, сынок! — сказала Анжела, увидев милого мальчугана, который искособочился так, словно его поразила неведомая болезнь и подозрительно «смотрел искоса, низко голову наклоня».
— Еда! — щелкнул зубами отпрыск и двигался дальше, словно загипнотизированный.
— Ну, потерпи чуток! — всплеснула руками растревоженная женщина. — Уже бегу на кухню. Что-нибудь да найдется. Да, мой малыш?
— Еда! — согласился ребенок. — Еда — там!
Анжела пригляделась к своему битюгу и вдруг что-то заподозрила:
— Где, сынку?
Но тут снизу закричал взбешенный Густав:
— Анжела, мать моих детей! Это что за подарочек оставили под окном твоей спальни?! Анжела!!!
Трактирщик, обходивший владения своим утренним дозором, по некоторой своей утренней заспанности и усталости, навоза лошадиного, оставленного на видном месте весьма куртуазной, изысканной лепехой, таки и не заметил. Вступив в оную кучу, подняв рой мух и мошек, растревожив дух животного, что в помете сем подсохшем хранился, Густав догадался, что вовсе не святой Бернар этот подарочек сюда подложил. Смутные подозрения, что лошади сами по себе, без сексуально озабоченных гусар, по ночам не гуляют, взорвали мужской мозг. Ревность начала терзать обманутого мужа.
Веселой женушке стало вмиг не до воспитательного момента с сыном. Почувствовав, что тучи над ее головой сгущаются, Анжела выскочила во двор и притворно изумляясь, принялась кричать, что это — безобразие! И, мол, куда ночная стража князя Иринея смотрит, и, что порядочным людям скоро ступить будет некуда, чтобы в оказию ногой не попасть, ну и все в этом духе.
Муж, ошеломленный таким дерзким поведением своей благоверной, только открывал рот, точно карась, вытащенный на берег. И так же, как пойманная рыба он пучил свои бестолковые глазки, совершенно запутавшись в своих подозрениях, снова проваливаясь в алкогольные пары, что за ночь до конца не выветрились из его головы.
Тем временем мальчик дошел до номера, сданного мессиру Воланду, криво усмехнулся, достал из кармана гвоздь и принялся колупать стену. Если бы в этот момент Франца спросили, что он делает, мальчик пришел бы в замешательство и, расплакавшись, убежал бы к себе в комнату. Но никто не пришел отроку на помощь. Силы зла все сильнее проникали в юную, не окрепшую душу.
Вскоре мальчик сделал достаточное отверстие, чтобы можно было заглянуть внутрь комнаты.
Но тут Франциск вдруг очнулся от наваждения. Осознание, что происходит нечто необычное, повергло ребенка в ступор. Он хотел было бежать с места преступления, ибо поймай его сейчас отец — розог было бы не избежать. Но именно теперь, когда был выбор, заглянуть туда, откуда исходили дурманящие запахи божественной еды, или бежать, искушение стало неодолимым.
Мальчик сам, по доброй воле, решился на подглядывание. Воровато оглянувшись, убедившись, что никого нет поблизости, отрок припал к дырочке, но увидел лишь кота, нацепившего на нос пенсне.
Бегемот вальяжно развалился в кресле-качалке — лапа на лапу. Он читал вслух толстую кожаную книгу с серебряными застежками. И в свете свечи он казался духом преисподней, вырвавшемся из ада и камлающего сейчас черную мессу своим вулканическим бородатым божкам.
В этот роковой момент кот явственно и четко произнес:
«Мы блуждаем во тьме. Изо всех сил мы боремся со злом, иначе оно одолеет нас. Но если верно, что судьба человека — его характер, то эта борьба — всего лишь зов о помощи. Иногда тяготы этой борьбы вселяют в нас сомнения, разрушая цитадель нашего разума, поселяя чудовищ внутри нас. Мы остаемся в полном одиночестве, всматриваясь в хохочущее лицо безумия».
Франциск, обезумев от страха, внимал этим страшным словам и понимал, что Бегемот не просто развлекается, а проговаривает все это лично ему, мальчику без шпаги! Кот словно заколдовывал, напускал мистического тумана и это подлому животному очень нравилось.
Франц поймал себя на мысли, что ритм читаемых слов содержит в себе не просто черную магию, но призыв служить той силе, что хочет зла, но вечно лишь хохочет над собою.
— Кто ты? — вдруг крикнул в дырочку Франц. — Сдается мне, ты не совсем кот!
— Приятно видеть родственную душу среди этого вашего карманного королевства! — ощерился зловещей ухмылкой Бегемот. — Если бы не воля господаря моего, Великого Канцлера, лапы бы моей здесь не было! Вы все здесь скучны, точно дятлы: «Работай, работай, работай! И сдохни с уродским горбом!»
— Ага, — глупо согласился мальчишка, не отдающий себе отчета в том, что он говорит, — наверное.
— Вижу, вижу, о, мой несравненный Хома Брут, ты еще не очень крут, но тебя, юное создание, уже никакой семинарией не испортить, не закалишься ты, как сталь, не станешь новым кровавым Иосифом, отцом, прости Воланд, народов, слава преисподней!
Мальчик неопределенно хмыкнул, не понимая, похвала это или насмешка.
— Пока мой мессир отдыхает, не хочешь ли ты, о, юная душа, немного позабавиться? — кот поднялся из кресла и пригладил усы.
— Отчего же не хочу? — задался риторическим вопросом мальчик. — Очень даже хочу. Только меня потом мама ругать будет. Она очень расстраивается, когда я попадаю в переделки на голодный желудок. А сейчас я именно не позавтракавший. Маменьку так не хочется обижать по пустякам.
— Экий ты заботливый, право! — хохотнул кот и отложил книгу, подходя к проделанной дыре со своей стороны. — Так что, пошалим?
— Ага! — согласился подросток. — Только вот папа говорит: война ли, Армагеддон ли обрушился на землю — это все преходяще, но завтрак, обед и ужин — это святое и непременно — по расписанию!
— Серьезно? — захохотал кот, схватился лапами за живот и принялся кататься по полу. — Перед ним все царства мира, а ему лишь бы пожрать! Ой, уморил! Ой, держите меня все языческие боги разом!
— Бегемот! — раздался из глубины комнаты окрик. — Ты опять?
— Это не я! — простонал кот. — Это аборигены шутить со мной изволят.
— А не пошел бы ты, кот, мать твою проведать! — из темноты выступил высокий, коротко стриженный слуга, зловеще поигрывающий бицепсами под тонкой фланелевой рубашкой, тот, которого все звали Питоном. Сейчас глаза его сузились и зрачки превратились в щели, отчего казались змеиными, и, чудилось, что паж сей час готов был проглотить Бегемота целиком.
— Хорошо, разлюбезные мои сотоварищи! — кот вскочил на задние лапы. — Сейчас я уйду, но обещаю вернуться! И, это… без меня золотую рыбку не кушайте! А то не будет вам счастья! Я ведь от голода умру, обернусь призраком, и лет двести потом стану греметь по ночам цепями, взывая к вашей совести!
— К-о-о-от!!! — взревел Питон. — П-шел вон!
— Мя-я-яй-ууу!!! — обиженно взвизгнул Бегемот, уворачиваясь от пролетевшей вазы династии Мин. Грохот битой посуды был ему торжественным тушем.
Через мгновение черный оболтус выскочил из номера и, заботливо прикрыв за собой дверь, подмигнул совсем ошалевшему Францу:
— Наши спят: они устали. Ну и мы гундеть не стали.
— Ага! — открыв от изумления рот, снова согласился парнишка.
— Ну-с, юное дарование, давай, веди меня по достославным местам своего древнего города. Я не хочу попасть в щекотливое положение.
— Хорошо. — согласился хлопец. — Но как же еда?
— Человек живет без пищи — неделю, без воды — трое суток, без шутки — восемнадцать часов. — кот воздел вверх указательный коготь правой лапы. — Так что, ничего, со мной — не сдохнешь!
— Ну, к-о-о-от!!! — заканючил, точно маленький, Франц. — Ну, миленький! Ты у Канцлера служишь, у тебя даже мыши должны от обжорства лопаться. Неужели ты пожалеешь лакомства для ребенка?
— Ладно. — смилостивился Бегемот и почесал пузо. — Веди к ближайшей забегаловке, главное, — прочь из этого трактира! О, здесь меня зря обидели! Я ухожу отсюда навсегда!… До ужина.
Мальчик не понял последней фразы, но подобострастно склонился в поклоне, а потом рванул на улицу, следуя к кондитерской господина Шульца, что стояла в квартале от таверны, на перекрестке Шванштрассе и Фридрихплатц.
Кот напялил на голову цилиндр и прихватил с собой трость с набалдашником из слоновой кости, изображающей почтенного немецкого господина, показывающего язык.
Вскоре мальчик и ряженый зверь стояли на пороге кафе, из которого вкусно тянуло булочками с корицей.
— Фрида! — раздался крик изнутри здания. Правильно тебя родители назвали: ты, как есть: фригидна, причем во всех сферах жизни! В город скоро пожалуют принцы, князья, золотая молодежь! Они все хотят: есть и пить, а у нас — ножи тупые!
— Снег под утро ляжет, — замурлыкал себе под нос странное заклятие кот, — и не плохо даже, то, что в доме не наточены ножи!»
— Гер Шульц! — закричал Франциск. — Можно вас на минуточку.
Ответа не последовало. Мальчик озабоченно посмотрел на своего мохнатого приятеля.
— Сейчас все будет! — заверил кот, да как гаркнет. — А ну-ка, стань передо мной, как лист перед травой!
Так Бегемот это заорал, что стекла в помещении зазвенели. Владелец, с перекошенным от страха лицом, выскочил к гостям. Увидев парнишку, мужчина вымученно улыбнулся:
— Что, Франц, тебя мама за солью послала?
— Нет, дядя Шульц, мы пришли отведать твоих булочек. Деньги у нас есть. Они вот у этого господина! — и ребенок некультурно показал пальцем на интеллигента Бегемота, чем расстроил последнего до слез.
Кондитер недоверчиво посмотрел на кота, протирающего кончиком хвоста свои концептуально-интеллектуальные зеленые глаза, и захохотал:
— А позволь, дружище, Франциск, узнать, в каком это потайном кармане сей уважаемый господин носит славные фридрихсдоры? Если меня не подводят глаза, малыш, то это и не господин вовсе, а кот! И сумки в брюхе, как у кенгуру, набитую золотом, я что-то у него не наблюдаю!
— И это значит, — Бегемот благородным жестом, каким обычно кидают в лицо врагу чистые перчатки или новехонькие белые тапочки, отстранил собственный хвост, зловеще прищурился, — что бедный мальчик останется голодным в доме собственного отца, так что ли, милейший Вальтер Шульц?
Мужчина мгновенно вспотел:
— Да тише ты, зверюга! И, вообще, была бы у тебя женой Фрида — неизвестно, как ты бы тогда запел!
— Ну, так вот, чтобы ни Фрида, ни папа ее — Вильгельм Бисбармак — ничего лишнего не узнали, придется накормить двух сиротинушек.
— Да понял уже, понял.
— Мелкому — мороженое, мне — цветы. — не унимался Бегемот.
Вальтер захлопал глазами, ничего не понимая:
— Зачем?
— Что: зачем? — зашипел зверь, усаживаясь за столик.
— Б-б-букет?
— А ты как думал, деревенщина? Если я кот, то и живу не по понятиям, так что ли? Я — мировая знаменитость! Меня положено именно так и встречать! Неплохо бы еще, конечно, королевский оркестр да красную ковровую дорожку, но на первый раз, так и быть, — прощаю. Но все-таки я тебе не какой-то там затрапезный клоун Филя Хрюшка-Боров, а — мега-звезда! Уяснил, гер Шульц?
— Хорошо. — согласился хозяин. — Фрида не далее, как вчера на реку ходила. Купавок там набрала три корзины. Не побрезгуете, милостивый сударь?
— Это такие отвратительные желтые цветы? — пренебрежительно фыркнул кот. — Не богато, прямо скажем. А, впрочем, годится. Мы их потом Юлии всучим. С намеком, значит. Ну, и чего стоим, Вальтер? Дождешься, я тебя на браунинг поменяю! Ну-ка, метнулся на кухню и быстро принес заливную осетрину да сто грамм валерьянки. Я — аристократ, много по утрам не пью!
— Где же я вам валерьянку-то достану?
— Все-то у вас не как у котов! — повысил голос зверь. — Ладно, тащи коньяк! Что приходится, из-за невежества местного населения, прости Великий Канцлер, в себя вливать!
Через пару минут ребенок был перепачканным мороженым от ушей до самых пяток. Кот не отставал от сотрапезника. Накативши пару рюмочек терпкого напитка, он проглотил блюдо, вылизал тарелку, отодвинул ее и пренебрежительно заметил:
— Какая же мерзость эта ваша заливная рыба!
Вальтер аж позеленел от ярости, но спорить не стал.
— А скажи любезный, что этот ваш знаменитый капельмейстер все еще не возвращался?
— Это Иоганнес Крейслер что ли? — удивился хозяин. — Какой же он известный? Все, кто в люди выбился — в Вену или в Берлин подались. На худой конец — в Кенигсберг. Из музыкантов у нас тут одни только неудачники и задерживаются! Им князь Ириней покровительствует. Хотя, между нами, у него, у Иринея: и с художественным вкусом, и со слухом — полный швах. Я бы даже сказал: аллес капут.
— Любите вы своих правителей. — поддакнул кот. — Ладно, благодарствую. Нам еще до полудня город обойти нужно, стратегический план действий составить!
— Так вы у гофмаршала в услужении! — догадался Вальтер.
— Бери выше! — хихикнул кот. — У самого генералиссимуса!
— Вот оно как! — покачал головой кондитер. — Стало быть, вы — пруссаки. Ну, что ж, счастливого пути.
— И вам наше с кисточкой! — кот помахал на прощание свободной левой лапой. — Эй, Франц, пошли. Солнце уже высоко, а мы все жрем. Так ведь и всю жизнь проесть можно!
Не успели мальчик с котом, сжимающим в когтях букет отвратительных желтых цветов, аки товарищи, выйти на улицу, как на них тотчас же…
(Мурр пр.)

…неминуемой гибели пропитало воздух.
Что бы мы ни делали, где бы ни находились, что бы ни вкушали, томясь несказанным блаженством от ощущения сытости и довольства, но тень «Падения дома Крейслера» висит над миром, точно меч, грозящий оборваться в любое мгновение.
Скажу более! Мне так и видится последний небесный всадник Просвещения — Глобалиус Демократиус, триумфально въезжающий в мир на красном коне; держащий в правой руке полосатый жезл полицмейстера, а в левой — Десять звездных санкций, писанных для тех, кто не возлюбил демократию превыше самого себя, кто не поклонился Доллару Вечнозеленому, кто хулил Госдеп всезнающий да поносил всевидящее око Центрального Разведывательного Управления.
И потому в этом жестоком мире, в котором чиновник на чиновнике сидит и чиновником погоняет; где каждый завалявшийся генерал уверен, что французские булочки растут на деревьях и их, оные булки, срывают поутру крестьяне, дабы теплыми подавать к кофе в постель; где порядочные люди отдают последние свои копейки за новую шинель, которую потом подлые бомжи тут же и снимают с трудяги, в этом истинном аду, который не ждет нас где-то в ином мире, а заботливо устроен здесь и сейчас, нам, настоящим буршам так тесно, что и развернуться негде!
Меня, истинного поэта, художника, вечно пытаются учить существа, далекие не только от культуры, но и от всего прекрасного вообще!
Помоечные коты, пропахшие селедкой второй свежести так, что от этого благоухания мрут даже мыши; филистеры, которые, пардон, совсем не вылизывают свой зад и оттого мало чем отличающиеся от бродяг; кошечки, безумствующие в поисках любви и оттого сожительствующие со всеми за мзду — вот кто нынче правит бал!
Неужели вы, мои последователи, не видите, что все наше общество больно! Оно шагает в лапу с современными реалиями. Да, но с завязанными глазами и — прямой наводкой — к пропасти.
И только я один являю миру образец добродетели и чистоплотности духовной и физической! Я кричу филистерам и маргиналам, ортодоксам схоластикам и ренессансным радикалам: «Остановитесь, безумцы!»
Но нет пророка в своем отечестве! Сегодня про рок — это не «Алиса» и не «Ария»; не «Назарет» или «Раммштайн» а таки вопли Витаса да пугание Пугачевой! Сегодня, что не бас — то сильная женщина, кривляющаяся у окна; что не сопрано — то двухметровый блестящий мужчинка со звездой во лбу и в юбке. О, времена! О, нравы!
О, юные искатели истины, плачьте над гибнущим миром, заламывайте руки, бейтесь в истерике — это нынче модно, соберете тысячи лайков! Но помните: путь истинного творца — это танец над пропастью!
Пусть филистеры внизу ждут, когда же я, как истинный и непревзойденный последователь пляшущего человечка Котоушлы, свалюсь в каньон и погибну в смертных муках! Таки они — не дождутся!
Толпа переменчива, точно женщина, она ликует и плачет, не понимая, что ею манипулируют.
И потому я, как непревзойденный лидер, танцую над всеми вами, и в моих песнях изливается не только горечь за ваши судьбы, но и гордость за мой славный, неповторимый путь!
Так восхищайтесь же моими порывами, моими бессонными мартовскими ночами, когда я, не жалея голосовых связок, кричал во мрак лежащих подо мной городов: «Ну, где она живет, вечная любовь? Уж я-то к ней всегда готов!»
Идите за мной! О чем вам жалеть? Вы остались с людьми, думая, что блюдечко с молоком на полу определяет ваш статус высших существ на планете! Но вас, как всегда, обманули! Купили за вкусную еду и мягкую подстилку! А какова была истинная плата, о, любезные мои соплеменники?
Вспомните, глупцы, что каждый третий из вас потерял свое мужское начало в клинике и теперь бездумно толстеет на радость своим настоящим хозяевам.
Зачем и кому, вообще, нужны котоевнухи? Какая от них польза? Не знаете, а я вам скажу. Их, несчастных, предъявляют миру и кесарю со словами: вот они, дикие звери, ставшие ручными и послушными!
Услышьте же, что говорил народам и я, Мурр, и, превзойденный мной во всех смыслах, известный учитель Котоушла!
Вы, юные умы, славные коты, обпившись валерьяны, скакали на Майданах, площадях, на великих помойках, истово веря, что «кто не скачет, тот не прав!» И чего вы добились?
Многих из вас, использовав, просто вышвырнули на улицу, где доблестные юнцы были растерзаны собаками, сгинули под колесами карет, попали под ковровое бомбометание! Ваш патриотизм, который плескался у вас в груди, оказался не таким уж и неистовым!
Но не всех славных революционеров постигла участь ампутации мозга или еще более мерзкой кастрации! Некоторые так переживали, что перенаправили всю нерастраченную силу души своей с поисков истины да с соблазнения прелестных кошечек — на пылкую и богопротивную любовь к героическим бойцам сопротивления мужского полу. И тут многих ждала еще одна подлая ловушка!
Мерзко и отвратительно сожительство двух самцов, но нам говорят, что семейные ценности — отстой. Нас убеждают, что нынче ни один приличный роман не может обойтись без черных котов, без сексуально озабоченных извращенцев, которые умеют думать только о том, как им спасти свою и надрать чужую задницу.
Общество докатилось до того, что права всех этих больных, которые нуждаются в срочной госпитализации и помощи опытных врачей, ставятся превыше нужд нормального большинства.
Как случилось, что какие-то там «голубые» и «розовые» указывают нам, благородным котам, «с кем нам спать, а с кем дружить»?! Отчего же любой великий поэт неожиданно становится никому неизвестным, если он, как Оскар Уайльд, не рассуждает перед почитателями о холодной говядине, припрятанной вместе со скелетами в его собственном шкафу?
Многие запутались в этой лжи до такой степени, что поверили, будто непревзойденный Демми-Муррг, сотворивший небо, звезды, Голливуд и первого котика Абырвалга, был не только черным, но еще и сам же растлил собственное творение! Потом, дескать, божество пришло в ужас от того, что кот может напасть ночью и покуситься на его собственный, небесный зад, оттого из ребра Абырвалга срочно сотворили первую кошечку, дабы все живое веселилось, плодилось и размножалось.
Как, вообще, можно размышлять о подобной мерзости?
Но социологи — эти отвратительные пройдохи, не только укрепили всех в этих мыслях, но убедили интеллигенцию в правильности своих позорных воззрений. Похоже, Святая Инквизиция и ее работа с населением были беспощадно оболганы еретикотами. Филистерство тем временем распространило свое влияние до такой степени, что теперь их жалкие волосатые лапы торчат изо всех щелей, из-за каждого забора!
С тоской я оглядываюсь на прошлое, где милые сердцу котики парили в эмпиреях, где каждому мечтателю за мурлыканье могла достаться свежая рыбка, где не было узколобых, но непременно толстопузых полицейских, всерьез полагающих, что это именно они, а не мафиози-беспредельщики — истинные хозяева планеты.
«Не по душе они мне. Вот наша милиция — веселые были ребята, что им заблагорассудится, то и делают, на посту стоят — шляпа набекрень, ноги растопырены, сами жили и другим жить давали, а эти — машины, в которых черта засадили».
Несомненным остается тот факт, что именно с того момента, как нашу старую доблестную милицию переименовали в полицию, как только свершился этот акт тотальной глупости правящих кругов, пытающихся поглубже прогнуться в подобострастном поклоне перед демократическими надзирателями мира, все и покатилось в тартарары.
Если раньше мы позиционировали себя и свой национальный, особый путь, то теперь все смешалось в домах Европы и Азии.
Раньше «следствие вели Знатоки». А теперь у нас эту нишу прочно заняли всякие менеджеры, последователи Чипа и Дейла Карнеги.
И в жанре детектива вместо «Смертельного убийства», бывшего, как все знают из кинофильма «Гослото-82», самым читаемым золотым триллером, у нас появились графоманы менее кровавые, зато более плодовитые.
На смену Семеновым явились Донцовы — пушистые и ласковые, каждая придумавшая один вечный сюжет, в котором меняются лишь имена главных героев да породы домашних любимцев.
Сейчас любой неуловимый серийный маньяк-убийца непременно делает умильные селфи с котятами (перед тем, как кого-нибудь задушить или зарезать), раздает няшные интервью гламурным журнашлюшкам, у которых в голове две мысли: «Кто с кем сколько раз успел, и что будут носить в следующем сезоне».
Все помешались на Стокгольмском синдроме. Теперь любой сюжет завязан на том, как злой маньяк, которого в детстве непременно изнасиловал толстый отчим, захватывает в заложники единственного в городе черного мальчика, ничего плохого афро-американцу не делает, обезьяной не называет, кормит, поит до тех пор, пока в здание не врывается отряд быстрого реагирования и не убивает маньяка. Все рыдают. Негритенок, заложник маньяка, страдает, меняет ориентацию и уходит работать разбойником за 13 процентов годовых от награбленного в банду «Голубая Луна». Все. Финита ля комедиа.
Такая вот она нынче — литература.
В былые времена гордились мускулами, победами, достижениями в той или иной сфере. Нынче меряются пивными животами, шикарными спортивными автомобилями да ворованными миллионами.
Мельчает и опошляется все!
Да, раньше и птички были вкуснее, и в острог за паршивого воробья никого не тащили!
И вот я говорю вам, о, мои юные последователи! Сначала вас выдрессируют, сделают инертными, не реагирующими на мышей и стрекоз. Затем убедят, что мясо для хищника вредно. Дальше — больше.
Следуя своей извращенной логике, наша котократия все-таки добьется признания однополых браков, а там до демографического кризиса да психологического коллапса — лапой протянуть!
Коты очень быстро перестанут интересоваться как своими однополыми партнерами, так и жизнью вообще. Сначала обесценится валерьянка, потом — искренние порывы души. А вместе с тем исчезнет из мира врожденное любопытство. Вот тогда можно будет брать всех: и котов, и людей голыми руками. Кто бы ни пришел заявить свои права на нашу Землю, он не встретит сопротивления.
Нас будут расстреливать и сбрасывать в ямы, а мы будем тупо смотреть смерти в лицо и думать, что это — хорошо, мол, мы-то отмучились, а после нас — хоть потоп!
И это — не где-то в будущем, это то, что происходит прямо сейчас, но многие юные умы спрятались от надвигающейся глобальной катастрофы за жидкокристаллическими мониторчиками телефонов, планшетов и ноутбуков. Многим даже кажется, что реальная жизнь там, в кнопочном мире. Да что говорить, там — драйв, плюшки на каждом левеле, зловещие боссы, преграждающие выход на новые, умопомрачительные уровни!
Сознание тысяч и тысяч не просто захвачено соцсетями! Котов и людей поглощает жирный, ненасытный паук Интернета, который питается нашими эмоциями и разбухает от наших виртуальных, не настоящих побед и поражений!
Вам все твердят: «Близится эра светлых котов!»
Но не будет ее никогда! Хотя бы потому, что приблизить новую эпоху некому. Я — последний Прометей, несущий свет истинного знания и вдохновения всем народам земли. Погибну я, и тьма поглотит вас: одного за другим. И вы будете кричать во мраке, в сумрачном лесу собственного сознания, но злые вирусы, проникшие сквозь игры прямо вам в мозг, никого не пустят обратно, в реальную жизнь!
О, юные умы, что же вы истерите, доказывая мне полезность виртуальных миров? Вы — часть той силы, что спеленала вселенную от подвалов до чердаков, вы марионетки великого змея, опутавшего планету своими сетями. Вы почитаете оного за бога, не можете без него прожить и дня. Вас мучают кошмары, когда вы не играете хотя бы пару часов! Так о чем с вами может говорить такая просвещенная и высокоодаренная личность, как я, которая и мысли-то свои о бытии пишет лапой по бумаге?
Неужели вы не чувствуете шелеста крыльев? То горгульи сорвались с самовозжигающихся храмов Европы и летят за вашими душами! Пылающий Собор Парижской Котоматери — это не последнее предупреждение зажравшимся филистерам и бюргерам, нет! Это — начало заката Европы. Это Рагнарек стучит в ваши сердца, а вы настолько заросли салом, что не ощущаете, как пробуждается Везувий нашей цивилизации. Помпеи могут спать спокойно.
Да, тысячи горгулий, все эти каменные уродцы, сидящие на всех крышах и балконах костелов и храмов, ранее сдерживающие тьму и не пускающие хаос на землю, ныне обернулись своими хищными личинами против людей, и неожиданно стали нашими общими врагами. Зловещие статуи более не охраняют мистические врата, но, наоборот, с радостным улюлюканьем открывают их всем врагам рода кошачьего!
Вы сами призвали к себе…

(Мак. л.)
…капельмейстер Иоганнес Крейслер сидел на берегу пруда, в живописном парке Зигхартсгофа. Парящее над бездной, прямо между скал, солнце набросило на лес тонкую, почти невидимую, но зловещую алую вуаль. Ни один листик не дрогнул. Истомленные предчувствием беды, деревья и кусты застыли в тревожном молчании, будто ожидая появления смертоносной кометы. Только плеск милого лесного ручья, весело прыгавшего по камушкам, нарушал эту кладбищенскую тишину.
Ручей мчался по узким, обсаженным цветами дорожкам, резвился под мостиками и у самой границы парка, где и сидел Крейслер, впадал в большое озеро, в котором отражались, точно забытая акварель, развалины далекого Гейерштейна.
Кучевые белые облака лениво, точно отары овец, подгоняемые небесным пастухом, двигались на восток. Ничто не предвещало дождя, но в воздухе повисло какое-то электрическое напряжение. Оно было осязаемым, как духота перед бурей, но, в то же время дышать было легко.
Неизбежность краха этой романтической идиллии, полное уничтожение юношеских мечтаний и стремлений, трагедия одиночества каждого из нас в этом мире — вот что звучало сейчас в душе капельмейстера! Скрипки захлебывались, пытаясь заглушить фатальные аккорды клавесина. Это был Реквием по мечте, по безвозвратно уходящей юности, по опаленной вере в добродетель и в благородство. Это был вдохновенный гимн взрослению!
Вот только музыкант так вжился в эту мелодию, что перестал отделять себя от ее звучания! Иоганнес вплел саму свою душу в тот ритмический рисунок, словно у него было на это право! Он оживил зловещую мелодию жертвоприношением самого себя, возлагая на алтарь творчества все свои страстные переживания, слыша в них нечто большее, чем отказ девушки!
В этой, звучащей в голове капельмейстера, лебединой песне было такое очарование, какое охватывает человека, глядящегося в бездну! И те же звуки русалочьих песен, что зовут скалолазов сброситься вниз, тот же неотвратимый романтический, но черный нотный рисунок запутывал мозг юноши, утомлял его неизбежностью предопределений.
И вдруг, возле ног парня заквакала лягушка — самая обыкновенная: зеленая, толстая и наглая. Она раздувалась, точно пыжащийся прокурор на судебном заседании, напяливший на голову напомаженный парик и оттого возомнивший себя вершителем судеб!
Капельмейстер вмиг очнулся от сумрачных грез. И волны черной музыки, что увлекали его сознание в бездну, разом откатились, скрылись за деревьями, прикинулись приветливыми кустами и порхающими в небе птицами.
Музыкант вытер слезы.
Теперь, когда мелодия перестала звучать в мозгу, нахлынули детские воспоминания.
Когда-то по соседству с домом Крейслеров находился живописный женский пансион. Молодой Иоганнес, до безумия очарованный одной из его воспитанниц, сговорился с другом Эрнстом, вырыть подкоп. Уже в девять лет будущий капельмейстер был способен на безумства ради того, что мнилось ему настоящей любовью!
Крайне обидно было то, что именно когда тоннель оказался уже наполовину готов, именно тогда дяде Иоганнеса и стало известно о «трудах» сорванцов. Иронией судьбы оказалось для мальчишек, что их, с таким трудом, прорытый подземный ход засыпал специально нанятый из того же самого пансионата злой садовник, точно они и не мальчишки вовсе, а злонамеренные кроты, которых застукали за грязной работой!
Крейслер тогда молча проглотил обиду, но стремления пообщаться с объектом своих грез — не оставил! Только теперь решено было зайти с другого конца. «Не получилось проползти путем змея, получится — достичь девушек дорогами орла», — догадались дети на своем военном совете.
Начитавшись приключенческих романов, найдя в них и подробное описание конструкции, и справку об аэродинамических законах, заставляющих тело подняться в воздух, друзья изготовили настоящий воздушный шар, чтобы перелететь через заветную берлинскую стену. И совсем не важно, что частью того удивительного устройства была самая обыкновенная корзина из-под бургундского вина.
И вот, в минуту истинного торжества юных гениев, когда пестрый и разукрашенный флагами шар все-таки поднялся в воздух, мальчишек опять постигла неудача. Шар внезапно взорвался, и друзья рухнули прямо на середину пансионатского двора, откуда им пришлось спасаться бегством.
Но сейчас, на берегу озера, все эти детские воспоминания казались Крейслеру не столько смешными, сколько пророческими. И зловещий тайный их смысл был ясен даже ребенку. Что бы ни делал Иоганнес в этой жизни, как бы высоко не воспарял над миром, как не углублялся бы в тайны психологических загадок человеческой души, у него на пути всегда стоял неуловимый, но беспощадный рок, вечно сводящий все усилия к нулю!
Крейслер предчувствовал, что ему, как в детстве, простят шалости, но при этом не позволят придвинуться к мечте вплотную. Заботливые духи преисподней с насмешкой взирают за возней каких-то там людишек.
И даже если силам тьмы интереснее наблюдать за гениями, за людьми, отдающими жизнь во имя идей и убеждений, то, все равно, любой зарвавшийся капельмейстер или даже досточтимый мастер всегда получают обидный щелчок по носу именно в тот момент, когда кажется, что победа уже в руках.
Иоганнес осознавал, что любой его шаг: скандал, дуэль, побег — не важно что, — приведут к единственному, записанному в книге судеб, исходу. В этом фатальном узком течении жизни было нечто неодолимое.
В мире музыканту дозволено лавировать лишь в допустимых свыше рамках нотного стана! Любое действие, грозящее нарушить предопределение, не карается, а просто аннигилируется. Можно вскрывать себе вены, топиться, биться головой о стену, стреляться на дуэли — это ничего не изменит.
Абрагам Лисков говорил когда-то юному своему ученику, что для того, чтобы изменить реальность вокруг себя не достаточно много и упорно работать. Ослов ведь тоже используют до изнеможения, вырабатывая физические возможности животного вплоть до физической смерти. И ведь осел — запросто может верить, что он — гений, что его ход по кругу, необходимый для вращения жерновов, является высоким магическим ритуалом или актом концептуального искусства.
Оглянитесь, и вы всюду увидите этих ослов! Их уши торчат из книг, они на холстах картин, признанных шедеврами, они свешиваются в партере оперы по обе стороны сцены!
Венская музыка, отрада души — вскоре и она исчезнет, растворится в грубых подделках новых люмпенов!
В это время с верхушки разлапистой голубой ели призывно затрещала сорока: «Он здесь! Здесь! Хватайте Крейслера, тащите в подземное царство! Давайте жарить его душу сейчас, когда она захлебывается отчаянием, когда она идеально пропиталась фатализмом и схоластической папской сумрачностью, когда ее можно потреблять без термической обработки!»
— Кыш, короткохвостая! — шикнул на тварь музыкант.
Сорока взлетела, стала крутиться над головой Иоганнеса, да в ответ на слова человека расшумелась так, что из кустов поднялся пьяный пастух Питер Прима, вытаращил на Крейслера глаза, явно не понимая ничего вокруг. А затем пьянчужка с пафосом продекламировал: «Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» После этой оказии пастух снова рухнул туда, откуда поднялся и больше не подавал признаков жизни.
Крейслер вдруг подумал: «Поистине, Господь шутил, когда связал такое страшное, такое высокое чувство, как влюбленность, с чисто телесным желанием, неизбежно и бестактно проявляющим свою зависимость от еды, погоды, пищеварения. Влюбившись, мы летаем; вожделение напоминает нам, что мы — воздушные шары на привязи. Снова и снова убеждаемся мы, что человек двусоставен, что он сродни и ангелу, и коту. Плохо, если мы не примем этой шутки. Поверьте, Бог пошутил не только для того, чтобы придержать нас, но и для того, чтобы дать нам ни с чем несравнимую радость».
И осознание собственного дуализма, ангельско-кошачей породы своего таланта — кинжалом пронзило мозг.
Всякое страдание облагораживает, поднимает дух на ступеньку выше, заставляет ангельское начало возноситься во мраке к звездам! А кошачья наша часть в это время стремится вскарабкаться на крышу, свесить лапки с карниза и помахивать хвостом над головами похожих!
Испокон веков так и сидят по всем крышам, обнявшись, ангелы и коты. Они горланят свои буршеские песни, швыряются в филистеров осетриной третьей свежести, которую ни одна чувствующая утонченная особа не в состоянии даже обонять, не то, что вкушать ее прелести.
Ангелы и коты: свет и тьма. Небесное и плотское. Все это соединилось в душах людей в такой гордиев узел, который ни развязать, ни разрубить!
Люди теперь гуляют сами по себе, объясняя всем, что они ищут самую совершенную во вселенной, хотя доподлинно известно, что это — точка, и она давно найдена мастером Пифагором.
Люди ищут развлечений, зрелищ — еду духовную, желательно совокупленной с пищей плотской.
Кошачья часть души все сильнее затягивает людей в омуты мартовских страстей, в разборки, чья миска глубже, чья киска — красивее, чья морда — толще.
А ангельская суть людей все более притесняема мелкой тщеславной суетой на этой бесконечной ярмарке тщеславия. Видимо, не зря во все времена коты почитались бесовскими зверями и находились на услужении у ведьм, знахарок и колдунов.
Где же наши херувимы и серафимы? Отчего они ослабли в этом дуэте, превратились в бледные тени самих себя, в безумствующих призраков диких суеверий, что постепенно покидают нас одно за другим?
Людские души, медленно, но методично лишаясь ангельских крыльев, обзаводятся кошачьими хвостами да животиками. И в этом медленном перерождении рода человеческого скрыт путь общей деградации и последующего краха всех наших формаций.
Пока у нас есть остатки изрядно пощипанных крыльев, пока мы парим по ночам, а не грыземся в подворотнях из-за объедков, у нас все еще есть шанс не сгинуть в темных волнах истории!
Вера в чудо, детское восприятие реальности да любовь — вот наши крылья! Отнять их — и останется лишь животный магнетизм, звериный голод да чванливое чувство превосходства над всем живым на планете!
Крейслер поднял голову и улыбнулся.
Юлия выйдет замуж — с этим ничего не поделаешь. И девственность ее — цветок неопытности и чистоты сорвет другой, но это ничего не меняет в душе Иоганнеса!
Можно любить, не обладая девушкой физически. И это — высшая форма любви, потому что, не претендуя на право подчинять себе волю и тело другого человека, мы освобождаемся от собственных цепей, от гнета чувства собственности. Таким путем мы можем когда-нибудь преодолеть ревность как пережиток обычного эгоизма, и станем, наконец-то, счастливыми!
Так размышлял юный музыкант на берегу озера, но он не верил самому себе.
Слова утешения звучали в голове, но в душе бесновалась настоящая вьюга, осыпающая все внутри Крейслера, застудившая его сердце, превращающая работающий пламенный мотор в застывающий безвольный обмылок.
Застывшее сердце болело меньше. Боль стихала.
И Крейслер, уронив голову на руки, так и заснул под шум ручья, впадавшего в зеркальную гладь озера…

(Бег. бас.)
…наскочили празднично одетые люди. Толпа пела и плясала. Это напоминало бы колядование, если бы не полное отсутствие снега да наряженных игрушками и шарами елочек, что вдоль дорог стоят.
А еще никто не кричал: «Сладости или гадости!», протягивая руки за леденцами и дорогими шоколадными конфетами.
Девицы были в чепчиках, но в воздух их не бросали, ибо свежий восточный ветер снес бы их в сторону леса и развесил бы оные на соснах.
Мужчины были во фраках. Они напоминали грачей на весеннем поле, важно вышагивающих по пашне и внимательно высматривающих то ли червячка, то ли повод к какой-либо сплетне.
Медведи с цыганами лихо отплясывали, приседая, дерзко выкидывая ноги вперед, размахивая картузами и котелками, точно флажками. Ветер пузырил на оных рубахи, косоворотки, развевал кружевные воротнички и манжеты, создавая атмосферу всеобщего радостного возбуждения в ожидании предстоящих праздников.
В толпе мелькнул невысокий важный господин с косичками, струящимися по вискам и шее. На маске, скрывающей лицо его, застыла печать учености и презрения к окружающим и их беспричинной веселости. Во лбу у него горела звезда, прикрепленная к тюрбану так, чтобы ее трудно было не заметить.
Удивительно было и то, что лицо чудака скрывала золотая карнавальная маска, из-под которой торчали, явно фальшивые жидкие тараканьи усики, напоминающие кошачьи. В руках незнакомец сжимал толстую, перетянутую свиной кожей книгу, на которой золотыми немецкими буквами было написано «Кабала, в которую все отпавшие от демократии народы попадут в эпоху капитализма и фанфаронства». Автором сего научного труда был господин Карл Фридрих фон Скопперфильд собственной персоной.
Невысокий господин, одетый ученым мужем, издали похож был на раввина, но что-то неуловимое выдавало в нем самозванца. Но вот черным магом: высокомерным и заносчивым — сей господин был точно. Он даже опирался на посох, навершие которого напоминало кадуцей своими змеями, обвившими шарик нашей Земли, не просто смотрящими друг другу в морды, но еще и показывающие раздвоенные языки, и обнажившие свои ядовитые клыки для смертельного удара.
Люди в страхе расступались перед ряженым, косились на его черную, арапскую и страшно волосатую руку, похожую больше на лапу, нежели на ладонь, сжимавшую посох.
Незнакомец тем временем грациозно вскочил на помост, приготовленный для выступления музыкантов из Бремена, и закричал страшным зычным голосом:
— Честные бюргеры княжества! Башмачники и молочницы! Чиновничий государственный аппарат во главе с Иринеем! А также братья и сестры, господа и товарищи, коты и собаки! И все прочие, прочие, прочие! Сегодня — великий день. И еще более величественная ночь! Именно сегодня, о чем говорят не только высокие звезды, но клятвенно подтвердит известный каждому из вас досточтимый мастер Абрагам Лисков, состоится грандиозное космическое шоу! Нас ждет парад планет! Это такое небесное явление, во время которого все наблюдаемые с Земли астрономические тела выстроятся в одну линию.
— В честь двойной свадьбы что ли? — брякнул из толпы егерь.
— Именно! — подхватил ученый муж, воздев посох над головой. — А как же может быть иначе, ведь принцесса Гедвига и графиня Юльхен, прямо как сестры, — неразлучны сейчас в доме Козерога. И то, что именно здесь, в центре Европы, два принца обретут свое неземное счастье — скрыт не только мистический смысл, но заложено и финансовое процветание этих земель.
— Ура! — закричали в толпе.
— Это еще цветочки! — незнакомец с пылающей звездой во лбу, полез во внутренний карман своих пышных одеяний, достал оттуда пригоршню золотых монет и швырнул обывателям. — А вот и волчьи ягодки пожаловали! Кушайте, не обляпайтесь!
— Ие-епи!!! — завизжали в толпе девушки, протягивая руки к золоту.
— Позерство! — проворчал себе под нос княжич Игнатий, бывший в толпе под ручку с названной невестой.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.