
Бесплатный фрагмент - Неполное собрание сочинений
1979—2024
Посвящаю Татьяне Лариной — моей замечательной жене, с которой мы вместе уже 25 лет и благодаря которой стали возможны многие мои достижения

Владислав Ларин — исследователь, аналитик, эколог, профессиональный путешественник, эко-дизайнер, литератор, научный журналист, фотограф. Автор десятка книг и сотен статей, опубликованных в разных странах, преимущественно посвящённых проблемам антропогенного воздействия на окружающую среду. Проработал 33 года в журнале Президиума РАН «Энергия: экономика, техника, экология», где возглавлял отдел изучения экологических проблем. Имеет степень M.Sc. (Master of Science) in Environmental Sciences and Policy, Diploma of Manchester University, UK, 1998.

От автора
Любезный читатель, перед тобой книга, которая объединила основную часть литературных произведений, написанных между моими восемнадцатью и шестьюдесятью тремя годами. В течение этих сорока пяти лет был очень продолжительный период, когда я практически не писал литературную прозу. Я писал статьи и книги по экологии, о проблемах сохранения природы и среды обитания человека. Если вас интересует эта тематика — можете почитать мои книги «Архив «экологической гласности», «Комбинат «Маяк» — проблема на века», «Русские атомные акулы», «Охрана природы России от Горбачёва до Путина» и некоторые другие. Я был занят этими работами и у меня не оставалось времени, чтобы написать что-то новое или хотя бы разобрать свой литературный архив.
А сейчас нашлось свободное время, я перебрал свой архив, и решил, что он содержит немало интересных вещей. Я систематизировал свои опубликованные и не опубликованные работы, в результате чего получился основательный том, который было решено назвать «Неполное собрание сочинений». Неполное — потому, что есть ещё немало материалов — дневники, письма, размышления, которые могут оказаться интересными для читателей, но которые пока не разобраны и не систематизированы. Этой работой я намерен заняться в ближайшее время.
Книга, которая сейчас перед вами, объединила пять тематических разделов — прозу, описание времени, в котором я жил, мои путешествия, экономические и аналитические статьи и ещё — записки Чёрной Дыры, которой я себя вижу.
Желаю интересного чтения!
Благодарности и Авторское право
Книга подготовлена в рамках издательской программы секции Документальной литературы (ДокЛит) Московского союза литераторов.

© Владислав Ларин, 2024
По вопросу о приобретении книги в бумажном или электронном виде обращайтесь к автору:
larin.vlad@gmail.com
Глава 1. Опыт прозы
Из сборника «Сержант»
ДМБ-84
Стены той комнаты, в которой их держали на сборном пункте, были выкрашены зелёной краской. На длинных лавках сидели остриженные наголо парни. Одни молча смотрели перед собой, другие — собравшись небольшими группами, вспоминали проводы, громко смеялись и пытались грубо острить. Но по тому, как быстро все взгляды вскидывались на дверь, когда кто-то заходил, было видно, что им не по себе от всего происходящего. Их недавно остригли и голову непривычно холодило. Удивительно, до чего беззащитно выглядит только что остриженный наголо человек. Кажется, что вместе с волосами у него забрали чувство достоинства и уверенность в себе. Хорошо, что сейчас их не могут увидеть девчонки, которые провожая их, плакали вчера. А некоторые смеялись. И всё это было похоже на большой плохо поставленный спектакль. Первое действие закончилось, но сколько их ещё будет впереди. Хорошо, что они пока не знают всего, что ждёт их через месяц, через год, через полтора.
Комната производила странное впечатление. На фоне её зелёных стен всё происходящее было похоже на сложную биллиардную комбинацию, в которой шары напряжённо ожидают удара кия, чтобы перегруппироваться или выйти из игры. Но вместо этого открылась дверь и вошёл аккуратный солдатик в новой парадной форме с погонами младшего сержанта. Его отличную службу подтверждали многочисленные значки, за которыми почти не были видны блестящие пуговицы. Он сурово оглядел притихшие ряды растерянных призывников и громко спросил, кто хочет попасть в ВДВ. Несколько будущих десантников стали проталкиваться к выходу. Остальные молча смотрели на них. Дверь захлопнулась.
К нему подошёл солдат, которой прохаживался между лавками и вроде как следил за порядком. Форма была ему заметно велика и вообще на отличника службы он не походил. Но значок отличника то ли ГТО, то ли «боевой и политической» криво приколотый слева на груди у него был. Были у него ещё какие-то нелепые круглые очки и торчащие в разные стороны из-под пилотки уши. Он чувствовал своё превосходство и оттого был снисходителен.
— Как думаешь, куда повели этих чуваков? — Спросил тот.
Он внимательно посмотрел на солдатика и промолчал. В голосе у того появилось презрение.
— В наряд по кухне их повели, вот куда. Чтоб дураками не были. Ты кем был раньше?
Он опять промолчал. Ответ был ему известен. На сострадательный вопрос старшего по сроку службы: ты кем был на гражданке, ответ должен быть — студентом. После чего следовал плевок в сторону и фраза: а теперь ты — говно. Солдатику с ушами ответил сидящий рядом парень в очень старых джинсах и в телогрейке.
— Студентом. Я три дня назад закончил институт. А что?
Парень с улыбкой смотрел на солдата. Но тому уже надоел этот разговор. Поддерживать надменный тон у него не получалось, а как ещё он мог говорить с этими «призывниками».
— А то, что теперь вы все — дерьмо.
— Сам-то сколько служишь?
— Четвёртый месяц.
— Тебе уже ушиваться можно и дембельский чемодан покупать. Ты вот что — исчезни отсюда. Я присягу ещё не давал. Могу тебе и зубы выбить, дедушка.
— Ну, ты своё в войсках ещё получишь! — Солдатик кричал уже от двери. — Я тебе устрою службу!
Сержант рассмеялся. Ничего ему тогда тот солдат не устроил. Сам, правда, куда-то исчез. Сержант вспомнил, какие грязные и грубо пришитые были у того голубые петлицы и погоны. И ещё он вспомнил, как от скуки вырезал на лавке среди прочих памятных надписей свою — «ДМБ-84». И как это кто-то увидел, после чего штабной сержантик забрал у него нож. А потом почему-то вернул. Вспомнил ночи на городском сборном пункте где-то в районе Таганки или на Волгоградке, когда они спали на нарах — без матрасов и одеял — так тесно, что перевернуться на другой бок было невозможно. Потом их долго везли по июльской жаре в душном общем вагоне, и он помнил, сколько стоила у проводницы бутылка водки, которую они покупали, проматывая напоследок взятые из дома деньги — поскольку кто-то достоверно знал, что всё равно деньги отберут на месте. Они приехали и началась служба.
Сержант лежал спиной на лавке, положив под голову ремень и пилотку. Лавки стояли между плацом и полосой препятствий, и над ними шумели тополя, разбрасывая по плацу сухие жёлтые листья. Завтра утром их придётся собирать и, завернув в дырявую плащ-палатку, уносить куда-нибудь за территорию. Но это будет завтра. Он уже научился не думать о том, что заставят делать завтра. Достаточно того, что на сегодня занятия закончились, они прошагали по плацу сколько надо километров и теперь до вечерней поверки можно полчаса полежать здесь, слушая шелест листьев и следя за тем, как на остывающем небе появляются низкие сентябрьские звёзды.

Осень только начиналась, но в этом климате — сухом и жарком — деревья начинают желтеть и осыпаться уже в середине лета. Особенно тополя. Наверное, их здесь для того и посадили, чтобы солдаты не скучали. Сначала надо собирать лохматые тополиные серёжки, которые падают в начале лета, а чуть позже начинается листопад. От жары листья высыхают прямо на деревьях и постепенно осыпаются — до самого октября. Вроде и немного их на плацу и дорожках, но попробуй не убери — сразу это заметит какой-нибудь командир. И его нагоняй будет спускаться из верхних инстанций, пока не доберётся до самого главного виноватого — до солдата. И уж тогда только держись — получишь расписдонов на полную катушку.
Сержант закрыл глаза. Всё-таки сейчас стало посвободнее, можно даже полежать немного на лавке и подумать обо всём этом. Первые месяцы строевых и классных занятий было столько, что некоторые курсанты засыпали вечером перед телевизором — пытаясь при этом смотреть в экран, где шла обязательная для просмотра программа «Время» — новости с полей, со строек коммунизма и из дружественных африканских держав. В проходах стояли старослужащие наставники — командиры отделений. Если кто-то опускал глаза от экрана — один из них срывал пилотку с ближнего к нему бойца и швырял в уснувшего — стараясь попасть в голову. После этого следовал окрик: передать сюда пилотку! Многие передавали, но можно было и швырнуть её обратно. Тогда сонный просмотр программы «Время» заканчивался и начиналась вечерняя прогулка по плацу с песней. Отбой мог быть отложен на час или два — всё зависело от того, насколько солидарны были бойцы с тем, кто швырнул пилотку обратно в командира. И до «ДМБ-84» было ещё как до луны.
1986 г., Индийский океан, НПС «Фиолент»
Клуб независимых интеллектуалов
Дуло автомата было огромное. Оно закрыло собой весь мир, тупо глядя в лицо обрезом глушителя. А там, в дали, на другом конце этого огромного ствола стоял маленький человек. Эрик даже не попытался встать — ему показалось, что из кустов выехал танк.
— Лечь на землю, руки за голову. И без глупостей, — сказал обладатель автомата. — Где оружие?
— У меня нет оружия. Могу я одеться? — Эрик лежал на камнях в одних плавках. Он только что выбрался из воды и не успел обсохнуть
— Сможете. Только сперва короткое сообщение. Человек с автоматом быстро обшарил рюкзак Эрика и его одежду. Не найдя ничего интересного, он отошёл в сторону. Его тяжёлые, разбитые ботинки оказались в трех шагах от головы Эрика.
— Вы находитесь на территории, контролируемой боевыми дружинами Клуба независимых интеллектуалов. Сюда может пройти каждый, подтвердивший свои добрые намерения и согласный с основными идеями. Клуб представляет собой свободное объединение людей, ищущих способы исправления перекосов нашей цивилизации. Клуб принимает любые формы содействия от честных граждан. Наказанию на нашей территории подлежат только любые формы диверсий против работающих здесь людей
— У вас что, каждый интеллектуал имеет такую игрушку для вытряхивания мозгов из своих ближних?
Ботинки исчезли из поля зрения Эрика.
— По праву вооруженного человека, вопросы буду задавать я. Кто вы?
— Мне неудобно разговаривать в таком положении.
— Можете встать и одеться. Только не делайте резких движений. Эрик не спеша поднялся и натянул штаны защитного цвета. Рубашка была вся изорвана об кусты, поэтому он натянул свитер и присел на рюкзак.
— Меня зовут Эрик. Эрик Янссон. Некоторые называют меня научным журналистом. Но это не совсем точно. Мои интересы намного шире. Сейчас я согласился на предложение администрации вести с вами переговоры относительно возможного взрыва на заводе п/я-12670. Поэтому прошу проводить меня к вашим людям, которые могут влиять на принятие подобных решений.
— Это ты зачитываешь выписку из протокола?
— Нет, пытаюсь быстро и понятно сформулировать цель моего появления у вас.
— Мне кажется, я тебя знаю. Читал что-то твоё.
— Вряд ли. Меня уже давно не публикуют.
— Я недавно листал подшивку «Зелёного еженедельника». Кажется, мне там встречалась твоя фамилия. Точно! Рассказ про старика который уходит по лунной дороге.
— Может быть. Но давай сперва о деле. Мне нужно поговорить с кем-нибудь из ваших руководителей.
— Тогда можешь говорить со мной. Я буду проводить эту акцию. А руководителей в твоём понимании у нас нет. Решения принимаются коллективно. Клуб проведёт этот взрыв. Это решено и говорить об этом бесполезно.
— Там работают люди.
— Они предупреждены.
— Зачем вам это?
— Вопрос диалектический. Это нужно всем. Просто пока не все это понимают. Фирма платит людям деньги и берёт на себя их грехи в обмен на прибавочную стоимость. Они пьют воду из озера, хотя все знают, что на его середину выведена труба, сбрасывающая двадцать кубометров отравы в секунду. Они дышат воздухом, от которого болеют их дети. Они вредят себе и другим, но у них нет другой работы. За попытку сменить работу и уехать они остаются на том же заводе, только в качестве заключённых рабов. Они знают, на что идут. Им за это хорошо платят. Кроме того, им говорят, что их работа необходима для безопасности государства. Государства, у которого нет других целей, кроме завоевания всего цивилизованного мира. И таких заводов тысячи. Но те, кто на них работают, этого не знают. В их газетах об этом не пишут. Мы знаем больше поэтому нам приходится действовать за них. Я достаточно ясно излагаю?
— Весьма.
— Мы дали администрации срок двадцать дней, чтобы остановить производство. Пока это не сделано. Видимо, нам придётся это сделать своим способом.
— Послушай, а не слишком ли это грубый способ излагать свою точку зрения для независимых интеллектуалов?
1987—1988 гг., нашёл этот набросок в машинописном виде в своём архиве
Сказка об игре и оружии
Наверное, это всё-таки не сказка, а что-то другое. А может быть и сказка. Во всяком случае я именно так представлял в детстве сказочные события. И почему-то я был уверен, что они обязательно когда-нибудь сбудутся, хотя для этого не было никакого повода. Но ведь сказки для того и существуют, чтобы людям было к чему стремиться. Сначала нет никакой надежды, но проходит время, и вот…
Замысел рождается осенью. Конечно, он может возникнуть и летом, и зимой, и, наверное, даже весной. Но этот замысел рождается осеню, когда ветер обрывает с деревьев оставшиеся листья, а из серых туч сыпется что-то холодное, мокрое и липкое. В такую погоду, конечно, даже надежды не может быть на то, что какие-нибудь замыслы могут когда-нибудь сбыться. Поэтому сперва недоверчиво и немного печально рассматриваешь эту мысль со всех сторон и думаешь: эк тебя занесло, бедняга. А потом, вдруг, вопреки логике и неожиданно для себя самого садишься за стол, достаёшь пачку белых листов, оранжевую ручку — ту самую, которая уже приносила удачу, и несколько книг. Конечно, дело совсем не в ручке. Толку от неё не больше, чем от кроличьей лапки в кармане. Тем более, удачу приносила не только ручка, но и другие предметы. Хотя, скорее всего удачу приносишь себе сам, а всякие амулеты и талисманы приносят пользы не больше, чем заклинания — они имеют силу лишь тогда, когда веришь в них и чувствуешь себя под их защитой. А защиты-то как раз и нет. Только вера в себя и в осень, которая всегда с тобой. Но этого оказывается достаточно.
День за днём, а точнее — вечер за вечером на бумагу ложатся строки. Сначала они радуют, но это быстро проходит, и на них становится неприятно смотреть. Чувствуешь, что ввязался в какое-то тёмное дело, бросить которое мешает осень. Потом осень заканчивается и вдруг видишь, что уже есть несколько страниц, на которые можно смотреть без горечи, но с удивлением — надо-же, получилось! Хотя, какой в этом толк? Об этом уже так много написано, что невозможно сказать что-то новое. Отлично понимая это, всё-таки отдаёшь рукопись людям, которые, как считается, разбираются в таких делах. А на улице лежит снег.
Потом начинает светить солнце. Как хорошо в это время спускаться с горы на тяжёлых, широких лыжах и чувствовать свою власть над ними, и падать вниз, разбрасывая снежные фонтаны на поворотах. А потом сидеть на открытой деревянной веранде, и не снимая мокрых ботинок есть горячее жареное мясо, пахнущее дымом, с луком и перцем, запивая его холодным красным вином. И смотреть на яркие одежды лыжников, на их красивый спуск по последнему, самому разбитому и облизанному солнцем участку трассы. А потом самому скользить по сырому, зернистому снегу, не спеша обрабатывая бугры и посматривая на пики гор, особенно на одну из них, напоминающую гигантский зуб с длинным и непонятным, но явно нелатинским названием.
Такая зима иногда даже бывает не хуже осени. Но она постепенно превращается в весну, а это значит, что пора возвращаться к столу, на котором уже лежат те самые страницы в плотном конверте. На конверте вместо марки стоит штамп, и это не обещает ничего хорошего. Появляется какое-то предчувствие… Хотя, какое к чёрту может быть предчувствие после того телефонного разговора. Академик долго, устало и сердито объясняет своему молодому и наивному оппоненту, что чёрное — это белое. Он ещё не знает, что жизнь очень скоро всё расставит по своим местам, и тогда все сами увидят, что чёрное — это действительно чёрное. И тогда сам академик вспомнит своё студенчество и, кажется, начнёт что-то понимать. Жалко, что телефонный разговор случился до этого.
Неаккуратно напечатанная рецензия не оставляет камня на камне от того здания, которое было с трудом построено осенью. Всё кажется очень логичным, и ты понимаешь, что это дело надо бросить. И когда эта мысль уже укореняется в сознании, ты назло себе садишься и пишешь всё заново. Человек рождается для того, чтобы побеждать. Эта мысли надёжно сидит в голове и не позволяет отступить или свернуть.
Рукопись рождается вновь. Но в другом виде, да и название у неё теперь другое. Откуда-то появляется новая рецензия и летом становится ясно, что, кажется, события складываются благоприятно. Но ведь это уже бывало. Ты научился не доверять не только некоторым хорошим людям, но даже благоприятно складывающимся обстоятельствам. Так легче, когда эти самые обстоятельства, против всяких законов природы опять поворачиваются задом.
Потом рукопись режется на части и составляется вновь. Странно — от этой операции она ничего не теряет. Даже, вроде бы, становится интереснее… Но это уже не имеет значения. Слишком сильно всё это надоело. И вдруг — готовые, чисто напечатанные на машинке красивым шрифтом страницы лежат на столе. Ничего не было, и вдруг — пожалуйста. Это как во сне, когда не удивляешься самым невероятным событиям. Нисколько не волнуясь, ты опять относишь рукопись, красиво отпечатанную на машинке туда, где решится всё.
Лето заканчивается. Снова подкрадывается осень и опять подбрасывает своё подмётное письмецо — новый замысел. Ты берешь пачку чистых листов… и уезжаешь очень далеко, забыв обо всём. Как хорошо оказаться опять в лете, обманув тем самым осень со всеми её замыслами и прочими химерами. Вокруг море — целый Океан. Солнце. Волны. Дальние страны, которые можно увидеть только во сне — вот они — справа и слева. Трудная, важная, а главное — интересная работа. Но ты чувствуешь, как по вечерам руки всё настойчивее ищут ручку и тянутся к белым листам. Значит, это начинается опять, и осень здесь не при чём. Она, как кроличья лапка лежащая в кармане, рождает веру в себя. И в успех тоже. Значит, это не осталось на том берегу, и теперь никуда от этого не деться. И перо всё быстрее бежит по бумаге, оставляя за собой неровные ряды коротких и таких трудных слов. И всё начинается сначала. Только теперь рецензентом являешься ты сам, и непонравившиеся страницы не возвращаются обратно в конверте из плотной коричневой бумаги с штампом в правом углу, а летят в волны. И ничего не понимая, над ними потом долго кружатся огромные океанские чайки.
Ты начинаешь понимать, что кажется, слова становятся смыслом жизни. Это придаёт им цену, и ты более придирчиво отбираешь их, складывая потом между страницами — чтобы они всегда были под рукой. Ты учишься обращаться со словами не как с легковесными игрушками, а как с точным инструментом, или даже как с оружием. И понимая это, они начинают сами тянуться к тебе, отсеивая по дороге мусор и хлам, чтобы сразу было видно их достоинство.
Потом откуда-то появляется радиотелеграмма. «Поздравляем публикацией тчк. Очень рады тчк. Здорово получилось тчк. Молодчина». А в это время мимо борта на безопасном удалении проплывает огромный сине-зелёный айсберг, до блеска облизанный волнами и солнцем — в Антарктике сейчас стоит полярный день. Поэтому проходит ещё много дней, прежде чем можно взять в руки журнал, и среди фотографий и ярких рисунков увидеть те самые строки, которые рождались прошлой осенью, на кухне, по вечерам, когда свет лампы ярким кругом лежал на первых исписанных листах. Обыкновенный журнал. Трудно рассказывать об этом тому, кто не испытывал подобного. А тому, кто это испытал — говорить об этом незачем. К тому же, это сказка.
Хорошо, что если очень захотеть, сказка может оказаться вовсе не сказкой, а журналом со знакомыми строчками. И увидев их, впервые понимаешь по-настоящему, что все неприятности — это мелочи для человека, родившегося побеждать. И это чувство остаётся с тобой навсегда, хотя, пожалуй, особенно приятно его испытать осенью.
18 февраля 1987 г., Антарктика, море Космонавтов, НПС «Фиолент»
Лунное диво
Мы бежим к лесу. Лыжи посвистывают по крепкому насту, а в лицо дует ветер. Позади осталась светлая комната, музыка, смех. Мы сбежали оттуда ради зимней ночи.
Дышится легко, от бега в темноте — ощущение полета. Мчусь по ледяной корке, пригнувшись и наслаждаясь скоростью. Позади папа. Он не отстает и край леса быстро приближается. Вот и первые сосны. Сбавив скорость, не спеша идем по просеке. Справа и слева — стена леса. Останавливаемся.
Удивительная тишина, нереальная для Подмосковья. От нее начинает звенеть в ушах. Это абсолютная тишина. Изредка, резко разрывая ее, треснет дерево на морозе, но после ночного звука тишина лишь усиливается. Становится жутковато. И только то, что я не один, успокаивает. Подобное было у меня однажды на Севере. Я сидел один в избе и писал. Неожиданно что-то заставило меня оторваться. И я услышал ее. Она была та самая, до звона в ушах. Никаких грубых и нелепых звуков. Только она. И только редкий стук капель, падающих с оттаивающего окна в лужу на полу. Только силой воли я отогнал ужас, захолодивший спину.
Пройдя лес, мы выходим на поле. И снова бег. Отталкиваюсь и лечу под гору. Свист ветра в ушах, а вокруг — серебряное безмолвие лунной ночи.
По иссини-черному небу плывет огромная, холодная, чуть желтоватая луна. А в его глубине мерцают крупные голубые звезды. Над нами действительно свод неба — купол черного бархата с рассыпанными по нему бриллиантами, переходящий за горизонтом в серебряную тишину.
Мы останавливаемся и молчим, пораженные. Среди безмолвных снегов, под лунным дождем и черным небом слышен звук. Наверное, этот хрустальный звон издает свет луны, медленно льющийся на снег. Несколько минут мы не можем прийти в себя — мы слышим лунный свет! Привыкнув, медленно идем дальше. Звук чуть усиливается. И исходит он уже не с неба, а из-под ног. Проходим еще немного и видим ручеек. В этот мороз его заковало в ледяное русло, но неутомимая вода промыла маленькое окошко и, на мгновение выскочив на мороз, снова скрылась под настом. Весело журча и играя лунной рябью, ручеек в окошке улыбался. И казалось, что он радуется нам, двум бродягам, нашедшим его в эту лунную ночь. Я нагнулся и глотнул из него. Такого чуда я не пил никогда. Это была вода, настоянная на лунном свете, морозе и тишине.
17 декабря 1979 г., Москва
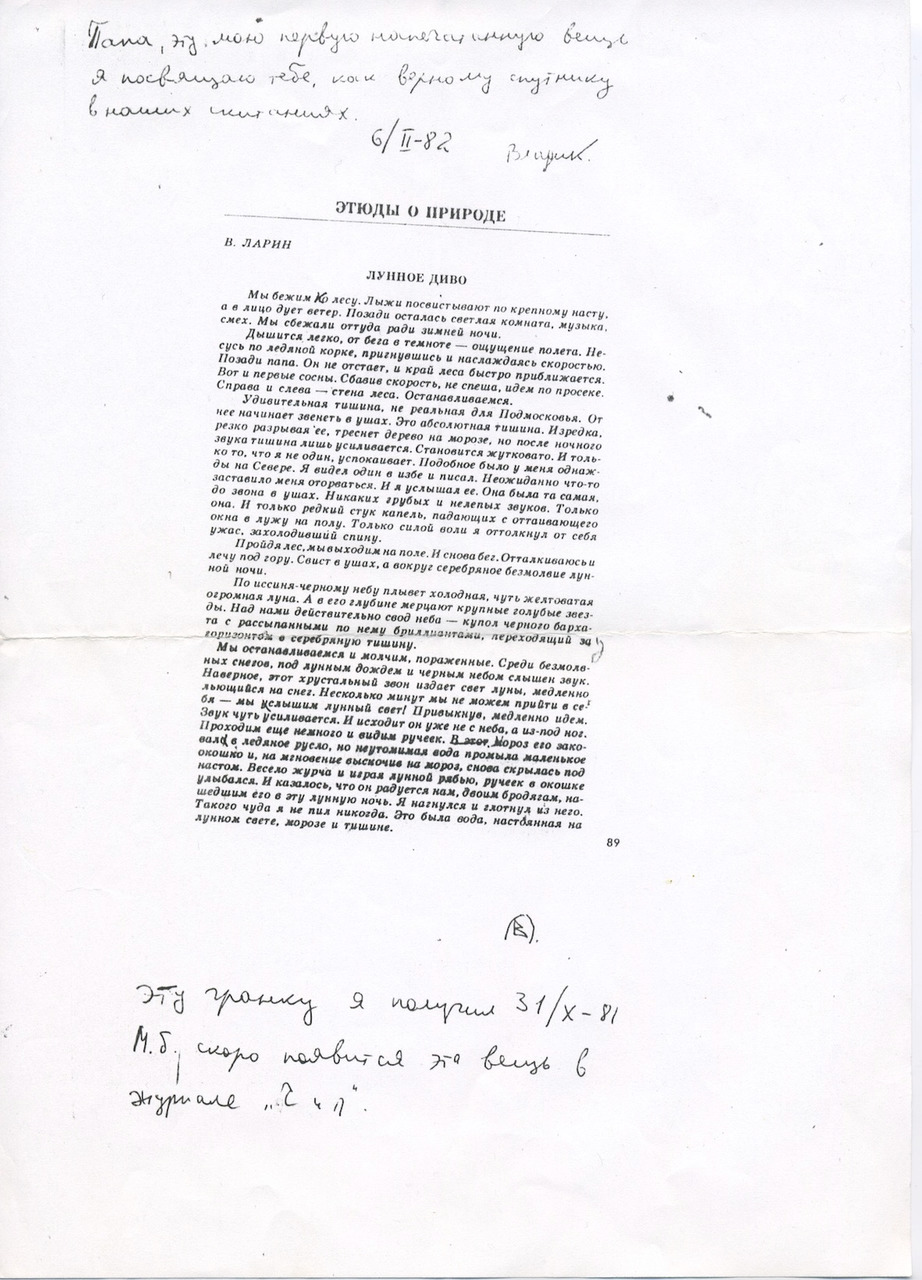
Сеанс спиритизма
Глухая ночь. Тесная деревенская горница. Мерцают две оплывшие свечи. Вокруг круглого столика, по краю которого мелом написаны буквы алфавита, сидят пять человек. Они не сводят глаз с движущегося по его поверхности перевернутого чайного блюдечка с черной меткой на краю, сделанной копотью свечи. Их пальцы слегка касаются краев блюдца, которое все быстрее перемещается по столу. Сидящие люди завороженно следят за ним.
Блюдце замедляет свой бег и останавливается в центре круга.
— Полночь. Сейчас мы попробуем вызвать дух Пастернака, — говорит пожилая хозяйка дома, сидящая в халате на диване. — Борис Леонидович, вы здесь?
Блюдце медленно начинает перемещаться по кругу. Оно плывёт не спеша, как бы рассматривая и выбирая одну из букв алфавита, написанных по краю стола. Постепенно скорость движения блюдца увеличивается, оно начинает просто метаться по кругу.
— Не хочет говорить. Наверное, мешает какой-то местный дух, — предполагает молодая женщина-художница и меняет руку, лежащую на блюдце.
— Кто вы? — Спрашивает она неведомого духа.
Блюдце не отвечает. Оно перемещается по кругу — то замедляя, то ускоряя свой бег. Тишина. Только слышен шелест от движения блюдца по столу и напряженное дыхание участников. На стенах качаются тени. За окнами — темень деревенской ночи. В окна начинает стучаться осенний дождь. Слышен вой собаки.
— Если вы не хотите назвать себя и говорить с нами, то будьте добры — не мешайте нам.
Блюдце замедляет движение, делает несколько кругов по поверхности стола и замирает в его центре.
— Кажется, он ушел. Давайте попробуем вызвать дух Ахматовой.
— Анна Андреевна Ахматова, вы здесь?
Блюдце выползает из круга, нарисованного в середине стола, и, передвигаясь по его полю, останавливается меткой против буквы «д». Затем движется дальше и несколько раз обойдя стол, выбирает букву «а».
— Анна Андреевна, что вы больше всего цените в людях?
— Ум. А также глупость. Точнее — умение казаться глупой, — складывает художница фразу по буквам, указанным блюдцем.
Сказав это, блюдце замедляет движение.
— Есть ли бог?
Блюдце не спеша ползет по кругу. Затем, совершив маневр, начинает вращаться в противоположную сторону. Останавливается. Движется дальше. Из букв складывается ответ:
— Бога нет. Есть бездна.
Собравшиеся молчат, обдумывая ответ духа.
— Ахматова была поклонницей спиритизма, поэтому ее дух легко вызвать, и она охотно делится своей мудростью с начинающими поклонниками нечистой силы, — сообщает художница.
После этого удается вызвать дух Пастернака, но он предельно лаконичен, а его ответы туманны.
— Пастернак не хочет разговаривать. Давайте попробуем вызвать Александра Блока, — просит юная девушка, едва касаясь пальцами края блюдечка.
— Мы вызываем дух Александра Блока, — говорит пожилая женщина. — Вы здесь?
Немного подумав, блюдце ответило «да».
— О чем вы хотите с нами поговорить?
— О буре, жизни, счастье, любви, ненависти, добре и зле, — был ответ.
Все сидели, затаив дыхание.
— Александр Александрович, вы еще здесь?
— Да.
— Чем добро отличается от зла?
Блюдечко задумалось, затем медленно составило фразу:
— Это две дочери одной матери.
Как показалось присутствующим, ответ был вполне в духе Блока.
— Александр Александрович, чем вас привлекает буря?
Это спросил молодой человек, всего несколько минут назад настроенный весьма скептически ко всему происходящему. Теперь его скептицизм улетучился, и он следил за блюдцем широко раскрытыми глазами. Но ему Блок отвечать не стал.
— Александр Александрович, вы будете еще с нами говорить?
— Да.
— Что такое любовь?
— Любовь — это чувственное восприятие мира и души, — был ответ.
Такова была последняя вразумительная фраза. И участники, и духи утомились, фразы стали получаться путанными…
24 августа 1980 г., Галахово
Костёр
Дождь шел вторые сутки. С гор дул ледяной ветер и было очень холодно. Ветер срывал накидки и поэтому штормовки, штаны, рубахи, рюкзаки — всё было мокрое. В ботинках при каждом шаге хлюпала вода. Снег раскис от дождя и стал ноздреватым. Ступени, протоптанные первыми, обваливались и нога глубоко уходила в мокрый снег. Провалившийся некоторое время собирался с силами, потом выпрямлялся под рюкзаком и обходил опасное место.
Несколько часов они поднимались по лавинному выносу, где снег был плотнее и не было деревьев — их смели зимние лавины. Вокруг из-под снега торчали поломанные кусты и не было ни одного целого дерева, ни одной ровной площадки, где можно было бы остановиться. А вверху, закрытый близкими тучами, лежал перевал.
Тупо давила усталость. Наступала апатия. Люди шли очень медленно, с трудом переставляя ноги, а их плечи уже давно перестали чувствовать лямки рюкзаков. Останавливаться было нельзя. На ходу, под рюкзаком, холод не чувствовался, но стоило остановиться — наступало оцепенение. Ничего не хотелось. Только повалиться на рюкзак, сжаться в комок и хоть немного согреться, не теряя тепло на движение.
Надо было идти. Уже перестали останавливаться на отдых и только шли, монотонно ставя ногу в след и время от времени сменяя переднего. Местами с гор полосами сползал туман и разделял их, но люди не обращали на это внимания — есть следы, значит впереди кто-то идёт. Значит ты тоже должен идти.
Они не видели ни гор в тумане, ни вывороченных лавинами деревьев, ни серых туч, закрывающих вершину. Только грязный лавинный снег и мокрые следы на нём.
Наконец им встретилась площадка с двумя высокими елями, не задетыми лавинами. На ней можно было поставить две палатки. Люди сбросили рюкзаки и ледорубами стали выравнивать обледенелый снег. Под непрекращающимся дождем поставили палатки. Движения были медленны — в них чувствовалась непомерная усталость. Одолевала дремота.
Но надо было развести костёр, чтобы согреться, обсохнуть, поесть — и люди медленно разошлись за дровами. Деревьев на склоне не было — их повалила и засыпала лавина. Местами из снега торчали поломанные сучья. Дрова приходилось выкапывать из-под снега — ледяные и мокрые. Люди разгребали снег и вытаскивали из-под него стволы. Снег обваливался под ногами, топоры скользили по мёрзлой древесине, а окоченевшие руки переставали что-либо чувствовать.
Влажные спички горели плохо, мокрые дрова шипели и не хотели разгораться, а только костёр занимался — порыв ветра его задувал. Дождь не прекращался. И всё-таки огонь появился, укрытый от стихии людскими ладонями. Пусть маленький, неуверенный и дымный, но это был огонь. А значит тепло, еда, жизнь…
23 июля 1981 г., Забайкалье, река Малый Амалат
Самый первый день
2 июля 1983 года
Каким ясным и тихим было то утро! Листья деревьев слегка шевелились. Идти под деревьями было приятно и прохладно. Улицы были пустые — в субботу люди не хотят вставать рано. Позади, над городом поднималось солнце. Несколько раз я обернулся — солнце было чистое и свежее, каким оно бывает ранним летним утром. Начинался хороший день, но я знал, что он станет одним из тех дней, о которых не захочется вспоминать.
На мне была старая (чтоб не жалко было бросить по прибытию в войска) серая — ещё отцовская, начала шестидесятых годов — куртка, а на плече я нёс полупустой мешок. Шёл я быстро, чтобы скорее преодолеть границу между светлой прошлой жизнью и тёмным будущим. Жизнь входила в тёмную полосу. Я был к этому готов.
Подойдя к воротам стадиона, я увидел группы людей, идущих в том же направлении. В каждой группе один человек был одет как я, а остальные ярко, даже празднично. Они были возбуждены, некоторые пели что-то бодрое. Женщины подносили платки к глазам. Девушки говорили громко, и в их голосах чувствовалось напряжение. Они не знали, как себя вести.
Я вошел на стадион «Октябрь» и спустился по асфальтированной дорожке, обсаженной березами. Когда двадцать лет назад эти берёзки только посадили, они были чуть выше меня. Тогда их забыли полить, и мы с папой носили воду в моём детском ведёрке от крана неподалёку и поливали крошечные деревца. В то время было принято делать во дворах уличные краны. Теперь берёзы стояли высокие и зелёные.
Я увидел место сбора, прошёл через толпу и сел на лавку в тенёчке. На меня оборачивались. Я был один. Все остальные были с кем-то. Сняв куртку, я бросил её на лавку и подошёл к питьевому фонтанчику. Но пить эту воду не хотелось. Я набрал в рот воды и выплюнул. Со стороны могло показаться, что я часто прихожу сюда по утрам, что я привык и это мне уже надоело. Но это было не так. Я не знал, что будет со мной завтра.
Подъехал автобус, и женщины уже не пытались скрывать слёзы. Девчонки что-то возбуждённо говорили. Остальные смотрели в землю или по сторонам. Это было тягостное прощание. Я пришёл один. Мне не с кем было прощаться, и я первым залез в автобус. Так начинался мой первый день в армии.
5 июля 1983 г., Москва, городской сборный пункт
Третьи сутки торчим на городском сборном пункте. Днём сидим на нарах, ночью на них спим. Спина, бока, а особенно зад болят изрядно. Нас никак не могут отправить в Волгоград, в сержантскую учебку железнодорожных войск, поскольку команда полностью не сформирована. Скучно. Думать получается только о том, как бы поудобнее сесть или лечь. Ещё можно спать, читать — если найдёшь чтиво, или вспоминать.
Когда я шёл на стадион «Октябрь», где был назначен сбор призывников, над улицей Рогова вставало солнце. На стадионе играла гармошка, кто-то что-то пел, чувствовалось волнение и излишне бодрый настрой. Мамаши роняли слёзы, рекруты балагурили с друзьями и обнимались с подругами. Когда объявили, что пора лезть в автобус, я зашёл в него один. Потом начали вырываться из цепких лап провожающих остальные призывники. Родители прильнули к окнам, но сопровождавший капитан дал команду и два призывника полезли закрывать окна. Родители хотели продлить время расставания и поспешили к военкомату, куда нас повезли.
Отобрали паспорта и приписные свидетельства. Выдали военные билеты. Построили в две шеренги лицом друг к другу. Между шеренгами — проход, в котором лежат наши вещи.
— Выложить содержимое вещевых мешков! — Первый шмон. Дальше такое повторялось по несколько раз за день. Отбирали одеколон, бритвы, ножи. Меня капитан обхлопал самолично, но ничего не обнаружил.
В военкомате нас долго держать не стали и повезли на городской сборный пункт. По дороге выяснилось, что в армию могут не пустить за плохое поведение или в случае болезни. Один поддатый паренёк излишне шумно вёл себя в автобусе — проявлял лихость и бесшабашность. Капитан сказал водителю остановиться и открыть дверь.
— Выйдете, призывник! Отправляйтесь домой, осенью придёте. — Это произошло по дороге в военкомат, военные билеты ещё не выдали. Парень подумал, что его в самом деле могут отправить домой. Получилось бы смешно — с работы уволился, деньги пропил, с друзьями-подругами простился, и опять — здрасьте, я вернулся! От такого поворота он сразу протрезвел, и капитан сжалился — разрешил ему вместе со всеми ехать в армию. Скорее всего со стороны капитана это был блеф. Нас забирали в армию в начале июля, летним «спецнабором», дав доучиться кому в институтах, кому в техникумах или ПТУ и кое-кому удалось получить дипломы. В войсках был недобор — шёл третий год Афганской войны. В армию никто не рвался, поэтому мелким бреднем мели всех, кого можно было замести…
Утренняя Москва. Лето. Солнышко. Люди куда-то спешат. А мы — подневольные рекруты. Мешки с остатками еды отобрали. Жрать охота. И тут сообщают, что «на довольствие» нас не поставили. Выйти в город нельзя — ГСП обнесён забором, по верху — колючая проволока, на КПП охрана. Обед есть, но за свои — пятьдесят семь копеек. У кого были деньги и кому хватило еды — хорошо. Остальных вообще кормить не стали. Мешки утром отбирают, вечером возвращают. Они лежат в шкафах на улице, на жаре. Вечером из них воняет тухлой едой. Вроде, начали подкармливать — два раза в день. Для тех, у кого остались деньги — есть буфет, в котором практически нет ничего съестного.
Все дни сидим в душном корпусе на деревянных нарах. Происходит переоценка ценностей. Постоять на перекличке на плацу, на свежем воздухе — уже хорошо. Всё не безделье. Увидел у одного парня несвежий номер журнала «Новый мир» — взял и прочитал за день. Опять скука. Вот, даже взялся за писание, хотя писать не хочется — совсем обленился.
Народ вокруг интеллигентный. Это я понял, когда все пришли на сборный пункт чистенькие и трезвые. Водку при обыске ни у кого не нашли — удивительно. Народ — выпускники и первокурсники, которых призвали, не дав доучится. Нам-то доучится удалось, с дипломом о законченном высшем образовании служить придётся полтора года. А вот первокурсникам придётся «отдать долг» по полной.
Так, кажется за нами пришёл покупатель. Сейчас начнутся армейские будни…
2 мая 1984, вагон на железнодорожной станции Наушки, ЗАБВО
Последний перевал
Дождь не переставал всю ночь. Ветер рвал палатки, стараясь унести их вниз. Он бил в стенки палаток, расшатывая крепления. Сырость проникала всюду. Вещи были мокрые, а в углах палаток стояли лужи. Но у людей был огонь. Он горел всю ночь под разлапистой елью, которую не задела лавина, и теперь его надо было только подкормить. Он разгорался неохотно и языки пламени метались по ветру. Скоро огонь загудел и от него пошел ровный жар.
Когда вещи стали сухими, люди вновь тронулись в путь. За ночь снег размок ещё сильнее и нога глубоко проваливалась в него. Но теперь люди отдохнули, согрелись и ничто не могло их остановить. Они упрямо шли вверх. Кусты остались внизу и теперь люди поднимались по осыпи, закрытой снегом. Сверху нависали скалы. Дождь стал стихать и туман медленно рассеивался. Тучи продолжали нестись на восток, но в просветах появлялось голубое небо. Они были уже под самым перевалом, когда тучи разошлись и на синее небо выкатилось солнце. В его лучах резче обозначились черные вершины, закрывавшие горизонт и оттененные сиянием белой пустыни.
Сильный холодный ветер, стекавший с вершины, валил с ног. Солнце, отражаясь от снега, резало глаза и жгло кожу. Не спасали от него даже темные очки и капюшоны. Но люди шли вперед — сегодня необходимо взять перевал. Они проваливались в снег, спотыкались, скользили по фирну и падали, но поднимались и шли опять — всё выше и выше.
Последний скальный выступ. Люди обошли его и поднялись на плечо перевала. Перед ними открылось гигантское пространство, покрытое снегом. Местами поднимались черные скалы, обрывавшиеся вниз вертикальными склонами. Это был последний перевал. Позади лежала горная страна с перевалами, лавинами и снежными пиками. Впереди тёмной полосой просматривалось море. Оно было ещё далеко, но теперь люди видели цель. Никто не сказал ни слова. Они стояли и смотрели друг на друга, на море и на горы. Их загорелые, обветренные и заросшие бородами лица улыбались впервые за много дней.
Ветер стих. В тишине глухо ударил и медленно покатился, нарастая, гром — недалеко сошла лавина. Она катилась вдоль склона, нарастая и увеличивая скорость, пока не скрылась внизу. Люди, сжав зубы, следили за ней. Лавина сошла по тому склону, где они только что поднялись. Горы прощались с людьми…
12 апреля 1982 г., Москва
Жажда
Спускаясь с перевала, они потеряли тропу. Сперва она разделилась на две. Они пошли по более нахоженной. Затем разделилась ещё на две и скоро исчезла совсем. Наверное, это была звериная тропа.
С перевала люди видели море. Оно блестело вдали сине-стальной полосой. Теперь море скрылось из глаз. Тропа исчезла, но люди продолжали идти. Солнце поднялось высоко и жгло так, что камни туманились в дрожащем мареве. Снова начался подъём. Он был засыпан щебнем от разрушенной горной породы, по которой вместо двух шагов приходилось делать четыре. Каменная крошка осыпалась под ногами и тонкими струйками с шелестом скользила вниз. Кустов и травы на склоне почти не было. Только щебень и расколотые трещинами обломки скал. Когда на них кто-нибудь наступал или опирался — они крошились и осколки катились вниз — на идущих сзади.
Пот капал с бровей и попадал в глаза. Рубахи прилипли к телу, а лямки рюкзаков так врезались в плечи, что к ним было больно притронуться. Хотелось пить. Но останавливаться в этом каменном потоке, медленно стекавшем вниз, было нельзя. Как только человек останавливался — щебень под ногами приходил в движение и начинал сползать.
Протекторы на подошвах ботинок были сбиты за этот многодневный переход и плохо держали на склоне. Движения становились медленнее, шаг — короче. А солнце поднималось всё выше. С перевала эти склоны казались пологими и зелёными. Казалось, что спуск займет не более часа и люди выйдут к морю. Но на перевале они были более четырех часов назад.
Об испытанном за последние дни никто не вспоминал. Каждый думал лишь о том, как правильно поставить ногу на склон. Если кто-нибудь соскользнёт — ему предстоит многометровое падение по острым камням.
Идущий первым поднял голову и увидел над собой дерево арчи. Выше стояло второе, третье. Начиналась полоса хвойных деревьев — если считать низкорослый арчевник деревом. Из-за постоянного недостатка влаги он рос медленно, был невысок и кряжист. От низких, искривленных стволов тянулись длинные ветви, начинающиеся от самой земли. Корни выступали на поверхность, но не находили влаги.
Держась за ветку, передний сел и осторожно освободил плечи от рюкзака. Медленно подходили остальные — хватались за шершавые ветви и тяжело опускались на землю. Лица были обожжены солнцем, плечи стерты, губы сухие и растрескавшиеся, а ноги, казалось, не могли больше ступить ни шагу. У них была одна фляга с водой, которая должна поддержать людей до спуска к морю. Найти воду среди раскаленных, потрескавшихся на солнце камней было негде.
Человек полез за флягой. Он достал её и встряхнул. Его лицо потемнело, а губы сжались. Воды не было. Он внимательно осмотрел сосуд. Это была хорошая фляга — высокая, плоская и очень емкая. Прежде в ней был спирт. Сейчас она треснула по шву, и вся вода ушла. Никто не сказал ни слова. Человек без размаха швырнул флягу вниз, и она запрыгала по камням, блестя на солнце. Все, что осталось людям — это мокрый спальный мешок. Он пошел по кругу. Каждый вытер им лицо и губы. Воды больше не было.
Оставаться на месте дольше было нельзя. На солнце силы быстро уходили. Каждый вскинул на плечи раскаленный рюкзак и люди медленно пошли вверх. Начались густые заросли арчи, подниматься и спускаться по которым было трудно. Упругие ветви пытались сбросить вниз, царапали кожу и цеплялись за одежду. В зарослях воздух был совершенно неподвижен и так нагрет, что обжигал легкие. Пахло горячей хвоей и раскаленными камнями. Не было видно даже насекомых. Только люди упрямо лезли вверх.
Неожиданно арчевник закончился и люди снова увидели море, которое теперь было ближе. Они поднялись на плато, заросшее колючим кустарником, и вдали заблестела синяя вода. В лицо ударила волна влажного, пахнущего солью морского воздуха. Но в следующее мгновенье горячий, дурманящий воздух снова разлился вокруг. Люди лезли через заросли барбариса и ещё каких-то колючек. Под ногами по-прежнему скользил мелкий щебень. Ничто не выдерживало такой жары. Даже горы медленно крошились, теряя былое величие под лучами белого солнца. Оно висело на белесом небе мутным пятном с выгоревшими оранжевыми краями. Оно было подобно божеству, ожидающему страха и поклонения. Но эти люди не молились никаким богам. Они верили только в себя, свои силы и свою удачу.
Они шли по плато, оставляя на колючках клочья одежды, а на коже — глубокие царапины. Рты жадно хватали воздух. Языки были сухи — как камни под ногами. Губы запеклись и покрылись коркой. Они не только не хотели — не могли сказать ни слова и объяснялись короткими знаками.
Глаза резали знойный воздух и яркий свет. Временами всё застилала белая пелена с оранжевыми краями. Человеку казалось, что он теряет сознание, но когда пелена рассеивалась, он видел, что продолжает идти вперед.
Никто не мог сказать, сколько времени они шли без воды по этой жаре. Но никто не останавливался. Какой-то участок мозга подсказывал, что тот, кто остановится — уже не сможет встать. А двигаться вперед — значит идти к цели. Надо только сделать несколько последних шагов… Но цель так же медленно, крадучись отступала.
Солнце уже давно перешло высшую точку и спускалось к морю. Но люди продолжали идти. Ещё одна ночь на раскаленных за день камнях без воды и завтра не смогут встать даже самые сильные. Они снова спускались и снова поднимались по склонам, выматывавшим силы и вселявшим отчаяние. Но ни один не останавливался. Каждый знал, в чем заключается спасение. Только вперед.
На одном склоне люди заметили серое пятно в стороне от их пути. Инстинктивно они свернули к нему. Казалось, в организме не осталось ни капли воды. Не было даже пота. От него остались только белые разводы соли на рубахах. Серое пятно могло оказаться чем угодно, но это был снежник. Сверху он был засыпан щебнем, принесенным зимними лавинами. Это его и спасло от солнца.
Несколько мгновений люди стояли неподвижно. Потом, сбросив рюкзаки, стали руками и ботинками разгребать камни. Сверху снег был грязным, но глубже он стал белый и заблестел на солнце кристаллами льда.
27—30 июля 1982 г., остров Большой Утриш
Новый год в шинели
Если настоящее непривлекательно, то память возвращается в прошлое, ища там спасения от серости нынешнего бытия. Воспоминания спасают от настоящего, добавляя яркости краскам прошлого. Эти краски ярче натуральных, но это не беда. Сегодня 1 января 1984 года. Я лежу при свече в своём жилище. Сейчас это купе вагона, стоящего на запасных путях приграничной станции Наушки. Прошлое представляется таким ярким! А стоит включить свет (свечей мало — приходится экономить) и взять ручку, как краски исчезают. Как в кино. Они боятся света. Но я продолжаю вспоминать.
В эту ночь я дежурил. Покрасил пол в комендатуре. Это было за два часа до нового года. Заболела голова. Немного она болела весь день, но после таблетки успокоилась. А от запаха краски началось опять. Интересно, зачем майор — начальник нашей железнодорожной комендатуры решил устроить нам такой вонючий новый год? Смотрели телевизор — «Снова карнавальная ночь», «Вокруг смеха», скоро должен был начаться «Ледовый бал». В Москве было только семь часов вечера. По телепрограмме до нового года ещё целый час. Но в Наушках своё время. Дежурный офицер посмотрел на часы:
— До нового года ещё десять минут.
Потом:
— Ещё две минуты.
А потом:
— Пошёл восемьдесят четвёртый год.
У меня часов не было — пришлось поверить.
— Ну, и отлично, — сказал я и стал устраиваться, чтобы лечь спать на сдвинутых стульях. Но сначала проглотил таблетку анальгина, предусмотрительно купленного в аптечном киоске на станции, где работала милая девушка Дана — жена неведомого мне офицера из военного городка.
Сквозь сон я слышал бой курантов. Где-то встретили новый год. Проснулся без чего-то три и стал смотреть «Новогодний огонёк». Голова больше не болела. «Огонёк» был что надо. Хороший «Огонёк». Потом позвонили из товарной конторы — позвали оформлять чётный поезд. Потом отрывками смотрел «Зарубежную эстраду». Музыка была хорошая, а девчонки в коротких юбках с длинными ногами — просто замечательные. Они хорошо танцевали, а некоторые даже пели.
Потом я сменился, помылся, поспал в своём купе и часов в пять вечера (темнело рано) стал готовить обед. Вагон стоял возле пункта технического осмотра (ПТО), где в ожидании очередного поезда сидели «мазутчики» — осмотрщики вагонов в грязнющих ватниках и валенках, с грязными лицами и руками — они ходят вдоль состава и стучат молотками по колёсным буксам, проверяя — есть ли там масло и не заклинило ли колесо. В ПТО был душ, который работал пару часов в день и стояла газовая плита. Зимой я мог готовить еду на ней.
Сделал рис с тушёнкой — вроде плова. В последних числах декабря я сходил в танковый полк, к которому был «прикреплён» и где получал провиант. Там кладовщик проникся ко мне тёплым чувством и вместо девяти банок тушёнки на месяц дал десять. Я было подумал, что он ошибся, но кладовщики никогда не ошибаются себе в убыток. Так он отблагодарил меня за пару патронов калибра 5.45, которые увидел у меня и выпросил в подарок. Кладовщиков не водят на стрельбы и взять патроны им негде, а придя на дембиль надо что-то показать девчонкам кроме значков ГТО.
Сначала сварил рис и обжарил тушёнку с томатной пастой, красным перцем и солью. А когда рис был готов, заправил его этим делом. Получилось горячо и вкусно. Жаль, выпить было нечего. Пришлось запить это крепким чаем со сгущёнкой, которую мне привозили из Монголии бойцы взвода сопровождения воинских грузов — «чумари», и которую ещё не успели украсть мои соседи по вагону. А за новый год я выпил в конце смены с женщинами из транспортной конторы. Они меня угостили, понимая эту жизнь лучше, чем кто-либо… Натощак. И сразу стало хорошо.

Итак, новый год прошёл в шинели. Где-то за границами нашего просторного отечества шла война с горцами за освобождение кого-то от кого-то, меня тоже призвали отдать кому-то какой-то долг и уже полгода я был солдатом советской армии. Железнодорожная станция, на которой меня оставили «тащить службу», находилась в двух километрах от Монголии. До Москвы — без малого шесть тысяч километров. До начальства в Улан-Баторе — пятьсот. Эта приграничная станция расположена в котловине. Дым тепловозов смешивался с дымом угольных котельных и чёрной копотью садился на здания, на снег, на лица. Шёл последний час года. Где-то его уже встретили, где-то только готовились. В Москве сейчас оживлённо — люди украшают ёлки, накрывают столы, открывают шампанское. А в комнатушке железнодорожной комендатуры в Наушках пахло краской, висел табачный дым, по стенам бегали бодрые тараканы.
По громкой связи на станции объявили прибытие чётного поезда. Мы ждали телефонного звонка из транспортной конторы, чтобы идти его «оформлять». Единственным светлым пятном в этой жизни был старенький чёрно-белый телевизор, закреплённый под потолком. Он показывал такое, чего давно не существовало в моём мире. На экране были артисты, которых я знал и с которыми прежде встречался. Под хорошую музыку танцевали фигуристы. Показывали мультфильмы, о которых я давно забыл. Потом часы пробили полночь и начался праздничный бал.
Я смотрел на экран, ненадолго забыв — где нахожусь. Звучала знакомая музыка. Знакомые парни с гитарами свободно ходили по сцене. Старался барабанщик. Сколько раз я неторопливо пил с такими ребятами в тихих барах, где был приглушённый верхний свет и ковры на полу. Рядом на высоких кожаных табуретах сидели стройные длинноногие девицы — которые сейчас танцевали на экране в открытых платьях и коротких юбках. Сверкали блёстки на одежде, мелькали красивые ноги, мигал свет. Шёл вечер в одной из дискотек, в которых я бывал. Блондинки, брюнетки, японки, итальянки, негритянки сменяли друг друга в дискотечном калейдоскопе.
В прежней жизни я был знаком с девушками, очень похожими на тех, которых видел сейчас на экране. Со многими был близок. Некоторых любил. И они отвечали тем же. Письма которых были единственной радостью в этом покрытом копотью мире. Казалось, они приходили с Венеры. От прошлого остались лишь воспоминания. Каждая новая мелодия из телевизора поднимала волну воспоминаний. Эту я услышал в прошлый новый год, который встречал в пёстром кругу молодых архитекторов, дипломатов, художников и фотографов. Я там проходил как писатель. Был огромный стол, на котором стояла вкусная еда, звучала приятная музыка — недавно привезённая из-за границы хозяином квартиры, вокруг были хорошие ребята и красивые, ухоженные девушки. Было весело пить шампанское и танцевать с девушками в ярких платьях.
А сейчас на тысячу километров вокруг все были одеты в грязно-зелёное хаки, драные ватники, шинели и стоптанные сапоги. На столах стояли телефоны, по которым надо было куда-то звонить и лежали пачки воинских железнодорожных накладных, которые надо было заполнять. На лицах — угольная копоть, которая здесь везде.
В это время год назад, после того, как было открыто шампанское, и все выпили за то, чтобы новый год был самый-самый лучший, девушки переоделись в короткие юбки, бриджи и шорты, и начались танцы под ту самую музыку, которая сейчас звучала из телевизора. Это была огромная кооперативная квартира на Юго-западе столицы, которую молодая пара дипломатов купила совсем недавно на заработанные за границей чеки. Они только что приехали из Канады. Почему-то их все называли американцами. Наша компания познакомилась в доме отдыха, где мы проводили время после зимней сессии в институте.
Те, кто уставали танцевать, могли выпить водки с апельсиновым соком, виски или бренди, итальянского или французского вина, глинтвейна или согретого в ладонях коньяка. Можно было запереться с девушкой в одной из комнат или сидеть с новым знакомым на ковре, пить и разговаривать.
Потом из телевизора звучала другая мелодия, и вспоминалась зима в доме отдыха, на две недели отданном студентам. Те две недели безостановочно танцевали, пили, катались на лыжах, целовались, читали, спали понемногу и только парами, играли в футбол и настольный теннис. Там он познакомился с девушкой, которая вполне могла стать его женой. Всё было как во сне, а проснувшись утром трудно было поверить в такое счастье.
Да, многое вспомнилось, пока на экране двигались фигуры и играла музыка. Но тут позвонили из транспортной конторы. Пришло время одеть шинель, вытряхнув из неё тараканов и идти оформлять очередной чётный воинский поезд, вдыхая морозный ночной воздух, наполненный угольным дымом. Прошли первые полчаса нового года. Это был год крысы — мой год. А в далёком городе близкие, друзья и знакомые накрывали столы, открывали шампанское и готовились без меня встречать новый год, который для меня уже наступил.
1 января 1984 г., вагон на железнодорожной станции Наушки, ЗАБВО
Dixi
Мы сидели за крайним столиком открытого кафе. Пригревало солнце, легкий ветерок покачивал уже начавшие желтеть листья деревьев, растущих вдоль улицы. Мы смотрели на людей, торопливо проходивших мимо, на машины и на блестящие окна домов. Лето закончилось, но оно прошло хорошо и это было приятно.
— Замечательно мы провели лето.
— Да. — Я посмотрел на Саньку. Он выделялся среди сидящих за столиками тёмным, ровным загаром, выгоревшими от солнца волосами и бородой. На нем были светлые вельветовые брюки и ковбойка с закатанными рукавами. Со своей вылинявшей за лето зеленой шляпой Санька не расставался, и она лежала рядом на стуле.
— Хотя, иногда казалось, что всё кончится весьма скверно.
— Бывало. Но главное, что всё кончилось хорошо. Мы привезли отличный материал. Некоторые наши снимки просто уникальные.
— Помнишь ту лавину?
— Да. Она намекнула, что фамильярничать с горами нам рано. Если бы она нас прихватила, то от материала ничего бы не осталось.
— И не только от материала.
— Это детали.
— А помнишь, как ты сидел на скале без страховки и не мог понять, как туда залез?
— На какие глупости мы шли иногда ради хорошего снимка. Помнишь тот эдельвейс?
— Эдельвейс. Это случайность, что мы нашли снежник. Если бы не он, то не было бы ни того эдельвейса, ни этого пива, ни многого другого. Нам здорово везло всю дорогу. А Серёге — больше всех.
— Постучи по дереву.
— А чего стучать? Везение — это такая штука. Стучи — не стучи, а оно есть. Если бы не везение, то Серёга так и остался бы в той пещере.
— Это я свалял дурака — пустил его вперед без фонаря. Будь колодец помельче — и конец. А так повис на страховке. Меня чуть пополам не разорвало.
— А когда он сорвался с осыпи. Если бы не тот колючий куст — не было бы никакого Серёги.
— Да, осыпь над каньоном была шикарная. Сорвался — и верные двести метров полета.
— Серёга иногда делал глупости, но ему отчаянно везло.
— Все мы делали глупости. Ты себя вспомни — как полез фотографировать водопад. На него смотреть было страшно. Вода падала двумя струями с высоты шестидесяти метров. Одна струя была гладкая и блестела на солнце, а другая лохматая и вся в пене. Она разбивалась о выступ скалы. От этого в воздухе висела водяная пыль, а над водопадом — двойная радуга.
— Я как раз хотел снять двойную радугу над водопадом.
— И полез без страховки по отвесной стене над ним. А камни под ногами стали крошиться. Ты долез до карниза и посмотрел вниз. Я помню твое лицо в этот момент. Ты стоял прямо над водопадом — метров на пятьдесят выше, а внизу все кипело. Вода там срывалась и летела в теснину.
— Такие дела учат осторожности. А водопад был красивый — жаль, что я его не успел снять с того ракурса.
— Круто пришлось под конец, когда мы неделю шли по снегу под дождем. Тошно становится, как вспомню состояние после перехода. А ещё надо было дрова выкапывать из-под снега и на ветру из них делать костер.
— Зато потом мы погрелись.
— Трое суток по жаре. Это уже когда море увидели с перевала.
— Забавно получилось тогда на хребте.
— Забавно. Если бы не Серёга — долго нам пришлось бы катиться. Хорошо, что мы связались.
— Я это сзади видел. Когда ты исчез — я глазам не поверил. А Серега успел сообразить и спрыгнул на другую сторону выступа.
— Мне иногда ночью снится, что я сорвался без страховки.
— Это пройдет. У меня было похожее. Когда я ходил в горные походы — нас с напарником сорвало лавиной со скалы. Хорошо, что лавина была небольшая — ничего не поломал, только обморозился немного. Мне потом долго снилось, как лавина растёт, приближается, на секунду нависает над нами и потом обрушивается. Я полгода после этого плохо спал. А сейчас ничего.
Так мы сидели, пили пиво и смотрели на прохожих. Лето прошло замечательно. Мы были чертовски везучие.
Рядом стоял телефонный автомат и мы решили позвонить Серёге — позвать его присоединиться к нам. Саня нашел монету и зашел в будку. Громко хлопнула дверь. Автомат стоял совсем близко. Саня набрал номер и повернулся ко мне. Никто не подходил. Он пожал плечами и хотел повесить трубку. Потом заговорил и осекся. Я видел, как изменилось его лицо. Никогда не видел, чтобы его лицо так менялось. Он прислонился к стеклу и слушал. Слушал долго. Его лицо было каменным. Потом опустил трубку и закрыл глаза.
Я быстро подошел к телефонной будке и распахнул дверь. Санька открыл глаза и очень медленно сказал, с трудом выдавливая слова:
— Два часа назад Сергея сбил на остановке автобуса грузовик. Пьяный водитель не справился с управлением. Реанимация не помогла. Больше никто не пострадал.
9 декабря 1982 г., Москва
Сердоликовая речка
Туман медленно плыл над водой, подгоняемый утренним ветерком. Иногда он закрывал стоящие на берегу лиственницы и тогда на сером фоне раннего утра вырисовывались их темные, расплывчатые силуэты. Тайга подступала к реке и, склонившись, смотрела в её темную, спокойную воду. Блестящая от росы поляна была покрыта яркими цветами, мягко светившимися в сумраке туманного утра. Вдруг вся поляна заиграла каплями росы — это поднялось солнце, окрашивая таежный мир своими утренними красками.
Неторопливо ползущее солнце постепенно освещало сухую отмель, намытую бурными весенними водами и так же постепенно отмель оживала. На серой гальке запестрели обломки красной и зеленой яшмы, заискрились куски окаменелого дерева и вспыхнули красные звездочки. Это были сердолики, светившиеся мягким, теплым светом.
Одни из них имели острые грани, другие совершили далекий путь и были сильно обкатаны. Среди них не встречалось двух одинаковых по форме или цвету, но все они были очень хороши. Камни были заметны лишь под определенным углом падения солнечных лучей, поэтому постоянно то тут, то там вспыхивали и гасли красные звездочки. Они мерцали в зелени прибрежных кустов, выглядывали из речной гальки и открыто лежали на песке. Это были игрушки реки, которые она забыла, возвращаясь в русло. На следующую весну вода придёт опять и покатит камешки дальше, увлеченная своей любимой игрой.
17 ноября 1981, Москва
Гроза
Путник оглянулся и прибавил шаг. Косматая чёрно-синяя туча с рваными краями быстро нагоняла его и не было видно ей ни конца, ни края. Она занимала уже полнеба. Впереди солнце ещё освещало луга, и река играла весёлыми бликами, а позади всё потемнело и воды реки били в берег почерневшей волной. Природа разделилась на два воинствующих лагеря — один светлый и беззаботный, а другой мрачный, наделенный тёмной силой. И мрак победил.
Затишье, тревожимое лишь лёгким ветерком, было сметено буйным порывом надвигающейся непогоды. Гроза бросила его как предупреждение о своей неистовой силе. После этого ветер стих и человек, под первыми тяжелыми каплями дождя, вбежал по шатким мосткам на крытый дебаркадер, служивший в этих местах пристанью.
Буря обрушилась мгновенно и скрыла берег занавесью дождя. Дул такой ветер, что завеса дождя колыхалась параллельно воде, поверхность которой кипела, вздымаясь грязными валами. Дождь налетал полосами, окатывая не успевших спрятаться струями ледяной воды. Буйство стихии нарастало. Река тонула во мгле. Казалось, сама грозовая туча легла на воду. Прямые молнии прочерчивали короткий путь от неба к земле и сразу обрушивались резкие и дикие в своем неистовстве удары грома.
Шквал сорвал с подставки железный бак с питьевой водой и унёс его, гремя прикованной на цепи кружкой. Пристань дрожала под ударами ветра. Сбившиеся в единственный сухой углу дебаркадера старухи, ожидавшие паром, жмурились и мелко крестились после каждого удара грома. Гром гремел так, что они крестились непрерывно. Их губы беззвучно шевелились.
Струи дождя, туго бьющие с крыши пристани, сливались в потоки на палубе и сбегали за борт. Крупный град гулкой картечью лупил по железной крыше и в деревянную стену.
— Всё по Писанию, — бормотала одна из старух, — и град, тоже по Писанию…
Тяжело согнувшись, она подобрала несколько замёрзших капель и тёрла ими глаза — веря, что это вернёт ей остроту зрения.
Однако, природа средней полосы не может долго придаваться подобному буйству. Между порывами ветра сквозь дождь проступил берег и стали видны высокие тополя, в пояс кланяющиеся бушующей стихии. Наверное, непогода вняла их мольбе: дождь перестал хлестать реку, волны улеглись, а на горизонте показался клочок голубого неба. Грозовая туча уползала, громовые раскаты звучали всё глуше и походили на удовлетворенное ворчание. Над рекой повисла дымка и солнце уже пробивалось сквозь высокие облака.
июль 1982 г., село Елатьма на Оке
Каньон шорохов
Никто не сможет в одиночку пройти Каньон. Я знал многих людей, которые думали, что могут победить Каньон один на один. Никого из них нет в живых. Бывало, что от большого отряда, идущего Каньоном, до конца добирались всего несколько человек. Но никто, начавший путь один, не увидит его конца. Таков закон Каньона шорохов. Победить можно только вместе. Этому учит Каньон.
Так говорил старик, дважды проделавший этот путь.
***
Дик несколько раз останавливался и прислушивался — погони не было. Значит, в лагере никто не проснулся, когда он ушел. Теперь он успеет добраться до Каньона. Главное — теперь он на свободе. И ещё — ему известна тайна Каньона. Только бы найти вход в него.
Дик лез вверх по склону, заросшему арчевником, кизилом и барбарисом. Переплетение ветвей мешало двигаться, лезть приходилось согнувшись, а местами — ползти на четвереньках. После ночного дождя всё было мокрое, ноги скользили по прелым листьям, а ветки сбрасывали на беглеца потоки воды. Он лез все выше, цепляясь за кривые стволы и мокрую траву. Местами чаща становилась непроходимой и Дику приходилось искать обход. От испарений было трудно дышать, с ветвей падали жуки и крупные сороконожки. В одном месте Дик едва не наступил на гнездо шершней и после этого ещё долго слышал их гудение. Он почти бежал, сжав зубы — умирать от укусов этих тварей не хотелось.
Деревья становились выше. Поднимая глаза, он видел только стволы и переплетение ветвей, хотя теперь через них уже просматривалось голубое небо. Это был перевал. Где-то за ним лежал Каньон, в котором Дика едва ли станут преследовать.
На перевале стояла одинокая арча. Ветер и время ободрали и искривили её ствол — теперь она стояла подобно стражу, растопырив свои сухие ветви. Многих бродяг она видела, уходящими в этот путь. Мало кто проделал этот путь до конца.
Внизу огромной жёлтой громадой лежал Каньон шорохов. Его стены почти отвесно уходили на огромную высоту, а внизу они заканчивались гигантской осыпью. Солнце висело над Каньоном и нигде не было ни тени, спасавшей от его прямых лучей, ни воды. Даже арча не росла в этой каменной щели.
Дик начал спускаться в Каньон. Щебень скользил и тёк под ногами, а стены вздымались всё выше — пока не превратили небо в узкую белесую ленту, на которой линялым пятном выделялось солнце. Падая, Дик обдирал руки и колени. Он не знал — почему так спешит. Казалось, только на дне он почувствует себя в безопасности. Сжав зубы, Дик заставлял себя сдерживать шаг и идти медленнее.
Испуганные звуком сыплющихся камней в щели прятались ящерицы и стремительно скользили змеи. Дик остановился. Ему казалось, что ещё немного и потянет запахом серы из ворот преисподни, где он оказался. Он сбросил мешок и сел на камень. Мешок был легкий, но все необходимое Дик успел захватить.
Треск цикад остался за перевалом и в Каньоне было очень тихо. Дику стало казаться, что он слышит, как поднимается марево над горячими камнями. Он тряхнул головой и прислушался — тишины не было. Отовсюду доносился шелест. Это катились по осыпи камни, сорвавшиеся со стены. Каньон шорохов. Дик ещё не знал страшной силы тихих звуков. Сейчас он был рад, что остался один. Одев мешок, Дик двинулся по дну Каньона, заваленному валунами.
Воздух был неподвижен. От камней шёл удушающий жар. Постепенно Дику стало казаться, что жизнь на земле исчезла — остались только эти жёлтые камни. Лишь орел темным силуэтом висел высоко над Каньоном в белесом небе. Его не интересовал муравей, ползущий по дну каменной щели…
***
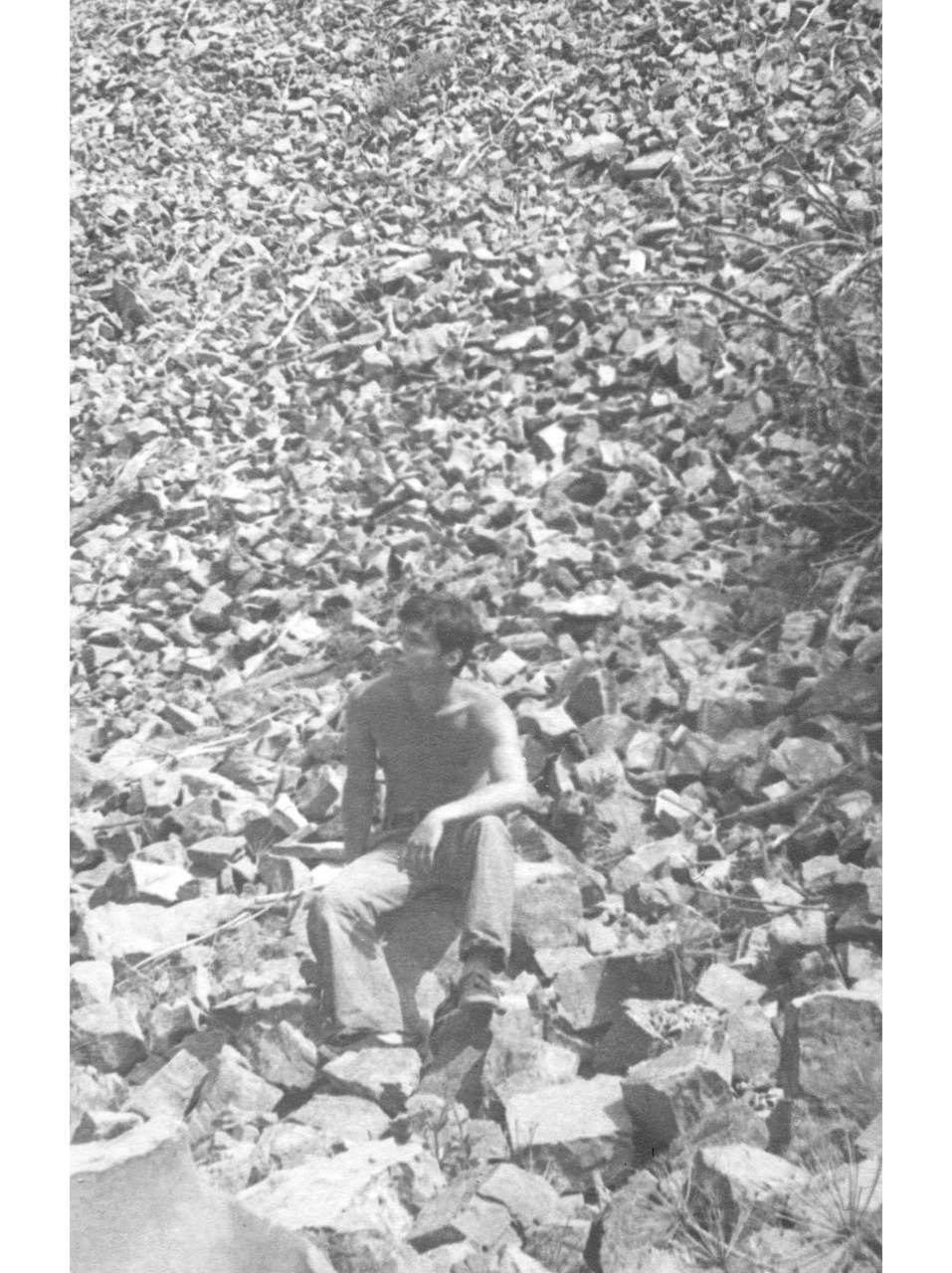
Среди бродяг ходили разные истории о Каньоне, но ничего хорошего Дик о нём не слышал. Мало кто смог пройти его весь и эти люди хранили молчание — как будто дали обет никогда не поминать словом Каньон шорохов. Смутные слухи доносили весть об исчезнувших искателях приключений, пытавшихся разгадать тайну каменной щели.
Говорили, что вода там есть только в одном месте, где со стены срывается многометровый водопад, и вся вода уходит в бездонную воронку на дне Каньона. Говорили, что ночью на путников нападают неведомые птицы с огромными клювами и стальными когтями. И ещё говорили о шорохах, которые сводят с ума. Дик не боялся. У него был карабин, вода, немного еды и желание выйти из Каньона на другом его конце. Он был смел и верил в удачу.
Первый день пути подходил к концу. Солнце ушло за край Каньона и противоположная сторона медленно погружалась в тень. Дик устал и разбил ногу. За весь день он не выпил ни глотка воды, зная, что она сразу испарится через кожу под знойными лучами солнца, сделав жажду ещё нестерпимее. Подошло время искать место для стоянки. Надо было найти воду и развести костер. Дров почти не было — лишь местами встречались деревья, рухнувшие сверху в Каньон. Под палящими лучами они высохли и должны были гореть как порох. С водой было хуже — источников не было, но Дик надеялся собрать ночную росу на кусок брезента, который лежал у него в мешке.
Дик остановился около огромного валуна. Ноги гудели. Все внутри пересохло и онемело. В ушах стоял шелест. Идти дальше он не мог и, сняв мешок, сел — прислонившись спиной к горячему камню. Теперь можно достать флягу и сделать пару глотков. С трудом он развязал мешок. Вода во фляге теплая, почти горячая, но сейчас это было не важно. Это вода.
Начинало темнеть. Воздух становился прохладнее. Только нагретые за день камни излучали ровное тепло. Есть не хотелось, но Дик развел костер и бросил в него несколько картошин — если за ними следить, то они не сгорят.
Два глотка воды помогли. Теперь Дик мог вновь передвигаться, собирать дрова, устраивать ночлег. Уже совсем стемнело. Тишина. Только трещит костер и шуршат катящиеся камни. Шорох раздается всегда за спиной так, что кажется — кто-то подкрадывается сзади.
Дик расстелил брезент для сбора росы, а сам лег между костром и валуном, завернувшись в свою старую куртку. Эта куртка видело гораздо больше, чем многие из известных ему людей. Первый день позади. Дик начинает засыпать. Треск костра почти заглушает все остальные шорохи. Конечно, его отблеск виден издалека, но он скоро прогорит — вряд ли кто-то будет его преследовать в Каньоне шорохов.
Дик дергает рукой и сон сразу слетает. На землю падает крупное насекомое с лохматыми лапами. Оно пытается скрыться среди камней, но Дик замечает, что это крупная желтая фаланга, называемая ещё сальпугой. Её брюшко и лавы покрыты густыми щетинками, а челюсти содержат яд. В этот период они особенно опасны. Чёртов Каньон.
Дик чувствует, как рубашка прилипла к телу, а ладони стали влажными. Чёртов Каньон. Это только начало. Придется не спать. Похоже, этих тварей здесь много. Да, ночью здесь не спокойнее, чем днем. А днем — почто невозможно. Это Дик уже понял. Долго он так не выдержит. Надо найти воду. Он ищет воду. Он находит эту самую воду. Он её пьет. Он купается в ней. Ныряет и снова пьет. Но вода не приносит освежения. Вдруг наползают огромные фаланги и пьют воду. Их лохматые лапы громко шуршат. Дик пытается их отогнать, но они наступают на него, закрывая собой всё вокруг и шуршат, шуршат…
Дик бежит, но шуршание раздается отовсюду. Он падает и просыпается. Тишина. Только шуршат скользящие камни. Костер почти догорел — от него остались только подёрнутые пеплом угли. Стало холоднее и Дик, завернувшись в свою куртку, долго лежит без сна. Чёртов Каньон.
Звезды начинают тускнеть. Полоса неба светлеет — скоро пора вставать, чтобы успеть пройти побольше до начала жары. Стены Каньона выступают из мрака и смутно желтеют. Начинается новый день. Надо его пережить.
***
Снова он шел по жаре. Камни под ногами качались и идти приходилось медленно. Очень медленно. Воздух был совершенно неподвижен. Камни источали удушающий жар. Солнце било с неба короткими прямыми лучами. Сначала глаза слезились от пронзительной белизны склонов, но постепенно в организме оставалось так мало воды, что не было даже пота. Фляга была наполовину полна водой, скопившейся утром на брезенте. Небо было белесое, бесцветное, выгоревшее. Дождя, похоже, не было давно и трудно его ожидать в ближайшие недели. Во рту пересохло и язык, казалось, шелестит как пергамент. Жизнь медленно испарялась из его тела. Она представлялась облачком пара, уходящим к небу. Сделать что-либо он не мог и это вселяло отчаяние.
Дик прошел не слишком много, но ноги уже не слушались, а мозг застилала красноватая мгла. Ему казалось, что он уже умер и облачко его души улетело на небо — стучаться в ворота рая. Когда мгла отступала, Дик безразлично обнаруживал, что продолжает медленно идти вперед. Он шёл медленно, поскольку понимал — если упадет, сил подняться уже не будет.
Шелестели камни. Дрожало марево. Скользили змеи — единственные живые существа в этом зное.
2 августа 1982 г., начал писать этот рассказ на острове Большой Утриш. Там я побывал в Каньоне шорохов. Писал я этот рассказ медленно, возвращаясь к нему несколько раз, но так и не закончил
Сон
Его стали по ночам преследовать кошмары. Он бежал по длинным, тускло освещённым коридорам, а перед ним тянулась редкая вереница людей, уходящих в желтоватую мглу. Он их обгонял, заглядывал в лица, но её среди них не было. Все лица были одинаковыми в сером свете коридоров. Он их обгонял, но вереница существ вокруг него в тусклых комбинезонах понуро продолжала двигаться куда-то, скрываясь в дымке.
А он всё бежал, минуя повороты и обгоняя идущих. Коридоры обрывались лестницами, гулкие ступени которых опускались вниз или поднимались верх. Ровный серый свет сопровождал его везде. Всё было им освещено. Казалось, он пропитал всё вокруг и идущие сами излучают тусклый, серый свет. Это было похоже на бегство, когда все подчиняются воле стада и идут, идут давно потеряв цель и забыв прошлое. Быть может, они давно сбились с пути, а может быть идут по кругу, когда задние равнодушно напирают на впереди идущих. И так всю жизнь…
Это было похоже на исход каких-то нелепых механизмов. Было непонятно, что толкнуло их в путь и куда этот путь лежит. Его мучил страх, но всё, что он мог — это бежать вперед. Пока он движется вперед — есть вера в избавление. Но постепенно вера уходила, он впадал в панику, метался, сбивая с ног идущих, кричал, но это никого не трогало. Вереница двигалась вперед и остановить или удивить её не могло ничто…
Он кричал и просыпался.
11 октября 1982 г., Москва
Продолжение сна
Он долго лежал с открытыми глазами и смотрел на темный силуэт оконного переплета. Но дневная усталость побеждала, и он вновь засыпал… Однако, отдых не приходил. Всё повторялось. Он двигался в плотной шеренге каких-то серых, усталых существ, безразлично идущих по нескончаемым коридорам. Лампы висели через большие промежутки, и он то погружался в темноту, то выходил на безжалостный яркий свет. Коридор был такой, что только трое могли идти рядом. Потолок нависал всё ниже. Фигуры шли сгорбившись, опустив головы и тесно прижимаясь друг к другу. Казалось, что потолок становится всё ниже, а проход всё уже.
Они шли всё медленнее, всё чаще останавливаясь. Это тянулось часами. Из боковых коридоров в этот поток вливались новые шеренги серых людей. Коридор начинал раздвигаться, но потолок по-прежнему нависал над головами. Промежутки между освещенными местами становились всё больше, и он всё чаще стоял в темноте, чувствуя вокруг огромную, безразличную живую массу. Ему становилось страшно. Он начинал проталкиваться вперед, бросался в сторону и обессиленный, вновь вместе с потоком медленно шёл вперед.
Коридор озарился ярким красным светом. Все на мгновение замерли и вдруг беззвучно кинулись вперед, давя упавших и затирая слабых. Полное безразличие сменилось отчаянным усилием. Серые лица, освещенные красным светом, выражали ужас. Расширенные глаз, раскрытые в немом вопле рты, тусклый свет комбинезонов. Он кричал и толкался как все, но его затирали, он спотыкался, но продолжал бежать.
Вдруг он споткнулся о чье-то упавшее тело, вскинул руки и рухнул под ноги толпе. Красный свет закрыла белая вспышка и всё прекратилось. Он лежал весь в поту — в своей постели, откинув одеяло и пытаясь припомнить что-нибудь из своего сновидения. Вспомнить он ничего не мог, но от сна осталось чувство неодолимого ужаса.
26 октября 1982 г., Москва
Глубина
— В этой бухте с аквалангом никто не нырял. Мы будем первые. Можем найти что-нибудь интересное. Ты всё понял? Вдох, считаешь до шести, выдох. Всплывай на выдохе. Посматривай на манометр. Держись за мной и ничего не бойся.
Мы стоим по колено в воде и надеваем ласты. Вовка даёт последние наставления. Я погружаюсь первый раз. Ласты длинные и упругие, с ними можно плыть очень быстро. Гидрокостюм. Акваланг с двумя баллонами. Нож пристегнут к ноге. Маска. За ремень, которым к поясу пристегнут акваланг, заткнута дыхательная трубка. Вроде всё в порядке. Проверяю, как идет воздух из загубника. Промываю маску. Всё готово. Вовка засекает время, и мы уходим под воду.
Склон оказался очень крутой, и серебристая поверхность быстро удаляется. Наступают мутноватые сумерки. Мне вдруг становится страшно. Появляются жуткие мысли. Начинаю часто дышать, но воздуха не хватает, и я чувствую, что задыхаюсь. Пробирает холод и безотчетный страх. Это бунтует инстинкт самосохранения. Ему кажется, что я окружен пока невидимыми, но многочисленными опасностями.
Стискиваю зубами загубник и ругаю себя последними словами. Успокаиваю дыхание. Вдох, считаю до шести, выдох. Володя оборачивается, делает успокаивающий жест и плывет дальше. Страх отступает, на его место приходит любопытство. Под водой всё необычно. Вдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, выдох. Всё нормально. Ну и красота!
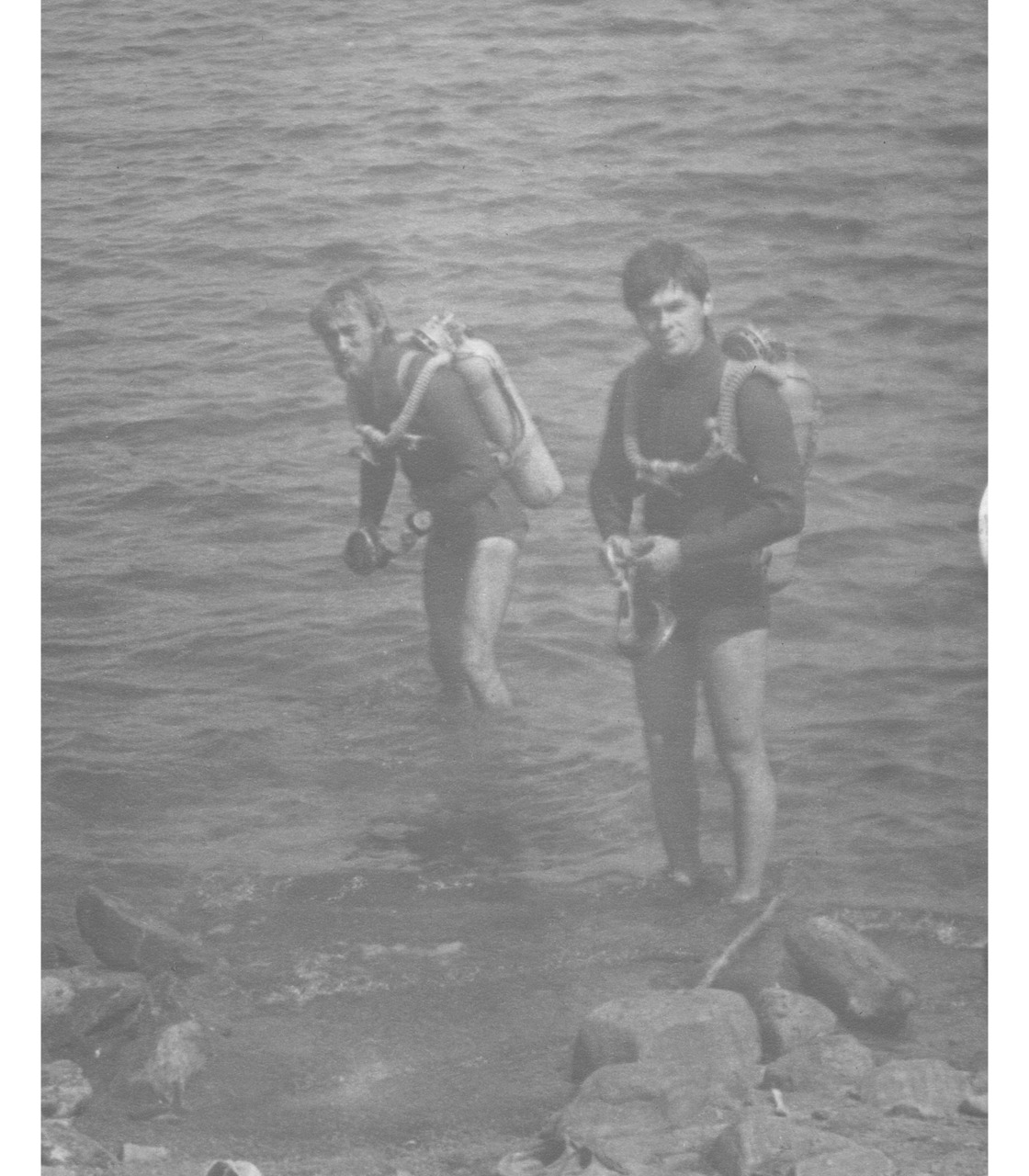
Склон быстро понижается. Он завален огромными камнями, между которыми ползают крупные крабы. Вот это чудище! На камне, похожая на огромную бородавку, сидит скорпена, не меньше тридцати сантиметров длиной. Слегка шевелятся её плавники с ядовитыми иглами. Этого зверя лучше не задевать — потом долго будешь жалеть. Рядом к камню прикрепились несколько рапанов. Таких крупных я еще не видел. Интересно, какая глубина? На манометре акваланга сто двадцать атмосфер. Воздуха ещё много. Продуваю уши и быстро работая ластами, плыву за Володей. Склон кончается. Мы оказываемся на подводном пляже из очень белого, мелкого песка. Огромные крабы бросаются в свои укрытия среди камней. Нескольких мы хватаем и кладем в сетку.
Работая ластами, плывем в метре над дном. Тяжелые акваланги прижимают ко дну, но какая-то сила все время пытается вытолкнуть на поверхность. Это гидрокостюмы. Мы не одели грузовые пояса, которые необходимы при погружении в гидрокостюме, ведь он имеет положительную плавучесть. Решили, что раз одеваем только верхнюю часть гидрокостюма — справимся без грузов.
Бросаются в стороны мелкие рыбки, блестя светлыми боками. Проплывают крупные рыбы. Смотрю на манометр. Девяносто атмосфер. В стороне на дне лежат какие-то обломки. Сворачиваем к ним. Это старый парусник метров восемь длиной. Мачта сломана. Из песка торчит якорь. Корпус лежит наклонно, примерно на треть его занесло песком. Через пролом в корме заглядываем внутрь. Темно! Включаем фонарь. Отличный японский фонарь Toshiba. Его мощный луч упирается в переборку, из пролома выскакивает несколько рыб. Володька делает мне знак остаться, и заплывает в пролом. Проверяю, легко ли вытаскивается нож. В этих водах редко встречается кто-либо опаснее скорпены, но под водой чувство опасности усиливается. Тем более на такой глубине. Мы погрузились уже метров на пятнадцать. Неприятно быть одному. Начинает пробирать холод. Чтобы согреться, выворачиваю из песка якорь. Надо будет захватить. Он поржавел и оброс жилищами каких-то червей. Ничего, пригодится.
Возвращаюсь к пролому и заглядываю внутрь. В лицо мне бьёт луч фонаря и оттуда выплывает Вовка. В одной руке фонарь, другой он держит за кольцо небольшой судовой колокол. Он опускает колокол на дно и показывает большой палец. Видно, внутри есть что-то интересное. Смотрит на манометр, на часы и показывает мне глубомер. Мы уже двадцать минут находимся на глубине двадцати семи метров! Для первого раза неплохо. На моём манометре сорок атмосфер. Надо быстро возвращаться. Беру сетку с крабами и якорь. Вовка поднимает колокол.
Быстро всплывать нельзя, поэтому мы, лениво работая ластами поднимаемся под углом к поверхности. Дно видно все хуже, постепенно оно растворяется в подводных сумерках. Поверхности ещё не видно. Медленно плывем. Компаса у нас нет. Надо всплыть и сориентироваться. Едва ли мы уплыли далеко от берега. У меня выстреливает предохранительный клапан. Пошли последние тридцать атмосфер. До берега не хватит.
Удивительно, как медленно воздух расходуется вначале и как быстро — под конец погружения. Вдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, выдох. Володька всё ещё не выдыхает. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, выдохнул. Сильные лёгкие. Видно, у него тоже воздух на исходе. Надо бы дышать реже, но легкие устали. Начинаю задыхаться. Быстрее работаю ластами, чтобы не отстать. Вот и поверхность. Выплевываю загубник акваланга и дышу.
Мы плыли под углом к берегу. Ориентируемся и уходим под воду. У меня осталось пятнадцать атмосфер. До берега метров четыреста. Плывем на глубине двух метров, чтобы успеть всплыть, если кончится воздух в баллонах. Стараемся плыть быстро, но мешают найденные железки. Всё. В моих баллонах воздух закончился. Хорошо, что я взял трубку. Беру сетку с крабами и якорь в одну руку, выпускаю загубник акваланга и вытаскиваю из-за пояса трубку. Выставляю её над поверхностью и продуваю. Делаю несколько глубоких вдохов. Приятно дышать, не считая до шести! Дальше плыву с трубкой. А Вовка молодец! У него воздух кончается метрах в двадцати от берега…
А потом, сняв акваланги и стащив гидрокостюмы, мы лежим на горячих камнях, под жгучим солнцем. Нас уже не трясёт. Начинаем согреваться. Замечательная бухта! Здесь и в самом деле можно найти много интересного.
13—15 декабря 1982 г., Москва
О погружении на острове Большой Утриш в июле 1982 г.
Москва 1992
— Вот его «копейка». И его подъезд напротив. Кажись, пятый этаж.
— Ты смотри, только фара треснула и бампер загнут. Да, ещё решётка радиатора разлетелась. Даже крыло не помято.
«Жигули» первой модели привычного московскому глазу неопределённого серо-бежевого цвета стояли возле подъезда сталинского дома на Соколе во дворе. Красная жигулёвская «пятёрка» прижалась рядышком — задом к заборчику, чтобы смятый в гармошку багажник не так бросался в глаза.
Разговор был три дня назад. Мужик, разбивший ему машину на светофоре прямо возле милицейского «стакана» на набережной недалеко от Кремля, разумеется, юлил и пытался отложить выплату. Но откладывать было некуда — рубль рушился. Да и вообще, известно — завтра, значит никогда.
Вообще-то он думал, что всё пройдет быстро — если пойдёт по сценарию. Поэтому сразу после работы решил заехать к своему компаньону, и вдвоём — для убедительности — подъехать за деньгами. У того был приятель — бывший мент (как его представил компаньон). Тот прежде работал в следственном отделе и мог убедительно объяснить человеку — почему надо заплатить за разбитую машину немедленно, не откладывая. И какие будут последствия, если этого не сделать. Ладно, пусть будет третьим.
— Значит так, наша задача — объяснить человеку, что расплачиваться надо сейчас. Ждать мы не можем. Он обещал приготовить деньги. Он нам — деньги, я ему — расписку, что претензий не имею. И уходим. Вроде, ничего сложного. Но как пойдет — хрен знает.
Лифт гулко остановился на этаже. Дверной звонок прозвучал далеко и глухо — видно, в квартире была двойная дверь. Такое редко встречалось, но мужик сказал, что он какой-то начальник в «почтовом ящике». После третьего звонка дверь открыл тот самый мужик и, увидев троих за дверью, молча отступил назад. Они вошли в прихожую, и как только входная дверь закрылась, с двух сторон — из комнаты и из коридорчика на кухню, одновременно с лязгом передернув затворы коротких «калашей», выскочили два человека в камуфляже. Из комнаты — здоровенный амбал с сержантскими мятыми полевыми погонами, а из коридора — невысокий, с двумя зелеными звездочками и красным просветом на погонах.
В принципе, если б он остался в войсках — у него на плечах должны были лежать такие же погоны, только на две звездочки больше. Как он смог в этот момент разглядеть погоны — хрен знает. Говорят, в миг опасности мозг работает во много раз быстрее. И в этот миг он понял, что всё происходящее надо принять спокойно. Едва ли будет пуля. Но если будет — он этого не узнает.
Он много раз слышал, как звучит передёргиваемый затвор автомата — и одиночный, и общий — когда весь взвод по команде передергивает затвор, показывая, что в патроннике не осталось патрона. И в школе, и в армии он сам делал это много раз. У него ещё в школе было лучшее время разбора-сбора АК 47 — тридцать восемь секунд. За это его любил НВПэшник, и даже дал грамоту в десятом классе — за отличное изучение военного дела. И кучность стрельбы одиночными у него была самая высокая в группе. Так что эту игрушку он знал неплохо. И он знал, что если после передёргивания затвора не прозвучит щелчок предохранителя — дело плохо. Щелчка не было.
— Лицом к стене! Руки на стену! Ноги шире, — крикнул меньший из нападавших и своими ногами в высоких армейских ботинках помог ему быстрее выполнить команду. Ствол автомата смотрит вверх — на высокие антресоли. Перекрытия в этих домах из дранки — если шмальнёт — на верхнем этаже не обрадуются. Амбал с сержантскими лычками быстрыми и сильными движениями левой руки притиснул его спутников к стене, держа автомат стволом вниз и не снимая пальца с курка. Странно, может он всё-таки поставил на предохранитель? Ведь палец на курке мог дёрнуться от любого резкого движения. Но выстрел не прозвучал. А может, у них вообще рожки пустые. Случайный выстрел из ментовского «калаша» в жилой квартире — это даже для девяносто второго года в Москве событие необычное… То, что это не бандиты, а ОМОНовцы — он уже не сомневался. Ну и «крыша» у этого упыря.
— Что происходит? — Поскольку его приятели оказались в этих странных позах из-за него — он понял, что надо действовать. Подпирая руками стену коридорчика, он оглянулся через плечо и встретился глазами с кивнувшем ему, от потолка — в лицо пламегасителем калибра пять сорок пять.
— Стоять! Не поворачиваться!
Он опять уставился в стену. Так близко в ствол снятого с предохранителя автомата ему заглядывать не приходилось.
Было дело, в восьмидесятом году в Узбекистане пришлось лежать за камнем, укрываясь от человека с карабином. Но тот оказался егерем заповедника, и после переговоров из положения «сидя за камнем», всё уладилось.
В восемьдесят четвёртом на пограничной станции в Наушках довелось лежать за колесом товарного вагона на станционных путях, пока пьяный прапорщик из ЧМО УБ не расстрелял всю обойму своего «макарки». Тогда, отсчитав восемь выстрелов, они со старлеем из железнодорожной комендатуры бросились к теплушке чумарей, молясь на ходу, чтобы этот урод не дотянулся до солдатского калашникова. На бегу старлей успел крикнуть страшным голосом: смирно! не стрелять! идет военный комендант! Так было положено по уставу. Караульный — рядовой боец, охранявший воинскую часть железнодорожного состава, мог применить оружие к любому, подошедшему к охраняемым вагонам. Проще говоря — одиночный в небо и очередь — по цели. Так они делали в Монголии, простреливая длинными трассирующими очередями вдоль состава в тех местах, где поезд двигался на подъём, снижая скорость до минимальной, а монголы забирались на платформы состава и сбрасывали с них грузы — которые затем увозили на повозках в степь. Помощник машиниста в таких местах шел перед локомотивом и сыпал песок на рельсы — для сцепления, чтобы состав не покатился обратно…
А он сам в то время, в звании младшего сержанта, тащил срочную армейскую службу в приграничной транспортной железнодорожной комендатуре, распределяя воинские грузы по всей Монголии. Оружия, стрельбы и дезертиров в тех краях было предостаточно…
Пока добежали — солдатики из караула уже разоружили своего командира. Один, заломив ему руку за спину, сидел сверху. Другой протягивал старлею-коменданту «макарку» рукояткой вперёд — показывая, что магазин пуст. Третий стоял по стойке «смирно» на карауле возле теплушки — ожидая, что скажет комендант. Ребята были опытные, у коменданта к ним претензий не было. Как оказалось — у прапора случился приступ «белочки» — распространенного явления среди прапорско-офицерского состава советской армии в Монголии.
Бывали и другие случаи. Но так близко — никогда.
ОМОНовский лейтенант сунул ему под ухо диктофон, из которого доносились какие-то обрывочные слова.
— Узнаете свой голос?
— Нет.
— Это ваши переговоры, когда вы шантажировали гражданина, — он назвал имя мужика, разбившего ему машину.
— Это ложь. — В минуту опасности на него находило невероятное спокойствие и ясность мысли. Это помогало понять, что делать — убегать, драться или ждать развития событий. В этот раз ни убежать, ни подраться. Надо было ждать. — Если вы из милиции, то должны представится и сообщить о причинах задержания.
Видно, мент ожидал чего-то другого. Он убрал из поля зрения диктофон и уже менее уверенно сказал:
— Вы вымогали у гражданина деньги и явились за ними.
— Я пришел по приглашению этого гражданина, чтобы получить деньги за разбитую им мою машину. Все документы на этот счёт у меня в рюкзаке.
Мужик, который до этого скрывался из поля зрения, возник из комнаты и начал что-то мямлить.
— Помолчите! — оборвал его лейтенант. — Вернитесь в комнату.
По тону стало ясно, что менты знали какую-то другую историю. Надо было переходить в наступление — чтобы усугубить их сомнения.
— ОМОНовцы стали помогать мерзавцам, которые не хотят оплачивать нанесённый ими ущерб?! Это что, новая услуга? В свободное время подрабатываете, запугивая пострадавших?
Мент не успел ответить — приятель компаньона, который был представлен бывшим следователем, стал медленно оседать вдоль стены, к которой стоял лицом с поднятыми руками.
— Это мой адвокат! У него слабое сердце! Дайте ему стул!
С чего он взял про слабое сердце своего случайного знакомого — неведомо. Но ситуация разрядилась — из комнаты принесли стул, а ему и его компаньону разрешили опустить руки. И наконец-то щелкнул предохранитель «калаша», смотревшего ему в голову.
— Мы сейчас проедем в отдел и там во всём разберёмся. Вы — он ткнул стволом в сторону мужика — поедете на своей машине и возьмете их — он указал на сержанта и на «адвоката». А вы, я и этот — он ткнул рукой в сторону компаньона — поедем на вашей машине.
Ну, разумеется, окна во двор и эти видели, как они подъехали и где оставили машину.
Лифт был небольшой — максимум на троих, поэтому ОМОНовцы проконвоировали их по лестнице — лейтенант с автоматом впереди, амбал — сзади. Причем мужик шёл также под конвоем.
Потолки в этом доме были высокие, лестничные пролёты — длинные, спускаться с пятого этажа под конвоем оказалось делом небыстрым. Надо было заполнить паузу и ещё больше настроить омоновцев против хозяина квартиры.
— Кавказские бандюки в кабаках гуляют, а вы в это время помогаете всяким, — он сделал паузу, — начальничкам отмотаться от уплаты долгов! Не стыдно, ОМОНовцы? Делом надо заниматься.
— Поступил сигнал. Мы его должны были отработать. — В голосе лейтенанта больше не было металла. Он посмотрел через плечо на мужика.
— Гражданин сообщил, что у него бандиты вымогают деньги. Нам дали команду проверить.
— Хорош, гусь! Бандиты, которым он разбил машину и пригласил к себе, чтобы расплатиться. Похоже, вас подставили.
Лейтенант ничего не сказал. Но он продолжал напирать:
— Ну, ясно — вас подставили. А если бы мы от неожиданности задёргались — что бы вы стали делать?
— Стрелять, — коротко бросил лейтенант. Было ясно, что ситуация ему неприятна.
Во дворе расселись по двум машинам. У ОМОНовцев своей не было. Получалось, что этот хмырь сам их привёз. Ехать пришлось не далеко — в отделение милиции, что на троллейбусном круге возле метро «Сокол».
Вообще-то, брать рюкзак в ментовку не хотелось — он был набит деньгами. День выдался удачный — пока они не приехали сюда. Но оставить его в машине с разбитым и закрытым кое-как багажником, без сигнализации — тоже было бы странно.
— У меня в рюкзаке деньги — я начал собирать на ремонт машины. Куда мне его деть?
— Оставите у меня. Всё будет в целости. Слово офицера-афганца.
Это прозвучало убедительно. Да и других вариантов не просматривалось.
— Сейчас подождёте, и вас вызовут. Мы сперва должны опросить гражданина, — он опять назвал фамилию хмыря-начальничка.
Ждать пришлось в обезьяннике. Дежурный прапорщик с грязными ментовскими погонами и такой же формой по очереди обхлопал их карманы — от него плохо пахло, да и выглядел он соответствующим образом. Стояло лето, прятать что-либо было некуда, поэтому он только сказал снять ремни — и подтолкнул их за решётку.
Компания уже собралась. На узких нарах лицом к стене лежали пьяный бомж и такая же проститутка. Две другие — приличные — стояли возле стены. Три или четыре «конкретных пацана» — воришки-напёрсточники с соседнего рынка — сидели на корточках посреди обезьянника и привычно-хмуро следили за обстановкой.
Ждать пришлось долго. Разговор шёл абстрактный — какого черта и когда же наконец. Кто за что — не обсуждалось, и так было более-менее понятно. Да и неизвестность впереди напрягала. Иногда кто-то обращался к дежурному — товарищ прапорщик, в туалет выведите!
— Один дурел — следовал ответ и прапор не трогался с места. Доллар перевалил уже за сто рублей. Это казалось слишком дорого для посещения сортира в ментовке. Так что приходилось терпеть.
Через несколько часов его вызвали к лейтенанту. Тот сидел в небольшом кабинетике, на спинке его стула висел автомат с примкнутым магазином.
— Что в рюкзаке?
— Деньги.
— Что ещё? — похоже, рюкзак он уже обшарил. — Откройте и покажите.
Он открыл рюкзак. Вроде, всё на месте. Кроме перехваченных резинками пачек денег, в боковом отделении лежал пистолет «вальтер» — игрушечный, купленный в подарок сыну за тридцать пять франков на барахолке в Париже пару лет назад.
— Не пугайтесь, это игрушка сына. Захватил с собой, поскольку вёз большую сумму, — и подал лейтенанту рукояткой вперёд.
Мент оценил этот жест, быстро осмотрел ствол:
— Изымаю для экспертизы.
— Так видно, что не настоящий…
— Положено…
В первом часу втроём они вышли из ментуры — на круг троллейбуса, где оставили свою машину. Московская ночь. Темно, машин почти нет, троллейбусы с круга разъехались, в закоулках между киосками и палатками какое-то шевеление. Его спутники обсуждали происшествие:
— Ну что, кажется, обошлось.
— Не думаю. Это только начало, — заметил следак.
— Ладно, посмотрим, меня мент обещал вызвать по телефону, когда всё оформится. Вы как — на метро или вас подвезти?
— На другой конец Москвы на метро быстрее.
— Ладно, извините, что так вышло. Если что — во всём виноват я. Вы просто составили мне компанию.
Через несколько дней он поднимался на крыльцо того самого «почтового ящика» на Соколе — то ли «Алмаз», то ли «Рубин», то ли «Аметист», где мужик был каким-то начальником. Он снова шёл получать долг за разбитую машину. Встречу опять назначил тот самый неприятный человек, назвав номер кабинета, куда следует подойти. Полученный опыт общения не понравился, и он ждал новых неприятностей. А в таких случаях надо быть агрессивным и нападать первым. Пропуск был заказан. Контора выглядела как обычный «почтовый ящик», в котором научно-техническая мысль огромного штата внешне простецких работников бьётся над задачей — как бы уничтожить побольше себе подобных.
Накануне ОМОНовский лейтенант по телефону пригласил его к себе на беседу — весьма вежливо. Когда он пришел, то увидел в кабинете того самого мужичка и его жену.
— Подождите, пожалуйста, мы с гражданином не закончили, — сказал лейтенант. В этот раз он был одет «по гражданке» — в тёмном пиджаке, который смотрелся на нем так, как обычно смотрится «цивильный» пиджак на военном.
Через несколько минут пара вышла и поспешно направилась к выходу.
— Заходите, — пригласил лейтенант в пиджаке, — вот ваша игрушка. Его пистолет лежал на столе. — Всё в порядке. Я сказал гражданину, что он должен побыстрее с вами расплатиться. Если в ближайшие дни он вам не позвонит — свяжитесь со мной.
— Я могу идти?
— Подсидите у меня несколько минут — чтобы эти успели уйти. Вам не нужны лишние проблемы.
— Думаете, я побегу за ними?
— Не думаю, но шесть месяцев вам лучше не встречаться. Если с ними что-то случится позже — вас уже не будут подозревать.
— Спасибо.
— И ещё. Вы говорили, что у вас может быть информация про бандитов.
— Сейчас нет, но всё может быть.
— Вот мой номер телефона. Понадобится — звоните. А теперь можете идти.
Получать долг на секретном предприятии — это что-то новенькое. Он без стука открыл дверь кабинета, куда был приглашён. На ней была табличка — золотом по черному стеклу — «отдел кадров». За большим столом сидел неизвестный дядька в очках, с неприятным лицом кадрового КГБэшного чиновника.
— Так, а где, — он назвал фамилию мужика, разбившего ему машину.
— Выйдите! — последовал короткий ответ.
Он вошёл в кабинет, закрыл за собой дверь, сел на стул напротив стола и положил ноги на соседний стул.
— Мне в этом кабинете назначена встреча гражданином, — он назвал фамилию. — Судя по табличке, он начальник отдела кадров. А вы кто?
— Это я начальник отдела кадров, а товарищ, — он назвал фамилию, — заместитель директора.
— А чья должность выше — его или ваша?
— Его, конечно!
— Тогда идите и быстро найдите его — у меня мало времени.
Кадровик за столом притих. Сразу открылась внутренняя дверь и вошёл тот самый мужик, и с ним ещё трое.
— Так, пятеро на одного? Что, опять подставу приготовили вместо того, чтобы заплатить долг?
Двое из вошедших молча сели на стулья возле стены и с интересом смотрели на него — одетого в джинсы, светлую рубашку и на его мокасины, надетые без носков на загорелые ноги, лежащие на стуле. Третьему вошедшему и тому самому заместителю начальника — стульев не хватило, и они стояли в замешательстве.
— Ладно, садитесь, — он снял ноги со стула. — Где деньги? Сумму вы знаете. Она указана в оценке страховой компании, которую вы сами выбрали.
После этого тридцать минут замначальника и кадровик убеждали его повременить с возвратом долга — время трудное, такой суммы сразу не собрать. Двое у стены и третий, оставшийся без стула, помалкивали.
— Ладно. Когда вы готовы вернуть долг?
— Через полгода. В декабре у меня будет премия.
— Хорошо. Вы ведь знаете, что происходит с рублём и с ценами. Где будут цены через шесть месяцев — неведомо. Я готов подождать до декабря. Но вы прямо сейчас, на бланке своей конторы напишете мне расписку, что не позднее пятнадцатого декабря вернете сумму долга, умноженную на десять. Эти четыре свидетеля распишутся, и вы поставите печать отдела кадров — раз уж мы так удачно здесь расположились. Второй вариант. Мы фиксируем сумму вашего долга в долларах на день устроенной вами аварии. И вы обязуетесь до пятнадцатого декабря вернуть сумму в рублях по официальному курсу, который будет в тот день.
Он говорил медленно и следил за лицами участников переговоров. Повисла пауза.
— Погуляйте, пожалуйста, немного в нашем парке, — неожиданно сказал один из сидевших у стены. — Мы обсудим ваше предложение.
Через полчаса он вышел из кабинета кадровика с рюкзаком, в котором лежала вся сумма долга. Дело было закончено. Вместе с ним вышел человек, предложивший ему погулять.
— Этот хмырь, — он назвал фамилию замначальника, — известная скотина. Здорово вы его… Пойдёмте, я вас провожу через проходную.
Возле проходной сопровождающий пожал ему руку.
— Вы поступили правильно. В декабре он бы вам ничего не отдал.
Неделя потребовалась на ремонт машины. На армянском сервисе, который располагался в каких-то гаражах недалеко от места аварии, ему всё сделали быстро и достаточно неплохо. На покраску денег не хватило, и в Париж он поехал на битой красной жигулёвской «пятерке» с белыми от шпаклёвки боками.
Через две недели он уже лежал на песке широкого пляжа возле Аржеле-сюр-Мер — что на границе с Испанией и смотрел на тёплые воды Средиземного моря, в которых плескались его сыновья. Вакансы у французов ещё не начались и пляж был почти пустой.
9—19 декабря 2021, Галахово
Закончилась пора ученичества
Все сопки здесь — как кочки в тундре, похожи между собой. По одним и тем же жёлто-зелёным холмам ползёт проволочное заграждение, равнодушно деля землю на свою и чужую. Это — государственная граница. А посмотрев на сопки и не заметив проволоки, ни за что не догадаешься, что здесь — внизу — ещё «наша» земля, а вон на той вершинке — уже «чужая». И ведь в самом деле чужая. Об этом всем желающим сходить в лесок на том склоне за грибами сообщат вооружённые пограничники. И река тоже здесь ещё наша, а за тем поворотом уже не наша.
Иногда там, в верховьях, на чужой земле идут сильные дожди, и тогда всю равнину на нашей стороне заливает мутное море. Посёлок тоже заливает, и жители нижней его части садятся в лодки и на две-три недели едут гостить к родственникам в верхний посёлок, за железную дорогу. В самые сильные разливы вода подбирается к насыпи, но никогда не переходит её, а потихоньку подгрызает. И тогда, после окончания наводнения, мужики-путейцы в грязных оранжевых жилетах, ругая стихию, сидят у костра, пьют самогон и смотрят, как бабы в таких же грязных жилетах поправляют насыпь.
Цены на местную картошку в такой год сильно повышаются и её ездят покупать в дальние посёлки. Чтобы завозить картошку «из центра» в поселковые магазины — до такого пока не додумались. Да и откуда завозить? Из-за Урала, из центральной России в Забайкалье? До такого точно надо додуматься.
Хотя, кое-кто сумел получить участки под огороды на нейтральной полосе, в той её части, которую не захватывает разлив. Один из них — дед Тимоха. Его огород — неподалёку от железной дороги, и пассажиры пекинского поезда, четыре раза в неделю проходящего мимо, с удивлением смотрят на старика, копающегося в ничейной земле. Зато сторожить не надо, — смеётся дед Тимоха. Его помятое временем, загорелое до цвета обожжённой глины лицо сморщивается, — ребята с автоматами охраняют.
Этот дед — удивительный рассказчик. Он пасёт коров местных жителей недалеко от моста через более узкий рукав бурной Селенги, и по дороге со станции на реку обойти его никак нельзя. Вроде, только что поприветствовал его и пошёл дальше, а вот уже сидишь на грубо обтёсанных брусьях, из которых собраны перила моста. Удочки валяются рядом, солнце жжёт отвесными лучами, а дед хохочет над очередной своей историей, которую выдумывает прямо на ходу. Ему бы с гуслями по земле ходить, а он вот здесь, среди выгоревших сопок, грубо ругает залезших в реку коров и одновременно прикидывает — как на заработанные летом деньги можно будет пить всю зиму. И даже самогон не понадобится. Но это он преувеличивает. Самогон ему обязательно понадобится уже в середине зимы.
Сержант бросил ручку между листами тетради. Не то. Опять не то, чёрт возьми. Слова не те. И предложения не те. Об этом надо говорить как-то иначе… Он повернулся лицом к солнцу. И сразу стала видна быстрая река, разделяющаяся после парома на два рукава, а на другом берегу — пограничная вышка и пыльная дорога, ведущая от парома к заставе. Дорога местами скрывалась за сопками и грузовик, привозящий пограничникам еду, постоянно исчезал из вида. Вот и сейчас было видно только облако пыли. Значит, скоро два часа. Сержант встал с земли и сделал стойку на руках. Он был в линялых голубых плавках, и о его воинском звании можно было догадаться только увидев мятые погоны с двумя сержантскими просветами на выгоревшей полевой хэбэшной куртке светло-коричневого цвета, с которой он поднялся. Ему уже советовали прятать форму, приходя на реку, чтобы не нарваться на неприятности. Какие к чёрту неприятности могут быть в начале сентября? Все неприятности позади. Скоро домой.
Сержант прошёл вверх по течению и не разбегаясь прыгнул в быструю и мутную воду. Его сразу подхватила и завертела в водовороте тугая струя. Река пугала. Эта протока была мелкой и узкой. Вот во втором рукаве Селенги купаться одному было опасно. А здесь он без усилия доплыл до отмели и вышел на берег. Со станции долетел бодрый гудок поезда. Значит, было больше двух часов. Иркутский нечётный на Москву с первого пути отходил в четырнадцать тридцать. Пора идти обедать.
А это хорошая мысль — написать по рассказу о всех интересных событиях своей жизни. Может быть, они помогут кому-нибудь разобраться в своей жизни, или даже избежать некоторых глупостей. Но тогда это должны быть очень хорошие рассказы. А таких мне писать не приходилось. Было несколько неплохих. Кое-что из них даже напечатали. Но очень хороших пока не получалось.
Сержант выбрался на берег и по низкой колючей траве пошел к своей одежде. Не спеша одевшись, он застегнул ремень. На внутренней стороне бляхи были сделаны зарубки по числу месяцев службы. Он их делал каждый месяц второго числа напильником или ножом — если напильника не было. Хоть какая-то память останется от этих пустых месяцев. Фуражку сунул под мышку и пошёл к станции. Разумеется, носить парадную фуражку с линялой полевой хэбэшкой было не по уставу. Но в тех местах, где он был, служить по уставу было не принято.
Что у нас сегодня на обед? Борщ из тушёнки — густой и наваристый на первое. Это есть. На второе можно пожарить картошку с грибами. Грибы он собрал вчера в лесу — на сопке, прямо возле пограничной вышки. Туда редко кто ходил — не хотели неприятностей с погранцами. Когда сержант первый раз пошёл в этот лес, его высмотрел пограничный наряд и забрал вместе с грибами на заставу — разбираться. В этом месте дезертиры — беглецы из Монголии обычно переходят границу, чтобы залезть в вагон поезда вглубь страны, где можно затеряться. Здесь не надо переплывать всегда бурную Селенгу. Садясь в пограничный ГАЗик, он выбросил ненужную теперь палку. Разводящий сходил за ней, внимательно осмотрел и сунул в кабину — улика. Но долго сидеть под охраной не пришлось. Помог свернутый вчетверо мятый листок — командировочное удостоверение с множеством расплывшихся штампов, в котором говорилось, что сержант имеет право круглосуточно передвигаться в погранзоне.
Лес на этом мелкосопочнике был хороший, сосновый, грибной. Но всё портили комары. Откуда они только брались в этих сухих краях? Землю покрывал толстый слой сосновых иголок, которые пружинили под ногами и издавали сильный смолистый запах. А на вершинках сопок стояли высокие — по грудь — заросли трав, в которых выделялись соцветия мать-и-мачехи. И запах там был ещё более крепкий, чем в лесу. Пахло разогретой травой и покосом, хотя здесь уже давно никто траву не косил. Грибов было много и набрать на обед их можно за полчаса, но он не спешил. Приятно бродить по лесу после выжженных солнцем и выбитых армейской техникой сопок, и голой степи в пойме Селенги.
Сержант шёл от реки к железнодорожной насыпи и улыбаясь смотрел на реку, на сложенный из старых серых брусьев мост, на пограничную вышку и на выгоревшую траву, оставлявшую щедрую пыль на сапогах. Как мало надо, чтобы заставить человека улыбаться — всего лишь подарить ему надежду на близкие перемены. Пусть до дома ещё много тысяч километров, всё равно — самое скверное осталось позади. Позади остались унизительные и бесполезные занятия на плацу — ходить строевым шагом «в ногу» его не смогли научить ни в пионерском лагере, ни в армии. Позади ползанье в грязи на полигонах, постоянное напряжение в ожидании драки на пересыльных пунктах и в полутёмных казармах, пронзительный зимний ветер, свирепо продувающий шинель без подкладки и летнюю хэбэшку во время утренней переписи вагонов на воинской разгрузочной рампе. Ватные рукавицы, которые удалось украсть где-то в комендатуре, не позволяли держать карандаш, и писать на утреннем ветреном морозе приходилось голыми руками. Снега зимой не было, а из глубины Монголии постоянно дул сильный холодный ветер.
«Зимнюю стойку прыжком принять» — когда рота на построении перед походом в столовую или в киношку стоит на зимнем ветру, который режет глаза, а руки в карманах — «два наряда вне очереди», без шинелей и бушлатов, в ожидании команды «вперёд шагом марш». И сержант в бушлате — не застёгнутом на пуговицы, а плотно затянутом ремнём «не по уставу», тянет время, глядя, как бойцы стараются принять позу, при которой холодная одежда не так плотно прилегает к голодному организму. Шинели и бушлаты одевать не разрешали — чтобы в столовой или в холодном солдатском клубе их не украли бойцы из соседних батальонов — одежды в войсках не хватало.
Да мало ли чего было за эти долгие месяцы.
Его вагон весной переставили на тупиковый путь, где он скрывался от посторонних глаз среди нагромождения железобетонных плит. Когда-то с неведомой целью их разгрузили с железнодорожных платформ, а увезти и что-то построить из них у людей не дошли руки. Подходя к вагону, приходилось искать дорогу в бетонном лабиринте. Поэтому здесь не появлялись патрули и военные чины забредали нечасто. Это заметно украшало жизнь. Разве что загулявший офицер или беглый прапорщик из Монголии появятся в поисках, где бы выпить и что бы украсть.

Последним встреченным им офицером в этом определённо злачном месте был майор — начальник железнодорожной комендатуры — его непосредственный начальник. Майор был невысокий и круглый. Спрыгнув с высокой ступеньки плацкартного вагона на землю, он присел, тяжело выпрямился и посмотрел на сержанта:
— Ты что здесь делаешь?! — Майор знал, что здесь живут рэфы — бригады, сопровождающие рефрижераторные вагоны, ожидающие свои секции-вагоны с мясом из Монголии. А армия сюда ходит исключительно в гости к проводницам иркутского поездного запаса.
— Я здесь живу.
Майор что-то вспомнил.
— Ты меня не видел, — буркнул он и зашагал между плит в сторону станции.
Огонь в самодельной плите не горел. Пришлось сначала сходить к выгрузочной воинской рампе за деревянными брусками, которыми военная техника крепилась на железнодорожных платформах. После разгрузки их бросали прямо здесь. Раньше, в теплое время, обитатели вагона готовили еду просто на костре, но он требовал много дров и готовит на нём был неудобно. Сержанту пришлось найти кирпичи и лист железа, чтобы сложить нехитрую дровяную плиту. Готовить на ней было удобнее, чем на костре. Плита давала ровный жар и дров требовала совсем немного.
— Что, старина, последние денёчки ты здесь живёшь, — сказал себе сержант. Скоро приказ — и привет, служба! А там начнётся новая жизнь. Пора ученичества подошла к концу. Это первые рассказы могли получаться от случайного вдохновения. А чтобы научится писать хорошо и правдиво — нужна серьёзная работа. Этого ты пока не умеешь. Но ты немало знаешь, и кое-что умеешь. У тебя должно получится.
Сухие дрова весело занялись в печи. Сержант поставил на край плиты кастрюлю с борщом и присел рядом чистить картошку. Грибы он пожарил вчера. Сейчас их надо будет смешать с обжаренной картошкой, добавит немного масла и придумать, где взять сметану. Хотя, можно и так, без сметаны.
А хватит ли мне опыта, чтобы написать первый цикл рассказов о моём взрослении, о поре ученичества? Что для этого надо знать? Как построить рассказ, чтобы событие из моей жизни вошло в жизненный опыт другого человека как им самим пережитое? Надо, чтобы у читателя был определённый жизненный опыт. Тогда возникнут ассоциации воспоминаний с прочитанным и будет достигнуто взаимопонимание. Плохо, что большинство читателей не готовы к такому разговору. Не тем их кормили в прежней жизни. Совсем не тем. Есть немало интересных книг, но как трудно их найти. А те, что стоят на полках в книжных магазинах, к сожалению, для чтения не пригодны.
Картошка зашипела на сковороде. Помешивая её алюминиевой ложкой, сержант смотрел, как она покрывается приятной коричневой корочкой. Там же шипели, брызгали маслом и постреливали грибы. Сколько же в них жизненной силы — прямо из сковороды выпрыгивают. Просто как авторы-современники, которых издают полумиллионными тиражами. Их книги, изрядно выгоревшие и запылённые, постоянно попадаются на глаза в книжных лавках от Кольского полуострова до Средней Азии. В одной такой книжке ему даже встретилось гнездо паука, который резво спустился по своей нитке и скрылся среди книжных богатств одного такого магазинчика, когда сержант взял книгу в руки, чтобы посмотреть фамилию автора. Люди нашли способ зарабатывать хорошие деньги писательством. Убей меня бог, если я начну писать рассказы ради заработка. Традиции Хемингуэя и опыт Ремарка не позволяют писать хуже, чем они. Достичь их уровня будет трудно, но в противном случае лучше всю жизнь ходить по земле с геологами или плавать по морям, выбросив из головы писательские замыслы. Плавать не ради впечатлений и материалов, а исключительно ради заработка средств существования. Хорошо об этом сказал Хемингуэй — надо читать хорошие книги ради того, чтобы знать, кого ты должен превзойти. Что-то в этом роде. Очень удачно сказал.
А вот, кстати, и проводница.
— Петровна, приглашаю вас разделить со мной трапезу. Кстати, у вас есть сметана?
— Спасибо! Конечно, есть. У тебя сегодня праздник?
— Вас не проведёшь. Несите сметану.
— Что отмечаешь сержант? Или приказ вышел?
— Без сметаны сказать не могу. А приказ выйдет через пару недель. Знать надо такие вещи!
Он сходил в вагон и принёс четыре бутылки пива. Надо было бы купить шампанского, но денег не осталось совсем. А занимать он не умел.
Сержант поставил на сколоченный из толстых досок стол кастрюлю с борщом, сковороду с картошкой и тарелки. Грибы с картошкой и сметаной были похожи на те, которые он ел когда-то в другом месте, на другом конце огромной страны и совсем с другими людьми. Но это было в другой жизни. Совсем в другой… Может, он даже прочитал где-то об этом.
Пиво запенилось в стаканах. Сержант посмотрел на вялую пену, пузырьки, прилипшие к стенке стакана, и улыбнулся. Он поднял стакан.
— Сегодня день моего рождения. Ура.
Петровна встала из-за стола и торопливо ушла в вагон. Она вернулась, бережно неся полбутылки водки улан-удинского «розлива», заткнутую обрезанной пластиковой пробкой от портвейна.
— Что ты, разве можно так. За такое дело надо водочки. А пиво оставь к грибам.
Она разлила водку в два стакана поровну и взяла свой.
— Знаешь, сержант, тебе скоро домой ехать. Пусть у тебя там всё будет хорошо. Пусть родители не болеют. Пусть друзья вернутся со службы живы-здоровы. Пусть девчонки за тобой бегают. А главное, чтобы дело, которым займёшься — получалось. За тебя. Сколько тебе теперь?
— Двадцать четыре, — сказал сержант и одним глотком выпил.
7 декабря 1986 г., Индийский океан, «ревущие сороковые», курс на Антарктиду, НПС «Фиолент»
На вокзале
В Душанбе было очень жарко. Он сидел на лавке в привокзальном сквере. Сильно болела голова. Хотелось прилечь в прохладе и пить холодную воду. Но лечь было негде. Он только накануне закончил работу в горах и спустился в город. Сдал рюкзак в камеру хранения. Денег хватило только на билет. Ночевал он в парке на берегу пруда. Ночь была душная, ныли комары.
За два месяца в горах он обгорел, оборвался и сильно устал. А поезд будет только ночью, и его надо где-то дожидаться в этом чужом, жарком и пыльном городе. Он сидел, закрыв глаза и пытался забыть про боль. Мимо ходили люди. Кто-то задел его ногу и остановился. К нему уже подходили привокзальные менты, поэтому он не сразу открыл глаза — дремал.
— Чего грустишь, парень!
Голос был женский, неприятный. Женщина была пьяна. Надо же, пить в такую жару… Она тяжело опустилась на лавку и вздохнула.
— У нас мент бутылку портвейна забрал. — Ей хотелось поговорить. — Мы тут с мужиком взяли бутылку, на лавочке её открыли. Подъезжает коляска. Не положено! Нас везти в отделение не захотел, а полбутылки отнял. Падла…
— Пересядь на другую лавку. Я сплю.
— Ты что лавку купил? Не злись, самой тошно. Ты что, уже датый?
— Отстань. Пить я не хочу и денег у меня нет. Гуляй.
— Тебе что, некуда пойти? Да ты открой глаза.
— Я не хочу никуда идти.
Всё-таки он открыл глаза. Рядом сидела баба непонятного возраста и неопределённых занятий. В горах он соскучился по женщинам, но это было совсем другое.
— Можно переночевать у меня. У меня есть комната. И выпить найдём.
— Проваливай, — не выдержал он. — Я не люблю ночевать в каталажке.
— Дурак.
Она встала и покачиваясь пошла по дорожке к вокзалу, а ему стало ещё хуже.
15 марта 1983 г., Москва
Вкус прошлого
Его преследовали запахи прошлого, вкус и вид вещей, которых он был лишён. И чем меньше он старался об этом думать, тем сильнее вдруг всплывали и наваливались они, вызванные случайным запахом или видом забытой еды.
Во время ночного наряда в окно вошла волна тёплого воздуха. Она пришла из степи и принесла немного запахов. Сухие и слабые, они напомнили о далёких ночах, которые пахли морем, виноградом, просоленными камнями и цветущими южными кустами. И что-то внутри сжалось и зашевелилось. Вспомнилось тёплое утро на светлой веранде старого деревянного дома. Веранда заросла виноградом и синие грозди изабеллы светились среди зелени резных листьев и лучей солнца. То утро пахло яичницей и свежим хлебом, салатом из помидоров с яблоком, мелко порезанным в тот салат, яблочным соком и молодым вином. Ещё оно пахло утренним садом и морем. Они сидели за столом и не спеша ели яичницу, салат и запивали вином. Это был отдых.
А ещё было утреннее море. Оно слегка покачивалось, блестело, и в нём отражалось солнце. Камни и песок ещё были прохладные после ночи и надо было пройти по ним перед тем, как прыгнуть в горько-солёную воду. Уходящий далеко в море волнолом тоже был холодный и влажный. На нём сидели утренние рыбаки — самые удачливые.
Вода утром была совсем лазурной. Казалось, что плывёшь в лучах солнца. А если прыгнуть с волнолома, то лазурь в глубине темнела и наполнялась пузырями, взлетающими вверх — к солнцу. На волноломе жили колонии мидий, а в расщелинах камня прятались крабы. Иногда мы с аквалангами погружались в том месте и набирали мидий, которых потом жарили на большом металлическом листе. А пойманных крабов вечером варили в солёной морской воде и сидя на веранде, запивали их холодным пивом. У нас был холодильник, поэтому пиво в самом деле было холодным — что редко встречалось на южном берегу. Красные крабы на глиняном блюде и светлое пиво в высоких кружках. Это вспоминалось часто, и он жалел, что не может это нарисовать. А ещё он жалел, что никогда не встретится с Томасом Хадсоном и не попросит его об услуге — нарисовать эту картину.
Много всего вспоминалось. И как он ни гнал от себя эти мысли, всплывало всё с удивительной ясностью. Он помнил чёрные ночи с большими звёздами, светлячков в высокой траве и звон цикад в кустах. И снова ветер приносил запах моря, цветов и летней ночи. Море лизало пляж, по набережной гуляли красивые люди, в порту стоял большой белый теплоход. Там, на галерее в порту, они ели мороженное и пили шампанское. Как ему всего этого не хватало! Но была надежда, что всё станет ещё лучше…
1—10 августа 1983 г., Волгоград, казарма в/ч 12670
Своя тропа
Поднявшись на перевал, Эрик сбросил рюкзак и на несколько секунд почувствовал состояние невесомости. До чего хорошо после крутого подъёма скинуть ношу и оглянуться на пройденный путь. Далеко внизу, на осыпи, двигались две яркие точки. Это шли ребята, с которыми он встретился два часа назад. Хорошо было бы идти дальше вместе, но у каждого в горах своя дорога, своя цель. Они пошли к морю через перевал, закрытый сейчас высокой двуглавой вершиной, на которой почти от подножия лежал снег. Эрик посмотрел на эту гору. До чего ярко, ослепительно сияют её облитые солнцем склоны, и тёмно-синими полосами выделяются притаившиеся в тени кулуары. А ниже, там, где у подножия стоит еловый лес, напротив громоздятся горы грязного подтаявшего снега, из которого торчат белые — ободранные и изломанные стволы деревьев. Похоже, эта зима была очень снежной. Лавины долетали до леса и крушили вековых гигантов. Кулуары и сейчас были забиты снегом, значит время лавин ещё не закончилось. Над будет внимательно следить за ними, когда начнётся снежный пояс. Хотя, чего опасаться — тропа проложена в самом безопасном месте. И всё же — бережёного бог бережёт. Снесенные этой зимой лавинами деревья тоже простояли сотню лет, пока их не накрыли лавины. Что-то меняется в горах…
Рюкзак опять навалился на плечи своей привычной, удобно сидящей тяжестью. Тропа от перевала сначала шла вдоль хребта, временами теряясь на осыпях, а дальше резко начинала набирать высоту, петляя среди скал. В сомнительных местах кто-то позаботился навесить перила. Достаточно было пристегнуться к ним страховочной обвязкой, чтобы на смену тревоге пришла спокойная уверенность — кто-то здесь уже прошёл, значит тропа проходима и ведёт туда, куда надо. А куда надо? Конечно, вперёд — наверх, навстречу своей мечте. Но разве можно идти навстречу своей мечте по чужой тропе, пристегнувшись к навешанным неведомо кем перилам?
Чёрт возьми, странные мысли лезут в голову на такой жаре. Хотя, вроде бы стало прохладнее. Разогретый воздух уже не дрожал над тропой, и от камней больше не поднимался удушающий жар. Эрик поднял голову, но ничего не увидел — высоко над головой к склону прицепилось облако, закрывшее вершину. Туда уходил расколотый крупными трещинами скальный выступ, у подножия которого он сейчас стоял. И опять вверх тянулись чужие перила. Что ж, так и идти по чужой тропе? Пора уже сворачивать на свою. Но как узнать тот поворот, который выведет тебя на неё? Наверное, так много людей и идут по жизни чужими дорогами, глядя себе под ноги, чтобы, случайно подняв глаза не увидеть знакомый поворот. Тот самый, который иногда появляется во сне и тревожит душу ощущением чего-то несбывшегося. Если однажды его увидишь, то придётся выбирать. И тогда, испугавшись трудностей самостоятельного пути и оставшись в толпе, всю жизнь будет мучить стыд перед самим собой за тот упущенный шанс. Со временем он притупится и всё будет казаться нормальным — как у всех. Но всё-таки будет неприятно колоть душу каждое сообщение о людях, не испугавшихся свернуть с безопасной общей дороги на собственную тропу, которая неожиданно быстро привела к вершине. Такой человек может стоять на своей вершине и улыбаться небу и солнцу, которые здесь гораздо ближе и ярче.
А потом, когда по проложенной им дороге придут другие, он сможет опять уйти вперёд и вверх своей тропой. Ведь всегда должен быть кто-то, идущий впереди. Интересно, а есть ли кто-то впереди у того, кто идёт нехожеными тропами? Наверное, нет. И от этого ему труднее идти, чем другим, но и больше радость от пройденного пути. Хотя, может быть это нормальное деление на тех, кто идёт впереди, и тех, кто валит следом. Чёрт его знает, подумал Эрик. Он чувствовал, что пришло время искать среди скал свою вершину и тропу к ней.
Прицепившись к перилам, Эрик взбирался вверх по растрескавшимся скалам. На лице он чувствовал первые влажные прикосновения тумана. Незаметно подъём стал круче. Камни всё чаще выскакивали из-под его грубых горных ботинок с толстой ребристой подошвой, которая держала даже на очень крутых склонах. Иногда он останавливался на какой-нибудь ровной площадке и, присев на камни, смотрел вниз — на пройденный путь: стараясь что-то вспомнить. Потом продевал руки в лямки высокого рюкзака, сшитого из очень прочного серебристого нейлона, и, глубоко выдохнув, выпрямлялся. Всё-таки рюкзак оказался слишком тяжёл для подъёма. Эрик на ходу рассмеялся. Он вспомнил, что сказал ему человек, видевший его сборы. Товарищ, ты берёшь ненужный груз, — сказал тот человек. Но смешно было то, что он неожиданно ответил на это. Эрик рассмеялся опять. И всё-таки выкладывать содержимое рюкзака было поздно, а выбросить — жалко. И он продолжал лезть вверх, жалея иногда, что оказался один на этом пути. Конечно, понятно, что иначе нельзя было поступить, но всё-таки… Плохо, когда не с кем перекинуться словом на привале, или просто переглянуться в пути. Это, оказывается, очень важно. Много чего важного есть в жизни! Не будешь же всё это таскать за собой по свету.
Оказывается, туман прятал под собой снег. Снег лежал под облаком, оказавшимся просто туманом. И из этого самого облака сеял мелкий дождь. Скалы остались внизу. Теперь надо было идти по снегу, который пропитался водой и сразу промочил ботинки. А ещё шёл дождь. Не такой уж сильный, но достаточный, чтобы испортить настроение. Теперь надо было идти быстрее, чтобы скорее пройти сквозь туман и к вечеру выйти на снежное плато, лежащее выше облаков, которое он видел на карте. Там можно разобраться, что делать дальше. Хотя, пожалуй, Эрик уже знал, что делать дальше. Плохо только, что дождь портил настроение. И видимости никакой. Сколько там ещё идти, кто знает. Дело шло к вечеру, и пора было подумать о лагере и о хорошем горячем ужине. Большой рюкзак плох тогда, когда его надо нести, зато сколько всяких полезных вещей можно из него достать на привале! Только об этом пока думать рано. Надо сначала вылезти из этой сырости. А дождь всё шёл, и тонкие струйки стекали по штормовке под рюкзаком. На ходу это не чувствовалось, поэтому надо было идти без остановок, чтобы не замёрзнуть. Снег становился всё глубже, и при каждом шаге нога уходила выше колена в сырую и холодную кашу. Уже не верилось, что несколькими сотнями метров ниже светит солнце и над накалёнными камнями дрожит марево. А где-то выше тоже светит солнце, и прямо над головой бегут лёгкие белые облака, цепляясь за чёрно-белые вершины. И вокруг, насколько хватает глаз — снег, небо и горы.
Эрик почувствовал, что придётся ночевать где-то здесь, вытоптав в глубоком снегу площадку под палатку и забравшись без ужина в холодный спальный мешок. И всю ночь слышать дробь дождя по палатке. Он остановился и посмотрел на небо. Вместо мутной, туманной сырости там пробивалась белесая голубизна неба. Ещё немного, и туман закончится. А он чуть было не остановился в нескольких шагах от солнца.
Небо, действительно, было голубое, но горы оказались красными. Низкое солнце окрасило вершины в розово-багровые тона, а оказавшиеся в тени склоны были синими. Цепляясь за перила, Эрик одолел последний подъём и вышел на большую, снежную площадку. Она была совершенно безопасной от лавин, и слева под скалой стояла ярко красная палатка, спрятанная там от ветра. Ну, что ж — этого следовало ожидать. Кто-то даже жилище тебе оставил. До чего хорошо быть вторым. Эрик подумал так и разозлился на себя. Ладно, сейчас он очень устал, чтобы ставить свою палатку. Но завтра…
Он скинул рюкзак и осмотрелся. Горы быстро опускались в синеву вечера. Они казались крутыми и неприступными, и на каждую можно было подняться своим путём. Надо только найти силы свернуть с нахоженной тропы.
Примус быстро согрел палатку. Натопив снега, Эрик варил ужин и слушал как поднимается ветер. Как хорошо после долгого и трудного пути забраться в тепло спального мешка и обжигаясь, есть огненную похлёбку. А потом он лежал на спине и следил глазами за пламенем свечи, стоявшей на старом ящике из-под консервов. Хотя, откуда здесь, в чужой красной палатке мог быть ящик из-под консервов. Нет, это было уже другое место и другое время. Это пришло неожиданное воспоминание о той, самой первой его настоящей экспедиционной палатке, которая стояла на берегу холодного моря и хлопала скатами на ветру.
***
Та палатка немилосердно протекала в дождь. Её пытались зашивать, а швы заплавляли полиэтиленовой плёнкой, но палатка была слишком старой, чтобы это могло что-то изменить. Она сразу начинала протекать в другом месте. Дождь не барабанил по её скатам, он медленно наползал с моря плотным туманным облаком, и сеял, сеял, сеял… Если выглянуть наружу, то на фоне противоположного берега заливчика было видно, как косо летят по ветру мелкие капли, иногда замирая на месте или неожиданно взлетая вверх, увлекаемые слабым ветерком. Дождь был странным, и становилось ясно, что это если не навсегда, то очень надолго. Внутри палатки в разных местах раздавались бодрые удары капель по земляному полу, на котором от этого оставались маленькие промоины.

Это была старая армейская палатка, побывавшая во многих местах и многих людей укрывавшая от непогоды. Сначала она хранилась на каком-то военном складе. Потом её списали из армейского резерва и передали геологам. После геологов неведомыми путями она оказалась в биологической экспедиции, и теперь стояла на берегу далёкой северной реки в месте её впадения в далёкое северное море на далёком заполярном полуострове, подставляя свои выгоревшие скаты попеременно дождю и солнцу. В ней можно было, укрывшись от дождя и ветра, жить до первых морозов. Для этого внутри было всё необходимое. Настил из принесённых морем досок в углу был покрыт меховыми спальными мешками. Посредине в землю врыт стол, сколоченный из тех же досок, а рядом — самодельное кресло из того же материала, которого много было на берегу. Направо от входа, рядом с рундуком, в котором хранились продукты, стояла на железных ножках печка, от которой на улицу вела такая же железная труба. Когда печь топилась, труба раскалялась докрасна, и чтобы не сжечь палатку, пришлось прикрутить проволокой к стенке в этом месте металлическую пластину. В ветреные дни пластина скребла по трубе. Но там все дни были ветреными, поэтому концерт для трубы и ветра стал привычным.
Налево от входа, напротив печи лежали дрова. Это были великолепные, изъеденные водой, выбеленные солнцем и обкатанные волнами куски дерева самой неожиданной формы. Он собирал их прямо за палаткой, но каждый раз после шторма на берегу появлялись новые куски дерева. Поэтому в палатке всегда хранился запас дров на растопку печи, и даже в дождь можно было без труда развести огонь. Во время дождя было особенно хорошо рубить сухое дерево, готовя поленья для печи и радуясь, что всё подготовил заранее.
А ещё там была рация. Она стояла на ящике в самом сухом углу и питалась энергией от танкового аккумулятора. Это была связь с базой. Когда мимо проходил случайный путник, проплывали на байдарках туристы или на вездеходе проезжали геологи, они видели сначала мачту с антенной на фоне серого неба, а уже потом появлялось белое пятно палатки. Человек мог зайти, чтобы перекинуться парой слов и выпить крепкого чая с морошкой или брусникой. Трудно быть долго одному в тундре. Да не только в тундре. В лесу тоже трудно, и в городе. И в горах.
Но привыкнуть можно ко всему. Скоро становится привычной и такая жизнь. Свист ветра в трубе. Позвякивает, скребётся металлическая пластина. Падают редкие капли. Прямо за тонкой матерчатой стенкой шевелится, ворочается море, облизывая берега и перекатывая стволы деревьев. Можно долго бродить по берегу, слушать хруст песка под сапогами, рассматривать деревянные изваяния — более символичные и замысловатые, чем произведения некоторых скульпторов. А ещё можно было бродить в тумане по мелководью. Берег растворялся, и начинало казаться, что во всём мире ты остался один — среди шороха волн и капель тумана. Где море, где небо, где берег? Только мутный купол над головой. После этого особенно приятно было возвращаться в палатку и разогревать на печке ужин.
В большой закопчённой кастрюле булькает щучья уха с картошкой, луком и перцем. На сковороде жарится и плюётся маслом картошка с тушёнкой. Хлеба не было, но его отлично заменяли сухари и крупно нарезанный лук. Запивать всё это хорошо чаем, в который добавлены ягоды и листья брусники.
А когда все дела были сделаны и заканчивался вечерний сеанс связи с базой, можно было забраться в спальный мешок и читать при свече книгу про жизнь людей на далёких островах в тёплом Океане. Да и сами эти люди были островами в потоке жизни. Они не привыкли поддаваться в игре с жизнью, только смерть могла оборвать эту игру. Но они даже умирали так, будто это не имело никакого значения. Только было немного жаль неоконченной игры. И читать о них в мокрой палатке при дрожащем свете свечи было самым правильным занятием.
Наверное, поэтому здесь, в горах вспомнилась та далёкая палатка на морском берегу. Хотя, пожалуй, не только из-за внешнего сходства. Было тогда что-то такое, чего нет сейчас. Что же было тогда?
Утром он поднимался немного выше по руслу реки, где на каменистых перекатах среди бурунов водилась форель. В одном месте поперёк реки лежал большой плоский камень и над ним стремительно неслась тёмная вода. В качестве снасти там использовали «лапарский спиннинг» — большую банку из-под тушёнки, в которую враспор вставляли деревянную рукоятки и снаружи наматывали леску. Управляться с таким спиннингом без специального навыка было невозможно. Если забросить снасть в этом месте, то можно не опасаться зацепов. Выше и ниже по течению под водой было много камней, поэтому приходилось часто заходить в воду, освобождая леску от зацепов. Сначала кажется, что вода мелкая и можно отцепить крючок, не разворачивая высоких болотных сапог. Но вода подбирается всё выше к поясу, значит надо раздеваться и лезть в холодную воду без одежды, иначе сапоги, куртка и брюки будут долго сохнуть возле печки. Форель почти сразу хватает приманку и бросается в сторону, а оказавшись на крючке, изгибается упругим телом и бьётся, стараясь уйти. Леска напрягается в руках, рыба бьётся до конца и продолжает прыгать после того, как оказывается на берегу.
Хрустел под ногами мелкий песок. Пляж просматривался до далёкого изгиба берега. А там — до следующего изгиба, и так — на многие километры. И везде из песка торчали обглоданные водой и ветром обломки дерева. Во время заброски лагеря кто-то назвал это зрелище паталогическим пляжем. Действительно, панорама этого побережья, заваленного неподвижными белыми телами, которые меняли позы лишь после сильного шторма, казалась сперва дикой. Но потом, привыкнув, стало интересно бродить среди экспонатов этого бесконечного музея, слушать хруст песка и крик чаек. Иногда, задумавшись, получалось уйти очень далеко. И нигде не встречалось двух похожих экспонатов.
Возвращаясь к палатке, Эрик иногда сворачивал с пляжа в сторону тундры и выходил к водопадам, которые там называли падунами. Река брала своё начало в болотах, среди торфяников и поэтому её вода была светло-коричневого цвета. Вода, похожая на тёмное стекло, срывалась с каменной глыбы и падала в кипящий и пенящийся каменный котёл. Там она вертелась и шипела в поисках выхода, а вырвавшись из него, бросалась на высокую отвесную скалу. В этом месте можно было подойти почти вплотную к звенящим струям. Оказывается, ударившись о скалу, вода срывалась в следующий каменный мешок. Но падала туда так быстро и мягко, что напоминала в этом месте застывшее стекло. Рухнув вниз, стекло разлеталось на мелкие осколки, которые с грохотом уносились в море.
Когда-то возле водопада была трещина, полная мелких аметистовых щёток. Её называли аметистовой щелью. Перепрыгивая со скалы на скалу, можно добраться до этого места. Щель в скале так и осталась, но любители дикой природы, уже тогда узнавшие про те места, разбили и собрали всё, что хоть немного было похоже на аметисты. Разломали всё, чтобы увезти с собой и разложить на полах городских сервантов.
***
Свеча в углу загорелась ярким пламенем, осветив на несколько секунд палатку и все вещи, потом затрещала и погасла. Слабый свет проник внутрь через тонкие скаты. И тут Эрик вспомнил тот закат и понял, отчего сейчас пришли мысли о той далёкой палатке. В тот вечер долгие северные сумерки тлели подобно углям в костре, и никак не могли догореть. Краски то тускнели, покрываясь пеплом тумана, то вновь разгорались от порыва ветра.
Недавно была закончена школа, то был первый самостоятельный полевой сезон. До чего хорошо было чувствовать, что впереди ещё много таких сезонов и здесь, и в других местах. Впереди была вся жизнь, и прожить её можно так, как захочешь. Пока не во все хорошие места проложили дороги с указателями, можно быть уверенным, что где-то на земле есть место для тебя. И никто не сможет помешать туда поехать, чтобы видеть, думать, писать. Разве что сам не захочешь. Но тогда была уверенность, что дорога выбрана верно. А разве такой уверенности нет сейчас? Конечно, чем дальше, тем труднее будет находить такие места. Значит придётся с каждым годом всё дальше прокладывать свою дорогу, уходя по ней от того берега юности. Лишь бы не оставляла уверенность, что твоя дорога ведёт к вершине.
***
В тот вечер свет летнего дня догорал особенно долго. А когда день всё-таки погас, он зажёг свечу на дощатом столе и взял ту самую книгу. Кто-то шуршал за стеной палатки. Тени прыгали по её скатам и ветер сотрясал брезентовое жильё. А потом пришла осень. Она быстро двигалась на юг, оставляя на деревьях свои яркие знаки. По утрам на скатах палатки вместо росы лежал иней. И когда пришло время уезжать оттуда, он знал, что всё будет хорошо.
***
Эрик вздрогнул и проснулся. Первым импульсом было схватить топор. Палатку наполнял глубокий красный свет. Всё нормально. Просто над горами поднималось солнце. Похоже, в этих местах не обязательно спать с топором в изголовье.
До чего хорошо было лежать в тёплом спальном мешке и смотреть, как постепенно палатка наполняется солнцем. А когда полоса света доползла до середины палатки, Эрик быстро вылез из мешка и одевшись — выскочил на снег. Утро было тихое и очень солнечное. Подмороженный за ночь снег хрустел и не проваливался под ногами, а все вершины были такие блестящие, что без защитных очков на них было невозможно смотреть.
Эрик смотрел на мир и улыбался. Все вершины, все дороги были его, кроме тех, на которые вели набитые тропы и верёвочные перила. Он засмеялся и нырнув в палатку стал быстро готовить завтрак.
Жизнь — это дорога, которую каждый волен направить в любую сторону. Но куда приведёт эта дорога и какой она будет — зависит от идущего. Поэтому пусть удача оберегает путников в молодости, когда происходит самое главное — выбор дороги жизни.
15—16 и 22 декабря 1986 г., Индийский океан
17—21 февраля 1987 г., Антарктика, Южный океан, море Содружества, НПС «Фиолент»
Из сборника «Межсезонье»
Лунная дорога
Этой осенью листья особенно долго бились на ветру и держались под ударами осенних дождей. Иногда жёлтый лист отрывался от ветки и далеко улетал, подхваченный порывом бури. Потом установились теплые, ясные дни, и разноцветная листва деревьев заполыхала на солнце, заиграла на ветру. Она казалась свежей и молодой.
И всё-таки, во всём мире стояла осень. Она была на всех лицах и афишах, на бульварах и у моря. Днём это нравилось, но под вечер от неё некуда было деться. От неё, да и от себя тоже. В сумерках эта компания становилась совсем унылой. Хотелось куда-нибудь уйти, но куда денешься от осени в октябре. Она всегда здесь, рядом — подметает тротуары и поджидает тебя. Стоит забыться, и вот она уже тащит по закоулкам воспоминаний. Надо пережидать. Хотя, чего дожидаться, если всё хорошее закончилось неделю назад. А может и не неделю, а гораздо раньше.
Неделю назад стало ясно, что пришла осень. Не та осень с яркими листьями на дорожках и скамейках, а сырая и ветреная — несущая дождь со снегом. Этот сырой снег покрывает всё внутри и не тает. Растопить его теперь некому. Идёшь по нему очень осторожно, и где-нибудь всё равно поскользнёшься — такая погода. Но дальше будет ещё хуже. Всё завалят сугробы, и холодные снега протянутся до края земли. До самого конца света. Не стоит об этом думать… А о чем прикажешь думать? Лето вспоминать? Ну и что, было лето. Было ведь? Было. Значит в жизни уже кое-что есть. И ты это помнишь. А сколько людей так и не увидели его. Ждали-ждали, и не увидели. Просмотрели. А ведь думали, наверное, что всё идёт нормально. Что больше ничего быть не должно. Что спектакль приближается к концу, и развязка близка. Спектакль-то приближается, но ведь что-то надо сделать самому. Надо хотя бы стараться увидеть. Только где этому научат. Ты всю жизнь этому учился, и всё равно…
А всё-таки красиво начиналась осень. Какой пустой и светлый был лес без птиц. И трава ещё зелёная и густая приморожено шелестела под ногами. Её рано прихватили ночные заморозки. Листья разноцветными охапками были свалены на газонах в парке, и когда по ним шли, они мягко пружинили под ногами и разлетались, словно тугие пачки старых писем. Потом, когда их стали жечь, по городу пополз горьковатый запах дыма. Листья не хотели загораться, костры сильно дымили, а дым низко стелился по земле. Но в конце концов от него ничего не осталось. Хотя это не имеет значения — всё можно вспомнить, и снова, взявшись за руки, идти по ранней осени. Слышать звон покрытой инеем травы, и протяжный крик берёзы на ветру, и рог охотников в тумане раннего утра. Звук этого рога разносился в утренней прохладе далеко и протяжно. Очень грустный был звук. Он словно чувствовал, что всё скоро закончится. Но тогда по утрам над лесом ещё пролетали стаи птиц, и было сначала ясно и солнечно, а потом прохладно и туманно.
Надо её постараться такой и запомнить, эту осень. Может пригодится. Для рассказа. Если, конечно, ты когда-нибудь сможешь писать рассказы. Сядешь и напишешь, что была сначала осень, а потом кончилась. Но сперва было лето. Хотя, оно тоже кончилось. Интересный получается рассказ. Всё закончилось. О чём тогда писать? Об этом листе?
Пришлось остановиться. Ярко-желтый лист лежал на вымытом дождями асфальте. Он топорщился рельефными жилками, упирался в асфальт острыми лапками и, кажется, слегка светился. Так иногда бывает во сне. Чёрный асфальт, жёлтый лист и бесшумные ноги спешащих прохожих. Хороший кадр для фильма об одиночестве. Хотя, кажется, такой фильм уже кто-то снял. Или собирался снимать и рассказывал об этом в киностудии. Сколько можно об этом! Ты ничего не сможешь сделать своего. Все твои замыслы уже выполнил кто-то. Неужели все? Может что-то и осталось, но не для тебя. Ты ничего не создашь, и после тебя ничего не останется. А может это и хорошо. Легче идти по жизни. А зачем тогда вообще по ней идти? Куда? Чёрт возьми, опять начинается. Надо куда-то пойти. Зачем стоять перед этим листом. Да ещё эти прохожие — бегут куда-то. Интересно куда? И никто не замечает светящегося листа. Действительно, какой интерес людям вечером глазеть на какой-то лист. Вечером надо идти домой или развлекаться. Ну, что ж, пошли развлекаться — дома всё равно нет. На бульваре быстро темнело, и где-то высоко, среди ещё не опавших листьев, загорелись фонари. Прибегающий с берега ветерок качал их, наполняя бульвар мерцанием свечей и беспокойством от близости моря.
Навстречу шли вечерние прохожие. Каблучки женщин звонко стучали по асфальту, придавая вечеру торопливо-тревожную окраску. Куда они спешат? Не очень-то верилось, что у всех девушек в этот вечер есть неотложные дела. Наверное, они невольно спешат, чтобы случайно не задуматься: куда торопиться, зачем? И так каждый вечер. Спешат, опустив глаза. Осень лежит на лицах. Поздняя осень. Мимо прошуршал тот самый лист. Он смешно подпрыгивал и кувыркался, подгоняемый ветром. Привет! Убегаешь от осени? Лист что-то прошелестел, и весело подпрыгнув, полетел дальше. Смешной, тоже куда-то заспешил. Но у него всё должно быть хорошо. Он торопится радостно и не прячет глаз. Интересно, а как всё будет у меня? Если честно — то чёрт его знает. Почему-то не хотелось себя обманывать. Рано или поздно время растворит горьковатый осадок этого вечере. Это точно. Не первый раз и, наверное, не последний приходится одному идти по вечернему бульвару, пахнущему морем и осенью. А если даже и последний - что ж из этого? Всё делается сначала в первый, а потом в последний раз. Жалеть, что ли о прошлом? Лучше смотреть вперёд. Всё будет так, как надо.
Вот и центральная площадь с распахнутыми дверями кафе и баров. Швейцара нет даже у входа в ресторан. Осень. Сезон закончился. Заходи куда хочешь. Зайти, что ли. Хотя, выпить сейчас не дадут даже лёгкого вина, а плохого кофе не хотелось.
Всё-таки он зашёл в один из баров, и сразу пожалел об этом. Внутри толкались и разговаривали подростки со спортивными сумками. Три крайних сидения возле стойки заняли ярко накрашенные девушки, выброшенные на мель курортным отливом. Сезон закончился. На них не обращали внимания. Они сидели притихшие и задумчивые. Только бармен иногда улыбался им. За табачным дымом, слоями висевшим над столиками, никто не замечал таблички, на которой в категорической форме была изложена просьба не курить, и ещё что-то насчёт распития спиртных напитков. Летом здесь не курили.
Стойка была обтянута красной клеёнкой, а в нишах на задней стене красовалась выставка пузатых бутылок с яркими наклейками. Все они были пусты — декорация. Рядом свисал зачахший от дыма цветок, торчащий из большого глиняного кувшина. За стойкой работал надменный человек в белой рубашке, с галстуком-бабочкой. Не глядя на собравшихся, он резко и слегка презрительно разливал по чашечкам кофе, а в стаканы — какую-то липкую на вид жидкость ярко-жёлтого цвета. При этом в манжетах у него таинственно сверкали фальшивые бриллианты.
Взяв кофе и не дождавшись сдачи, он отошёл к столику возле окна. Напротив сидел молодой человек и смотрел на грязный стол. Перед ним громоздились чашечки с недопитым кофе и стаканы из-под жёлто-зелёной жидкости. Он был один. Рядом с ним на столе лежала пачка очень хороших сигарет. Сигареты были такие хорошие, что вдруг захотелось закурить. Но он знал, что курить не станет. Это осталось в прошлом. Так же, как и многое другое. Но у молодого человека напротив, видимо, не всё было в прошлом. Его аккуратный серый костюм, красивые ботинки на тонкой подошве и даже золотой перстень на указательном пальце — всё создавало впечатление благополучия, к которому непременно должна прикладываться уверенность в себе. Этого-то у него и не было. Он только что остался один — в пепельнице дымились окурки — и ещё продолжал с кем-то разговаривать. Сам он молчал, но его руки и лицо требовали, спорили, обижались. Смотреть на это было тяжело.
Кофе в самом деле оказался плохой. Наверное, надменность не позволяла человеку за стойкой напрячься и заварить хороший, крепкий кофе. Кислятина. И осадка полчашечки. Он отодвинул недопитый кофе и случайно взглянул на соседа, но сразу пожалел об этом и отвернулся к окну. Вот и всё, можно идти дальше. Только куда? К морю, конечно. Он быстро поднялся и вышел на улицу, к торопливым прохожим и вечернему ветерку. Дверь мягко закрылась, отделив осенний бульвар от шума и табачного дыма. Можно идти направо, а можно налево. Везде одно и тоже. В этом городке все дороги ведут к морю. Но самая короткая начиналась за спиной гранитного человека, протягивающего в темноту тяжёлую руку. Эта дорога вела к пляжу.
В конце длинной и тёмной улицы плескалось море. Оно лежало забытое или брошенное, с заколоченными киосками и пустыми кабинами для переодевания. Жизнь ушла оттуда. Теперь ему можно вспомнить прошлое, обдумать будущее. А может быть оно вовсе не хочет вспоминать прошлое и думать о будущем. Может, ему нравится не биться о причал штормовой волной, а обнимать длинноногих купальщиц, играть с детьми и качать лодки рыбаков на лёгкой волне. Но пришла осень. Значит, надо подводить итоги и спать, а во сне ворочаться и вздрагивать от холода. Невесёлая сейчас жизнь у моря. Да и не только у него. Все разъехались.
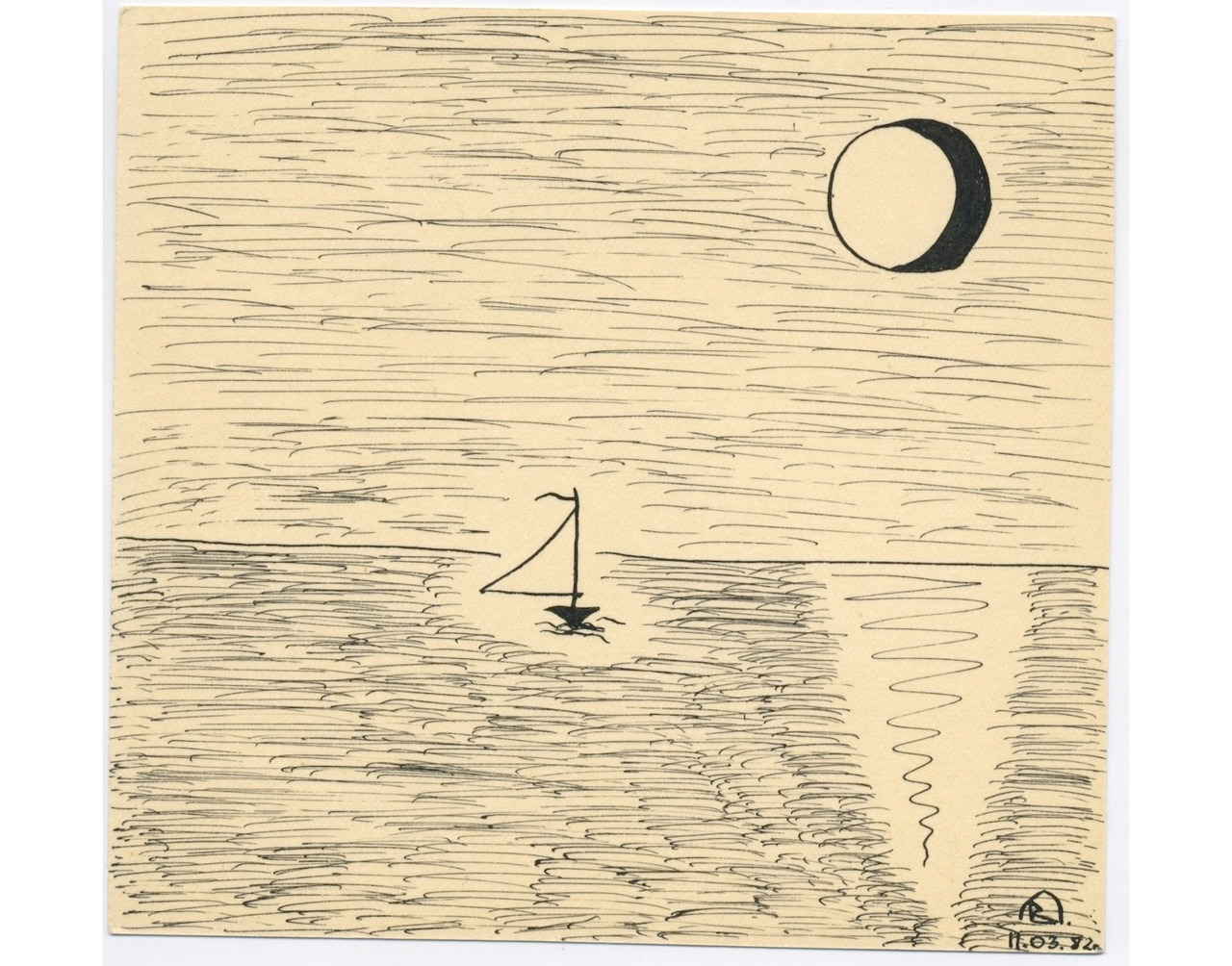
Никто не встретился по дороге. Только похрустывали под ногами высохшие листья. Он вышел на берег, присел на ограждение и стал смотреть вниз, на море. Оно само только угадывалось в темноте. Медленно поднялась большая, бледная луна и перебросила дорожку от берега вверх, к звёздам. И сразу стало видно море — огромное, слабо мерцающее в темноте зеркало. Это время любят изображать художники и поэты. Жалко, что у них редко получается. Рисовать и описывать ночное море слишком сложно — не хватает красок и слов. А те, что пригодны — бледны и стёрты от частого использования. Они напоминают старую монету, которая много лет валялась по разным кошелькам и стёрлась настолько, что даже опытный торговец не может определить её достоинство.
Море, луна и ночь, полная звёзд и вздохов волн. Прохлада и одиночество. Наверное, это похоже на счастье. Хотя, кто знает, на что оно похоже. Да и вообще, откуда ему взяться сейчас, здесь, в этом городе, ночью, осенью. Глупо думать об этом. А все-таки немного похоже. Даже если ничего подобного вообще не существует, на море сейчас смотреть приятно.
Мимо, тяжело опираясь на палку и медленно переставляя ноги, прошёл старик. Было видно, как трудно ему идти. Он дошёл до начала лестницы, спускающейся к морю, и остановился, тяжело привалившись к перилам. Он смотрел не на серебристое море внизу, а в сторону, на тёмный склон, заросший кустарником и колючей травой. Сейчас, в темноте, их не было видно, но они там росли, и старик смотрел на них. Потом он вздохнул. Ему было тяжело стоять. Надо было встать и предложить ему помощь. Но чем ему можно помочь? Наверное, не за помощью он пришёл сюда ночью. Старик вздохнул ещё раз.
— Вот и всё, — сказал он хрипло. — Сколько можно ждать. Пожил своё. Зачем я нужен.
Старик закашлялся. Он тяжело дышал, но негромкие слова были хорошо слышны в тишине. Может, он разговаривал с собой, а может быть, обращался к луне или к морю. Он был похож на колдуна, пришедшего заговаривать море. Пришёл и забыл слова заговора. И вместо этого бредил. А может быть прощался.
— Пора уже. А всё живу зачем-то. Зачем. Здесь мне больше ничего не надо.
Старик медленно повернул голову и посмотрел вниз, себе под ноги, а потом начал медленно спускаться. Очень медленно, ступенька за ступенькой. Опираясь на палку дрожащей рукой. Даже со стороны было видно, как сильно она дрожит. Всё ниже и ниже. Иногда он останавливался и наваливался на перила. Но слов больше не было слышно. Может быть он всё уже сказал, а может понимал беспомощность слов. Что они могут? Даже самые наболевшие из них — лишь бледное отражение тех мыслей, которые толпятся и требуют выхода. Лучше их не высказывать вслух. Слишком много они при этом теряют. Но луна убивала грусть, оставляя лишь пронзительную ясность мыслей. А жалость забирало море. Жалость унижает, но растворённая в море, она теряет свою остроту.
Старик медленно спустился с лестницы. Дальше ступеньки обрывались пляжем, а прямо от пляжа уходила широкая и ясная лунная дорога. Старик постоял на последней ступеньке, потом оттолкнулся от перил и ступил на песок. Он шел к морю, проваливаясь в песок и тяжело переставляя ноги. Он шел медленно, будто ничего не видя и думая о чём-то своём. Песок перестал проваливаться и стал влажным. Старик не замечал этого. Он шёл своим путём. Под его ногами заиграла лунная пыль. Блёстки света дробились и рассыпались по поверхности. Сияние охватило фигуру идущего, и подобно плащу, перекинулось через плечо. Скоро силуэт стало трудно различить среди лунного света и чёрных волн. Только ветер временами приносил его тяжёлое дыхание. Он шёл лунной дорогой, и звёзды видели это.
Каждому придётся когда-нибудь идти этой дорогой. Дай бог, чтобы не было в мыслях тоски о прошлом и страха перед будущим. Счастлив ступивший на лунную дорогу в схватке с врагом, в битве со стихией. Счастливы идущие с улыбкой — весёлые и молодые. Такими они останутся навсегда. Человек остаётся собой лишь пока управляет событиями. Но если парус изорван, а руль в чужих руках, значит, удача оставила тебя. Пора собираться в путь. Понять это и уйти — главный поступок в жизни. Борьба и победы делают человека. Но когда сил уже нет, остаётся самая трудная битва — с самим собой. Пусть удача не оставит нас в ней. Старик победил. Луна удивлённо качалась над морем и манила рябью на волнах. А потом пришёл ветер. Он заметался вдоль пляжа, зашуршал листьями и погасил луну, спрятав её за облаками.
Действительно, этой осенью листья особенно долго бились на ветру, не падая под ударами дождя. Иногда жёлтый лист отрывался от ветки и далеко улетал, подхваченный порывом бури. Потом установились ясные и тёплые дни. Разноцветная листва полыхала на солнце, играла на ветру и казалась свежей и молодой. Ветер стих. Солнце ушло за низкие тучи, похожие на обёрточную бумагу. Стало прохладно и очень тихо. Начался листопад. И листья посыпались. Ветки голо торчали на фоне линялого неба, а золотые и багровые осенние знаки покрывали асфальт. Пусто стало в мире. Прошли детство, юность, и зрелость уступила место старости. Только у деревьев эти перемены происходят красивее, чем у людей.
Основано на реальных событиях.
15.10 1985 — Москва
27.10.1986 — Керчь
6.12.1986 — Индийский океан
24.12.1986 — Индийский океан
22.01.1987 — море Рисер-Ларсена, Южный океан, Антарктика
18—19 октября 1987 г. — Москва
Второй день весны
Поднимаясь вверх по склону, я иногда садился на камень, грелся на солнце и смотрел вниз — в долину Теберды. Пихты слегка качались на ветру и роняли капли талого снега. Шуршали капли. Грело солнце. Было тихо и слегка пахло сосной. Валуны ещё были холодные, и садясь на них я подкладывал рукавицы. Склон поднимался круто вверх и небо закрывали густые пихты и ели. Временами они расступались и солнце освещало склон и разбросанные валуны — следы былых камнепадов. Был второй день весны.
Я вставал с камня и шёл дальше. В лесу было свежо и оттого подниматься вверх было легко и приятно. Местами тропа исчезала, и я шёл по снегу, под которым лежали прошлогодние листья и шишки. С высотой весна чувствовалась всё меньше. Становилось холоднее. Снег лежал плотным и очень белым слоем. Я больше не присаживался, а поднимался ровным шагом, оставляя на снегу рельефные следы горных ботинок. Вокруг зеленели ели. Был второй день весны.
Потом подъём стал круче, а небо — ближе. Ели расступились и снег заискрился в прямых солнечных лучах. Я взобрался по завалу камней — по осыпи, и вышел на ровный участок. Это была площадка, с двух сторон обрывавшаяся крутым уклоном. Она была широкая и поражала блестящей белизной снега. После сумрачного леса и завалов камней, идти по ровному и неглубокому снегу было легко. Ведь это был второй день весны!
В голове продолжало звенеть: второй день весны, второй день весны, второй день весны! Я шагнул на чистый снег и пробежал по кругу — получилась буква О. Потом шагнул вправо и протоптал угол — получилась буква Л. Шагнул ещё правее и вывел букву Я. Был второй день весны. Ровно год назад случилась наша свадьба. Прошёл год, а я любил свою жену сильнее, чем в день свадьбы. Вот и всё, о чём я хотел написать в своём первом рассказе о любви во второй день весны.
2 марта 1986 г., Теберда
Межсезонье
«- Они не дают мне спать, — сказал он. — Я никогда не сплю.
— Усните сегодня.
— После «Викинга»? — Он ухмыльнулся, сдвинув шляпу на затылок. Он был больше похож на гуляку с Бродвея девяностых годов, чем на замечательного художника. И позже, когда он повесился, я любил вспоминать его таким, каким он был в тот вечер в «Куполе». Говорят, что во всех нас скрыты семена того, что мы будем делать, но мне всегда казалось, что у тех, кто умеет шутить в жизни, семена эти прикрыты лучшей почвой и более щедро удобрены».
Э. Хемингуэй, «В кафе „Купол“ с Пасхиным»
Да увидит зрячий и найдёт истину ищущий!
В.Л.
Ветер дул с моря, принося с собой запах водорослей и соли. Я часто спускался по этой улице к морю, когда акации и платаны были ещё зелёными. А сейчас на дорожке лежали охапки жёлтых листьев и их запах смешивался с запахом моря, увядших трав и осенней земли. Солнце сбоку пробивалось сквозь листву и из-за этого деревья сияли ярким жёлтым светом. Я шёл и улыбался осени. Под ногами шуршали свежеопавшие очень чистые листья и всё явственнее проступал гул моря.
Летний сезон уже закончился и первые осенние штормы разогнали толпы отдыхающих. Ещё некоторое время на пляже появлялись любители мягкого солнца и чистой воды бархатного сезона. Затем прошли дожди, смывшие последние следы курортного лета, и сейчас пляж был совершенно пустой. Волны безразлично набегали на берег и отступали, оставляя на чистом песке обрывки водорослей и поплавки рыбацких сетей.
Немного грустно, но очень приятно было идти по осеннему безлюдному пляжу, мимо забытых топчанов, заколоченных кафе и пустых кабин для переодевания. Песок хрустит и проваливается под ногами, резко пахнут водоросли и шумит море. Даже представить трудно, как тесно здесь было совсем недавно. А сейчас, кажется, трудно придумать более уединённое место.
Я хотел бы жить в доме на пустынном берегу моря, чтобы во время осенних штормов волны докатывались почти до порога, а в воздухе всегда висел шум волн и солёная водяная пыль. Выходя утром из дома чтобы сделать зарядку, я находил бы на песке водоросли и обломки дерева, слышал крик чаек.
Работая днём в мастерской на втором этаже, я бы видел море в окне и знал, что могу выйти к нему и пойти по морскому песку, если удача в работе вдруг оставит меня. Этого прежде никогда не случалось, но вдруг.
Вдоль стен там стояли стеллажи светлого дерева с книгами и рукописями, на полу лежала плотная шершавая циновка, а в углу были сложены просоленные рыбацкие снасти. У окна стоял большой светлого дерева стол, на котором были разложены листы ещё не законченных рукописей, придавленные от ветра раковинами и камнями, обкатанными за многие тысячелетия волнами.
Закончив работу, я уходил бы на лодке рыбачить или, если было холодно, одевал гидрокостюм, акваланг и подолгу лазил среди подводных скал, вспугивая угловатых рыб и собирая в сетку крабов. А когда ревели зимние штормы, я что-нибудь делал бы по хозяйству. Вечерами я сидел в кресле у камина и читал или лежал на циновке и думал, глядя на огонь. Иногда я уезжал бы из своего дома, но каждый раз возвращаться в него было бы счастьем.
Иногда бывает немного тревожно, и если не удаётся уснуть — я брожу по комнатам этого дома, присаживаюсь на подлокотник стоящего у камина кресла, листаю книги, рассматриваю картины на стенах в мастерской. Или выхожу к морю. И удивительное дело — оказывается, никакой тревоги или грусти нет, а вместо этого есть желание работать, видеть, думать.
Это незаметно созрело во мне. Трудно сказать, что я чувствовал конкретно. Но постепенно накапливающийся опыт достиг критической массы. Я стал спокоен и уверен в себе. Я мог на равных говорить с кем угодно. Я научился находить главное и не замечать мелочей. Из сомневающегося и ищущего подростка я стал мужчиной. Это оказалось нетрудно. Не изображать и сомневаться, а быть. Если человек спокойно и с достоинством ведёт себя в опасной ситуации, если он не боится драки один против всех, если при этом он может шутить, то даже если он не курит заграничных сигарет, не сквернословит и не хвастается успехом у женщин — видишь, что перед тобой человек. Окружающие это чувствуют и невольно начинают уважать.
Я пересёк пляж, оставляя на ровном песке цепочку следов и сел на оставленный топчан. Примерно так же я чувствовал себя, проходя рано утром по площади после большого праздника. Ещё не разобраны дощатые эстрады и не убраны яркие плакаты, на земле валяются маски, конфетти и обёртки от сладостей, но ветер уже хозяйничает, срывая афиши и подметая пёстрый сор. Везде следы людей и нигде ни души. Трудно сразу понять, на что это похоже. И никто не отвлекает от размышлений о переменчивости и быстротечности всего сущего. То ли предвкушение, то ли поминки.
Трудно общаться с сентиментальными и унылыми, или непомерно восторженными и навязчивыми людьми. И совсем невыносимо общество недалёких, бравирующих грубостью или пошлостью. А с весёлым и сдержанными — наоборот, легко. Они умеют замолчать, давая обдумать интересную фразу и не доводя её разъяснениями до абсурда. Беседуя с таким человеком, я вдруг замечаю, что привычные предметы и слова поворачиваются новыми, незнакомыми гранями и открывают скрытое второе дно, новый смысл! Имея собственное мнение, такой человек излагает его, будто посвящая тебя в тайну ордена. Он не только не навязывает его собеседнику, но даже не всегда считает нужным говорить о нём. Он говорит о своей точке зрения насмешливо и немного грустно. Потому звучит это убедительно и весомо, особенно на фоне привычных легковесных фраз. Над мнением такого человека интересно задумываться позднее, когда все разошлись и погашен свет. С ним можно не соглашаться, и за это тебя никто не назовёт ослом. Если мысль кажется незаконченной, тем лучше — её можно додумать самому. Тогда она войдёт в личный опыт как своя собственная, пережитая, а не прочитанная в газете. Ни один мыслящий человек не примет чужую мысль без доработки. А доработать догму нельзя — она закончена и заключена для сохранности в надёжную оболочку, поэтому пригодна только для забивания гвоздей или выравнивания асфальта — в зависимости от размера и чьих-то представлений о её важности. Как много подобных догматических мыслей ржавеет на полках тщательно охраняемых складов вместо того, чтобы быть переплавленными в новые — нужные и полезные.
Такие вот не очень оригинальные мысли приходили мне в голову на безлюдном берегу моря. Долгое время лучшим собеседником для меня оставался Эрнест Хемингуэй. Потом появились другие, но этот был первым, и он сопровождал меня в самое трудное время. Его книги мало похожи на монологи, и с его героями можно было советоваться в то время, когда видимость становилась минимальной от сплошного тумана. Он не давал единственно верного ответа на мои вопросы, но кивал на своих героев, через которых проглядывал сам. Я видел как могут вести себя разные люди. Это давало возможность оценивать себя со стороны и поступать правильно. Или почти правильно. Или более-менее правильно. Не видя себя со стороны, невозможно оценивать свои слова и поступки. А как же без этого двигаться вперёд?
Вот и сейчас в моей старой красной сумке лежала изрядно потрёпанная книга Хемингуэя. Я всё реже открывал её. Приближалось межсезонье. Прежний период жизни подходил к концу. Но именно эта книга помогла мне научиться за формой видеть содержание, за лестью — правду, за внешней скромностью — внутренне богатство.
Живя в хроническом безденежье, я должен был долго экономить на мелочах, чтобы купить новые ботинки или свитер. Работы, приносящей приличный заработок, в то время я найти не мог и долгое время мне приходилось жить на всякого рода пособия и стипендии, которых хватало на еду. Хотя это и не мешало жить так, как я хотел. Летом я мог ездить в экспедиции, занимаясь тем, что мне нравилось и получать за это деньги. А зимой я даже мог куда-нибудь поехать по студенческому билету покататься на лыжах на заработанные летом деньги.
В то время я только пытался писать, пробуя свои силы в поэзии, литературе и журналистике. Проводников и влиятельных меценатов мне на этом пути не встречалось, поэтому во всём я рассчитывал только на себя. Трудностей было больше, чем удач, и всё-таки на первых порах мне везло. Я искал себя повсюду. Мой первый совсем небольшой рассказ сразу опубликовали, и я получил сказочный гонорар — десять рублей. Конечно, это был всего лишь сувенир, но я поверил в себя. Вместо того, чтобы ухватиться за этот журнал, я перестал появляться в редакции — редактор отверг несколько моих вещей. Гордость вообще не лучшее качество для молодого писателя, а у меня её было в избытке. В общем, я пошёл дальше.
Я пробовал себя в науке и в литературе одновременно, и долго не мог найти между ними общую грань. Работая в свои восемнадцать лет в экспедиции на Кольском полуострове, я собрал материал и написал научную статью, которая — неожиданно — победила на конкурсе студенческих работ. Иногда публиковались мои стихи и рассказы. Но денег это не приносило.
Я видел, как надо писать, чтобы за написанное платили, но тогда надо было перестать уважать себя. Книги и люди, которым я верил, меня учили, что лучше быть бедным и независимым, чем состоятельным мальчиком для посылок. Никакие деньги не помогут в разладе с собой. Эта мысль очень успокаивала в то время, когда события поворачивались ко мне неприятными сторонами. Тем более, я долго был один и не от кого не зависел. И от меня — тоже.
Потом появилась любящая женщина, умевшая спокойно переносить безденежье. Она гордилась нашей независимостью от людей и обстоятельств, и верила в наш успех. Жить вдвоём стало ещё лучше. Я мог ходить в старой куртке и читать книги в дешёвых переплётах. Меня не смущало, что рядом есть люди, которые ездят в чёрных автомобилях, ходят в чёрные рестораны и стирают пыль с золочёных обрезов старинных чёрных книг. Это они могли позволить себе купить и поставить на полку книгу в понравившемся переплёте. Я же должен был сначала её прочитать, чтобы знать — хочу ли я иметь её на своей полке. Поэтому мы брали книги в библиотеке, хотя там были не все хорошие книги. Но нам было хорошо от этого. И от близости любящего человека. И от многого другого. Ради этого можно было отказаться от внешнего проявления благосостояния.
Трудно узнать человека, когда вокруг не летают пули, и не приходится падать в грязь, чтобы слиться с землёй под обстрелом. Поэтому бывшие фронтовики, когда им кто-то не нравится, говорят: посмотрел бы я на тебя на фронте! Хотя, чаще всего так говорят те, кто фронт видел только в кино. Человек может раскрыться сразу, и сразу понятно, что лучше с ним не иметь общих дел. Но можно долго быть вместе и доверять, а потом однажды узнать до конца и пожалеть, что встретился с ним.
Доверять проще тем, кто не пользуется прилагательными, не презирает слабого, имеет своё мнение и уважает твоё мнение, не говорит красивых слов и может делать грязную работу. Слишком часто за красивыми словами открывалась бедность мыслей, а под знаменем гуманных идей совершались преступления. Слишком часто вожди оказывались палачами, а их враги — жертвами беззакония или фанатичного произвола.
Ветер листал страницы «Праздника, который всегда с тобой», а я смотрел на чаек. Потом из-за мыса показалось рыбацкое судно, и я стал смотреть как оно деловито бежит по своим делам. С Хемингуэем я не чувствовал одиночества. Его воспоминания и размышления о Париже и о себе были построены так, что я видел город, ходил по его бульварам и слушал голоса прохожих. Я радовался встречам с одними людьми и хотел поскорее отвязаться от других. Так же искренне и спокойно, пожалуй, писал Илья Эренбург о людях, годах и жизни. Они были ровесниками, начинающими писателями, бывали в одних и тех же местах, встречались с одними и теми же людьми и сходно видели окружающий мир. Читать их книги так же приятно, как пить очень хорошее вино, подолгу сохраняя во рту вкус каждого глотка и стараясь понять, что оно напоминает. Разница в том, что вино заканчивается, а книги — никогда.
Чтобы научится писать с такой силой, надо много думать, много работать, долго обдумывать и переделывать написанное. Я не написал пока почти ничего такого, о чём стоило бы говорить. Но я стараюсь. Долго копились впечатления, а мысли кристаллизовались в убеждения. Ученичество закончилось. Мне двадцать шесть. Я знаю немало, но должен узнать куда больше. О людях и мире, в котором они совершают свои поступки. Есть опыт и вера в себя. И если меня не захотят напечатать сейчас — у меня хватит сил, чтобы выдержать. Я готов.
Нетрудно повторять общепризнанные истины на разные лады. Это не требует смелости и ума. Особенно в ом случае, если эти истины — ложные. Но до чего трудно сделать несколько самостоятельных шагов в сторону от утоптанной дороги и выдержать удивлённые взгляды одних и предостерегающие окрики других. Кто-то забеспокоился. Кто-то уже боится, что нас могут услышать посторонние. Надо идти и не оборачиваться. Новый путь тем и хорош, что он не хожен. Что может быть приятнее, чем преодолевая трудности вместе с этим видеть, как испаряется неуверенность в правильности выбранного пути.
Я открыл книгу. Хемингуэй — это праздник, который всегда со мной. В кафе «Купол» с Пасхиным. Просто и очень глубоко. Кажется, можно перейти вброд, а на самом деле невозможно донырнуть до дна. Счастлив тот, кто умеет говорить о грустном без грусти, кто смел и честен. Я достал из сумки блокнот и, пристроив его на колено, переписал конец этого этюда. А выше написал: да увидит зрячий и найдёт истину ищущий. Я был смел и честен с самим собой.
Море по-прежнему набегало на песок, кричали чайки. Рыбацкое судно давно скрылось за изгибом берега. Я этого не видел, потому что писал. И рассказ ложился строка за строкой на чистый, белый лист. Иногда мысль уходила. Тогда я закрывал глаза и бродил по комнатам дома, стоящего на морском берегу. А когда рассказ получился, я снова посмотрел вдоль пустого и чистого осеннего пляжа, и придумал ему название. «Межсезонье».
26 и 27 октября 1986 г., Керчь, гостиница «Керчь»
2 и 3 декабря 1986 г., Индийский океан, НПС «Фиолент»
Конец одного увлечения
«В этом году и на протяжении ещё нескольких лет мы много раз бывали вместе на скачках после того, как я кончал утреннею работу, и Хэдли это нравилось, а иногда захватывало её. Но это было совсем не то, что взбираться к высокогорным лугам, лежащим за поясом лесов, или возвращаться поздним вечером в шале, или отправляться с Чинком, нашим лучшим другом, через перевал в ещё неведомые места. Но я оправдывал своё увлечение тем, что писал о нём, хотя в конце концов всё, что я писал пропало…»
Э. Хемингуэй, «Конец одного увлечения»
Тетрадь взмахнула красными крыльями и, кувыркаясь в падении как раненая птица, улетела за борт. Её подхватил штормовой ветер, и подкинув выше борта, с размаха швырнул в волны. Вот и всё. Тетрадь мелькнула красным пятном среди лазурных валов и исчезла. Навсегда. Она за годы стала такой привычной, даже не верилось, что больше её не будет. Она плыла по Индийскому океану. А может быть уже шла на дно. Это даже более вероятно. На шее она висела как камень. Наверное, на дно должна идти так же.
Конечно, очень многое зависит от настроения. Очень многое. Иногда начинает казаться, что написано неплохо. Даже хорошо. И некоторые люди говорят: да, это поэзия! Трудно этому не верить, когда тебе двадцать лет. Трудно удержаться от рифмования. Тем более, если видишь церквушку с заброшенным кладбищем. Или паутину на елях туманным утром. Взгляд задерживается на поверхности лесного озера в чёрно-синей воде которого отражаются облака и сосны. Жарко пылает рябиновый костёр. Клёны засыпают дорожки парка разноцветными упругими листьями, и сквозь ветви становится виден дворец с львами у входа и беседки, обвитые хмелем.
А дальше — утонувшие в снегу ели, прихваченные инеем берёзы по краю поля, искрящиеся склоны гор и стремительное скольжение лыжников в ярких костюмах. Разве можно забыть скрип кантов лыж на весеннем насте и снежные водопады на поворотах. А потом засыпанную по окна снегом избушку и дымок над ней, и удары топора по мёрзлым поленьям, и треск деревьев в мороз, тепло русской печи, перебор струн и песня на слова, которые написал ты.
Скажи, мудрец толмач
Природы толкователь
Кто будет мой палач?
И кто был мой создатель?
И полёт на лыжах с горы, такой долгий и прямой, что начинает казаться, будто это происходит во сне. Звёзды и снег. Каждый бугорок здесь известен, и тело слегка отклоняется в стороны, а лыжи сами входят в поворот, легко находя дорогу в темноте.
Снова снег-снег-снег
Тройки бег-бег-бег
Колокольца звон
Дальний свет окон…
И вдруг начинает казаться, что это в самом деле поэзия. Ведь хорошие стихи — это не те слова, что правильно срифмованы и ладно пригнаны друг к другу, а те — что идут от души и проникают в душу. Пока не всё умерло в человеке, он будет замирать при звуке настоящих стихов.
Разгораются тайные знаки
На глухой, непробудной стене
Золотые и красные маки
Надо мной тяготеют во сне.
Они что-то мучительно напоминают. Но что — разве вспомнишь? Это лежит на самом дне памяти. Или души. Как обручальное кольцо первой любви, о которой не всегда помнишь, но которое всегда с тобой. Иногда там, на самом дне что-то шевелится, и тогда человек улыбается — сам не понимая от чего.
Выткался на озере алый свет зари
На бору со звоном плачут глухари
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло
Только мне не плачется — на душе светло.
А потом на душе становится скверно. Может быть от того, что голые ветки деревьев испугано размахивают на ветру платками нескольких оставшихся листьев и скребут в окно, стараясь спрятаться от непогоды. Или потому, что простоял весь вечер с букетом, который жёг руку, но не выбросил его, а перевернув цветы головками вниз медленно пошёл по бульвару, наступая в лужи и не прячась от дождя.
Никто не полюбит, никто не осудит
За что любить, осуждать?
Никто у плакучей берёзы не будет
Под вечер меня ожидать…
***
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король…
А за окном шелестят тополя:
Нет на земле твоего короля.
Вот это поэзия. Она неотступно следует за тобой, не оставляя ни в радости, ни в несчастье, подсказывая верные слова и подталкивая на правильные поступки. Когда есть такие стихи, все последующие поэтические альманахи и сборники стихов становятся лишними и жалкими. Их авторы слышат только свой голос, стараясь свои выдуманные переживания сделать общим достоянием. Невольно пожимаешь плечами, читая их — зачем ты всё это написал, человек? С чем ты сравнивал написанное тобой? Писать стоит только в том случае, если есть надежда написать лучше всех. Да! Иначе можно было всем молодым поэтам собраться вместе и утопиться в соседским пруду — после Пушкина, Блока, Ахматовой, Есенина, Тарковского, Бальмонта, Симонова и немного — Евтушенко и Вознесенского делать в поле поэзии, кажется, нечего.
Но всё равно появляются новые и новые, которые говорят о старом — о вечном — по-новому. Высоцкий, Окуджава, Визбор, а сколько других — малоизвестных или совсем неизвестных, которые пишут для себя и для своих друзей, даже не стараясь сделать свои стихи достоянием всех. И именно эти стихи чаще всего оказываются настоящими. Их можно читать после Лермонтова или Цветаевой, после Мандельштама — и не морщиться, как от больного зуба. Как хорошо! Все они об одном — о жизни, и всё равно можно читать и читать — и не надоест.
Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращённых в прах,
Из мук казнённых поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений —
Родилась праведная Русь.
Я за неё за всю молюсь
И верю замыслам предвечным:
Её куют ударом мечным,
Она моститься на костях,
Она святится в ярых битвах,
На жгучих строиться мощах,
В безумных плавится молитвах.
И после этого… А, да что об этом. Стоны и причитания дешёвых стихов. Описание чувств, которых не было, воспоминания о событиях, которых не видел, размышления о вещах, которых не понял. Вдруг начинаешь чувствовать себя среди этих, последних. Неужели… А вдруг… Может быть давно уже за одной удачей тянется цепь неудач, а ты, распустив хвост, этого не замечаешь и поёшь хриплым голосом, закрывая глаза от восторга…
Время жить потихоньку проходит
И ползут времена иные.
Ветер долгую песнь заводит
Над синью степной полыни…
Кто-то вспомнит меня, быть может,
Остальные прошествуют мимо.
Дел своих никто не отложит,
Чтоб стихи почитать любимой.
Нет, пора остановиться. Хватит прикрывать неумение попытками оживить умершие стихи. Лучше быть откровенным хотя бы с самим собой, чем плохим поэтом — для всех. Многие в двадцать лет пишут стихи. Но не всем обязательно надо заниматься этим позднее, и тем более стремится к тому, чтобы твои стихи лежали на верхних полках в книжных магазинах и жалко протягивали свои строки равнодушным покупателям. Поэзия — не источник дохода. Какой же ты, к чёрту, поэт, если пишешь ради того, чтобы обедать каждый день. Поэзия — не кормушка для тех, кто не умея ничего делать нашёл лёгкий путь к деньгам.
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, игристо и остро!
Весь я в чём-то норвежском! Весь я в чём-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
***
О, как сердце моё тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
Если не получается писать лучше, или хотя бы также — надо это дело бросить совсем. Подойти к борту и швырнуть в пасть волнам все свои стихи. Пусть подавятся! Поэтом нельзя быть без потерь. Если есть талант — появятся новые стихи. Только лучше бы не появлялись. Слишком тяжело писать хорошие стихи. А писать плохие — станешь противен себе.
Букетик маленький
Фиалок синих
Положен в Таллине
От всей России
На той могиле
Без обелиска
Где дуб и клены
Склонились низко
В поклоне легком
Перед поэтом
И даже осень
Звенит сонетом…
Ага, Океан облизнулся и бросил в ответ целую охапку солёных брызг. Но это были не слёзы. Значит, ему понравилось. Теперь придётся сушиться, но это лучше, чем глупые улыбки и заученные похвалы. Ловко мы расправились со своим творческим наследием! Рукописи не горят, зато тонут! А то, что всплывёт — запишем потом снова.
Теперь, читая те сборники стихов, что валяются на полке, можно будет свысока думать об их авторах, снисходительно похлопывая их в мыслях по плечу. Да, коллега, до настоящего поступка ты ещё не дорос. Но у тебя всё впереди. Ведь ты — молодой поэт. Что? Двадцать девятого года рождения? А ты — тридцать третьего? А ты? Сорок пятого? А, всё ясно. Это не поэзия, а богадельня. Публикация стихов из жалости к автору и из уважения к его упорству. Собирай своё добро, приятель и иди домой. Жаль, что ты ничего не понял. Запретить писать тебе нельзя. Нет такого закона. Но будь добр, сделай так, чтобы твои стихи не попадались на глаза тем, для кого поэзия — это жизнь. Они выскажутся более определённо. Как ты будешь умирать после этого? Бедняга, ты вычитал всё о мире в книгах. Или слышал от других, которые сами где-то о нём слышали. Постарайся увидеть его сам. Хоть напоследок, маленький кусочек, где-нибудь с краю. Ты кое-что поймёшь. Ведь ты неплохой парень. Только давай договоримся: не надо соваться в поэзию. Будем читать те стихи, которые могут умереть только после многолетнего замалчивания. И воскресают, когда вновь появляются в печати.
Из страны, где солнца свет
Льётся с неба жгуч и ярок
Я привёз тебе в подарок
Пару звонких кастаньет.
Видишь солнце? Слышишь щёлканье кастаньет? Нет? Слушай, а что же ты говоришь, что умеешь писать стихи? Как можно писать их, не слыша их музыки, не чувствуя их? Странно.
А про Россию как ты пишешь? Ты послушай свои произведения. Почитай их себе вслух. Или жену попроси. И сравнивай.
Россия, ты большая
И будь всегда большой,
Себе не разрешая
Мельчать ни в чём душой.
***
Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье?
Была ли ты? есть? или нет?
Омут… стремнина… головокруженье…
Бездна… безумие… бред…
***
Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
***
Русь, опоясана полями
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна…
Мучаешься? Нет? Значит, тебя уже ничего не может тронуть. А, ты мучаешься? Вот так-то. Выбрось за борт непосильный груз! И увидишь, как легко побежит дальше твой корабль. А пока ты больше похож на баржу, которую каждая волна грозит захлестнуть мутной волной неумелой критики…
Плывёт по Океану красная тетрадь. Или нет. Она медленной тонет, и пучеглазые рыбы с удивлением смотрят на незнакомого зверя. Дай бог, чтобы это никогда не вернулось. Без этого легче жить. Любить. Творить. Чёрт возьми. Опять? Чтобы не встретиться с неприятным человеком, достаточно перейти на другую сторону. А как быть со своими мыслями? Неужели это конец? В памяти всплывают стихи. Из утонувшей тетради. И новые… Уйти от этого нельзя.
И вновь берез очарованье
Стоит рябина вся в огне
Вновь, словно призрак ожидания
Горит свеча в твоем окне…
***
Нам надо на кого-нибудь молиться
Привыкли быть рабами у царей
И из-за этого не раз пришлось умыться
Багрово-красной кровушкой своей…
13—14 января 1987 г., Индийский океан, 68º ю. ш., НПС «Фиолент»
Вечер, которого не могло не быть
Все поднялись и пошли вниз танцевать. Эрик остался один в номере, помахав им напоследок рукой. Сейчас он тоже придёт, только выпьет немного.
Дверь захлопнулась и сразу стало совсем тихо. Дым от сигарет уходил на улицу через приоткрытую балконную дверь, а вместо него в комнату вливался густой морозный воздух, от которого проходило возбуждение и мысли становились лёгкие и ясные. Как хорошо отдыхать зимой в доме, со всех сторон окружённым лесом. Лес завален глубоким чистым снегом, который морозно хрустит под лыжами, а иногда шумно обваливается с ветвей от собственной тяжести.
В комнате тишина. Только снизу приглушённо доносится музыка. На столе остались стаканы, несколько конфет и тарелка с нарезанным лимоном. Эрик взял с пола начатую бутылку и плеснул в свой стакан примерно на два пальца бесцветной жидкости. Подумал немного, посмотрел на этикетку бутылки и поставил её обратно. Он поднялся и, отдёрнув в сторону лёгкую штору, вышел на балкон. Звёзды висели прямо над деревьями — яркие и холодные. Внизу скрипнул снег. На дорожке под деревьями стояли двое и целовались. Эрик глубоко вдохнул ночной воздух, и взяв с перил горсть снега, вернулся в комнату. Снег лежал в стакане и не таял. Эрик размельчил его ложечкой и туже же выдавил немного лимона. Он представил, какой приятный, чуть кисловатый и очень холодный будет этот глоток. Решив немного оттянут его, Эрик поставил стакан на стол, взял ломтик лимона, разрезал его до половины и прикрепил на край стакана. Чтобы был рядом. Потом прошёлся по комнате. Номер был двухместный, но небольшой и очень уютный. Низкие, широкие кровати, стол, два кресла и настольная лампа на тумбочке возле кровати. Одна из ушедших девушек накинула на лампу лёгкий красно-синий платок, и она светилась мягким вечерним светом.
Эрик взял стакан и посмотрел сквозь него на свет лампы. Красиво. И слегка пахнет лимоном. Больше не стоило ждать. Он выпил и поставил стакан на стол. Всегда бы так жить. Вмеру работы. Вмеру спорта. Вмеру танцев. Всего понемногу. Хорошо… Почему люди не могут жить вмеру и всегда во всём стараются хватить через край — в любви, во вражде, в спиртном, в деньгах и карьере — во всём. А о жизни забывают — какая это замечательная и короткая штука. Живут начерно, надеясь потом переписать всю жизнь, сделать её полной памятных событий и надёжных друзей. Копят деньги, ссорятся, мечтают о славе, и всё ради этой будущей жизни, которая вот-вот сама собой настанет — всё ради неё. А потом вдруг…
Странно, подумал Эрик, не могло же так быстро подействовать. Но потом сообразил, что перед этим пил ещё. Жизнь, пожалуй, в самом деле только одна, но в ней есть немало хороших вещей. Например, сегодняшний вечер. И ещё многое другое. Надо только уметь это видеть. А пока ему везёт. Он уже многое нашёл, и наверняка впереди будет что-то ещё. Только бы не оставила его способность видеть хорошее там, где другие ничего не видят. Некоторые хорошие писатели смогли кое-что увидеть и написать об этом. Если много работать и не жалеть отбрасывать неудачное, то может быть тоже удастся сделать что-нибудь стоящее. Но это потом. Завтра. На сегодня работа закончена.
Эрик надел куртку и захлопнув дверь, спустился на первый этаж, где в небольшом тёмном холле по вечерам собиралось и танцевало отдыхающее студенчество. Днём в середине стоял теннисный стол, на котором играли по очереди двумя плохими ракетками, а в ожидании своей партии курили, пили из бутылок пиво и болтали, сидя в красных кожаных креслах. Сейчас сложенный стол стоял за колонной у окна. Среди вспышек разноцветных ламп и дыма сигарет быстро и ритмично двигались фигуры танцующих. Вдоль стены он прошёл в тот угол, где в креслах сидели его знакомые. Ему помахали, приглашая в круг. Он кивнул и стянув куртку, бросил её на пустое кресло.
В это время быстрая музыка закончилась и сразу, без перерыва заиграло что-то медленное. Наверное, итальянцы. Эрик повернулся и сразу увидел её. Она стояла возле колонны и улыбалась ему. Конечно ему, разве можно здесь ошибиться, а он смотрел сквозь сигаретный дым и ничего кроме неё уже не видел. Боже мой, неужели это она! Какое знакомое лицо. Где он мог видеть её? Во сне? Или здесь, на танцах. Нет, не может быть. Кто-то потянул её за руку танцевать, но она спрятала руку за спину и не отрываясь смотрела на него. Прямо в глаза. И улыбалась.
Они танцевали и смотрели друг на друга, разговаривали и улыбались. О чём они разговаривали? Разве теперь вспомнишь. Наверное о том, о чём обычно разговаривают в таких случаях. Обо всём и ни о чём. А может о другом — ведь они так долго не виделись. Всю жизнь. Эрик вспомнил, что действительно, именно её видел иногда во сне, но не удивился. Он не сомневался, что всё так и будет. Или почти так. Только раньше он сам не сознавался себе в этом. Что будет — то и будет. А сейчас всё это вспомнилось и вышло наружу, и от этого стало легко и немного смешно. Он улыбался и смотрел на неё.
Когда Эрик подошёл, она без приглашения положила руки ему на плечи, и в танце он прижал её к себе крепко-крепко, будто уже никогда не хотел отпускать. У неё были мягкие каштановые волосы и пахло от неё зимней свежестью и каким-то лёгким парфюмом. А может быть цветами. И глаза…
— Где же ты была раньше?
— Я ждала тебя.
— А я тебя искал. Как тебя зовут?
— Яна.
Музыка играла очень долго и очень медленно. Танцующие разошлись, а оставшиеся сидели в креслах и курили. Только несколько пар танцевали, прижавшись друг к другу.
Подумать только. Странно. Как может быть иногда хорошо. Яна положила голову ему на плечо и её волосы приятно щекотали шею, а он смотрел на неё, чувствовал её мягкий свитер и то, что было под ним. И танцевала она мягко, подчиняясь партнёру, доверяя ему. Это была девушка из сказки. А потом опять замелькали разноцветные вспышки и из динамиков рванулся резкий рок-н-ролл. Она не умела его танцевать, но получалось у неё здорово. Гибкость и врождённое изящество, а может быть и регулярные занятия танцами делали её замечательно красивой в танце. Смотреть на неё было даже приятнее, чем танцевать самому. Потом откуда-то появилась подруга — она, оказывается, отдыхала здесь с подругой, но быстро всё поняв, опять куда-то исчезла, оставив их вдвоём.
Несколько раз их пытались затянуть в общий круг, но скоро в холле сделалось очень душно и накурено. А на улице была ночь, снег и луна. Эрик вдруг вспомнил про луну и ему захотелось посмотреть на неё и показать её Яне.
— Послушай, у тебя есть лыжи?
— Есть.
— Пошли покатаемся при луне. Зима, луна и мы с тобой.
— Пойдём! Как здорово!
— Я жду внизу через десять минут. Только подругу не приглашай с собой.
— У неё сломаны лыжи.
— Наверное, это хорошо.
Она помахала ему и быстро пошла по тёмному коридору к лестнице на второй этаж. Только несколько ламп подсвечивали коридор, они были почему-то возле пола, и от этого её силуэт заметно выделялся на фоне светлых стен. Так могут ходить только очень красивые девушки, которые чуть-чуть стесняются своей красоты. От лестницы она снова махнула ему рукой. Боже мой, неужели это в самом деле она. Откуда? Не может быть. А вдруг она больше не появится. Нет, этого как раз и не может быть, а всё остальное — может.
Свитер и ботинки ещё не высохли после целого дня, проведённого на горе, но в шкафу нашёлся сухой свитер и носки, а не досохшие ботики досохнут на морозе. Эрик быстро оделся и взял лыжи. Лыжи были старые и сильно стёртые. Смола с них давно сошла, а просмолить опять было лень — должны же они когда-нибудь сломаться! Кроме того, не смолёные их было приятнее держать в руках — чувствовалась шероховатость скользящей поверхности, на которой проступали более плотные волокна. И ещё они напоминали те обкатанные волнами куски дерева, которые валялись на берегу далёкого северного моря. Он собирал их и жёг в печи, они давали ровный жар. Эрик улыбнулся — именно тогда он прочитал ту книгу об Океане и понял, что у него всё должно быть хорошо.
Он быстро спускался по лестнице и держал в руке связанные за концы лыжи. Навстречу поднимался Толстяк. Эрик остановился на площадке, чтобы пропустить его, но тот, кажется, не спешил. Он тоже остановился и посмотрел на Эрика так, будто прикидывал — куда бы его укусить.
— Послушай, что я хочу тебе сказать. Мы вместе пили, но это ничего не значит. Не подходи больше к этой девчонке.
Эрик внимательнее посмотрел на Толстяка и почувствовал, что продолжает держать лыжи на весу.
— Извини, не понял.
— Что ж тут непонятного. Найдутся люди — растолкуют. Это подруга моего друга. Он ненадолго уехал, но попросил присмотреть за ней.
— Тебя попросил?
— Меня.
— Присматривай. Только издали. Ты знаешь, я почему-то очень огорчаюсь, когда мне дают советы.
— Когда он вернётся, ты можешь огорчиться ещё больше.
— Нам не дано заглянуть в будущее. Никому не дано знать, что оно скрывает. Извини, меня ждут.
— Кто?
Эрик хотел пройти, но Толстяк загородил ему дорогу. Бывают же такие идиоты. Эрик оттолкнул его и быстро спустился в холл. Прошло уже больше десяти минут, но Яны там не было. Сзади загудела лестница — Толстяк сбегал по ней, на ходу снимая очки.
— Одень очки и сходи выпей. Воды из-под крана.
Но вместо того, чтобы последовать этому вполне разумному совету, Толстяк схватил Эрика за ворот куртки и рванул на себя. Это был странный приём. Ему не следовало этого делать. В руках у Эрика были лыжи и бросать их было жалко. Мало кто знает, что на них можно не только кататься. Он ударил Толстяка лыжами справа налево по руке, быстро прислонил их к стене и слегка оттолкнув противника, провёл тройной удар, которому его когда-то давно в поезде Ташкент-Москва учил сержант-десантник, возвращавшийся из Афгана. Он помнил и другие удары, показанные и отработанные за несколько дней в поезде, но старался ими не пользоваться. Хотя, всегда в таких случаях действовал неосознанно, автоматически отрабатывая полученные навыки. Сознание в драке несколько отставало от действия.
Он даже этот удар постарался провести не до конца, хотя помнил слова десантника, что в драке хороши все приёмы, главное — устоять на ногах и уцелеть. Хотя, похоже, это был не тот случай. Толстяк согнулся и присел — на мир ему смотреть больше не хотелось. Ничего удивительного. Думать надо о последствиях, когда пристаёшь к малознакомому человеку. Эрик усадил его в кресло.
— Ладно, не грусти — ты сделал всё, что мог. На тебе вины нет. Со всеми претензиями пусть обращаются ко мне. По почте.
Вообще-то, за такое могли и выгнать отсюда, но в холле никого не было, значит дело дальше не должно пойти. А где же эта девчонка? А, вот и она.
Яна спустилась в вестибюль, одетая в куртку и лыжные брюки. Каштановые волосы выбивались из-под вязаной шапочки, а на щеках были ямочки, и Эрику захотелось её поцеловать. Прямо сейчас. Он взял у неё лыжи и они вышли на тёмное крыльцо. Свободной рукой он притянул её к себе.
— Ты прелесть.
— Пойдём.
— Ты — прелесть, — сказал Эрик и поцеловал её сначала в волосы, потом в шею, в глаза и в яркие, слегка приоткрытые губы. Яна не сопротивлялась, только замерла и закрыла глаза, будто прислушиваясь к новым ощущениям.
Позже Эрик иногда спрашивал у неё, как получилось, что такая красивая девушка не умела целоваться. Она прижималась к нему и улыбалась.
— Ведь тебя раньше не было. Кто же мог меня приручить и научит целоваться.
Снег в лунном свете был голубой и очень звонкий. Они иногда отталкивались палками и катились под уклон по крепкому насту навстречу ночному ветру и звёздам. По крепкому насту лыжи катились сами. Он был такой жёсткий, что по нему можно было идти без лыж. Они стремительно катились рядом, слегка пригнувшись и радуясь скорости. Только свист ветра в ушах и холодное мерцание крупных звёзд. Поскрипывает наст под лыжами. Других звуков нет, вокруг серебристое безмолвие зимней ночи. Луна, словно ночное солнце, заливает своим лёгким призрачным светом всё вокруг — поле, ледяную поверхность озера и дальний лес, так что все предметы кажутся близкими и контрастными.
Спуск ведёт вниз, к озеру. Он очень пологий, но при таком скольжении в темноте появляется ощущение полёта. Иногда лыжи набегали на бугор или попадали в рытвину, тогда приходилось быстро переступать, чтобы сохранить равновесие. А потом опять толчки палок и полёт сквозь ночь продолжается.
Яна выкатилась немного вперёд и Эрик смотрел сзади на её фигуру и движения. Она делала всё правильно, и видеть её рядом и чуть впереди было приятно. А потом спуск закончился и с разгона проскочив полосу глубокого снега возле берега, лыжи защёлкали по льду озера. Лёд плохо держал беговые лыжи без кантов и палки при отталкивании проскальзывали по его поверхности. Скольжение было бесподобное.
Катаясь на лыжах Эрик научился ценить все ощущения, которые они могли дать. Хорошо было шагать по глубокому рыхлому снегу, по колено проваливаясь в него, бежать по накатанной лыжне навстречу солнцу, уступая одну колею встречным лыжникам, скользить по крепкому мартовскому насту в любую сторону — он везде держит одинаково хорошо, и даже идти по раскисшему весеннему снегу, начинавшему чернеть и оседать. Это давало ощущение близких перемен. Но особенно нравилось катиться ночью под небольшой уклон, вдыхая морозный воздух и глядя на залитые лунным светом просторы.
Они опять вышли на берег и, медленно отталкиваясь палками, покатились к лесу. Вдруг откуда-то долетел тихий звон. Тишина. Только очень тихо звенит лунный свет, падая на заснеженные просторы.
— Яна, ты слышишь?
— Что это?
— Это звенит лунный свет.
Они сделали ещё несколько шагов и увидели ручей. Его сковал мороз, заперев в ледяное русло и упрятав под наст. Но неутомимая вода промыла ледяное окошко и играла лунной рябью. Ручеёк в окошке улыбался. Казалось, он радовался им, нашедшим его среди снегов в эту лунную ночь. Эрик нагнулся и глотнул из него. Это была вода, настоянная на морозе, лунном свете и тишине.
— Яна, я дарю его тебе. Пусть это будет мой первый подарок.
— Спасибо! Это же настоящая сказка. Как всё хорошо у нас получилось.
2 февраля 1987 г., Антарктика, море Космонавтов, НПС «Фиолент»
Этот рассказ, когда он будет закончен, мне хотелось бы посвятить моей славной жене — Ольге и второму февраля 1983 г., 2 февраля 1987 г.
Но я слишком долго собирался его закончить и опубликовать — всё изменилось. Поэтому обойдёмся без посвящения…, 2 февраля 2023 г.
Мы с Хемингуэем
25 лет после смерти Эрнеста Хемингуэя
(21 июля 1899 г. — 2 июля 1961 г.)
Иногда встречаешь людей, про которых после первой встречи можно сказать — это свой. И что бы он потом ни делала и ни говорил — многое ему прощаешь. Многое, но конечно не всё. Хотя, очень редко такие люди совершают поступки, про которые бывает стыдно узнавать. Они обладают чутьём, которое подсказывает — как надо вести себя в трудных ситуациях. И почти всегда то, что они делают, оказывается единственно верным. С таким человеком приятно идти рядом, но если он должен куда-то уехать, всё равно становится легче жить и преодолевать самые немыслимые препятствия при мысли, что он где-то сейчас работает, думает, смеётся. Невольно начинаешь сравнивать свою жизнь, свои поступки и мысли с его и удивляешься — как много общего! Оказывается, мы совершали похожие поступки и говорили похожие слова задолго до того, как узнали о существовании друг друга. Наверное, это и есть духовное братство. Интересно, что такие люди очень часто оказываются индивидуалистами, для которых собственное общество оказывается приятнее любого другого. Но встречаясь с ними, думая о них, получаешь часть душевной энергии, которую они распространяют вокруг себя, иногда на огромное расстояние.
Эрнест Хемингуэй погиб, когда мне был один год. Это вполне может быть преемственностью сходных характеров. Ведь должен он был кому-то передать всё то лучшее, что осталось в его душе.
Всё. Застопорило. Кажется я устал от писанины. Нужен отдых. Поэтому, отключив мозги, я перечислю некоторые моменты в жизни Эрнеста, которые обращают на себя внимание. Родился он, будем считать, в 1899 году, хотя есть мнение, что год это был 1898. Жил в пригороде Чикаго, в Оук-Парке, в обеспеченной и интеллигентной семье. Сразу после школы подался работать репортёром, а в 1918 году, завербовавшись, уехал в Европу — на фронт Первой мировой войны. Кто знает, что его туда потянуло — скорее всего жажда путешествий и желание увидеть жизнь вблизи своими глазами. В мае 1918 года он покинул Нью-Йорк, а уже в июле, в Италии был ранен, попав после этого в миланский госпиталь. Всё обошлось, и по окончании войны он вернулся в Штаты, но не домой, а устроился работать в газету «Торонто стар». Это был 1919 год.
Кто-то (Шервуд Андерсен?) сказал ему, что очень хорошо живётся и пишется в Париже, и молодой Хэм отправился в Париж. Перед этим он в сентябре 1921 года женился на Хэдли Ричардсон и в конец 1921 года они уехали в Париж. При этом он считался корреспондентом своей газеты (то ли штатным, то ли фрилансером) и выезжал по заданию редакции на фронт греко-турецкой войны, на конференции в Геную и в Лозанну, в Рур. Газета охотно публиковала его корреспонденции, но Эрнест хотел быть писателем. И он стал им. Правда, прежде были потеряны (украдены) практически все его ранние вещи. Это случилось в декабре 1922 года. После такой потери молодому писателю нетрудно сломаться, и Эрнесту стало казаться, что никогда больше он не сможет писать. Но это была ерунда. Как же он мог не писать! И снова из-под его карандаша стали появляться рассказы. Первыми его публикациями, не считая газетной работы, стал сборничек, опубликованный в Париже, который он назвал «Три рассказа и десять стихотворений», опубликованный тиражом триста экземпляров. И сборник «В наше время», тиражом сто семьдесят экземпляров. Они вышли в 1923—1924 годах. Вроде бы первый не имел заметного успеха. Второй был переработан и вышел в Штатах под тем же названием, в Нью-Йорке, видимо в издательстве «Скрибнерс», с которым Хэм сотрудничал всю жизнь. Это была первая серьёзная книга и вышла она, кажется, в 1925 году. Перед этим о перестал сотрудничать с газетой, и, оставшись без денег, голодный и уверенный в себе, сел всерьёз за написание рассказов. И пошло! Это произошло в начале 1924 года.
В сентябре 1923 года Эрнест с женой Хэдли вернулся в Торонто, где в октябре этого года у них родился сын Джон. В январе 1924 года они все вместе вернулись в Париж.
«Фиеста», или как ещё называют этот роман (a novel) «И восходит солнце», он написал за полтора летних месяца в 1925 году, а зимой, в горах, роман был полностью переписан и вышел в октябре 1926 года в издательстве Charles Scribner’s. Это был успех! До и после он писал рассказы и стихи. Особенно известна серия его рассказов о Нике Адамсе. Конечно, под этим именем автор вспоминал своё детство и время взросления. В январе 1927 года Хемингуэй расстался в Хэдли и в мае женился на Полин Пфайфер. В марте 1928 года они уехали из Парижа.
Впоследствии воспоминания о жизни и любви с Хэдли проливали грусть на многие страницы его книг. Но семейные дела — бог с ними. Хотя кто-то и говорил, что Хэму нужно быть влюблённым, чтобы писать. Может быть он даже говорил это сам. Не знаю, не помню.
Главный герой «Фиесты» — это сам Хемингуэй. Кстати, друге персонажи тоже узнали себя, поскольку подобные поездки действительно были, а писать роман он сел после одной из них. Так что всё вертится вокруг реальных событий. Просто талант автора позволил в реальные события вложить огромный символический смысл. А может быть мы там находим его сами, потому что нам нравится весёлая жизнь его героев и мы вспоминаем себя в подобных обстоятельствах.
Я не хочу разбирать здесь действие романа и его героев — это уже достаточно делалось до меня. Я пишу о Человеке, об Авторе. Но я согласен с теми, кто считает этот роман Хемингуэя шедевром. Так же, как его последнюю книгу «Острова в океане» («Islands in the Stream»). Составляя символическую библиотеку, которой мне хотелось бы обладать, в числе первых книг я ставлю на полку эти вещи, а потом все остальные, а уже потом вспоминаю Эрих-Мария Ремарка, Ивана Бунина, Василия Шукшина и многих-многих других. Но о них — позднее.
Живя и работая в Париже, молодой Эрнест Хемингуэй пишет свои рассказы, встречается с писателями, художниками, поэтами, критиками. Кому-то помогает, с кем-то ссорится. Он — живой человек и в этом его сила.
Потом Париж закончился. Навсегда в памяти он остался долгим, счастливым праздником молодости, творчества, поиска своей дороги.
Жизнь его вступила в новый этап. Кажется, за книгу «Прощай оружие» автор получил огромную премию — 100 тысяч долларов, что позволило ему вести тот образ жизни, который был ему ближе всего — странствовать, смотреть, думать, писать. Эта повесть или роман была опубликована в 1929 году, когда писателю исполнилось 30 лет. Перед этим был ещё один сборник рассказов — «Мужчины без женщин». После книги «Прощай оружие» Хэм получил возможность ездить куда захочет и когда захочет. Он бывает в Испании, ловит там рыбу и смотрит бой с быками. Охотится в Африке, живёт на островах в Карибском море. В 1952 году выходит книга «Смерть после полудня», написанная на испанских впечатлениях. А в 1935 году — «Зелёные холмы Африки». В это же время он пишет два крупных очерка — «Кто убил ветеранов войны во Флориде» (1935 год) и «Крылья всегда над Африкой» (1936 год).
В это время он живёт на тропических островах, и, купаясь в лучах славы, измывается над приезжими любителями знаменитостей, а иногда с наиболее навязчивыми затевает драки в барах. Потом он со злобой пишет от этом, что всякая сволочь норовит прицепиться к тебе, увидев в баре с красивой женщиной. А недостатка в красивых женщинах, любящих известных писателей, ни в это время, ни в любое другое не ощущается. Видимо, один из героев романа (или повести) «Острова в океане» («Islands in the Stream») Роджер Дэвис — это как раз сам Хемингуэй в тот период своей жизни. Надо уточнить, был ли у него брат, который утонул.
В 1933 году был опубликован сборник «Победитель не получает ничего». Эрнест Хемингуэй стал писателем с мировым именем. И именно это дало ему возможность делать то, что он хотел и жить там, где хотел.
С 1937 по 1940 год, во время гражданской войны, он был военным корреспондентом в Испании. Там он снял фильм, который показывал в Белом доме президенту Рузвельту и его семейству. Там же, в Мадриде, под артобстрелом была написана пьеса «Пятая колонна», опубликованная в 1938 году, и то самое предисловие «на тысячу слов», которое неохотно ложилось на бумагу — словно из тюбика выдавливалась паста. А чуть раньше — в 1937 году, было опубликовано известное «Иметь и не иметь» — про контрабандиста-бутлегера, да и про всю Америку.
В 1939 году Эрнест поселяется на Кубе, где живёт оставшиеся годы жизни, выезжая оттуда в те «горячие точки», куда его звала совесть.
В 1940 году увидела свет его книга «По ком звонит колокол», где, как всегда, главный герой очень похож на автора. Началась война. Хемингуэй в составе первого десанта высаживается во Франции, и с отрядом партизан гоняет отступающих немцев, с отрядом разведки врывается в города, отбитые у немцев — в те города, которые он знает с юности. Ему 45 лет. Ему нечего терять, кроме жизни. Замечательный писатель не может сидеть на солнечных кокосовых островах. Он лезет в самые жаркие места — ведь это Эрнест Хемингуэй! Рискуя жизнью, он иногда остаётся жив в очень опасных делах. Вроде бы, он дважды попадал в авиационные катастрофы, но оставался жив!
Позднее, в пятьдесят лет, он пишет книгу «За рекой в тени деревьев» о пятидесятилетнем полковнике в отставке, который опять ведёт себя как автор. Не в это ли время он встретил свою третью жену Мэри? Книга выходит в 1950 году. Её считают неудачной. Что ж, может быть так оно и есть, но это произведение Хемингуэя. Его надо прочитать.
Чуть позже, в 1952 году публикуется небольшая повесть или большой рассказ «Старик и море», за который в 1954 году автору присуждается Нобелевская премия по литературе!
Затем — прекрасные «Острова в океане» и «Праздник, который всегда с тобой». Когда на душе бывает темно, и даже изо всех сил тряся себя за шиворот, мне не удаётся заставить руку взять карандаш, я открываю «Праздник…». Зная его чуть ли не наизусть, я снова и снова читаю его и радуюсь, будто в первый раз раскрыл его страницы. И каждый раз жалею, что слишком о многом автор предпочёл умолчать. Смешно, но я читаю о его жизни в Париже как сказку, жалея, что она так быстро кончается. И снова нахожу всё новые черты сходства со своей жизнью. В чём эти черты? О, об этом когда-нибудь потом. Хочу только в завершение сказать, что недавно в Штатах была опубликована какая-то загадочная книга Эрнеста Хемингуэя под названием «Райский сад». Это вроде завещание писателя, которое он пожелала опубликовать через двадцать пять лет после смерти. Он снова надул эту старуху!
В каждой книге этого писателя чувствуется рука Мастера, душа Художника, поступки Человека.
19 февраля 1987 г., Антарктика, Южный океан, море Содружества, НПС «Фиолент»
Собака и Лень
В глубине сада, под старым грушевым деревом жила Собака.
Каждое лето, лежа в тенёчке и высунув от жары язык, она говорила себе, поглядывая на небо:
— Скоро придет зима, налетят белые мухи, подгоняемые злым ветром. Станет холодно. Надо бы построить себе конуру…
При этом она лениво оглядывала себя, растянувшуюся во всю длину и разомлевшую от жары.
— Да, вон какая я длинная — разве можно построить такую большую конуру. Подожду пока — может, что-нибудь придумаю. И Собака продолжала лежать в тенечке, глядя вокруг сонными глазами и огрызаясь на мух.
Отшелестели и облетели листья с грушевого дерева. Проморосили осенние дожди и подгоняемые ветром с севера прилетели первые снежинки. Замерзшая Собака опять лежит под грушевым деревом — свернувшись калачиком и спрятав нос в пушистом хвосте — стараясь согреться. От холода она стучит зубами и думает грустную думу: почему же я не построила себе конуру? Ведь это так просто — вон какая я маленькая. Мне и места-то надо совсем немного… Лежала бы сейчас в теплой конуре и слушала вой вьюги…
Но холодные дни рано или поздно заканчиваются. Снова приходит лето, вновь зеленеют на грушевом дереве молодые листочки. Растянувшись на солнышке, Собака оглядывает себя и сокрушается: да как же я построю себе конуру? Вон какая я большая!
15 марта 1981 г., Москва
По мотивам какой-то притчи
Звезды в океане
Тихо ночью на капитанском мостике. После антарктических морозов и ледяных ветров приятно стоять на упругом и теплом ночном ветерке. Только мерно дышит океан. Каждый его вздох валит судно на борт, и черная вода с белыми барашками мелькает прямо перед глазами. Иногда волна громоздится выше борта, но не обрушивается на судно, а поднимает его на свой гребень. Сквозь ночь и осень мы движемся в теплые моря, к экватору. Судно ещё не вышло из «ревущих сороковых», но с каждым днем становится всё теплее и солнце не только светит, пробиваясь сквозь облака, но и греет.
Сейчас ночь — точнее то, что принято называть глухим полуночным часом. Только океан и звезды, а между ними наше научно-промысловое судно «Фиолент». Дневная облачность рассеялась и сейчас все небо в звездах. Лишь по его краю, низко над водой, громоздятся черные ночные облака. А внутри этой оправы — от края до вершины темного купола — перекинулся Млечный путь. Южный крест начинает склоняться к югу — к Антарктиде, откуда мы быстро уходим на север, к экватору. Скоро на его место от горизонта поднимутся привычные созвездия Северного полушария и антарктическое лето останется только в воспоминаниях, да в коротких записях вахтенного журнала.
Через неделю южная осень сменится северной весной. Для этого будет достаточно пересечь экватор и этого события весь экипаж ждёт с нетерпением. Всем надоели холода — антарктическое лето мало чем отличается от нашей зимы.
Бурлит вода вдоль бортов и с тихим шелестом падают метеориты. Они отрываются от Млечного пути и торопливо прочертив по чёрному небу короткую блестящую дугу — гаснут. Значит, не удалось долететь до земли. Вспыхнув напоследок, звезда сгорела в плотных слоях атмосферы. Порыв ветра налетает неожиданно и встряхивает звездную дорогу, поднимая с неё облако пыли. Светящаяся пыль повисает над океаном. Она напоминает прозрачный занавес, опущенный с арки Млечного пути и разделяющий небо на два черных пространства. Ветер улетел и пыль медленно гаснет, растворяясь в тёмной воде.
Вдруг, ярко вспыхнув, небо чертит ещё одна падающая звезда. Но она не теряется в ночи, а долетев до воды — падает в чёрные волны. Быть может она погасла при этом, а может сейчас в тёмную глубину опускается сияющая жительница неба. Долго ей предстоит погружаться — в этих местах глубина океана достигает пяти километров.
Если бы дело происходило днём, то мы даже не заметили бы её падения. Тихо пискнув остывая, звезда погрузилась бы в глубину. Сперва вокруг неё была бы веселая голубая стихия, так похожая на утреннее небо, в которой покачиваются столбы света. В её толще висят удивительные животные, многочисленные лучи и выступы на теле которых поддерживают их в воде, не позволяя утонуть. Они парят в колышущихся потоках света.
С глубиной вода становится всё более синей. Дневной свет меркнет, только редкие лучи солнца пробиваются сюда. Крупные рыбы неясными тенями скользят где-то на пределе видимости. И тишина. Нет ни одного знакомого звука. Только если прислушаться очень внимательно, можно услышать щелчки и потрескивание. Это разговаривают рыбы. Они лишь кажутся молчаливыми — на самом деле среди них встречаются весьма разговорчивые и даже шумные.
Глубина всё увеличивается и упавшую звезду окутывает мрак, так похожий на ночное небо. Она достигла тех глубин, где царит вечная ночь. Иногда звезда попадает в струи сильных течений, подхватывающих её подобно ветру. Эти глубинные потоки движутся в разных направлениях, возвращая назад ту воду, которую переместили поверхностные течения.
Сходство с ночным небом усиливается благодаря многочисленным светящимся животным, для которых глубина стала привычным домом. Они настолько сжились с ней, что перестали замечать постоянный мрак, холод и огромное давление водной толщи. Зато они приобрели способность светиться. Эти странные животные удивленно расступались, пропуская падающую звезду. Некоторые пытались её догнать, принимая за долгожданную добычу, но быстро отступали…
И все-таки, сейчас ночь. Вода столь же черна, как и небо. Даже чернее. Поэтому вряд ли упавшая звезда заметила произошедшую перемену. Одни звезды потускнели и погасли, другие стали подниматься ей навстречу из глубины. Они приветливо подмигивают ей, и упавшая звезда чувствует себя в родной стихии.
Достигнув дна, она окажется в толще океанических осадков — среди тех звезд, которые упали раньше. А когда-нибудь, через много миллионов лет, дно океана снова поднимется и превратится в горы. Так было всегда. Так будет всегда. И упавшие в океан звезды поднимутся из глубины навстречу своим мигающим сестрам. И свет тех звезд будет им приветом и напоминанием. Ведь только тогда достигнут Земли лучи, которые сегодня звезды послали ей навстречу.
26 марта 1987г., Индийский океан, НПС «Фиолент»
Ноябрь
Холод, слякоть, пронизывающий ветер — такая отвратительная погода самая ноябрьская. Всё время ожидаешь снега, прыгая по лужам или прячась под зонтом от чего-то мерзкого, падающего с неба — толи дождя, толи снега. Ветер рвёт из рук зонт, выламывает его и стоит зазеваться — обдаёт тебя чем-то мокрым и холодным. А снега всё нет
Иногда утром выглянешь из окна и радостно улыбнёшься — выпал снег! Но немного позже от этого снега остаются одни воспоминания, да мокрая каша под ногами. И опять начинается ожидание. А вокруг царит вечная ночь. Когда утром выскакиваешь из дома, ещё совсем темно и в домах горят огни. А когда вечером возвращаешься домой, опять горят огни, и не хочется верить, что день уже пошёл. Прошёл в каких-то ненужных делах и заботах, под покровом вечной ночи. И так же, как темно вокруг, темно на душе. Темно и пусто, и ничего не хочется. Только спать, спать и спать… И весь день ходишь сонный, и ждёшь — когда придёт время, ты вернёшься домой и ляжешь спать, чтобы завтра вновь мрачно вылезти из тёплой постели и уйти под покровом вечной ночи.
Ноябрьские леса серые и мокрые. Кое-где на опавших листьях лежит тоненький слой снега, но его так мало, что он не может скрасить серой тоски леса. Птицы уже улетели, а остались лишь немногочисленные зимовщики. В лесу уже наступила зимняя тишина. И оттого, что лес пустой и мрачный, тишина особенно звонкая и пустая. Но стоит не та зимняя тишина, когда звуки гаснут, приглушаемые снегом, а осенняя, при которой редкий звук медленно уплывает, исчезая в тумане и вновь — неподвижная тишина.
Если в октябре снега выпадает много, то он непременно тает. Поэтому ноябрьский снег поступает хитрее — он выпадает понемногу, незаметно сыплясь с серого неба. Пронизывающий северный ветер свистит в поле и гонит мелкие снежные иголочки, от которых ветер кажется ещё холоднее и ещё севернее.
Да, что и говорить — унылый месяц ноябрь. Это месяц ожидания. Одни ждут, когда же придёт настоящая зима, выпадет много снега, станет морозно и солнечно. А другие ждут, когда кончатся холода и придёт зелёная весна с майским ветерком. И самое интересное, что и те, и другие ожидания рано или поздно сбываются. Главное — дождаться, не потеряв веру и надежду на нечто лучшее…
15—30 ноября 1981 г., Москва
Новогодняя сказка
Эрик медленно шёл по заснеженному лесу. Его лыжи оставляли на белом снегу два глубоких следа. Падал лёгкий снежок и ложился на лыжню, укрывая поломанные лыжами снежинки. Скрипел снег. Изредка потрескивали на морозе деревья. Лес стоял большой, белый и молчаливый. Снег лежал толстым слоем на лапах елей и на торчащих в разные стороны, придавленных им кустарниках. Его было очень много, и он был очень чистый и белый, даже чуть-чуть голубоватый — не сильно, а самую капельку, отчего казался ещё белее. С некоторых кустов снег осыпался, и они были покрыты тончайшим кружевом инея, так что Эрику казалось, будто кусты сделаны из чего-то белого, тонкого и блестящего. Если он задевал такой куст, то иней с тихим шорохом осыпался, и под холодным кружевом оказывались тонкие, чёрные прутики куста. Но Эрику было жалко оставлять кусты голыми в этом холодном лесу, поэтому он старался осторожно обходить их.
Завтра Новый год и Эрику нужна ёлка. Не какая попало ёлка. Ему нужна маленькая ёлочка, которая сможет поместиться в их избушку, а вокруг стояли огромные ели-красавицы. Такие большие ёлки, конечно, должны встречать новый год в лесу, но ведь где-то должна быть маленькая ёлочка, которой холодно и грустно одной среди высоких подружек. И её надо найти, чтобы она смогла встретить зимний праздник в тепле, украшенная красивыми игрушками.
Эрик шёл, внимательно всматриваясь в деревья, чтобы не пропустить эту ёлочку. Но её трудно было найти среди заснеженного леса. И вдруг он увидел снежный сугроб, который был немного выше других, и из него торчала маленькая еловая веточка. Мальчик подошёл ближе. Казалось, ветка махала ему, чтобы он не прошёл мимо. Эрик подошёл к сугробу и аккуратно откопал ёлочку — ту самую, которую он искал. Она была маленькая, холодная и зелёная, а на её ветвях поблескивали крошечные ледышки и звёздочки инея. Конечно, это та самая новогодняя красавица, которая будет стоять в их избушке, и вместе с ребятами радоваться весёлому празднику. Эрик бережно взял ёлочку и пошёл с ей обратно, к дому.
Идти по свежему лыжному следу было легко, и вскоре между деревьями показалась их избушка. Она была маленькая, с двумя окошками и крылечком, а из трубы на крыше поднимался синеватый дымок. Около стены под крышей стояла поленница наколотых дров, чтобы в самые сильные морозы можно было топить печку, и сидя вечером в тёплой комнате слушать вой вьюги за окном.
Эрик подошёл к домику и почувствовал очень вкусный запах. Это его сестрёнка Бьянка пекла к празднику пирожки. Мальчик помахал рукой снеговику, стоявшему у крыльца. Его они слепили вчера вместе с Бьянкой.
Оставив лыжи у крылечка, он внёс ёлочку в избушку. Внутри было очень тепло и уютно. Около печки стояла Бьянка и напевая песенку снимала с противня румяные пирожки. На столе была постелена белая скатерть, вышитая по краю красными и синими крестиками, на ней стояла корзинка с грецкими орехами и яблоками. Рядом с корзинкой стоял подсвечник с двумя свечами — белой и красной. На стуле, свернувшись калачиком, спал котёнок, что-то мурлыча во сне.
— Ой, Эрик, какую хорошенькую ёлочку ты принёс! — обрадовалась девочка. — Давай её скорее наряжать — ведь скоро Новый год, а мы с тобой ещё совсем не готовы. И дав брату самый румяный пирожок, она засуетилась у печки.
Эрик поставил ёлочку подальше от печки, чтобы ей не было жарко, и достал коробку с ёлочными игрушками. Чего только не было под её картонной крышкой! Там лежали большие и маленькие зеркальные шары из тончайшего стекла, разноцветные свечки в маленьких серебряных подсвечниках, стеклянные лимоны и орехи, апельсины и грозди винограда, груши и персики. И хотя их нельзя было съесть, выглядели они очень аппетитно. Ещё там лежали серебряные колокольчики, издающие очень тонкий и мелодичный звон, настоящие сосновые и стеклянные еловые шишки, маленькие ангелы с лёгкими бумажными крыльями, и множество других интересных и красивых украшений.
Каждую игрушку Эрик бережно брал из коробки, и став на стул прикреплял к ветке. А ёлка тем временем постепенно согревалась и оживала. Её ветви распрямлялись и на них заблестели капли растаявших льдинок. Бьянка помогала Эрику, и её глаза разгорались всё ярче. Ей очень нравилась ёлочка, блестевшая свежей зеленью, её ледяной запах и красивые игрушки на ветках.
За работой ребята не заметили, как наступили сумерки. Часы пробили шесть раз. Бьянка зажгла свечи, а Эрик включил приёмник. Далёкие детские голоса пели весёлую песенку о том, что скоро наступит Новый год, придёт Дед Мороз, и всем детям, которые хорошо себя ведут, положит под ёлку самый лучший подарок.
— Бьянка, а как ты думаешь — к нам Дед Мороз придёт?
— Конечно он должен прийти — ведь у нас такая красивая ёлка и такие вкусные пирожки. И мы очень хотим получит новогодние подарки. Он обязательно к нам зайдёт!
В это время проснулся котёнок. Спрыгнув со стула, он как большой встал, потянулся и зевнул, показав розовый язычок. Потянувшись, котёнок лапой задел клубок ниток, лежавший под стулом. Клубок покатился, а котёнок, подпрыгнув от неожиданности, бросился на него. Оба покатились по полу и ударились об печку. Когда клубок надоел котёнку, он прыгнул на колени к Бьянке и стал тереться о её руку.
— Ты наверное хочешь молока? — спросила Бьянка котёнка. — Эрик, а ты хочешь молока с пирожками и с вареньем?
— Да, а то уже скоро Новый год, а мы ещё в старом году не поели.
Бьянка налила молока для котёнка в блюдечко, а себе и Эрику — в высокие стаканы. Было очень хорошо и уютно сидеть за столом при свечах, около тёплой печки и пить молоко с горячими пирожками. А рядом стояла нарядная ёлка, и на ней тихонько позванивали серебряные колокольчики. Из приёмника лилась тихая музыка, и у ребят было настоящее новогоднее настроение.
Вдруг дверь тихо скрипнула, и из-за неё выглянул зайчонок. Он был маленький и очень пушистый. Одно ухо у него стояло торчком, а второе склонилось вперёд. Он робко посмотрел на ребят, потом на котёнка, потом на ёлку.
— Я бежал мимо, а у вас так вкусно пахнет, — сказал он тихо.
— Заходи скорее, — обрадовался Эрик. — Мы ждём Новый год. Он скоро должен прийти. Будем ждать его вместе.
— А кто такой Новый год? — ещё тише спросил зайчонок. — Может, я лучше побегу дальше. Он очень страшный?
— Что ты! — засмеялись ребята. — Новый год — это очень весело! Все танцуют, поют, едят пирожки и получают подарки.
— Едят пирожки и получают подарки? Тогда я останусь. А что это такое блестящее у окна?
— Это же Новогодняя ёлка! Её всегда наряжают, чтобы Новый год знал, что его здесь ждут. Какой же ты маленький, что ничего этого не знаешь!
— Я маленький. Но теперь я всё знаю и хочу вместе с вами ждать Новый год.
Бьянка налила зайчонку молока и дала пирожок с морковью, а Эрик выбрал ему из корзинки самое румяное яблоко.
Поев, зайчонок согрелся, повеселел и стал играть с котёнком, гоняя по деревянному полу клубок ниток.
За разрисованными морозом окнами шёл снег и свистел ветер, а в избушке было тихо и уютно. В печке потрескивали дрова, тикали часы, а на полу играли котёнок с зайчонком. Эрик вышел во двор за дровами и увидел у крылечка бельчонка и лисёнка. Они стояли на ветру, не решаясь войти в дом.
— Что же вы здесь стоите, — удивился мальчик, — заходите скорее!
— Мы увидели в окошко нарядную ёлку. Вы, наверное, ждёте Новый год? Можно, мы подождём его вместе с вами?
— Конечно, можно! Заходите скорее. Пирожков хватит на всех. И вместе ждать веселее.
Бьянка налила всем молока и поставила на стол тарелку с пирожками, а Эрик подкинул в печку берёзовых дровишек.
Вдруг зайчонок поднял ушки.
— Кто-то скребётся в дверь. Это, наверное, пришёл Новый год. Давайте его скорее впустим. Мне очень хочется его увидеть!
Эрик посмотрел на часы.
— Нет, ещё рано. Это не Новый год. Но кто же в такую погоду мог прийти?
Он открыл дверь и в комнату ввалился медвежонок. Он был весь в снегу и тяжело дышал.
— Помогите скорее! Там, в лесу, оленёнок провалился в яму и не может выбраться. Его может занести снегом!
— Надо помочь оленёнку. Нельзя, чтобы в новогоднюю ночь кто-то замерзал в яме.
Ребята схватили шубы, одели лыжи и заспешили за медвежонком. Следом за ними заспешили все зверята. Все хотели помочь оленёнку выбраться из ямы.
Дул сильный ветер, крутились снежные вихри. Это была настоящая новогодняя ночь, в которую хорошо сидеть дома, в тепле, у нарядной ёлки. Но надо было помочь попавшему в беду оленёнку.
Медвежонок остановился на краю ямы, в которой кто-то шевелился. Эрик оттолкнулся от края и съехал в яму. Там он увидел оленёнка, который пытался вылезти, но его не пускали крутые края.
— Глупый, как же ты сюда попал, — начал Эрик, но оленёнок был очень испуган и сильно замёрз, поэтому мальчик просто взял его на руки и поставил на край ямы. Эрик был уже совсем большой, поэтому он сам легко вылез из ямы. В это время подбежали котёнок, зайчонок, лисёнок и бельчонок. Им трудно было бежать по глубокому снегу, но они всё-таки нашли ребят.
— Пойдёмте с нами встречать Новый год! — пригласил Эрик медвежонка и оленёнка.
— Конечно пойдёмте! — обрадовалась Бьянка.
— Идёмте, идёмте! — закричали все.
Эрик взял на руки оленёнка, Бьянка — всех маленьких зверят, а медвежонок — как большой пошёл впереди.
Олененок и медвежонок быстро согрелись и стали играть около печи с маленькими зверятами.
Свечи оплыли, а часы на стене показывали без десяти минут двенадцать. Вдруг дверь распахнулась и на пороге в снежном вихре показался Дед Мороз. Он был самый настоящий — в синей шубе и шапке, с белой бородой и с мешком за спиной. А рядом была его внучка — Снегурочка в белой шубке и шапочке, из-под которой выбивался завиток каштановых волос.
Все с криками и визгом бросились к Деду Морозу и Снегурочке, и закружились вокруг них в хороводе, напевая:
Дед Мороз к нам пришёл!
Он в пургу нас нашёл!
Скоро будет Новый год,
К нам в избушку он придёт!
Дед Мороз, Дед Мороз,
Он подарки нам принёс!
— Здравствуйте, мои хорошие, — ласково сказал Дед Мороз. — Мы с внучкой пришли с вами встретить Новый год, и действительно принесли вам подарки. Ну ка, Снегурочка, что там есть в нашем мешке?
— Здесь есть белые варежки и носки для зайчика, чтобы у него не мёрзли лапки. Для котёнка — новый голубой бант. Я знаю, он давно его хотел. Для бельчонка — маленькие щипчики, чтобы он мог ими колоть орехи — пока свои зубки не выросли. Для лисёнка — мяч. Для оленёнка у нас есть серебряные рожки. Пусть он быстрее растёт и больше не падает в ямы. Для медвежонка — лыжи.
Бьянка уже большая девочка, но мы знаем, что она очень любит играть в куклы. Поэтому для неё у нас есть вот эта кукла. Она умеет закрывать глаза и говорить «мама».
— Ой, какая хорошенькая! Большое вам спасибо!
А Эрик умный и смелый мальчик, поэтому ему Дед Мороз дарит книгу об отважных людях — путешественниках. Она ему понравится.
Все радостно бросились к Деду Морозу. Всем зверятам хотелось посидеть у него на руках и поблагодарить за подарки. Все радостно смеялись и танцевали вокруг Снегурочки. Всем было очень хорошо. И все совсем забыли про часы, висящие на стене. А они вдруг ожили и стали отбивать удары — один, два, три… И замолчали они только после двенадцатого удара, а это значило, что в избушку пришёл Новый год.
19—20 декабря 1981 г., Москва
Рассказ без названия
А потом они долго молчали. Она лежала на боку, положив голову на руку и смотрела на его профиль. Было очень тихо. Город спал. Только в доме напротив горел свет в двух окнах. Это было приятно. Значит, они не одни в этом мире. На столе в приземистом бронзовом подсвечнике горели две свечи. Ровный тёплый свет заливал комнату. Она улыбалась. До чего же хорошо — ночь, свечи, цветы, и рядом — он.
Она пододвинулась ближе и прижавшись к нему, закрыла глаза. Подумать только, как хорошо может быть от бокала шампанского. И от того, что он рядом. И от свечей. И от воспоминаний…
— Солнышко, как хорошо, что ты меня нашёл. — она помолчала. — И пригласил танцевать. А то мне пришлось бы тебя приглашать самой. Мне это тогда трудно было сделать. Я ведь была такая маленькая и глупая. Как хорошо было танцевать с тобой.
— Я был слегка пьян. Это мне придавало уверенности. Трудно приглашать того, кто тебе нравится. Особенно такую красивую девочку.
— И всё-таки ты подошёл ко мне. А я так обрадовалась, что только стояла и улыбалась. И смотрела на тебя. Ты был такой красивый и взрослый. У тебя уже тогда была лёгкая седина, и от этого ты был ещё красивее.
— А потом мы танцевали и о чём-то разговаривали. Только я не помню о чём.
— Я тоже. Кажется, о лыжах и о зиме. А потом ты меня поцеловал. Это подрывало мои моральные устои. Я очень удивилась, потом возмутилась и тоже поцеловала тебя. А вокруг танцевали пары и до нас никому не было дела. Весёлые там были люди. Особенно твои друзья. Кажется, ты сказал тогда, что вы ходили в баню.
— Да, баня там была отличная. И банщик — большой любитель весёлого общества. За червонец он не только встречал всю нашу компанию поздно вечером, но и притаскивал откуда-то ящик пива. Ну, и мы, конечно, его угощали тем, что было с собой. А после парилки мы выбегали на улицу и валялись в снегу. До чего там был глубокий и пушистый снег! А когда мы с тобой танцевали, ты тоже была мягкая и пушистая, только тёплая. Волосы у тебя пахли какими-то цветами. И грима на тебе не было. Не то, что на твоей подруге.
— Не надо о подруге. Давай лучше вспоминать дальше.
— Про баню?
— Да, и вообще про всё, что было.
— Ладно. Потом мы ныряли в мелкий бассейн с холодной водой, а потом опять шли в парилку. Парилка там была большая и мы умещались в ней все. Сначала мы парились очень сухим паром, и градусник на стене показывал сто двадцать градусов. Двое из нас умели делать массаж, и у них это очень хорошо получалось. Лежишь в парилке, млеешь, а тебе делают массаж. Только под конец мы подпускали побольше пара и парились вениками. Пахло сосновыми досками и разогретыми берёзовыми вениками. А потом мы сидели, завернувшись в простыни, вокруг большого стола, сколоченного из толстых, гладко обструганных досок, пили пиво и ещё что-нибудь, смотрели телевизор, разговаривали. Хорошие там были ребята. Жаль, что всё хорошее не повторяется дважды.
— Мне тоже немного жалко, но я не хочу, чтобы всё это произошло опять. Вдруг что-нибудь повернётся не так, и мы с тобой не встретимся. Я этого не переживу. Ведь ты единственный, кого я искала. Таких больше нет.
— Милый мой кролик. Как приятно это слышать от тебя. Подумать только, мы с тобой знакомы уже сто месяцев! Как ты думаешь, это мало ли много?
— Думаю, что мало. Но и много тоже. Во всяком случае — другого я не хочу. После встречи с тобой я продолжала встречаться со своими прежними знакомыми. Но они вдруг стали мне неинтересны. С ними и раньше было не особенно весело, но я тогда не знала, как хорошо может быть с тем, кого любишь. И знаешь, иногда я боялась, что так никогда и не узнаю. Милый мой.
Она потёрлась щекой о его подбородок и положила голову ему на плечо.
— Колючий. Но это только снаружи. А внутри ты не такой. Внутри ты такой, какой бываешь, когда побреешься — мягкий-мягкий. И очень любимый. Знаешь, я люблю тебя ещё сильнее, чем в те первые дни. А может, это называется как-то иначе. Но мне бывает очень плохо, когда ты уезжаешь. Не уезжай больше. Ладно?
— Ладно. Сейчас я никуда не поеду. Мышонку надо немного подрасти. А потом мы уедем вместе. Куда-нибудь.
— А куда?
— Не знаю. Но там не надо будет каждый день ходить на службу. Это я знаю точно. И там можно будет делать то, что любишь больше всего, а не растрачивать жизнь в мелкой суете. Знаешь, я иногда чувствую, как между пальцами утекает время. Как песок в часах. И становится страшно. Тогда я говорю себе, что ещё немного, и этот неприятный период закончится. Кажется, он уже закончился.
— И что мы теперь будем делать?
— А что бы ты хотела?
— Не знаю. Но я хочу всегда быть с тобой. Ладно?
— Ладно. И мы вместе будем ездить, смотреть, думать, читать и писать.
— А у нас денег хватит?
— Пока хватит. А потом, может быть, меня будут чаще публиковать. Или придумаем что-нибудь другое. Мы же с тобой многое умеем. Для счастливой жизни надо не так уж много. Люди по своей слабости склонны преувеличивать сложности жизни. Взвалят на себя непосильный груз забот и стонут всю жизнь.
— А мы с тобой так делать не будем?
— Не будем.
— А помнишь, как мы с тобой целовались в тот вечер?
— Да, помню.
— Мы упали в сугроб и не смогли встать. Мне сначала казалось, что рушатся все мои моральные устои. А потом я перестала об этом думать. Было так хорошо. Я вдруг поняла, что ты — мой принц. А помнишь, что ты сказал мне?
— Наверное, что ты самая лучшая девчонка в мире.
— Ты закрыл глаза и сказал: боже мой, неужели я нашёл тебя. Это ты сказал не мне, а себе. Я это поняла сразу. Но сделала вид, что не поняла. И очень обрадовалась. Я боялась, что могу тебе не понравится. Что бы я тогда делала без своей второй половинки?
— Ты не могла мне не понравиться. Я увидел тебя и сразу догадался, чем это может закончиться.
— В поезде?
— Нет, позднее. В поезде на тебе была твоя глупая розовая шапка. Я посмотрел на неё и больше уже не смотрел в вашу сторону. Зато потом…
— Когда?
— В столовой. Я чувствовал, что кто-то на меня смотрит. Повернулся, и увидел твои глаза. Ты их не опустила. Смотрела на меня и улыбалась. Хочешь шампанского?
— Нет.
— Жалко оставлять. Оно выдохнется.
— Выпей.
— Ты, моя радость.
Пузырьки в бокале рванулись вверх и разом лопнули. Только несколько штук остались на стенках.
— За нас, — сказал он и посмотрел на неё сквозь бокал. Но ничего не увидел. Отвёл бокал от глаз. Она лежала на животе и лукаво смотрела на него одним глазом. Она была удивительно хорошо сложена. А её длинные ноги могли хоть кого свести с ума. Он погладил её, чувствуя под ладонью все изгибы тела, и выпил согревшееся шампанское…
А потом он опять лежал молча, и отодвинувшись — смотрел на неё.
— Знаешь, ты самый лучший котёнок на свете.
— Да.
— Мне тоже без тебя бывает плохо. И не только поэтому. Ты славная. Помнишь, как мы с тобой первый раз ходили на лыжах?
— Я встала рано. Ты ещё спал. Я сидела около кровати и смотрела на тебя. Ты был такой… Как хорошо, что это был ты. А потом я ушла и не знала, что мне теперь делать. Всё слишком быстро переменилось. Я не могла разобраться в своих чувствах. После завтрака ты пришёл и предложил сходить на лыжах.
— А твоя подруга сориентировалась быстрее тебя. Пришлось ей сказать, что с ней хочет пойти на лыжах мой сосед по комнате. Самое смешное, что у них обоих не было лыж. Хотя у них, кажется, и без лыж всё получилось.
— Ненадолго.
— Долго это может продолжаться только у нас с тобой. Ну, ещё у некоторых. Но не у всех же!
— Какой белый и пушистый был лес после ночного снегопада! Ты прокладывал лыжню под елями и проваливался по колено. Я шла сзади и смотрела на тебя. А потом, вдруг, появилось солнце. Это была сказка. Моя первая сказка наяву. И её мне подарил ты. А потом — ещё…
— Мне нравится первым протаптывать лыжню. Смотришь на заснеженный лес, которого ещё никто не видел, стряхиваешь снег с ёлок, и они радостно машу лапами, освободившись от груза. Деревья трещат от холода или от тяжести снега. А воздух чистый и холодный, прямо сам вливается в тебя. Это потому, что работа тяжёлая и дышится от этого глубоко и ровно. И согреваешься быстро. Лучше всего прокладывать лыжню в сумерках или во время снегопада. Тогда всё вокруг кажется нереальным, и такое чувство, что кроме этого леса в мире больше ничего нет. А потом выходишь к избе, и в ней топится печь. И друзья шумят, готовя ужин. У кого-нибудь в рюкзаке обязательно найдётся фляга. Здорово ужинать в избе — в зимнем лесу, возле печи, в которой трещат сухие поленья. И немножко выпить тоже хорошо. Но солнечное утро мне тоже очень нравится. Только тогда лыжня получается какая-то непонятная. И тот, кто пойдёт по ней после — будет удивляться. Она петляет, пробирается под наклонившимися деревьями и перепрыгивает через упавшие. Несерьёзная лыжня.
— У нас с тобой в тот раз такая и получилось. А я шла за тобой и не замечала этого, пока не пришлось перелазить через упавшее дерево. Оно лежало на сучьях и под ним нельзя было пролезть. Ты мне помог перебраться через него. А потом поцеловал.
— У тебя губы были мягкие и холодные. От них так трудно было оторваться.
— Поцелуй меня. Милый, как хорошо с тобой. Я так скучала без тебя. Даже нет, не скучала. Это называется как-то иначе. Мне просто было плохо. Ничего не хотелось. Только чтобы ты скорее вернулся. Тебе там понравилось?
— Очень. Я тоже скучал без тебя. Хорошо, что всё закончилось. У нас теперь есть свой дом, мышонок, да ещё и деньги. Мы соскучились друг без друга. У нас опять всё будет хорошо. Я там кое-что написал про прошлую жизнь. И очерки о поездке, о впечатлениях тоже есть. Может быть их опубликуют. Я вообще там много думал. О жизни. И о нас с тобой. Всё складывается хорошо. Очень вовремя и как надо.
— А тогда, сто месяцев назад, я очень боялась, что всё так и закончится ничем. Что ты мне не позвонишь. Когда я уезжала, мне было очень грустно. Ты стоял на крыльце и так смотрел на меня, что я перестала бояться. И всё равно я еле пережила те дни, что тебя не было. А потом ты приехал, позвонил и всё опять стало хорошо. Ты мне ещё во время первого танца сказал, что летом тебя заберут в армию. Это чтобы я знала, на что иду? Но ведь лето было так далеко, а ты так близко… И всё равно мне было очень грустно, когда тебя забрали. Я не знала, чем всё это кончится. И ничего не пообещала тебе. Оставшись с прежними знакомыми и с привычными заботами, но одна — я поняла, что ты значил для меня. Я долго терпела, пыталась справиться. Тем более, что подруга мне предлагала варианты один за другим. Я поняла, что никто кроме тебя мне не нужен. И написала то письмо.
— И всё закончилось на удивление благополучно.
— Не шути этим. Я правда очень-очень счастливая. Знаешь, мне кажется больше ничего не надо. У меня всё есть — дом, мышонок, и ты — такой, как есть. Мне всё равно — где быть и чем заниматься. Только бы с тобой…
Свечи почти догорели. Пламя высоко взбегало по нагоревшим фитилям и яркими нервными бликами разлеталось по комнате. Свет в окнах дома напротив погас. Все спали. Только они лежали прижавшись друг к другу, с открытыми глазами. А рядом, за шторой, в маленькой кроватке тихо посапывал их мышонок.
8 и 10 января 1987 г., Южный океан, побережье Антарктиды,
68º 18’ю. ш. 34º 24» в. д.
Чёрт знает, зачем мы туда поехали
Чёрт знает, зачем мы поехали. Хотя, тогда было не до споров. Сказали — надо, вам заплатят. А кто и сколько — забыли объяснить. Но они-то уж были уверены, что мы не откажемся. Им никогда не отказывали в их крошечных просьбах. В этот раз просьба тоже была пустяковая — помочь дружественному соседу стать цивилизованным. Но у меня всё чаще появлялось сомнение — а хочет ли он этого. Хотя, может быть там просто иначе понимают цивилизованность.
Короче, мы поехали, и уже месяц никак не могли добраться до той стройки. Они там, в долине, должны были начать работу. Сперва собирались возвести гидростанцию. И не какую-нибудь там пустяковую, а о-го-го — сто двадцать метров высотой. Ну, и мы поехали поучаствовать в этом деле. Плохо ведь жить в диких краях, да ещё и без электричества. Без него здесь никуда. Кондишн нужен, обогрев зимой — тоже нужен. Ну, и всё остальное не помешает — музыка, телевизор. А для этого нужна электростанция. Угля и нефти здесь нет, с ураном тоже, говорят, туговато. Зато есть река. А рядом — экономический и промышленный гигант — мы, значит. И очень хотим помочь. Многим помогали, а этим соседям — ещё нет. Как же так!
Пока грузовик взбирался на перевал, нас здорово растрясло. Ехали в кузове, на бетонной крошке. Шеф не довёз плиты до места — разгрузился где-то по дороге. В смысле — продал, и поехал за новыми. Конечно, это плохо. Но для нас хорошо. На плитах он бы нас не повёз. А так подобрал. Вот мы и тряслись в кузове, думая о тех великих свершениях, которые нам предстоят. Потом думать почти перестали — стало очень жарко. Да ещё грузовик в разреженном воздухе высокогорья начал реветь как самолёт на старте. Если он взлетит, то сесть мы скорее всего не сможем. А парашютов у водителя, наверное, нет.
Грустим, но держимся бодро. Расслабиться не получается — сразу начинает бросать от борта к борту. Справа — обрыв, слева — стена. По этой дороге, наверное, на осликах ездят — даже ограждения не сделали. А может быть помощников ждали?
Вдруг грузовик взревел, заглох и начал двигаться не как всегда — вперёд, к намеченной цели, а назад — к обрыву. Потом дёрнулся и ударился бортом об каменную стену. Мы как могли быстро выпрыгнули из кузова и столпились у кабины. Водитель спал, рухнув головой на руль, а наш старший сидел, одной рукой вцепившись в руль, а другой пытался открыть дверцу. Мы, конечно, поблагодарили его за то, что он спас народное добро, да и нас — представителей этого самого народа. Но после этого захотелось присесть и выпить чего-нибудь холодного. Слишком уж было жарко.
Старший разбудил шофёра и сказал, что неподалёку должна быть чайхана — на карте в этом месте стоял ярко-жёлтый значок. Нам не хотелось в чайхану — или отравят, или обчистят. Но спорить не стали. Что-то не верилось, что на этой дороге может быть нечто подобное. Скорее всего это была старая карта, которая составлялась ещё до изгнания султана из страны. Конечно, сам султан чайханы не содержал, но вроде бы благосклонно относился к тем, кто этим занимался. Потом была стрельба, все разбежались. Сейчас опять стало спокойно, но уж очень много осталось кремневых ружей у населения.
Грузовик пополз дальше. Ревел он также, но ехал медленнее. Ничего удивительного — водители тоже любят жизнь. А мы были готовы в любую секунду продолжить упражнения по выпрыгиванию из кузова.
Скорее всего мы проехали бы мимо — слишком мало это сооружение напоминало место, где можно отдохнуть. Прежде нам вообще не попадалось строений, а тут худо-бедно всё-таки дом. Хотя и без крыши. Хотя и с дырой вместо окна. Хотя… ну, да ладно. Зато вход был завешен замечательным клетчатым пледом, заменявшая окно дыра оказалась застеклённой, да и крыша у дома всё-таки была. Только какая-то странная. Вроде бы и нету её, а с другой стороны — что-то блестит. Слюда, что ли? Только откуда она здесь?
Грузовик въехал в низкую арку, сложенную из дикого камня. Во дворе стояло нечто, напоминавшее развалины минарета. Или сторожевую башню. Башенка, правда, совсем небольшая, но сложена также из дикого камня. Дыра вместо входа, и тишина. После того, как грузовик замолчал, стало совсем тихо.
Старший знал, как себя вести в этой стране — не первую группу помощничков сопровождал от границы до стройки. Но в этом заведении он, похоже, ещё не бывал. Поднял угол пледа, присел, чтобы протиснуться в узкий вход — и замер. Голова там, а всё остальное осталось на улице. Словно на стену наткнулся. Кто-то из наших хихикнул, но получилось это как-то нервно.
Что старший ожидал там увидеть — не знаю. Мы это обсуждать не стали. А я думал увидеть за занавесом грязную кошму, погасший очаг с закопчённым казаном и кучу немытых детей. Примерно так описывали наши газеты эту страну. До сих пор ничего подобного нам не встречалось, но здесь-то в горах обязательно должно быть именно так.
Можно попытаться представить наши лица, которые, кстати, ничем не отличались от лица нашего старшего, когда мы вошли внутрь. Первым бросился в глаза большой красный холодильник. На полу, действительно, лежала кошма, но была она почему-то белого цвета. Совершенно белая кошма в развалинах хижины под перевалом. Эти два цвета — красный и белый так подействовали на наше зрение, что мы не сразу заметили стоящий на кошме телевизор. Стоит ли говорить, что он был подключен к видеомагнитофону и тихонько мурлыкал какой-то музыкальной программой. Вдоль стен стояла ещё какая-то техника совершенно непонятного назначения. Она мигала красными и зелёными огоньками и блестела в рассеянном свете, который пробивался сверху — сквозь стеклянный потолок. Мы слышали, что японская промышленность производит немало всяких интересных штучек, но мало что видели своими глазами в своей стране — большом, благополучном и счастливом государстве, как писали в наших газетах. Только как всё это попало сюда?! Именно этот вопрос был написан на пыльных и небритых лицах моих спутников, ехавших строить светлое будущее для отсталой дружеской страны.
Подумав, что всё это у нас от жары, я собрался выбираться наружу. Слишком уж дикой была галлюцинация. В довершение всего в этой хижине было прохладно. Конечно, после жары нам в любой тени показалось бы прохладно, но у меня появилась нелепая мысль о бесшумно работающем кондиционере.
В это время из-за ширмы вышел старик. На нём был халат из какой-то грубой ткани, на голове — белая чалма. Белая борода, белая чалма, загорелое лицо и глаза… странные глаза. Вроде бы насмешливые. Он был босой, а в руке держал удивительно знакомое приспособление. Где-то я его видел. Кажется, в кино. Да это шейкер! Тот самый, с помощью которого в фильмах о красивой жизни делают коктейли.
Старик заговорил, но увидев, что мы его не понимаем, объяснил жестами — нам надо разуться и присесть на кошму. Затем он показал на шейкер, но мы только обалдело покрутили головами. Тогда он открыл дверцу своего красного монстра и вытащил из него аккуратно упакованную коробку с алюминиевыми баночками. На них была знакомая даже нам, жителям великой страны, этикетка кока-колы. В другой коробке были банки побольше, с оранжевыми этикетками. В третьей — с синими. Мы показывали жестами, что у нас нет денег, но старик чётко произнёс только одно слово — «дар»…
А потом мы забрались в кузов пыльной машины, и поудобнее уселись на бетонной крошке. Внизу, в долине нас ждало большое и важное дело. Мы приехали сюда не на белой кошме рассиживаться перед телевизором, а работать. Строить гидроэлектростанцию для слаборазвитой соседней страны. Хотя, было интересно — откуда старик получает электричество. Я привстал в кузове, и всё понял — вместо крыши над домом блестели ряды панелей солнечных элементов, а в стороне стоял небольшой ветряк. Он бездействовал, но зимой здесь, наверное, дует сильный ветер.
Грузовик надрывно взревел и покачиваясь, выбрался из ограды. Старик стоял на крыльце. Он смотрел на нас, и глаза его… Чёрт возьми, да не смеялся ли он над нами?!
22—24 августа 1988 г., Москва
Правила игры
Закрутив последнюю гайку, он сбил резьбу с выступающей части винтов. Ставить ограды теперь не разрешали, поэтому надо было заплатить сторожу, чтобы тот не заметил нарушения. Но на это не хватило денег. Поэтому надо было всё сделать так, чтобы разобрать или украсть её было трудно. Сторож видел, как он носил решётки, но ничего не сказал. Даже дал свою лопату — короткую и острую, на конце черенка у неё была поперечина как у хорошего весла. Сторож знал толк в этих вещах — работать ею было очень удобно. Предназначена эта лопата была для другого, но сейчас это не имело значения.
Закончив с этим, он разрезал сверху полиэтиленовый мешок с цементом, и добавив в цемент вытащенного из ямы песка, долго перемешивал. Воду пришлось носить в стеклянной банке, которую он подобрал у соседней ограды. Недавно прошли дожди, и канава возле дороги оказалась до краёв наполненной водой. Вода была по-осеннему чёрной, и на её поверхности лежали жёлто-коричневые листья берёз. Но он не замечал ни холода воды, ни листьев, ни отражений берёз, ни серого, опрокинутого неба. Сейчас нужна просто вода, чтобы скорее закончить дело.
Раствор стал похожим на плохую халву. Он вылил его в подготовленные ямки, в которые упирались столбики ограды, набросав перед этим в них камней. Камни пришлось собирать возле дороги и по несколько штук приносить их сюда. Причём одну яму пришлось расширить — собранная ограда оказалась больше, чем это выглядело сначала. Она упиралась и не хотела становиться на место, цепляясь за куст сирени. Наверное, в начале лета здесь должно быть красиво, когда куст одевается зеленью и чуть клонится под тяжестью цветочных гроздей. Но сейчас голые прутья хватались за переплетения решётки, а сорвавшись, больно били по замёрзшим рукам.
Когда всё было готово, он забросал ямы землёй и плотно утрамбовал их каблуком сапога. Ну, кажется всё нормально. Если два дня простоит, то цемент затвердеет и своротить её будет почти невозможно. Хотя, кому она нужна. Простоит сколько надо. Вряд ли кто-нибудь станет возиться и разбирать её. Как там говорится? Дело сделано, сказал слепой. Кажется, так…
Воткнув лопату в землю, он ещё раз сходил к канаве с дождевой водой и вымыл руки. Только теперь стала заметна осень, разбросавшая между могил новенькие пятаки осенних листьев. Чёрная вода была неподвижной, а деревья в сумерках казались нарисованными акварелью на старой серой бумаге. Вечер только начинался. Был пасмурно и очень тихо. Он вытер лицо рукавом клетчатой рубахи и, накинув на плечи куртку, присел на лавку возле соседней могилы. И сразу стали видны наклонившиеся кресты с полустёртыми временем надписями, кружево оград и веток. От этого начала кружиться голова, и чтобы успокоится он закрыл глаза.
День пробежал в памяти чередой нервных событий. Вроде бы ничего особенного не было, но из-за постоянного напряжённого ожидания, что вот-вот где-то сорвётся, он очень устал. Только сейчас почувствовал это. Хорошо, что всё сделано. Оказывается, его давно давила мысль, что когда-то это придётся делать. Да ещё разговоры, упрёки. Ладно, проехали.
Он сунул руку в сумку и наощупь нашёл небольшую металлическую флягу, скользко блестевшую полированной нержавейкой и слегка синеватую на швах. Где-то там должен быть и стаканчик. Водка обожгла горло и грудь неожиданным холодком. Несколько минут он смотрел на осыпающиеся берёзы. Напряжение постепенно уходило, и день уже не казался таким скверным. Всё сделано как надо. А что касается этого… Что ж, ему приходилось видеть, как люди спиваются. Но все они были из тех, для кого такие понятия как работа, дисциплина, долг, самолюбие значили очень мало. С такими людьми было неприятно общаться. Именно из-за них у окружающих вырабатывалось представление о спиртном как об опасной отраве. При этом почему-то забывают, что любое лекарство является лекарством лишь в малом количестве, а при большой дозе превращается в яд — будь то снотворное или крепкий кофе. Просто надо всегда оставаться человеком.
И вдруг стало ясно, что все неприятности этого дня — пустяк. Сделал дело, которое обещал. Вот и всё. Надо уметь видеть хорошее в каждом прожитом дне.
Как тихо здесь. Даже листья падают бесшумно, точно во сне. Осень крадётся по земле, а вечер помогает ей прятать следы. Осень во всём мире. Нет. Весь мир в осени. Такое уже было где-то. Только когда и где? Ах, да!
Букетик маленький
Фиалок синих
Положен в Таллине
От всей России
На той могиле
Без обелиска
Где дуб и клены
Склонились низко
В поклоне легком
Перед поэтом
И даже осень
Звенит сонетом.
Какая маленькая плита отмечает там могилу поэта. А рядом торчат гигантские надгробия служителей культа, ответственных совработников и военных. Хотя, величие духа редко соответствует размерам надгробия. Или наоборот. Некоторые из тех людей, с которыми он иногда мысленно советовался, вообще не имели могил. Они жили не в камне, а в памяти. Это приучало думать о смерти не как о катастрофе, а как о логичном конце честно потрудившегося в жизни человека.
Ещё раз наполнив до половины стаканчик, он выпил и медленно пошёл между могил. Большинство из них огорожены решётками, хотя теперь всё чаще появляются низенькие цементные валики. Они обозначают границы владения тех, кто лежит под заросшими холмиками. Здесь опавших листьев было больше. Они лежали на могилах, на стоящих рядом лавочках и столиках, плавали в наполненных дождями стаканах. От этого становилось немного грустно. А может и не от этого. Просто была осень — самое лучшее время.
Интересно, кому нужны все эти обряды и ритуалы, связанные с завершением земной жизни? Уж, конечно, не тем, кто здесь лежит. Их меньше всего волнует происходящее, а долговечность памяти, как очевидно, весьма эфемерная вещь. Все эти покосившиеся кресты, погасшие лампады, забытые стаканы, накрошенный для птиц хлеб, лавочки, полинявшие венки, надгробия, аккуратные веники из берёзовых веток — нужны тем, кто сюда приходят. Всё это даёт мыслям определённый ход, и вовсе не обязательно траурный. Скорее созерцательно-задумчивый. Слишком редко в потоке дней встречается остров, на который можно выбраться и присев на его песок, спросить: зачем?
В одном месте за оградой могилы работала пожилая женщина. Она нагибалась, потом тяжело распрямлялась и бросала листья и ветки в кучу за оградой. Когда он проходил мимо, она спокойно поздоровалась и продолжала заниматься своим делом. Когда он обернулся, женщина сидела на лавочке возле могилы и смотрела поверх оград туда, где на фоне неба переплетались стволы и ветки берёз. Наверное, ей хотелось, чтобы потом кто-нибудь так же приходил убрать её могилу и посидеть никуда не торопясь, подумать, посоветоваться о своих делах. Если иногда не останавливаться и не спрашивать себя: куда? или зачем? — жизнь начинает походить на бег в темноте. Что-то мелькает вокруг, но где взять время, чтобы остановится и рассмотреть внимательнее своих спутников и свою дорогу. Вдруг в спешке произошла ошибка. А в конце одно и то же. Кажется, надо успеть побольше, а не успеваешь ничего. Пожалуй, спокойнее всего живут глупцы и мудрецы. Первым ни до чего нет дела, а вторые покуривают кальян, попивают что-то из маленьких чашечек, смотрят на жизнь и думают. И молчат.
Чужой мудростью не наполнишь пустую голову — сказал тогда хранитель города мертвых. И добавил после долгой затяжки — плохие люди на кладбище не ходят. Может быть, курить ему не полагалось, но бог много дней был для него единственным собеседником. Вероятно, они стали друзьями, а друзьям прощают их слабости.
То был огромный город мёртвых, вокруг которого лежала пустыня. И единственный, кто оживлял его, был старик-хранитель то ли сторож, то ли мулла. От каменных надгробий поднимался горячий воздух. Они остывали после дневного зноя, а звёзды дрожали и перемигивались на темнеющем небе. К ним обращал старик свои молитвы и с ними делился раздумьями. А ещё там дул ветер. Непрерывно, день и ночь он выл и плакал среди надгробий. Кто-то очень давно придумал оставлять в надгробных плитах отверстия, и ветер свистел в них на одной унылой ноте. Каждая плита звучала по-своему. Это сделали много столетий назад, но даже сейчас становится тоскливо от этих звуков. Старик в одиночестве терпел эту пытку. Наверное, он привык. Хотя казалось странным, что прежде он не сошёл с ума.
Они сидели около мечети и смотрели на звёзды. Старик перебирал чётки и неторопливо плёл нить рассказа. Казалось, что слушатели ему не нужны и он так же сидел и беседовал в одиночестве. Может, с собой, а может — с богом. Город мёртвых стоял среди песков как прибежище для тех, кому наскучила суета жизни, кому пришло время обдумать и решить — как жить дальше. Такой человек мог остаться в келье возле мечети и проводить дни в раздумьях и беседах с богом или со стариком, который представлял его на земле. Его неторопливые и задумчивые слова гипнотизировали собеседника, а точнее — слушателя. Хотелось тоже начать перебирать чётки и, закрыв глаза, ещё и ещё слушать речи мудрого отшельника. Старик говорил о жизни и о смерти спокойно, будто излагал правила хорошо ему известной игры. И об умерших он говорил без сожаления, как говорят о живущих где-то далеко родственниках…
Темнело. Надо было возвращаться и идти на автобус, который останавливался возле поворота на кладбище. Он собирал мусор, убирал инструмент и старался не смотреть на кусок земли, оставшийся в ограде рядом с могилой. Он знал, для кого осталось это место. Какая же должна быть у человека жизнь, если он так заранее присматривает себе местечко на кладбище… Не найдя радости в жизни, этот человек слишком рано засобирался в путь. И виноват в этом… чёрт знает, кто в этом виноват. Не всегда надо называть вещи своими именами, даже если они тебе известны. Кто-то даже сказал, что высказанная мысль есть ложь. Но это уж он перехватил.
Красивая фотография на белой эмали вмонтирована в памятник. Лицо сравнительно молодой женщины в овале. Такие фотографии делали лет сорок назад. Или пятьдесят. Сколько всего изменилось за это время. Женщина успела состариться, и в памяти она осталась такой, какой была в последние годы. А жаль.
Он вспомнил другое кладбище. Оно находится довольно высоко в горах и к нему надо подниматься по дороге через засыпанный снегом лес, под огромными пихтами, с которых свешиваются лохматые занавеси из мхов. Стволы у деревьев ярко-зелёные от живущих в коре то ли водорослей, то ли лишайников. Выглядит это очень красиво на фоне белого снега, синего неба и блестящих на солнце вершин. От дороги туда сворачивает протоптанная в снегу тропа. Уже весна, и снег вокруг камней обтаял на солнце так, что стали видны фотографии на них, скрещенные ледорубы и годы жизни. Они успели лишь слегка прикоснуться к этой жизни и сразу ушли из неё. Хотя, в горах особая мера. С их высоты можно увидеть и понять то, чего на равнине — как ни тянись — не увидишь. Те, кто это понял, снова и снова приезжают в горы, а иногда остаются в них навсегда. Тогда приезжают другие. Не потому, что верят в собственную неуязвимость, а потому, что считают жизнь средством, а не целью…
Пройдя между могил, он вышел на дорогу и пошёл по скользкой глине, опираясь на лопату и закинув на плечо сумку. Сторожа в домике не было. Ворота уже закрыты. Значит, всё закончилось. Он сунул лопату под крыльцо, перелез через забор и пошёл по вечерней дороге навстречу бегущим огням машин.
28 февраля 1987 г., Антарктика, море Содружества, НПС «Фиолент»
Глава 2. Стёртое из памяти
Как только подрастает поколение, забывшее войну — она повторяется…
Последний сбор металлолома пионерами средней школы №92 в сентябре 1970 года
Тёплый осенний день. Солнечно. Мы, четвероклашки, бежим вниз по широкой школьной лестнице. Она кажется особенно широкой по сравнению с лестницами в пяти- и девятиэтажках, в которых мы живем. На тех лестницах два человека разойтись не могут. А здесь — хоть впятером!
Утром наша школа собирала металлолом. По дороге из дома на уроки каждый из нас внимательным взглядом юного разведчика шарил по округе, высматривая железяки покрупнее. Рядом со школой — забор очень большого и очень секретного военного предприятия. Видимо поэтому всяких железок вокруг валялось множество. Родители запрещали нам приносить домой найденные на улице металлические предметы — особенно если они были блестящими. Слова «нержавейка» мы тогда не знали, зато знали, что эти блестящие железяки отчего-то опасны. Посуда и ложки-вилки в домах были преимущественно из «крылатого металла» — алюминия. Его везде было завались, поэтому он не интересовал ни нас, ни наших учителей — которые также соревновались между собой — чей класс насобирает больше металлолома. Учителя нам говорили, что таким образом мы помогаем родине (с большой буквы Р). Блестящая нержавейка попадалась редко, поэтому приходилось довольствоваться ржавыми кривыми обрезками каких-то неведомых конструкций.
Не всё из найденного по пути в школу один десятилетний школьник мог дотащить своими силами. А после звонка на первый урок пришлось вообще остановить охоту и отправиться получать знания. Самые младшие классы в сборе железа не участвовали, поэтому наши четвертые классы, стаскивающие металл в одну «общую кучу четвертых классов» — как сказала старшая пионервожатая нашей школы, оказались в положении «бесполезной мелюзги» — как сказал главный хулиган нашей школы, куривший рядом за углом. В результате наша куча ржавого железа оказалась самой невыразительной из возвышавшихся на школьном дворе металлических завалов. Зато восьмые классы особенно постарались — гора железа с нарисованной мелом восьмеркой на огромной металлической двери от трансформаторной будки торчала на площадке перед школой как пик Коммунизма в окружении всяких трех- и пятитысячников (с географией у меня всё было в порядке).
Десятиклассники, у которых на отворотах серых школьных пиджаков блестели комсомольские значки, старались руководить процессами, справедливо полагая, что на правах старших товарищей потом смогут натаскать металл из соседних куч в свою. На них равнялись девятиклассники, у которых комсомольских значков ещё не было, но пионерские галстуки носить уже вроде как не полагалось. Впрочем, как и собирать металлолом. Да и вообще — участвовать в делах школы было ниже достоинства нормального девятиклассника. Так что они тоже добивались успехов в сборе металлолома за счёт младших товарищей.
В результате всех этих процессов перераспределения, когда мы смотрели из окна нашего класса на школьный двор — сравнивая достижения, то с негодованием видели четверку, написана мелом на асфальте, а не на дырявом ведре, которое властной рукой было перекинуто в соседнюю кучу. Это также не понравилось нашей «классной». Поощрять разграбление нами соседних куч на виду у всех она не могла, а вот отпустить нас с продлёнки, чтобы вместо приготовления уроков позаниматься нужным школе и родине (с большой буквы Р) делом она могла.
Так вот, мы — четвероклашки, бежим вниз по широкой школьной лестнице. Выбегаем на школьный двор и направляемся к воротам соседнего очень секретного предприятия. Эти ворота в высоком сером заборе, с колючей проволокой в несколько рядов, появились задолго до того, как была построена наша школа и высокий длинный дом, гуманно отгораживающий школу от территории секретного предприятия. Говорят, на нём делают что-то такое, что может плохо подействовать на наше здоровье. Так что это «что-то» пусть пока действует на здоровье жителей длинного дома.
Ворота почти всегда закрыты. Но иногда по дороге из школы мы видим их немного приоткрытыми и оттуда торчат несколько голов в солдатских ушанках. Это сторойбатовцы в грязно-зелёных драных армейских ватниках. То, что это стройбатовцы, мы узнаём по эмблемам с солдатских погонов и петлиц, которые они горстями кидают нам. Похоже, у них на секретном предприятии эти эмблемы делают в любом количестве. Мы начинаем их подбирать, и это даёт повод бойцам строительного фронта начать разговор. Интересует их всегда одно и тоже — есть ли у нас сёстры и можем ли мы их привести познакомиться. У меня сёстры есть, но они живут в других городах, поэтому привести их я не могу. Так что строительных эмблем у меня мало. У моих приятелей сестёр тоже нет — в то время два ребенка в семье московской интеллигенции было редкостью. Но это демографическое обстоятельство не мешает им обещать невозможное. Так что у моих приятелей этих самых эмблем полно, и они ими охотно меняются.
Сегодня утром ворота были приоткрыты, но головы стройбатовцев оттуда почему-то не торчали. Такое вообще-то бывает, но очень редко. Один из нас, высматривая — где бы утянуть кусок металла побольше, заглянул в щель. Оказалось, что за этими воротами просто гора разного железа — трубы, листы, обрезки — просто завались. И ржавые, и блестящие! Сейчас мы бежим туда. Вдруг ворота всё ещё открыты.
Ворота приоткрыты. Бойцов стройбата нет. Гора железа лежит на месте. Нас много и в несколько заходов мы перетаскиваем железо на школьный двор. Все таскают, а трое сторожат, чтобы наша добыча не расхищалась старшеклассниками. Все в азарте, всем хочется участвовать в набеге, поэтому сторожить приходится по очереди. Теперь нам не стыдно за свой четвертый класс — наша куча самая высокая. Только чего это к нам бежит лысый дядька, который вроде бы гонится за последними участниками нашего сбора металла. Он что-то кричит. Странно, чего это он — мы же стараемся для родины (с большой буквы Р). Участники сбора железа отступают к школе, где их уже встречает все руководство в полном составе — директор, два завуча, физрук, военрук и старшая пионервожатая. Давненько мы не видели их всех вместе. Все они выглядят недовольными и даже встревоженными. Кажется, им откуда-то позвонили и что-то сказали.
Следом за лысым дядькой прибежали ещё люди с приборами, которыми они стали тыкать в нашу кучу металла, а потом в соседние. Гражданская оборона у нас начиналась со второго класса, поэтому как работает прибор радиационной химразведки мы знали. По гражданской обороне у всех нас были пятёрки. Приборы трещали и это сильно огорчило взрослых, но порадовало нас — наконец-то мы увидели на практике, как они работают. Для этого врагам нашей родины (с большой буквы Р) даже не пришлось сбрасывать бомбу на нашу школу — за них всё сделали дядьки с соседнего очень секретного предприятия.
Нас загнали в школу и заставили несколько раз помыть руки с мылом, а из-за забора пригнали толпу стройбатовцев, которые быстренько вернули весь металл обратно. И тот, что притащили мы, и тот, что был утром собран другими классами. Нас даже не наказали. Мы поняли — и наше школьное начальство и дядьки из-за забора не хотели, чтобы ещё кто-то узнал о наших успехах в деле сбора металлолома для родины (с большой буквы Р).
Больше наша школа никогда не участвовала в сборе металлолома. Нас перевели на усиленный сбор макулатуры. Как-нибудь я расскажу — как наша школа в последний раз собирала макулатуру…
31 октября 2017 г., Москва
Ёлка Постышева
Среди фотографий моей матушки Регины Семёновны и её сестрицы Розалии Семёновны нашлось много черных конвертов из-под фотобумаги разного размера, в которых хранились фотографии первой четверти их земного бытия — преимущественно до момента окончания ЛГУ. Ну, может быть, ещё немного — первых лет взрослой жизни.
Один из самых толстых конвертов был заполнен фотографиями, которые после их идентификации были отнесены к началу января 1936 года. Сперва показалось, что их очень много. Но после того, как были отбракованы некачественные повторы, оказалось, что этих фотографий всего одиннадцать штук. Это всё равно много, учитывая, сколько стоила в 1935 году фотобумага, как сложно в Омске было раздобыть проявитель-закрепитель и сколь мало в этом городе было фотоаппаратов. Судя по подписям, можно понять, что фотографии имели для семьи историческую ценность — их потом рассылали родственникам.

На фотографиях можно видеть двух девочек 4 и 6 лет возле наряженной ёлки, их строгого папу в полувоенном френче без знаков отличия, их маму с усталым лицом в тёмном платье с ярко-белым на этом фоне полужабо, и ещё совсем юного — лет двадцати — двоюродного брата девочек, Петю, в парадной форме советского военного лётчика.

Фотографии помечены 5 января 1936 г.
Никаких иных новогодних фотографий из детства моих родителей в семье нет.
Как товарищ Постышев подарил советским детям новогоднюю ёлку, а потом встретился с Дедом Морозом
Все совпадения с реальными событиями случайны.
Имена действующих лиц вымышлены.
Сказка является новогодней шуткой…
А дело было так…
27 декабря 1935 года по предновогодней Москве в автомобиле ехали четыре человека. Один из них, которого в шутку называли товарищем Постышевым, предложил другому, которого так же в шутку звали товарищем Сталиным, вернуть людям рождественскую ёлку. Дескать, «перегибы левых загибал» привели к тому, что новогодняя ёлка воспринимается руководителями на местах как буржуазный пережиток. А детям, да и их родителям хорошо бы праздник устроить.
— Хорошо, — говорит тот, кого в шутку называли товарищем Сталиным, — возьмите на себя инициативу, выступите в печати, а мы — поддержим…

Время было обычное, советское. Жить становилось лучше и веселее. В деревнях от голода умирали счастливые крестьяне — те, которых раскулачили в 1929—1935 годах, разорив и отобрав их дома и хозяйства. В городах работали по 10 часов с одним выходным вечно голодные и постоянно нетрезвые счастливые рабочие. Природные богатства страны из вечной мерзлоты добывали счастливые враги народа, замерзшие трупы которых складывали штабелями в снег другие враги народа, которых врагами признали недавно и поэтому они ещё надеялись, что товарищ Сталин во всём разберётся. В общем, ожидание праздника просто висело в воздухе. Всем хотелось веселиться и плясать возле новогодней ёлки.
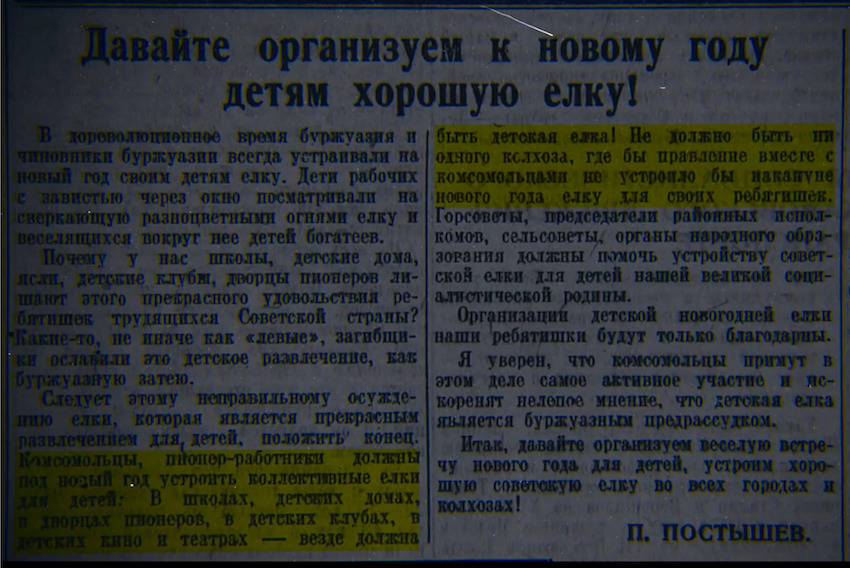
Поскольку ждать праздника было некогда, уже на следующий день — 28 декабря 1935 года в газете, которую люди в шутку называли «Правдой», была опубликована статья, которую — как говорят — написал тот, которого в шутку называли товарищем Постышевым. В статье достаточно ясно говорилось, что те руководители детских учреждений и колхозов, в которых 1 января 1936 года не будет видна ёлка, а также прочие активисты и комсомольцы, которые не поняли намёка, могут готовится к отправке в места добычи из вечной мерзлоты природных богатств страны Советов.
Конечно, к 1 января управились не все руководители — страна Советов была очень большой. Но к 4 января 1936 новогодние ёлки были везде, где их могли увидеть местные «смотрящие», которых в шутку называли сотрудниками НКВД. В том числе и в детском саду города Омска, куда девочками ходили моя матушка Регина и её сестрица Лиля. А также в доме их родителей — коммунистов с немалым к тому времени партийным стажем. Дело партии было их делом. Раз партия сказала — ёлка, значит и в самом деле — ёлка.
Вот такая получилась новогодняя сказка с ёлкой.
У неё ещё было не менее сказочное продолжение. Не совсем новогоднее, но всё же оно было.
Всего через два года после того, как несгибаемый в недалёком прошлом большевик товарищ Постышев опубликовал в газете «Правда» свою статью о новогодней ёлке, а именно 26 февраля 1938 года, он оказался врагом коммунизма, троцкистом и японским шпионом — таких среди несгибаемых коммунистов и сотрудников НКВД было много. И жена его — тоже самое. Год ему понадобился на то, чтобы в Бутырской тюрьме вспомнить все свои злодеяния. После чего 26 февраля 1939 года его вполне справедливо расстреляли по решению трёх его товарищей по партии большевиков.
И тут произошло чудо — случилась встреча товарищ Постышева с Дедом Морозом. Дело в том, что на февральском морозе расстрельные команды Бутырской тюрьмы старались не очень — Дед Мороз после Нового года ещё не покинул нашей счастливой страны. Товарища Постышева «недострелили», а расстреливать два раза гуманные законы страны Советов не позволяли. И после расстрела он ещё долго лежал под счастливым зимним советским бутырским небом, дожидаясь Деда Мороза — которого сам пару лет назад амнистировал. Дед Мороз пришёл, когда товарищу Постышеву был 51 год.
Отец девочек — человек в полувоенном френче без знаков отличия, был моим дедом — сибирским красным партизаном, который устанавливал Советскую власть в боях с белой армией адмирала Колчака. Внешне он был удивительно похож на товарища Постышева. Несмотря на это, когда в 1938 году «люди» из НКВД пришли его арестовывать, он остался в своей постели. Забрали только именной маузер — единственную награду за бои в партизанском отряде товарища Кравченко и за тяжёлое ранение под Белоцарском в августе 1919 года.

«Этот сам скоро сдохнет», — беззлобно сказали «люди» из НКВД, перевернули весь дом в поисках «запрещёнки», без акта забрали именной маузер деда и ушли. У деда в ту пору был туберкулёз в последней стадии — результат партизанщины за «красное» дело и тяжкого ранения. Во время этого визита у него горлом шла кровь. Действительно, 1 февраля 1940 года дед умер. Осталась жена и две дочери 9 и 7 лет. Был ему в то время 41 год.
Двоюродный брат девочек — Петя, что на фото 5 января 1936 года сидит в парадной форме советского военного лётчика, погиб в немецком плену в декабре 1941 года. Его самолёт был сбит в июне 1941 года в воздушном бою с немцами на юге России. Родственникам удалось найти немецкие документы из концлагеря о дате его смерти. По советским документам он пропал без вести. То есть попал в плен. А значит, по советским правилам — стал предателем. Было ему 26 лет.
Усталая мама девочек, в тёмном платье с белым полужабо, прожила долгую жизнь, которая далее с Новым годом имела мало общего. Она успела получить медаль за 50 лет нахождения в партии большевиков и прочих коммунистов. Двух девочек с фотографии она вырастила и выучила. Они тоже прожили долгую жизнь — ковали военную мощь страны Советов. Но это уже другая сказка.
31 декабря 2018 г., Москва.
Храм по-над рекой Москвой
Этот очерк написан за тринадцать лет до того, как 31 мая 1994 Московской патриархией и мэрией Москвы было принято решение о начале работ по восстановлению храма Христа Спасителя. В настоящее время храм воссоздан, хотя и не столь искусно, каков был оригинал…
История. Москва стоит на истории. Под асфальтом её улиц скрыты старые мостовые, остатки домов и мастерских. Вы когда-нибудь заглядывали в котлован стройки в центре Москвы? Загляните при случае, и вы увидите многие метры культурного слоя. Это и есть история Москвы, уходящая вглубь веков. Сколько людей ходило по её улицам. Сколько всего было построено, разрушено, и снова построено, и снова разрушено…
Эта история скрыта под прямыми рядами новых зданий, за новыми названиями улиц. И она тихо забывается. А ведь москвичи, все русские люди должны знать историю одного из древнейших славянских городов. Ведь только зная, как жили люди раньше, можно понять и оценить нашу современную жизнь.
В центре Москвы каждый шаг — память о каком-нибудь огромном событии… Но сейчас мне хочется напомнить недалекую историю всего одного места над Москвой-рекой.
Все знают, где находится бассейн «Москва». А почему он находится именно там? Что было на этом месте, когда никакого бассейна вообще не было? Думаю, это многим не известно. Между тем, поучительно знать — как разрушается история.
Вскоре после изгнания войск Наполеона из Москвы, 25 декабря 1812 года императора Александр I подписал Высочайший манифест о строительстве храма в благодарность богу за избавление от врагов. Художник Карл Витберг представил интересный и невероятный по замыслу проект огромного и величественного храма, который был одобрен императором. Достаточно сказать, что высота храма должна была составлять двести сорок метров, что втрое выше современного храма Христа Спасителя. Местом строительства были избраны Воробьёвы горы. Строительство велось медленно и было крайне затратным, поскольку требовало огромного количества вспомогательных работ, связанных с доставкой строительных материалов. В 1825 году, после смерти Александра I, строительство остановилось, а Карла Витберга судили, обвинили в казнокрадстве и сослали в Вятку — хотя, и не на долго.
Некоторое время спустя — в 1831 году, император Николай I решил осуществить идею своего предшественника — построить храм в честь победы над французами в 1812 году. В этом он видел преемственность династических традиций. При этом император поставил непременное условие — храм должен быть построен в древнерусском стиле. В 1839 году по проекту Константина Тона, неподалёку от Кремля, на высоком берегу Москвы-реки, на месте Алексеевского женского монастыря, был заложен храм Спасителя. Сам монастырь с шатровыми хоромами XVII века был снесён.
В основании храма лежал куб, которому был придан вид равноконечного креста. Главный купол и четыре боковых венчали его. Внутри храм был разделён на три части: коридор, занимавший пространство между внешней стеной и четырьмя основными опорами-столбами, хоры и собственно храм. По стенам коридора, на мраморных досках, были вырезаны надписи о памятных событиях и битвах 1812 года, также имена павших в боях российских офицеров. Хоры и главный храм были богато украшены живописью. Купол занимала грандиозная картина академика Маркова, на которой был изображён бог Саваоф. В росписи храма принимали участие художники Василий Суриков, Иван Крамской, Фёдор Бруни, Виктор Васнецов, Константин Маковский, Василий Верещагин, Генрих Семирадский. Строили Храм более сорока лет. Его освящение произошло спустя более семьдесяти лет после Бородинской битвы — в 1883 году — уже при императоре Александре III.
Храм Христа Спасителя был гигантским сооружением. Он вмещал до десяти тысяч молящихся, а под его куполом свободно поместилась бы кремлёвская колокольня Ивана Великого. И располагался храм очень выгодно — с отдалённых окраин Москвы были видны его золотые купола, на которые в виде позолоты было нанесено более 320 килограммов золота. Это было величественное сооружение…
Однако, спустя всего тридцать пять лет после освящения храма, произошло событие, впоследствии названное Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Новой власти требовались новые культовые сооружения. На I Всесоюзном съезде Советов было принято решение о создании величайшего сооружения мира — Дворца Советов, который должен был остаться в веках как монументальный памятник Сталинской эпохи.
В результате ряда конкурсов на лучший проект Дворца Советов с участием советских и заграничных архитекторов, за основной был принят проект архитектора Б. М. Иофана. Предполагалось, что Дворца Советов будет состоять из двух залов, причём большой зал должен был вмещать двадцать одну тысячу человек. Его высота составляла сто, а диаметр — сто сорок метров. К главному входу вела лестница, шириной сто пятнадцать метров. Внутри располагались сто восемьдесят семь лифтов и девяносто четыре эскалатора. Общая высота Дворца Советов составляла четыреста шестнадцать метров. Вход, разумеется, охраняли памятники К. Марксу и Ф. Энгельсу, а венчала сооружение стометровая статуя В. Ленина — голова которого (в силу визуальных пропорций тела) также должна была составлять около ста метров…
Таким должно было стать величайшее сооружение большевистской современности. Но где его строить? Разумеется, рядом с Кремлём — на месте храма Христа Спасителя. И храм снесли. Сперва его разбирали, но эти работы двигались медленно и 5 декабря 1931 года двумя взрывами храм уничтожили. А Дворца Советов так и не построили — от идеи его создания окончательно отказались в 1956 году — уже после смерти Иосифа Сталина. А поскольку котлован уже имелся — в 1960 году его использовали для бассейна, который назвали «Москва».
Вот так за сто с небольшим лет были снесены два интереснейших памятника архитектуры ради того, чтобы на их месте сделать бассейн с подогретой водой под открытым небом.
27 октября 1981 г., Москва
К 100-летию Белоцарского боя 16 августа 1919 года
Записки сибирского красного партизана и комментарии к ним
Памяти моего деда Семёна Архиповича Зайцева
и всех жертв гражданской войны, которая никак не закончится…
Изучая историю гражданской войны, я не принимаю ни одну из воевавших друг с другом сторон. Мой дед сражался в красном партизанском отряде в Сибири, и его порыв мне понятен. Но вскоре то дело, за которое он воевал в юности, дискредитировало себя — это мой дед понял в начале 30-х годов, а в 1938 году за ним пришли «люди» из НКВД.
Примерно в то же время — осенью 1933 года был «раскулачен» мой прадед по другой линии, который был обычным работящим крестьянином-«середняком» в одной из ближайших к Москве областей. К нему в дом тоже пришли «люди» от большевистской власти. Разорили хозяйство, разрушили дом, семью выгнали на улицу, а прадеду — которому тогда было пятьдесят пять лет — дали 10 лет лагерей. И всё за то, что он не смог выполнить «твёрдое задание по сдаче зерна». Несмотря на возраст, в тюрьме он не умер — выпустили раньше срока, и прадед вернулся в своё село. Ни дома, ни хозяйства у него больше не было.
Так что я одинаково плохо отношусь ко всем сторонам, участвовавшим в гражданской войне. Впрочем, как и к тем идеям, за которые они проливали кровь — свою и чужую. Хотя вполне понимаю неизбежность участия в ней. Думаю, живи я в России того времени — тоже пришлось бы воевать и убивать. Эта война подорвала силы страны и народа, и всё происходящее сейчас с нами — её последствие.
История семьи должна быть интересной
Это должно было когда-то случиться. Архивные материалы моей семьи собрались у меня. Все документы, записи, письма, фотографии и рисунки, описывающие жизнь моих предков по обеим линиям до четвёртого колена — которые не были уничтожены временем, попали ко мне. Материалов было много. Разбирал я их долго — несколько лет. И сожалел, что никого уже не могу расспросить о деталях, прояснить непонятное, уточнить сомнительное. Слишком поздно я получил возможность разобрать этот архив, а до меня его мало кто изучал — просто сохраняли. И сейчас живых носителей исторической памяти не осталось…
Едва-ли кто-то из моих многочисленных потомков сподобится разбирать рукописные записи малопонятных и оттого не очень интересных предков. Для того, чтобы потомки гордились прошлым своей семьи или хотя бы интересовались ею — нужна интересная история. И я решил её написать. Тем более, что история двух ветвей моей семьи, которая состояла из людей простых в сословном представлении, но весьма непростых по своим характерам и поступкам, в ушедшем ХХ веке была весьма насыщенной и трагичной. Это была история обретений, но больше — потерь. Как материальных, так и моральных. Если потомки чему-то научатся, читая историю семьи — значит, жизнь предков и моя работа были не напрасны.
Среди документов я наткнулся на истрёпанную тетрадь в клетку — жёлтая бумага, линялая грязно-синяя обложка, записи простым грифелем чередуются с химическим карандашом и синими чернилами. Из идентификационных признаков на тетради: цена — 50 к., №5622 и треугольное клеймо с каким-то подобием глобуса, телескопа и плохо пропечатанной надписью «светоч». Судя по записям, ею пользовались с 1925 по 1940 год.
На первой странице — надпись рукой моей матушки: «Мама оставила мне наказ: переписать чернилами то, что папа писал карандашом, но я этого не сделала. 7 февраля 2013 г.» Речь шла о моих дедушке и бабушке. Не знаю, отчего моя бабушка сама не завершила начатое дело — она обвела чернилами лишь несколько страниц карандашного текста, и почему моя мама не выполнила наказ родительницы. Я решил это сделать за них — чтобы оставить память о боевом прошлом моего деда. Но просто обводить и переписывать что-либо чернилами в XXI веке — слишком оригинально. Так появился этот рассказ.
История страны должна быть честной
Историю своей страны я изучал в 70-е годы ХХ века — в средней школе. А потом ещё в институте изучал историю КПСС. Несложно понять, что настоящей истории я не знал. Скажем, мне ни разу не встречалось описаний реальных событий, оставленных участниками боёв гражданской войны в Сибири. То есть я находил сведения о событиях, но свидетельств очевидцев — нет. Максимально похожие на достоверные описания событий гражданской войны на Дальнем Востоке России я знал исключительно по роману Александра Фадеева «Разгром», на юге европейской части страны — по «Конармии» и другим рассказам Исаака Бабеля. Сибирь оставалась белым пятном, по которому передвигался бронепоезд адмирала Колчака с царским золотом в сопровождении «голубых» чехов, казаков и ещё каких-то интервентов. В памяти с детства остались стишки — на манер куплетов — которые иногда напевала моя матушка, родившаяся в Омске:
Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся.
Речь шла об «омском правителе» Колчаке и его белой армии, поддерживаемой интервентами. На этом мои познания истории сибирских событий времён гражданской войны заканчивались.
И вот оказалось, что та самая карандашная запись, которую должна была обвести чернилами моя матушка, является описанием событий августа 1919 года — когда отряд «красных» партизан — враги именовали его «бандой» — встретился с большим отрядом «белых» земляков. Тот бой определил перелом в событиях гражданской войны на юге Сибири — после него (хотя, не только в результате) белая армия начала стремительно отступать на Дальний Восток.
Мой дед писал свои записки спустя без малого 20 лет после событий — в 1937 году, когда полученный во времена партизанского похода «по долинам и по взгорьям» Прибайкалья туберкулёз, вместе с последствиями серьёзного ранения руки и лёгкого, стремительно вели его земной путь к концу.
Жизнь автора записок
История жизни автора записок представляется вполне обычной для человека, родившегося на стыке двух веков. Полагаю, что сходным образом складывалась в то время жизнь миллионов его сверстников. Родился в 1898 году в Белоруссии, в селе под Витебском. Мать родила его уже в зрелом возрасте — ей было за сорок. Ему было семь лет, когда умерли от тифа отец и старший брат. В девять — с матерью и старшими братьями-сёстрами бежали от малоземелья в Сибирь — в Енисейскую губернию. Бедность мешала созданию хозяйства на новом месте, поэтому мальчишкой пас гусей у более зажиточных соседей. Окончил три класса сельской ЦПШ — церковно-приходской школы. Потом — когда начало складываться собственное хозяйство — занимался им.
В феврале 1917 года его, восемнадцатилетнего, призвали в «старую» армию — рядовым в лейб-гвардии Петроградский полк. Как раз в это время начались февральские события. В Петрограде «участвовал в свержении самодержавия с винтовкой в руках». Как это происходило — сведений не осталось. После чего оказался в армии Керенского. Девять месяцев участвовал в боевых действиях на западном фронте первой мировой «германской» войны — в Австрии.
Практически сразу после захвата власти, в декабре 1917 года большевики начали расформировывать регулярные воинские части — видимо, по предварительной договорённости с германской стороной, и солдаты начали возвращаться с войны. 3 марта 1918 г. был заключён «Брестский мир» и в середине апреля 1918 года он вернулся домой.
Хозяйством плотно заняться не удалось. Уже 30 сентября 1918 дед был мобилизован в белую армию генерала Колчака и, как «служилый», зачислен командиром взвода в 9 роту II Нижнеудинского строевого полка. Белая армия в тех местах боролась с небольшими местными повстанческими крестьянскими отрядами, которые не хотели возврата помещиков. Белые полагали их бандами налётчиков и пытались усмирять карательными операциями. В действительности, как правило, это были отряды простых земледельцев, сражавшихся за «крестьянский мир». Мобилизованные в белую армию крестьянские рекруты неохотно сражались с такими же крестьянами, как они сами.

Дед командовал взводом и проводил агитацию за переход к красным. У партизан и дисциплина была попроще, и цели — понятнее. Так что при первой возможности — 25 декабря 1918 года — значительная часть роты, которая была направлена на подавление крестьянского сопротивления в Красноярском уезде — возле села Солнечно-Талое, с оружием перешла к партизанам отряда Кравченко.
12 января 1919 года, после проверки, деда приняли бойцом в Манский полк партизанского отряда. Было ему тогда 20 лет. Рядовой, затем командир взвода. За время пребывания в отряде участвовал во многих боях, в том числе в Унгутском бою (пос. Большой Унгут на р. Мана), где находился под пулемётным огнём белых в течение суток. В Камарчагском бою (пос. Камарчага), где партизаны разобрали пути и спустили с рельсов бронепоезд белых. В бою на разъезде Таёжный, где сняли охрану с моста в количестве 25 человек и некоторое время удерживали мост. Участвовал в наступлении на Шело. В бою на реке Ус, где рота Манского полка была отрезана белыми частями и казаками от основных сил отряда, но смогла тайгой выйти из окружения.
После соединения 4 апреля (17 апреля по новому стилю) 1919 года с партизанским отрядом командира Щетинкина, которое произошло в Степнобаджейской волости, была создана красная партизанская армия под командованием Кравченко и Щетинкина, которой пришлось отступить под напором регулярных войск белой армии. Партизаны ушли от преследования через тайгу на юг — в Урянхайский край, к Белоцарску.
16 августа 1919 года в бою под Белоцарском дед был тяжело ранен в грудь и руку. Пролежал полгода в госпитале. С потерей трудоспособности на три четверти и второй группой инвалидности в 22 года был «уволен вовсе» из красной армии. Учёба на рабфаке, затем в институте сельского хозяйства, аспирантура. Партийная работа — видимо, не слишком активная. Участие в «сибирской оппозиции», не согласной с возвратом практики ограбления крестьян, инициированной Иосифом Сталиным-Джугашвили в январе 1928 года. Прежде такая политика применялась большевиками во времена «военного коммунизма». Конфискация пришедшими его арестовывать НКВДэшниками именного маузера — единственной награды за бои в красной партизанской армии и тяжёлое ранение. Арестовывать не стали — «сам скоро помрёт». Туберкулёз давал себя знать с самого возвращения из госпиталя после ранения, а к тому времени кровохарканье стало обычным делом. Начал писать воспоминания, но сделать много не успел. Умер 1 февраля 1940 года. Прожил 41 год. Оставил жену — 37 лет и двух дочерей — 9 и 7 лет. А через год началась Великая война.
Контекст. Реконструкция событий
После октябрьского переворота 1917 года население России разделилось на три лагеря — на «красных», которые хотели уничтожить власть капиталистов и помещиков; на «белых», которые эту власть хотели вернуть; и на «простой народ» — преимущественно крестьянское большинство жителей страны, которые просто хотели отдохнуть после долгой войны и заниматься своим хозяйством. Последние были в подавляющем большинстве, но раздроблены, политически неактивны и плохо вооружены.
О первой мировой войне, о причинах февральской революции и октябрьского переворота, о Брестском мирном договоре с Германией, о конференции стран-участников первой мировой войны в декабре 1917 года, ставшей причиной появления на территории России войск иностранных интервентов, и о роли в этих событиях адмирала Колчака можно узнать из разных источников. Но следует понимать — главной причиной крестьянского сопротивления белой армии в Сибири была та жестокость в отношении местного населения, которую проявляли как ставленники белой власти на местах — так называемая «милиция», так и её бойцы — преимущественно офицеры и казаки, поддерживаемые иностранцами-интервентами. С российскими земледельцами обращались как с бунтующими рабами, и это дало мощную ответную реакцию.
Кстати, сталинские репрессии и ограбление сибирских крестьян впоследствии были ещё более жестокими, что также вызвало всплеск сопротивления и партизанских действий против «советов». Но советская власть к тому времени укрепилась настолько, что потребовалось несколько десятилетий ожидать крушения того режима.
На территории Енисейского края — между Ачинском, Красноярском, Иркутском и северной границей Монголии — где происходили описываемые события, в 1918 году шло стихийное формирование отрядов крестьянского сопротивления войскам белой армии. Сопротивление носило вполне анархический характер и ему требовалась организация. Организационной силой выступили ссыльные революционеры разных идейных течений, солдаты и младшие офицерские чины, вернувшиеся с фронтов первой мировой войны — также в прошлом крестьяне и, разумеется, криминальный контингент, традиционно населявший Сибирь. Все эти люди знали, где взять оружие, как с ним обращаться и как вести боевые действия.
В регионе возникли несколько партизанских групп. Начало борьбы связано с появлением летом 1918 года в Сибири войск генерала Колчака. Генерал организовал ставку в Омске, который в то время называли столицей белой России, а его армия, преимущественно, действовала вдоль транссибирской железнодорожной магистрали. Войска старались сильно не удаляться от железной дороги и не уходили в тайгу, где практически не было дорог и где действия партизан оказывались весьма эффективными.
Партизаны со своей стороны наказывали милиционеров из местных, отметившихся жестокостью против своих земляков; забирали деньги из почтовых отделений; в качестве поддержки повстанческого движения собирали зерно и деньги с крестьян; вступали в бой с небольшими отрядами белых войск. Бои шли с переменным успехом. В результате объединения разрозненных сил собрались два достаточно крупных отряда. Отряд бывшего штабс-капитана Щетинкина (Щетинкин Пётр Ефимович, 1884—1927 гг.) действовал вокруг Ачинска и Красноярска, продвигаясь на юг под напором боле подготовленного и лучше вооружённого врага. В апреле 1919 года отряд объединился с партизанским отрядом другого командира — бывшего агронома Кравченко (Кравченко Александр Диомидович, 1880—1923 гг.), который действовал восточнее. Таким образом была создана красная партизанская армия под командованием Кравченко и Щетинкина, включавшая четыре полка — Тальский, Манский, Канский и Ачинский. Несмотря на объединение красных партизанских отрядов, более многочисленные силы белых — преимущественно чехи, итальянцы, сербы, поляки и их союзники, а также подразделения белой армии и казаков — оттесняли партизан в тайгу.
Бросив обозы, в конце июня 1919 года объединенный партизанский отряд вошел в тайгу и двинулся в сторону Урянхайского края. К этому переходу партизанский отряд значительно сократился, поскольку во все времена крестьянская армия имеет такую особенность, что её бойцы стараются не уходить далеко от родных мест и своих хозяйств. Отряд насчитывал 1.150 вооружённых бойцов и 200 человек без оружия. Причем лазарет партизаны не бросили и везли раненых через тайгу по бездорожью на конных носилках. Выйдя из тайги в степь, партизанский отряд рассеял сравнительно немногочисленные силы белых и 20 июля (2 августа по новому стилю) 1919 года без боя занял Белоцарск, известный теперь как Кызыл, Республика Тыва — что на границе с Монголией. Всего за несколько лет до того местность считалась частью Монголии.
Тогда — сто лет назад этот населённый пункт производил впечатление совсем небольшой деревушки в 45—50 домов. А всё население независимой в то время республики, именовавшейся Урянхай или Урянхайский край, а позже Танну-Тувинская народная республика, составляло около восьмидесяти тысяч жителей, которые преимущественно вели кочевой образ жизни. Белоцарск, который в ту пору также называли Хем-Бельдир, был основан в 1913 году как опорный пункт для предполагавшейся русской колонизации Монголии. Он располагается на месте слияния двух рек — Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем), объединившиеся воды которых сохраняют название Верхний Енисей (Улу-Кем или Улуг-Хем).
Русскоязычные колонисты, начавшие заселять Урянхайский край после Синьхайской «революции» ноября 1911 года в Китае, называли коренных жителей сойоты и урянхи. Между колонистами и коренными обитателями шла достаточно понятная в таких случаях скрытая война — с набегами, поджогами, грабежами и убийствами. Такой была конкуренция за весьма плодородные земли далёкой окраины царской России.
П. Е. Щетинкин в своей брошюре «Борьба с колчаковщиной» забавно описывает события, предшествовавшие Белоцарскому бою. Это описание в некоторой мере объясняет неоднозначное отношение части крестьян к партизанам — впрочем, как и к любым иным отрядам любой армии, проходящей мимо:
«Тут надо упомянуть про неудачную экскурсию Манского полка. Манский полк был оставлен в Усинске для того, чтобы прикрывать наш тыл и задержать идущего к Белоцарску Бологова. Вместо выполнения своих прямых задач, манцы углубились в реквизиторскую и всякую другую деятельность и прозевали Бологова. Бологов же, пройдя с Григорьевского тракта прямой тропой на Белоцарский тракт, тем самым отрезал Манскому полку путь отхода к городу.
Когда стало известно, что манцы отрезаны, на помощь им был выслан Канский полк в село Туран с тем, чтобы, завязав с Бологовым бой, дать возможность манцам выйти из ловушки. Пока Канский полк шёл к Турану выручать манцев, последние сами явились, ободранные и измученные, сделав адски трудный переход круговым путём по реке Ус до Енисея и по Енисею до Белоцарска».
К началу боя отряд белых насчитывал около трёх тысяч бойцов, отряд красных партизан — от одной до полутора тысяч. Каждый из четырёх партизанских полков включал примерно по 300 бойцов. На первом этапе боя под Белоцарском Манский полк принял первый удар белоказаков, пехоты и артиллерии, после четырёхчасового боя — из-за явного превосходства сил противника — вынужден был отступить к русской колонии в селе Верхне-Никольское, где располагался лазарет и «ценное имущество» — обоз партизанского отряда под охраной одной роты. О числе погибших и раненных в этом бою манцев сведений нет, но как мы увидим далее — из записок участника боя — потери были. Связи с остальными полками своего отряда манцы не имели. Отступив примерно на 20—25 километров от Енисея «для выяснения ситуации», полк не принял участия в последовавшем за этим ночном бою.
Белоцарский бой, 16 августа 1919 года
Записки участника Белоцарского боя, взводного командира красного партизанского отряда Семёна Архиповича Зайцева:
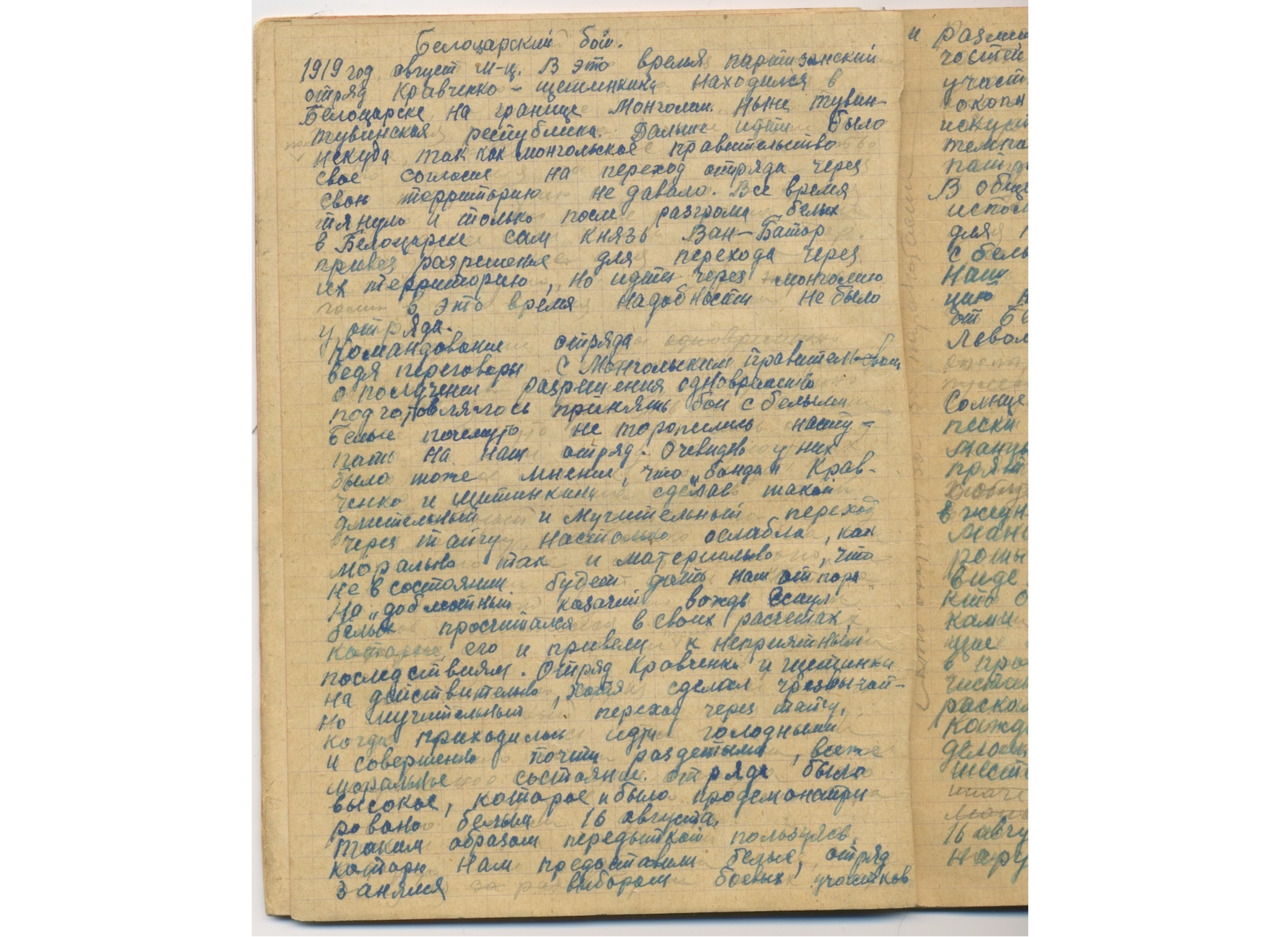
«1919 год, август месяц. В это время партизанский отряд Кравченко и Щетинкина находился в Белоцарске, на границе Монголии. Ныне Тувинская республика. Дальше идти было некуда, так как монгольское правительство своё согласие на переход отряда через свою территорию не давало. Всё время тянуло и только после разгрома белых в Белоцарске сам князь Ван-Батор [монгольский нойон Хатон-Батор-Ван — В.Л.] привёз разрешение для перехода через их территорию, но идти через Монголию в это время у отряда надобности не было.
Командование отряда, ведя переговоры с монгольским правительством о получении разрешения, одновременно подготовлялось принять бой с белыми. Белые почему-то не торопились наступать на наш отряд. Очевидно, у них было мнение, что «банда» Кравченко и Щетинкина, сделав такой длительный и мучительный переход через тайгу, настолько ослабела как морально, так и материально, что не в состоянии будет дать отпора. Но «доблестный» казачий вождь есаул Бологов (Бологов Григорий Кириллович, 1885—1976 гг.) просчитался в своих расчётах, которые его и привели к неприятным последствиям. Отряд Кравченко и Щетинкина действительно, хотя сделал чрезвычайно мучительный переход через тайгу, когда приходилось идти голодными и совершенно почти раздетыми, все-же моральное состояние отряда было высокое, что и было продемонстрировано белым 16 августа.
Таким образом, пользуясь передышкой, которую предоставили белые, отряд занялся выбором и укреплением боевых участков, и размещением по указанным участкам частей отряда. В Белоцарске были вырыты окопы по всем правилам сапёрного искусства. Мастерские ускоренными темпами лили пули и набивали патроны, начиняли гранаты и т. д. В общем, положение отряда заставляло использовать всё, что было необходимо для предстоящей неравной схватки с белыми.
Наш Манский полк занимал позицию ниже Белоцарска на расстоянии примерно десять километров по левому берегу реки Енисей, тоже вырыв окопы и устроив пулемётные гнёзда. Август месяц стоял жаркий. Солнце беспощадно палило, накаляя пески монгольской степи. Манцы, спасаясь от жары, как зайцы прятались кто в кусты, кто где. Жизнь протекала весело. Ежедневно картина жизни партизан Манского полка, особенно шестой роты, представлялась в таком виде: кто сидел за починкой лаптей, кто остатки брюк стягивал нитками, чтобы прикрыть соответствующие места, кто рыбу бреднем ловил в протоках Енисея, кто винтовку чистил, кто лепёшки печёт на раскалённых каменных плитах. Каждый занят своим неотложным делом. Так текла жизнь партизан шестой роты Манского полка.
15 августа часа в четыре вечера на участке, занимаемом 2-й ротой, проходило собрание партизан Манского полка. На повестке дня стояли вопросы о материальной части полка, выборы командиров и другие вопросы. Собрание проходило довольно оживлённо. Партизаны были в весёлом расположении духа. Хотя, партизаны никогда не были в подавленном расположении духа при каких-бы то ни было трудных условиях жизни. Собрание тянулось примерно до 7—8 часов вечера. По окончании собрания партизаны хотели уже расходиться по своим местам, когда командир Манского полка тов. Гусев предложил на минутку задержаться. Манцы остановились и тов. Гусев выступил с такой информацией, что им получено донесение из Белоцарска о том, что нашими караульными замечены разъезды белых. Так что сегодня будьте готовы. Командирам рот и взводов предлагается выставить усиленные караулы и патрули. Выслушав информацию комполка, манцы разошлись по своим боевым участкам.
Придя на место, принялись готовить ужин: вскипятили чай, напекли лепёшек и приступили к ужину. После ужина проверили свои винтовки, подсчитали патроны, выставили караулы и легли в своих укреплениях немного соснуть. Но не спалось манцам. Сон тревожит мысль, не покидает вопрос: а что же через три-четыре часа будет? Так вся ночь прошла в раздумьях, в таком тревожном состоянии.
На рассвете 16 августа «белые» решили нарушить мирную жизнь партизан. Послышался орудийный выстрел, за ним второй, третий и трёхтысячный отряд белых, под прикрытием артиллерийского и пулемётного огня, начал переправляться [через реку Верхний Енисей — Улу-Кем, с правого берега на левый — В.Л.] против второй роты. Вторая рота не выдержала напора противника и вынуждена была отступать. С отступлением 2-й роты было приказано отступать всему Манскому полку. Получив приказ об отступлении, мы стали отходить от Енисея в степь под опасным артиллерийским обстрелом. Отошли от Енисея примерно километра на три и залегли цепью. Решили принять бой несмотря на то, что силы противника превосходили силы нашего полка раз в десять.
Вскоре артиллерия белых замолчала. Видим, движутся густые цепи белых. Не дойдя до нашей цепи, залегли. Впереди цепи белых появились «лихие» казаки. Думаем себе: замышляют недоброе. Хотят взять нас в шашки и пики. Так и вышло. Через несколько минут смотрим — шашки сверкнули наголо, и казаки с криками «ура» бросились на пятую роту. Пятая рота не растерялась и дружным залпом заставила казаков отступить с небольшими потерями. Мы неослабно наблюдали за движением казаков, которые после неудачной атаки на пятую роту решили свой удар перенести на нашу шестую роту, расположенную на левом фланге.
Видим, что казаки, перестроив свои ряды, движутся на левый фланг. Останавливаются за невысокой гривой — как раз против расположения роты. Командир нашей роты тов. Поляков передаёт, что на случай атаки со стороны казаков на далёкое расстояние не стрелять, а подпустить ближе и дружным залпом встретить — чтобы им было неповадно. Одновременно выслал конного разведчика, чтобы последний наблюдал за движением казаков. Высланный разведчик в скором времени передаёт, что казаки готовятся к атаке, стоят с обнажёнными шашками.
Получив такое сообщение, ротный командир решил немного изменить положение роты. Хотел передвинуть роту немного назад, на возвышенное место. Для чего мне приказал лежать в цепи со вторым взводом, а сам с первым взводом начал быстро делать перебежку. В это время казаки с криком «ура» бросились в атаку на нашу шестую роту. Мы успели дать только один залп и казаки лавиной с дикой руганью ввалились в нашу цепь. Казаки махали шашками и кричали: «бросайте винтовки, красножопые, а то порубим!». Но не тут-то было. Партизаны, не имея штыков, расстреливали казаков в упор. Стрельба настолько была частая, что об ствол винтовки обжигали руки. По этой причине патроны застревали в ствольной коробке раскалённой винтовки и плохо досылались в патронник. В результате чего несколько товарищей погибли под ударами казачьих шашек, а некоторые получили ранения.
На моих лично глазах был такой случай: тов. Галичина окружили три казака, два казака с шашками, один с пикой и не решаются на него наброситься. Но когда увидели, что у тов. Галичина заело патрон в винтовке, они с гиком бросились на него. Один ударил шашкой по плечу, но невредимо, второй ударил концом шашки по шее — разрубил, но незначительно. От последнего удара товарищ упал вниз лицом, и третий казак хотел уже лежачему вонзить пику в спину, но угадал не в спину, а подмышку. Пика прошла под кожей, не сделав серьёзного ранения. Расправившись со своей жертвой, казаки набросились на других партизан, но один из них партизанским выстрелом в упор был снят с лошади.
Видя, что партизаны не сдаются, и что шашками их не взять, и что казацкие ряды под выстрелами партизан всё сильнее и сильнее редеют, казаки решили вырваться из наших объятий и проскочить к нам в тыл. Положили лошадей и давай обстреливать нас с ручных пулемётов. Таким образом мы оказались под перекрёстным огнём, так как пехота белых тоже повела наступление на нас. Положение наше стало чрезвычайное. Нужно было выходить из создавшегося закоулка. Сомкнувшись плотнее на случай нападения казаков, наша цепь стала выходила из-под перекрёстного огня.
Во время отхода раненый казаками тов. Галичин пришёл в сознание. Осмотрелся кругом — нет ли казаков, поднялся, подходит к своему товарищу с испуганным видом и спрашивает: братишка Сёмка, голова у меня не отрублена? Товарищ не успел ему ответить, как от удара пули правая рука как плеть повисла. Кровь полилась фонтаном, обливая всего. Истекая кровью, Сёмка не мог уже следовать за отрядом, но тут ему на помощь подскочили два партизана, которые взяли его под руки и повели вслед за отступающей цепью. А в скором времени подъехал один кавалерист, Сёмку положили на верховую лошадь и увезли вперёд отступающей цепи.
Казаки не переставали преследовать нашу отступающую цепь, но атак больше не производили. И все же наше положение становилось чрезвычайно тяжелое. Воды не было, а день стоял знойный. Бойцы, утомлённые боем и жаждой, кое-как двигались. Более слабые товарищи уже совершенно отказывались идти, окончательно выбились из сил, а до источника воды было ещё далеко. Тут на помощь пришло изобретение одного конного разведчика. Он спросил товарищей, у кого есть целые сапоги, фляги и т. д. — я сейчас привезу воды. У некоторых партизан нашлись целые сапоги, фляги и они передали их товарищу, который связал всю оказавшуюся «посуду» и помчался за водой.
Через час привозит. Манцы, завидя только воду, оживились. Началась делёжка воды. Каждому партизану досталось глотка по два воды, и каждый выпивал свою порцию с такой жадностью, что, казалось, проглотит ту мерку, которой делилась вода. Получив свою порцию воды, партизаны ободрились. Мобилизовав остатки своих сил, пошли по направлению к источнику воды. К этому времени жара стала спадать и идти было легче. Скоро источник воды был достигнут. Вот тут-то уже попраздновали партизаны. Как мухи облепили родничок. Если бы кто-нибудь попробовал оттащить кого-либо, то навряд ли достиг своей цели. Здесь же манцы решили остановиться до выяснения положения, так как с начала боя у них не было связи с Белоцарском, с главным штабом отряда. Казаки перестали нас преследовать. Повернули свои цепи обратно и пошли на Белоцарск, где находились части Ачинского, Канского и Тальского полков под командованием тов. Щетинкина и Кравченко».
На этом заканчивается оригинальный авторский текст, описывающий бой с белыми и последующее отступление Манского полка красных. Видимо, Семён Архипович готовил статью для публикации и хотел более широко описать события боя. Поэтому к личным воспоминаниям прибавил раздел, описывающий финал боя и его последствия — чего сам видеть не мог, поскольку в этом бою был тяжело ранен.
Дальнейший рукописный текст автора пересказывает главу очерка, опубликованного в виде брошюры в 1929 г. в Новосибирске. Автор — П. Е. Щетинкин, «Борьба с колчаковщиной», очерк партизанской борьбы на Минусинском фронте под редакцией и с вступительной статьёй В. Д. Вегмана. Глава одиннадцатая так и называется «Белоцарский бой». Во вступительной статье Вегман отмечает, что в своем очерке Щетинкин почти совершенно не коснулся «весьма интересной и поучительной бытовой стороны жизни партизан». Дополнить написанный прежде текст сам автор не смог, поскольку к моменту публикации он погиб. Дополнить текст своими воспоминаниями предлагали второму командиру партизанского отряда — А. Д. Кравченко. Однако он также погиб, а его воспоминания — есть вероятность, что они были написаны — попали в другие руки и их найти в процессе подготовки публикации не удалось.
Таким образом, записки Семёна Архиповича Зайцева стали единственным сохранившимся и найденным описанием партизанской жизни и одного эпизода боя за Белоцарск, которое сделал непосредственный участник событий. Они представляют картину, увиденную двадцатилетним командиром взвода Манского полка. И хотя манцы вынуждены был отступить под напором превосходящих сила противника, его бойцы задержали продвижение белых подразделений, дав им бой. Вероятно, у белых возникло представление, что они разбили и отбросили от Енисея в предгорья основные силы партизан. Это было ошибкой, которая привела отряд есаула Бологова к столь серьёзному разгрому. Записки дополняют описание боя, сделанное П. Е. Щетинкиным и дают «командирское» видение события. Ниже оно приведено с сокращениями.
«15 августа Бологов, срезав по выгибу Енисея угол, подошёл к переправе несколько ниже Белоцарска, как раз против расположения Манского полка. Имея 2 горных орудия и 14 пулемётов, Бологов открыл огонь по расположению манцев.
После четырёхчасового боя манцы, не выдержав огня противника, отошли по направлению Верхне-Никольское, не известив нас о своём отходе. Бологов, переправившись через Енисей на заранее приготовленных 43 лодках, двинулся по берегу к Белоцарску.
Совершенно случайно я был осведомлён о его движении одним из партизан, посланным для связи с Манским полком. Немедленно мною был выслан навстречу Бологову батальон Тальского полка с заданием установить силы противника и, если представится возможным, задержать его продвижение на Белоцарск. Одновременно были приведены в боевую готовность части, находящиеся в Белоцарске (500—600 человек строевиков). Как впоследствии оказалось, тальцы, установив трёхтысячную численность отряда белых, не пошли им в лоб, а отойдя в горы, пропустили Бологова к Белоцарску, оставшись, таким образом, у него в тылу. Мы же расположили свои силы полукругом около Белоцарска с таким расчётом, чтобы не дать противнику прорваться в город.
Проходит час — от тальцев нет сведений. Высылаю две роты Канского полка, а через некоторое время и часть кавалерии. Однако, никаких сведений не получаю. Вдруг в поле нашего зрения показываются цепи Бологова, которые растягиваются полукругом, чтобы замкнуть город мёртвой петлёй.
Окопы у нас были заранее приготовлены, имелось у нас восемь пулемётов. Не хватало только частей для того, чтобы прикрыть незначительный участок на нашем левом фланге. Чувствуя, что под напором превосходных сил противника будет трудно удержаться в городе, я начинаю постепенно, под огнём неприятельских цепей, выводить войска в этот участочек фронта, не закрытый ни нами, ни Бологовым. В это время услышали мы ожесточённую стрельбу где-то в тылу у противника.
Выводя свои части, я приказываю цепи двигаться по направлению этого огня и устанавливаю связь с нашими частями, ведущими бой в тылу у Бологова. Через некоторое время мне передают по цепи, что посланные навстречу Бологову тальцы и канцы, оставшись в тылу у противника, прошли на место переправы Бологова, порубили лодки, находящиеся там и, пустив их по течению Енисея, ударили в тыл бологовскому отряду.
Пока мы вытягиваемся из Белоцарска, цепи противника занимают город и, таким образом, в свою очередь остаются как бы окружёнными нашими частями.
Было 16 августа. Вечерело. Небо покрыто тучами. Изредка полыхают зарницы.
Наше положение отличалось крайней неопределённостью: с одной стороны, противник настолько превышал нас численностью, что думать об ударе в лоб было трудно, а с другой стороны, представлялся удобный случай опрокинуть неприятеля в Енисей. Командный состав, учитывая исключительность положения, а также повышенное настроение бойцов, после короткого совещания решил атаковать Болотова. И вот в уже наступившей темноте, изредка разрываемой блесками молний, наши цепи с громким «ура!» пошли в атаку. Бой носил исключительно ожесточённый характер. Ураганный огонь пулемётов, орудий и винтовок заглушал раскаты грома. Крики раненых и «ура» с обеих сторон, торопливая команда, грохот орудий и треск пулемётов — всё это создавало в мрачной обстановке монгольских скал страшную картину. Сознавая, что в случае неудачи пощады быть не может, бойцы проявляли неимоверную храбрость. Бой был упорный, многочасовой. Порой дело принимало характер рукопашного боя.
Белые, наконец, не выдержали и бросились к реке, пытаясь переправиться вплавь через быстро несущийся мутный Енисей. Бологову вместе с 80 человеками удалось переплыть Енисей и бежать, остальная же часть его отряда погибла в бою. Многие были захвачены в плен.
На рассвете 17 августа нашим глазам представилась следующая картина: берег усеян большим количеством трупов, павших в бою, а в прибрежных скалах и камнях валяются утонувшие при попытке переплыть Енисей. По подсчёту оказалось, что одними убитыми Бологов оставил около пятисот человек. Двести восемьдесят три человека было взято нами в плен. Часть пленных была тут же расстреляна, как непримиримый элемент (как написал в своих записках С.А.Зайцев: «…среди которых под маской новобранцев оказались казаки и добровольцы — которые были расстреляны»).
Наши трофеи выразились в двух орудиях, семистах снарядов, двух тысячах винтовок, около пятисот тысяч патронов, и тринадцати пулемётах. Потери, понесённые нами: тридцать семь убитых и сорок четыре раненых. Итого, 81 человек выбыли из строя…»
Семён Архипович в конце своих записок приводит несколько большую цифру потерь, чем сказано выше — у командира отряда Щетинкина:
«Наши потери людьми выразились в следующих цифрах: примерно 40 человек убитыми и 45 человек ранеными, а всего 85 человек выбыли из строя. В Белоцарске на месте боя устроили братскую могилу погибшим в бою партизанам. Могилу обнесли пиками, взятыми у казаков во время боя».
Может быть это авторский приём, призванный показать, что не все сведения почерпнуты из брошюры Щетинкина. Но также возможно, что в своих записках к числу погибших мой дед добавил бойцов Манского полка, которые погибли или были ранены в начале боя и не были учтены при подсчёте общих потерь партизан после боя за Белоцарск.
Финал — из записок С.А.Зайцева:
«Про белоцарский бой была составлена ранеными партизанами песня «Было дело в Белоцарске», которую и записали. Своё воспоминание привожу ниже:
Было дело в Белоцарске,
Дело славное, друзья!
Мы дрались тогда с казаками
Под знамёнами труда…»
Этим заканчивается рукопись деда, которого НКВДэшники подозревали в причастности к «Сибирской оппозиции», противостоявшей Сталину.
Вопрос: «неужели мы сражались за это!?» — пришёл к молодым бойцам несколько позже, когда они повзрослели и увидели последствия своих побед. К этому времени многие их товарищи погибли в результате «партийных чисток» или умерли от ран и болезней — последствий боевой юности.
Одни мои предки верили в бога, другие — в светлое будущее под руководством коммунистической партии большевиков. Но жили одинаково тяжело и скудно и те, и другие...
октябрь-ноябрь 2018 г., Москва
Побег из «лагеря социализма»
Материал написан в июле 1990 г., Москва.
Опубликован в газете «Ведомости Госснаба», август 1990 г.
Справка: когда в июле 1990 г. был написан этот материал, 1 доллар «стоил» 63 копейки. С 1 ноября 1990 г. курс изменился в три раза — до 1 рубля 80 копеек. Это называлось «коммерческий курс рубля». Свободная купля-продажа валюты по установившемуся на рынке курсу стала возможна в июле 1992 г.
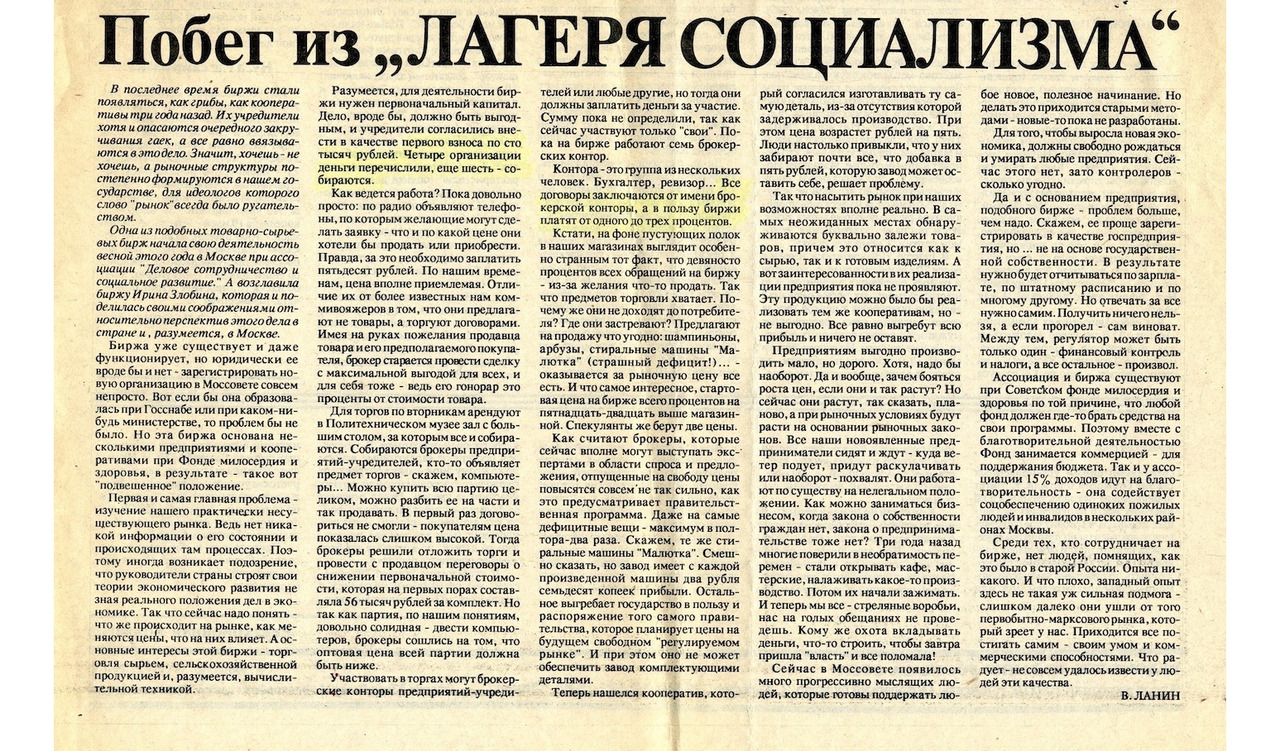
В последнее время биржи стали появляться, как грибы, как кооперативы три года назад. Их учредители хотя и опасаются очередного закручивания гаек, а всё равно ввязываются в это дело. Значит, хочешь — не хочешь, а рыночные структуры постепенно формируются в нашем государстве, для идеологов которого слово «рынок» всегда было ругательством.
Одна из подобных товарно-сырьевых бирж начала свою деятельность весной этого года в Москве при ассоциации «Деловое сотрудничество и социальное развитие». А возглавила биржу Ирина Злобина, которая и поделилась своими соображениями относительно перспектив этого дела в стране и, разумеется, в Москве.
Биржа уже существует и даже функционирует, но юридически ее вроде бы и нет — зарегистрировать новую организацию в Моссовете совсем непросто. Вот если бы она образовалась при Госснабе или при каком-нибудь министерстве, то проблем бы не было. Но эта биржа основана несколькими предприятиями и кооперативами при Фонде милосердия и здоровья, в результате — такое вот «подвешенное» положение.
Первая и самая главная проблема — изучение нашего практически несуществующего рынка. Ведь нет никакой информации о его состоянии и происходящих там процессах. Поэтому иногда возникает подозрение, что руководители страны строят свои теории экономического развития, не зная реального положения дел в экономике. Так что сейчас надо понять — что же происходит на рынке, как меняются цены, что на них влияет. А основные интересы этой биржи — торговля сырьем, сельскохозяйственной продукцией и, разумеется, вычислительной техникой.
Разумеется, для деятельности биржи нужен первоначальный капитал. Дело, вроде бы, должно быть выгодным, и учредители согласились внести в качестве первого взноса по сто тысяч рублей. Четыре организации деньги перечислили, еще шесть — собираются.
Как ведется работа? Пока довольно просто: по радио объявляют телефоны, по которым желающие могут сделать заявку — что и по какой цене они хотели бы продать или приобрести. Правда, за это необходимо заплатить пятьдесят рублей. По нашим временам, цена вполне приемлемая. Отличие их от более известных нам коммивояжеров в том, что они предлагают не товары, а торгуют договорами. Имея на руках пожелания продавца товара и его предполагаемого покупателя, брокер старается провести сделку с максимальной выгодой для всех, и для себя тоже — ведь его гонорар это проценты от стоимости товара.
Для торгов по вторникам арендуют в Политехническом музее зал с большим столом, за которым все и собираются. Собираются брокеры предприятий-учредителей, кто-то объявляет предмет торгов — скажем, компьютеры… Можно купить всю партию целиком, можно разбить её на части и так продавать. В первый раз договориться не смогли — покупателям цена показалась слишком высокой. Тогда брокеры решили отложить торги и провести с продавцом переговоры о снижении первоначальной стоимости, которая на первых порах составляла 56 тысяч рублей за комплект. Но так как партия, по нашим понятиям, довольно солидная — двести компьютеров, брокеры сошлись на том, что оптовая цена всей партии должна быть ниже.
Участвовать в торгах могут брокерские конторы предприятий-учредителей или любые другие, но тогда они должны заплатить деньги за участие. Сумму пока не определили, так как сейчас участвуют только «свои». Пока на бирже работают семь брокерских контор.
Контора — это группа из нескольких человек. Бухгалтер, ревизор… Все договоры заключаются от имени брокерской конторы, а в пользу биржи платят от одного до трех процентов. Кстати, на фоне пустующих полок в наших магазинах выглядит особенно странным тот факт, что девяносто процентов всех обращений на биржу — из-за желания что-то продать. Так что предметов торговли хватает. Почему же они не доходят до потребителя? Где они застревают? Предлагают на продажу что угодно: шампиньоны, арбузы, стиральные машины «Малютка» (страшный дефицит!) … — оказывается за рыночную цену всё есть. И что самое интересное, стартовая цена на бирже всего процентов на пятнадцать-двадцать выше магазинной. Спекулянты же берут две цены.
Как считают брокеры, которые сейчас вполне могут выступать экспертами в области спроса и предложения, отпущенные на свободу цены повысятся совсем не так сильно, как это предусматривает правительственная программа. Даже на самые дефицитные вещи — максимум в полтора-два раза. Скажем, те же стиральные машины «Малютка». Смешно сказать, но завод имеет с каждой произведенной машины два рубля семьдесят копеек прибыли. Остальное выгребает государство — в пользу и распоряжение того самого правительства, которое планирует цены на будущем «свободном регулируемом рынке». И при этом оно не может обеспечить завод комплектующими деталями.
Теперь нашелся кооператив, который согласился изготавливать ту самую деталь, из-за отсутствия которой задерживалось производство. При этом цена возрастёт рублей на пять. Люди настолько привыкли, что у них забирают почти все, что добавка в пять рублей, которую завод может оставить себе, решает проблему.
Так что насытить рынок при наших возможностях вполне реально. В самых неожиданных местах обнаруживаются буквально залежи товаров, причем это относится как к сырью, так и к готовым изделиям. А вот заинтересованности ви х реализации предприятия пока не проявляют. Эту продукцию можно было бы реализовать тем же кооперативам, но — не выгодно. Все равно выгребут всю прибыль и ничего не оставят.
Предприятиям выгодно производить мало, но дорого. Хотя, надо бы наоборот. Да и вообще, зачем бояться роста цен, если они и так растут? Но сейчас они растут, так сказать, «планово», а при рыночных условиях будут расти на основании рыночных законов. Все наши новоявленные предприниматели сидят и ждут — куда ветер подует, придут раскулачивать или наоборот- похвалят. Они работают, по существу, на нелегальном положении. Как можно заниматься бизнесом, когда закона о собственности граждан нет, закона о предпринимательстве тоже нет? Три года назад многие поверили в необратимость перемен — стали открывать кафе, мастерские, налаживать какое-то производство. Потом их начали зажимать. И теперь мы все — стреляные воробьи, нас на голых обещаниях не проведешь. Кому же охота вкладывать деньги, что-то строить, чтобы завтра пришла «власть» и все поломала!
Сейчас в Моссовете появилось много прогрессивно мыслящих людей, которые готовы поддержать любое новое, полезное начинание. Но делать это приходится старыми методами — новые-то пока не разработаны.
Для того, чтобы выросла новая экономика, должны свободно рождаться и умирать любые предприятия. Сейчас этого нет, зато контролеров — сколько угодно. Да и с основанием предприятия, подобного бирже — проблем больше, чем надо. Скажем, её проще зарегистрировать в качестве госпредприятия, но… не на основе государственной собственности. В результате нужно будет отчитываться по зарплате, по штатному расписанию и по многому другому. Но отвечать за все нужно самим. Получить ничего нельзя, а если прогорел — сам виноват. Между тем, регулятор может быть только один — финансовый контроль и налоги, а все остальное — произвол.
Ассоциация и биржа существуют при Советском фонде милосердия и здоровья по той причине, что любой фонд должен где-то брать средства на свои программы. Поэтому вместе с благотворительной деятельностью Фонд занимается коммерцией — для поддержания бюджета. Так и у ассоциации 15% доходов идут на благотворительность — она содействует соцобеспечению одиноких пожилых людей и инвалидов в нескольких районах Москвы.
Среди тех, кто сотрудничает на бирже, нет людей, помнящих, как это было в старой России. Опыта никакого. И что плохо — западный опыт здесь не такая уж сильная подмога — слишком далеко они ушли от того первобытно-марксового рынка, который зреет у нас. Приходится все постигать самим — своим умом и коммерческими способностями. Что радует — не совсем удалось извести у людей эти качества.
В гостях у президента
Беседа с Ларисой Ивановной Пияшевой состоялась в начале октября 1990 г., Москва.
Материал опубликован в газете «Ведомости Госснаба», октябрь 1990 г.
Справка: Лариса Ивановна Пияшева (1947 — 2003)
В №5 журнала «Новый мир» за 1987 год под псевдонимом Л. Попкова опубликовала статью «Где пышнее пироги?», принесшую автору широкую известность. С октября 1991 г. по август 1992 г. занимала пост заместителя генерального директора департамента мэра Москвы. В эти же годы являлась председателем городского комитета по экономической реформе. Ею был разработан проект, альтернативный плану правительства Москвы, касательно вопроса приватизации предприятий торговли, транспорта и сферы обслуживания, а также — программа ускорения приватизации путём передачи значительной части собственности работникам предприятий, которая была отвергнута.

Страна, и особенно явственно её экономика — трещат по всем швам. А потому невольно возникает вопрос: о чём думает правительство? Кроме повышения цен оно не видит иных путей «оздоровления» экономики? В конце концов у нас теперь появился Президент и первые сто дней при нем давно прошли. Что сделано? Или, хотя бы, что задумано?
В некоторой степени на эти вопросы ответила экономист Лариса Пияшева, которая, вместе с группой других «радикальных» экономистов и публицистов была приглашена в конце июля 1990 г. в Кремль, где состоялся разговор с Михаилом Горбачёвым. С ней встретился наш корреспондент Владислав Ларин.
Владислав Ларин: Вас, в числе других «радикальных реформаторов» пригласили в Кремль. Для чего? С вами хотели провести инструктаж как с работниками идеологического фронта — ведь вы все публицисты. Или же решили посоветоваться? Быть может, теперь Михаил Горбачёв делает ставку на вас, как раньше делал ставку на «умеренных реформаторов»? Быть может, теперь вы будете определять ход перемен в нашей экономике?
Лариса Пияшева: Когда меня приглашали, то сказали, что это будет встреча с радикальными экономистами и публицистами. И назвали фамилии тех, кто будет участвовать — Анатлий Стреляный, Андрей Нуйкин, Игорь Клямкин, Николай Шмелёв. В общем, наша группа. Между тем, когда я потом читала о нашей встрече в «Аргументах и фактах», то ни слова о присутствии там перечисленных мною людей вообще не было. Все начиналось с Павла Бунича. Только какой же он «радикал»? Такое освещение представляется довольно односторонним.
То же самое — в «Известиях». Нас будто на этой встрече и не было. Так получается из газеты. Но кто же тогда те «радикалы», о которых шла речь? Ни Павла Бунича, ни Отто Лациса к ним не отнесешь. Они более близки к умеренным преобразователям, но именно о них написали газеты.
Владислав Ларин: А к кому вы относите себя?
Лариса Пияшева: Я бы сказала так — к классическим консервативным либералам, имея в виду консерватизм Адама Смита. Никакие политические группы я сейчас не поддерживаю, хотя иногда консультирую, скажем РХДД (Российское христианско-демократическое движение).
Владислав Ларин: Как вы думаете, какова была цель этой встречи в Кремле?
Лариса Пияшева: Думаю, это был жест со стороны Михаила Горбачёва, которым он хотел показать, что готов сделать «шаг влево» и объединить усилия всех в общем деле реконструкции экономики.
Владислав Ларин: Как вы думаете. Михаил Горбачёв сам подбирал людей для этой встречи? Ему были знакомы фамилии всех собравшихся?
Лариса Пияшева: У меня нет информации об этом, но сложилось впечатление, что он сам подбирал людей. Приглашение было сделано от имени Президента, а позвонил и передал его помощник Евгения Примакова. Было сказано: Михаил Сергеевич приглашает Вас в Кремль.
Владислав Ларин: Интересно, какова сейчас «технология» входа в Кремль? Есть ли какие-то проблемы?
Лариса Пияшева: Думаю, самое поразительное заключается в том, что я не обратила на это внимания. Не знаю, как раньше входили в Кремль — мне там прежде бывать не приходилось, а сейчас всё оказалось крайне просто. Нас не только не обыскивали, но даже не предложили открыть большие сумки.
Владислав Ларин: Сколько продолжалась беседа и как она проходила?
Лариса Пияшева: Встреча продолжалась пять с лишним часов с одним перерывом, причем не на обед, а на перекур. Сперва выступил Михаил Горбачёв, а потом дали высказаться всем присутствовавшим. Так что каждый говорил о своих проблемах — кто с чем пришёл. Скажем, Президент высказывал опасения относительно того, что народ не готов к реформе, что все слои противятся ей. И главное, что его беспокоит — неготовность к этому рабочих и крестьян. Михаил Горбачёв считает, что мало кто поддерживает перестройку. Получается, что никто не хочет перемен.
Владислав Ларин: А как же забастовки шахтеров, требования нефтяников, недовольство машиностроителей? Он что, не знает об их требованиях?
Лариса Пияшева: Этого вопроса мы вовсе не коснулись, но Михаил Горбачёв сказал, что везде, где бывает — на заводах, на встречах с крестьянами — он встречает резкое противодействие деятельности кооператоров…
Владислав Ларин: … и недовольство повышением цен?
Лариса Пияшева: Да. Таким образом, он одно выдает за другое. Но все-таки, по его мнению, народ начинает противиться переменам.
Владислав Ларин: Не сложилось ли у вас впечатление, что он не очень хорошо представляет ситуацию в стране?
Лариса Пияшева: Нет, такого впечатления не было. Наоборот, мне показалось, что он осознает реальность своего положения. Но мне думается, что у него были недостаточно серьезные консультанты, и те экономисты, которые с ним работали. Та чрезмерно идеологизированная экономическая программа, которая была разработана Леонидом Абалкиным и представлена Николаем Рыжковым, говорит лишь о недобросовестном экономическом консультировании.
Конечно, как часто бывает, нашему руководителю тоже говорят то, что он хочет услышать. Пожелай Президент услышать что-то другое, я думаю, у консультантов хватило бы мужества говорить правду о том, что нужно делать с нашей экономикой в действительности.
Владислав Ларин: А о чём на этой встрече говорили вы?
Лариса Пияшева: Собственно, о том же, о чем я пишу в своих статьях. В первую очередь я сказала, что период реанимирования социализма и переделывания его в демократический, который Михаил Горбачёв называл перестройкой — закончился. Сейчас начинается новый этап, который можно назвать «демократический прорыв» — переход к действию. А именно — реформа собственности, реформа землепользования и банковской системы.
Когда я перечислила всё это, Президент сразу поинтересовался, что именно я предлагаю сделать в этом направлении. Я ответила, что в качестве первой меры следует отдать крестьянам землю, чтобы уже осенние полевые работы проходили в новых экономических условиях.
Владислав Ларин: Каким вам видится этот процесс?
Лариса Пияшева: Я уверена, что крестьянам надо отдавать землю бесплатно. Как минимум — три гектара земли на одну семью. Причем, в эту группу должны быть включены и те, кто живет в городе, но не имеет там постоянной прописки. Городские жители тоже должны иметь право купить землю. Таким образом, вся земля поступает в фонд приватизации.
Владислав Ларин: И сколько эта земля может стоить?
Лариса Пияшева: Вот на этот вопрос сейчас ответить крайне трудно. Это решит рынок — очень быстро и в разных местах по-разному. Причем, каждый получает эту землю со всеми правами на неё. Хозяин может её продавать, дарить, наследовать. Если кто-то не хочет владеть землей — он может её просто продать, чтобы потом уехать в город. Хотя, конечно, нужно будет продумать такой вариант, чтобы люди не могли хитрить. А то кто-то работает в городе по лимиту, ждет очереди на квартиру и живет тем временем в общежитии. Он может воспользоваться новой возможностью вернуться в деревню. А может продать полученную землю и вернуться в свою очередь на квартиру в городе. Так вот, подобный вариант не должен проходить. Выбирай что-нибудь одно. Правда, жилье тоже войдет в фонд приватизации, и житель села вполне сможет купить квартиру в городе. Но именно купить, а не получить.
Владислав Ларин: Вы говорите об этой осени — времени, когда выйдет номер газеты с этим интервью. Но разве физически возможно успеть провести работу в такие сжатые сроки?
Лариса Пияшева: Мы говорим о реформе уже пять лет. За это время можно было разработать необходимое антимонопольное законодательство, подготовить первые шаги, подобрать необходимые для проведения реформы кадры.
Владислав Ларин: Ну, это благие пожелания, дела давно минувших дней.
Лариса Пияшева: Да, поскольку это не сделано, нужно сейчас первым делом создать комиссию по приватизации, которая должна работать параллельно с группой, разрабатывающей новую экономическую программу. Конечно, мои слова о том что нужно землю отдать к осени — это легкий перебор, своеобразный образ. Под ними я подразумеваю — отдать как можно быстрее. Дай бог, если мы за год успеем с этим делом разобраться. Так что, думаю, речь идёт о будущем годе. Сейчас главное — принять принципиальное решение и разработать схему процесса передачи. Скажем, в ближнем Подмосковье или с колхозами-банкротами этот вопрос можно решить уже сейчас, причем, довольно быстро.
Владислав Ларин: Но здесь возникает вопрос о доверии правительству. Думаю, что многим людям, когда они слышат, что правительство затевает очередную акцию, начинает казаться, что их в очередной раз пытаются «надуть». Переложить проблемы некомпетентного руководства на плечи всей страны. Ошибки делают одни, а отвечаем все вместе. Как в таких условиях можно планировать что-то масштабное?
Лариса Пияшева: Именно этот вопрос и был основным на встрече. Очень много было высказываний на эту тему и все в одном ключе — затеваемые реформы с сегодняшним составом правительства не пройдут. Доверия ему нет. Политическое время этого «кабинета министров» закончилось.
Владислав Ларин: Какова была реакция Михаила Горбачёва на такие высказывания?
Лариса Пияшева: Реакции особой не было. Видимо, ему было важно узнать наше мнение об этом. Готовы ли мы поддержать шахтеров в их требованиях о замене правительства.
Владислав Ларин: Вы продемонстрировали свою солидарность с шахтерами?
Лариса Пияшева: Да, эту мысль Президент услышал совершенно четко и многократно повторенной. У этого правительства нет никаких шансов провести ожидаемую всеми реформу. Оно должно уйти в отставку.
Однако, вернёмся к земле, а точнее, к моим предложениям на этот счет. Второе моё предложение, после раздачи земли — «операция фураж». Под этим я подразумеваю, что семенной фонд, корма, да и скот тоже — всё это должно поступить в открытую продажу. Каждый сельский житель должен иметь возможность без всяких сложностей приобрести всё это в свою собственность. Иначе как можно заниматься животноводством? Люди даже кур не могут завести, так как их нечем кормить. Поэтому в первую очередь надо пустить в продажу, причем в открытую, свободную продажу комбикорма и прочие виды фуража. Тем более, что сейчас такой огромный урожай…
Владислав Ларин: …который, по всем приметам, опять будет на треть потерян.
Лариса Пияшева: Да, но им можно было бы распорядиться гораздо более по-хозяйски. Просто пустить его в продажу. Чтобы люди не растаскивали потихоньку ведрами это зерно, а свободно его покупали, хранили и использовали для подъема животноводства. Вот и будут «убиты два зайца» — урожай сохранен и поголовье домашнего скота увеличено. Уже через несколько месяцев свинина в магазинах свободно появится.
Владислав Ларин: А какие ещё важные на ваш взгляд темы обсуждались?
Лариса Пияшева: Михаила Горбачёва очень волнуют проблемы Польши. Его информировали так, что сложилось впечатление, будто там всё плохо. В результате он склоняется к тому, что польский опыт имеет негативный оттенок и нам не подходит. Мы с Василием Селюниным пытались его в этом разубедить.
Дело в том, что Польша, живущая сейчас а условиях «шокотерапии», может в скором времени решить свои проблемы, которые связаны с некоторыми незаконченными, половинчатыми реформами. А именно: там были приватизированы торговля и сфера услуг, в то время как производство осталось в государственной собственности. Приватизацию промышленности было решено перенести на следующий этап реформы. В результате, поляки не начали структурную перестройку производства, и реформа забуксовала. Они испугались роста безработицы и решили сперва побороть инфляцию, а потом уже начинать структурное высвобождение рабочей силы. Думаю, в этом и заключалась их ошибка. Такие вещи нужно делать одновременно.
Вторая ошибка, как мне кажется, заключается в том, что решив бороться с инфляцией, польское правительство заморозило фонд заработной платы. Не знаю, кто у кого списал эту идею — Абалкин у Бальцеровича или наоборот. Но в результате у Абалкина (Леонид Иванович Абалкин — 1989 — 1991 гг. — заместитель председателя Совета министров СССР — В.Л.) прирост заработной платы мог составить 3%, после чего фонд замораживался, а у Бальцеровича — 2% (Лешек Генрик Бальцерович — 1989 -1991 гг. — вице-премьер и министр финансов в правительстве Польши — В.Л.). Для того, чтобы победить инфляцию, нельзя замораживать что-то одно. Если с этой целью замораживаются цены, то получается дефицит — что мы и имеем. Если же замораживать заработную плату, то в условиях роста цен происходит снижение жизненного уровня. Это не выход — получается, что каждый просто стал получать в три раза меньше денег.
Владислав Ларин: Ну и как вы думаете — мы на польских ошибках чему-нибудь научимся? Точнее, вы нас научите?
Лариса Пияшева: Эту идею мы и пытались донести до Михаила Горбачёва — надо не отказываться от польского опыта, а проанализировав его, понять — в чём заключались ошибки. И не повторять их. Они-то свои ошибки понимают, так что для них это не беда — они выскочат.
Владислав Ларин: Не в результате ли встречи с вами Михаил Горбачёв сформировал новую команду для подготовки проекта очередной реформы? Даже Николай Шмелев туда вошёл. Кстати, это не фантастика — за месяц сделать такую работу?
Лариса Пияшева: Я думаю, что фантастика. Практически сделать этого невозможно. Но мой оптимизм основывается именно на том, что в комиссию вошел Николай Шмелев, который, если ему дадут соответствующие полномочия, отсечёт у правительственной программы все нелепости. Тем более, что в определенной степени он будет опираться на программу «400 дней», разработанную тремя молодыми экономистами (Григорий Явлинский, Алексей Михайлов, Михаил Задорнов, ЭПИцентр, 1990 г. — В.Л.).
Эту программу уже представляли Михаилу Горбачёву, когда он становился Президентом. Но в то время она не была оценена, и авторы предложили её Борису Ельцину для России. Программа была отмечена, и даже включена в качестве одной из главных в проект правительственной экономической программы.
Владислав Ларин: И что должно через четыреста дней произойти?
Лариса Пияшева: Это срок перехода к рынку. В программе расписаны по дням все действия правительства на этом пути. С точки зрения идеологии, она полностью отвечает моим мыслям. Что же касается стратегии всех этих «дней» — она вызывает улыбку, так как эта часть слабо проработана с точки зрения логики современной жизни. В шутку эту программу назвали «программой военнного капитализма». Но основа для работы там есть, и она более обстоятельная, чем основа правительственной программы.
Владислав Ларин: Ваше резюме, заключение по этой встрече?
Лариса Пияшева: Я вынесла из этой встречи новую надежду. Михаил Горбачёв хорош тем, что на разных этапах нашей перестроечной истории дает новые надежды, открывает новые планы. И эти планы содержат все больше и больше положительных элементов. Надеюсь, что серьезные реформы в стране все-таки начнутся.
Полоса нестабильности
Материал написан в конце июня 1990 г. по результатам работы на выставке INHEBA-90, Братислава, 23—28 июня 1990 г., Братислава-Москва.
Опубликован в газете «Ведомости Госснаба», июль 1990 г.

Возвращаясь даже из ближней заграницы — удивляешься: насколько же отличается жизнь в «странах социализма» от нашей. Там тоже говорят о кризисе, но этот кризис не мешает колбасе нескольких сортов, винам различных марок, бананам, косметике и автозапчастям свободно лежать в магазинах. И всё-таки кризис, несомненно, есть. Просто, происходит он в странах, более зажиточных, чем наша, где понятие «частная собственность» не успели окончательно забыть.
Недавно я побывал в командировке в Чехо-Словакии на традиционной международной химической ярмарке ИНХЕБА-90. В ходе ярмарки и тех мероприятий, что её сопровождали, удалось поговорить с интересными людьми, которые в общих чертах обрисовали перспективы наших сегодняшних и будущих экономических отношений. На семинаре, посвященном этим проблемам моими собеседниками были заведующий отделом прессы и рекламы министерства внешней торговли Ирина Лацко и начальник отдела торгпредства ЧСФР в СССР Владимир Припутен. Некоторые их соображения на этот счет мне показались интересными.
Дело в том, что кризис социалистической системы связан с серьезными проблемами в наших экономических связях. Уже несколько месяцев не обменивают рубли на кроны Чехо-Словакии при выезде в эту страну. Но там, в Чехо-Словакии, курс хорошо известен: один к восьми — официальный, один к двум — чёрно-рыночный. Но многие, ездившие в Чехо-Словакию раньше, автоматически пересчитывают все тамошние цены по прежнему курсу — один к десяти, и радуются сравнительно невысоким ценам в магазинах.
Правда, наши сегодняшние туристы объявляют забастовки из-за полного прекращения обмена. Людям не на что выпить воды или посетить платный туалет, не говоря о том, что хотелось бы и сувенир какой-то увезти на память — хотя бы в размере разрешенных их таможней 300 крон.
Довелось в Чехо-Словакии услышать иную версию прекращения обмена денег. Многие помнят, что примерно с середины сентября прошлого 1989 года обмен «закрыли». Я получил свой загранпаспорт, без которого деньги не обменивают, через два дня после прекращения обмена. В результате ехал по служебной надобности без денег. Хорошо — помогли друзья.
В дороге все размышлял, в чем причина проблем. Дело в том, что, несмотря на все разговоры о том, кто сколько нам должен, наш баланс в торговле с ЧСФР оказался весьма отрицательным. Наша задолженность приблизилась к двум миллиардам рублей, и экономические отношения между нашими странами оказались весьма напряженными. В результате потребовались интенсивные переговоры для нормализации торговли.
А одна из главных причин этого, очевидно, в том, что в нашем экспорте преобладает относительно дешевое сырье, а в импорте — дорогостоящая продукция машиностроения. По существующим внутри СЭВ (Совета экономической взаимопомощи) ценам — обмен весьма неадекватный. Именно поэтому с начала следующего года все расчеты между бывшими соцстранами предполагается производить в конвертируемой валюте вместо полумифического переводного рубля. Наша страна об этом уже заявила официально.
Если состоится переход на торговлю всеми товарами по среднемировым ценам, то мы можем на этом деле выиграть — цена на нефть и прочес сырье хотя и понизилась, но всё равно остается гораздо выше «спущенной сверху» цены у нас. Конечно, довольно унизительно для вчерашней «сверхдержавы» торговать только сырьем, но — что же делать. Думаю, что при разумных действиях правительства России положение можно будет выправить, а пока…
Но, есть такой нюанс — существует немало предприятий, и среди них — весьма крупные, которые построены на нашей территории при участии и с привлечением средств стран-членов СЭВ. И Чехо-Словакии — в том числе. Расчет предполагалось проводить сырьем по каким-то льготным ценам. Как с ними быть теперь? Пересчитывать стоимость возведенного объекта на доллары? Или сохранять льготные цены на вывозимое сырье? Короче, решение «наверху» принято, но пути его реализации непонятны ни нам, ни восточно-европейским партнерам.
Конечно, наши чехо-словацкие партнеры заинтересованы в неизменности экономических отношений с Советским Союзом. Ведь если, к примеру, нефть придется возить с Ближнего Востока, то её стоимость может оказаться на 15—20% выше среднемировой. В то же время, с нашей страной транспортные потоки более-менее отрегулированы и их нарушение может иметь отрицательные последствия для всех участников.
Ситуация такова, что все понимают: так, как раньше, жить нельзя. Но рвать сложившиеся, привычные связи тоже никто не решается. Что, впрочем, разумно.
Конечно, всем хочется торговать с Западом, иметь высококачественные товары и валюту при минимальных собственных расходах. Правда, похоже, что это недостижимо. Придётся потратить немало времени, энергии и сил, чтобы догнать по качеству товаров и уровню жизни хотя бы так называемых «молодых тигров» -страны Юго-Восточной Азии.
Нужно решить — чем можно заинтересовать развитые страны, чтобы они согласились помочь своим соседям вернуться в систему нормальных ценностей — как материальных, так и культурных. Мешает то, что «их» не интересуют имеющие хождение в «соцстранах» деньги. Восточная Германия, похоже, сумела решить эту проблему наиболее удобным для себя способом. Но для остальных стран этот путь невозможен, значит надо придумывать что-то свое. Или изучать мировой опыт.
Нужно заинтересовать западных предпринимателей размещать в наших странах свои предприятия. Но для этого солидные партнеры требуют определенные гарантии: политическую стабильность и возможность распоряжаться полученным капиталом по своему усмотрению. Пока соответствующие законы не приняты ни у нас, ни в Чехо-Словакии. И в связи с этим эксперты не могут уверенно прогнозировать ситуацию. Куда подует ветер? Пожалуй, для нас это даже важнее, чем для западных коммерсантов. Пока царит штиль, сменяемый временами невесть откуда взявшимися шквалами, которые затем исчезают в неизвестном направлении.
Кстати, если говорить о ярмарке ИНХЕБА-90, ради которой я и приезжал в Братиславу, то она была, видимо, последней в таком виде. Сейчас организаторы брали со своих вовосточно-европейских коллег только часть стоимости ярмарочной площади в валюте. С будущего года вся оплата будет только в валюте — нашим коммерсантам нужно быть к этому готовыми. И не только им. Если в ближайшее время не будут упорядочены наши законы относительно владения валютой — причем не только для предприятий, но и для частных лиц — экономическая активность всё стремительнее будет идти на убыль.
Лучше всего чувствовали себя на ярмарке представители западное-европейских фирм, а особенно — австрийцы, которые каждое утро приезжали на своих шикарных авто из Вены, а вечером уезжали обратно. Однако, кроме европейских фирм, на ярмарку после перерыва приехали американцы, канадцы и группа фирм из Египта. Был на ярмарке и сюрприз — впервые на подобную ярмарку приехали представители из Албании. Похоже, мир сдвинулся основательно в сторону здравомыслия, пришедшего на смену всеобщей конфронтации.
Следующим летом в Братиславе опять, тогда уже в двадцать третий раз, будет проводиться одна из крупнейших химических ярмарок Европы — ИНХЕБА-91. Все желающие смогут принять в ней участие. Ведь у современной химии нет границ — она присутствует во всех отраслях промышленности, и мы сталкиваемся с её продукцией каждый день. Хотелось бы, чтобы к тому времени подготовка к Европе без границ затронула и нашу страну.
Человеку свойственно стремление к самостоятельности…
Беседа с Борисом Семёновичем Пинскером состоялась в конце октября 1990 г., Москва.
Материал опубликован в газете «Ведомости Госснаба», ноябрь 1990 г.

Справка: Борис Семёнович Пинскер (1947 — 2021) — экономист либерально-радикального направления, автор, переводчик, кандидат экономических наук. Издатель журнала «Референдум». В ноябре 1992 г. был избран членом координационного совета «Российского Учредительного союза» — организации радикальных либералов во главе с Мариной Салье, оппозиционных прагматическому руководству «Демократической России». С 1991 по 1998 год руководил издательством «Catallaxy».
К сожалению, под понятием «экономическое преступление» нередко подразумевалось, что хотя человек и работает хорошо, и результатов добивается лучших, чем на государственных предприятиях, но его надо наказать, так как методы в своей работе он использует те, что приняты в «мире чистогана». И наказывали — вплоть до высшей меры — если слишком много успел наработать. Потом разрешили мельчайшие из возможных частных предприятий — торговлю шашлыками, пирожками и цветочками. Но при этом радетели нового экономического мышления возмущались: эти кооператоры только о деньгах и думают, хотят поскорее урвать кусок и сбежать. И делали вид, что не понимают (а может быть, в самом деле не понимали?), что прибыль — главное для любого производства, каким бы оно ни было — частным или государственным. Между тем, раз «пирожковому бизнесу» не свернули шею, следом за ним появились и другие виды независимой экономической деятельности. В первую очередь — интеллектуальной. Скажем — издательский бизнес. С одним из самостоятельных издателей — редактором журнала «Референдум» Борисом Пинскером встретился наш корреспондент Владислав Ларин.
Борис Пинскер: Человеку свойственно стремление к самостоятельности, но у одних оно проявляется слабо, а у других — сильно. Кто-то находит возможность самовыражаться «прямо на дому», когда нет необходимости ни в партнерах, ни в организации. Скажем, человек сидит дома, выпиливает лобзиком, и ему хорошо. У другого жизненные интересы и претензии более разнообразны и основываются на активной деятельности.
Сейчас, когда происходит элементарная либерализация жизни, когда мы получили право заниматься открыто тем, чем нам хочется, на первый план вышло право человека заниматься активной политической и экономической деятельностью. В результате на свет божий появляются желания и стремления, которые ранее были скрыты в глубокой тени. Но бывает, что человек просто получает возможность открыто заниматься тем, к чему его давно тянуло. Так получилось и с нашим журналом «Референдум», который мы начали издавать в конце 1987 года.
Владислав Ларин: Интересно, как пришла такая идея?
Борис Пинскер: Очень просто. Сидели мы как-то со Львом Тимофеевым на кухне, пили чай, закусывали огурцом, и обсуждали внутренние проблемы страны. Главной темой было — насколько серьезными могут быть замыслы руководства и сколько продлится «оттепель». И в результате обсуждения пришли к выводу, что можно попытаться что-то сделать, чем-то помочь самим себе, народу и правительству. Например, можно начать издавать журнал, чтобы рассказать миру, что мы обо всем этом думаем. Надо признаться, что коммерческого интереса не было вовсе. Какая уж там прибыль при тираже две-три тысячи экземпляров даже при цене один рубль за номер.
И начали мы издавать журнал. Первым делом, раздобыли компьютер.
Владислав Ларин: Как начинающие самостоятельные издатели раздобывают компьютеры? Извините за практические вопросы, но быть может ваш опыт кому-нибудь пригодится.
Борис Пинскер: Нашлись добрые люди, которые привезли его нам в подарок.
Владислав Ларин: О! Вы даже обошлись без ссуды?
Борис Пинскер: Да, всё легко и просто. И о какой ссуде могла идти речь, если мы представляли собой два частных лица, которые решили заняться, строго говоря, нелегальной, по тем временам, деятельностью. Не было никакого закона на этот счет — ни разрешающего, ни запрещающего. Вообще-то, власть у нас суровая, вполне могла взять нас за холку с такой самодеятельностью. Но не взяла.
Так мы и работали два с лишним года, издали тридцать три номера журнала, а потом подумали, что можно попытаться перейти на легальное положение. И сейчас мы уже близки к завершающему моменту этой нелегкой работы.
Владислав Ларин: Как проходит этот процесс в условиях нарастающей демократизации и с усилением гласности?
Борис Пинскер: До отвращения долго, нудно и муторно. Это при том, что мы находимся в явно привилегированном положении, у нас хорошая репутация, в исполкоме Октябрьского района Москвы, где проходит регистрация, все нам рады и стараются помогать.
И вот уже более четырех месяцев я как заведенный, бьюсь головой в эту стену, и процесс еще не закончен. У нас в стране отвратительные бюрократические порядки, бороться с которыми нет никакой возможности. И никакой закон о печати помочь не в силах.
Вот смотрите. Для открытия банковского счета мне нужно, среди прочего, заключение финансового управления. И началось… Месяц они рассматривали наше заявление в районном финансовом отделе, затем переслали его в городское финансовое управление, где оно будет рассматриваться еще два месяца. Это интервью будет уже опубликовано, а бумаги ко мне еще не вернутся. Там, якобы, большая очередь — они не справляются. Хотя, кому и зачем нужно их заключение? Это — совершенно лишнее. Но тем не менее — «таков порядок».
Четыре недели документы рассматриваются в управлении по нежилым помещениям, которое, в данном случае, совершенно не нужно. Мы у них ничего не арендуем.
Владислав Ларин: Ваша редакция располагается прямо дома?
Борис Пинскер: Да, и не только у меня. Лев Тимофеев живет в такой же редакции. Но, спасибо Октябрьскому исполкому, они нашли нам помещение. И когда закончатся все эти рассмотрения, мы сможем приступить к ремонту, чтобы работать в более подходящих для этого условиях.
Владислав Ларин: А как дела с финансовой стороной вашей деятельности? Где вы берете деньги?
Борис Пинскер: Особенность нашего положения в том, что мы пока ещё легально не существуем, но уже легально издаемся. И за последние четыре номера журнала, когда он выходил тиражом 50 тысяч экземпляров, мы собрали сорок-пятьдесят тысяч рублей.
Владислав Ларин: А как обстояли ваши финансовые дела, когда тираж не превышал двух тысяч? Ведь вы издали таким образом больше трех десятков номеров.
Борис Пинскер: Ну, это были сплошные убытки. Тогда мы существовали на пожертвования. Но всю жизнь держаться на пожертвованиях неправильно. Журнал должен давать прибыль. Раньше практически все деньги уходили на приобретение бумаги и изготовление ксерокопий. Все сотрудники и наборщики работали бесплатно — на чистом энтузиазме. Но так не могло долго продолжаться. Ведь для того, чтобы работать бесплатно у нас, люди должны были прежде отработать на своем основном рабочем месте. Чтобы получить средства для жизни. В жизни всегда есть место подвигу, но это ведь неправильно — эксплуатировать людей за идею, не давая ничего более материального. Сейчас наши сотрудники получают неплохие деньги за свою работу.
Владислав Ларин: А лично вы, кроме работы над журналом состоите на какой-то государственной службе?
Борис Пинскер: Что вы, избави бог! Раньше я работал как все, а сейчас — частный предприниматель. Хотя, вроде бы, такого понятия у нас тоже пока нет.
Владислав Ларин: И у вас есть трудовая книжка?
Борис Пинскер: Конечно. Хотя наша система трудовых книжек в частности, и всего трудового законодательства и социального страхования вообще, столь несовершенны, что неизбежно будут меняться. Хотя пока и не очень понятно — как. Думаю, неизбежно придется переходить на систему страховых полисов.
Владислав Ларин: Какие перспективы для «Референдума» вы видите?
Борис Пинскер: Исходя из общих соображений, перспективы на выживание у нас неплохие. Но каким журнал станет в будущем — неизвестно. У нас подобрались неплохие интеллектуальные силы, которые чувствуют ситуацию, это интересно многим читателям. Но, кроме этого, хватает проблем с бумагой, типографией и так далее. Причем обстановка сейчас совершенно непрогнозируемая. Так что — посмотрим.
Владислав Ларин: А есть ли проблемы со сбытом?
Борис Пинскер: У нас есть отдел сбыта, который занимается распространением журнала. Туда приходят люди, которые предлагают свои услуги по продаже. Это ведь довольно выгодное дело, человек получает 10—15% от суммы выручки.
Владислав Ларин: Какие заработки у ваших сотрудников?
Борис Пинскер: Мы стараемся платить хорошо — так, чтобы люди хотели с нами сотрудничать. Минимум — две государственные зарплаты. Меньше просто стыдно платить. Для журналиста сейчас минимум — пятьсот рублей. Иначе он просто не сможет работать — ему вместо этого придется толкаться по очередям и «доставать» самые необходимые вещи.
Вперёд — к «карточному капитализму»
Беседа с Ларисой Ивановной Пияшевой состоялась в декабре 1990 г., Москва.
Материал опубликован в газете «Ведомости Госснаба», декабрь 1990 г. (в заголовке случилась ошибка — вместо «капитализм» напечатано «социализм»)
Некоторые считают экономиста Ларису Пияшеву экстремистом. В условиях «гласности» каждый может считать что угодно. Тем более, что всё равно — каждому не угодишь. Но её выступления звучат вполне убедительно и здраво. Именно поэтому наш корреспондент Владислав Ларин обратился к ней за комментарием по поводу экономико-политической ситуации, сложившейся в стране к моменту начала «претворения в жизнь» программы пятисотдневного перехода к «советскому капитализму»
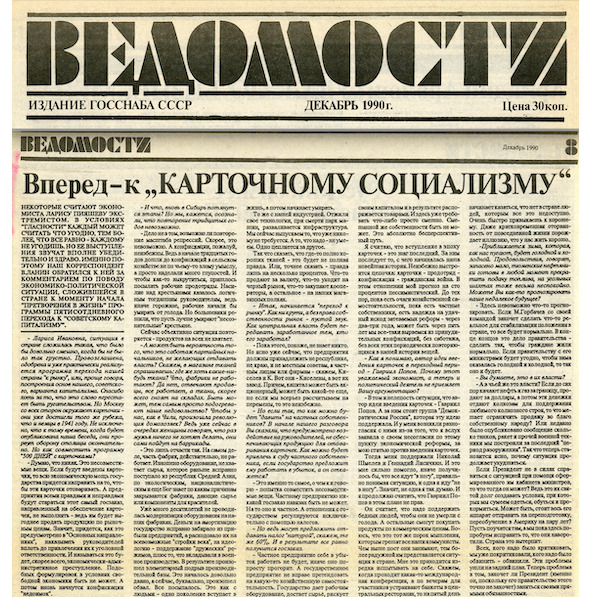
Владислав Ларин: Лариса Ивановна, ситуация в стране сложилась такая, что было бы довольно смешно, когда бы не было так грустно. Провозглашена, одобрена и уже практически реализуется программа перехода нашей страны «к рынку». Или, проще говоря, построения основ нашего, советского, варианта капитализма. Спасибо хоть за то, что это слово перестает быть ругательством. Но Москву со всех сторон окружают карточки — они уже достигли того же рубежа, что и немцы в 1941 году. Не исключено, что к тому времени, когда будет опубликована наша беседа, они прорвут оборону столицы окончательно. Но как совместить программу «500 дней» с карточками?
Лариса Пияшева: Думаю, что никак. Это несовместимые вещи. Если будут введены карточки, то всю экономическую мощь государства придется направить на то, чтобы эти карточки «отоваривать». А предприятия всеми правдами и неправдами будут стараться этот самый госзаказ, направленный на обеспечение карточек, не выполнять — ведь им будет выгоднее продать продукцию по рыночным ценам. Значит, придется, как это предусмотрено в «Основных направлениях», наказывать руководителей вплоть до привлечения их к уголовной ответственности. И называться это будет, скорее всего, экономически-административное преступление. Подобных формулировок в условиях свободной экономики быть не может. А потом вновь начнутся конфискации «недоимок».
Владислав Ларин: И что, вновь в Сибирь потянутся этапы? Но мы, кажется, осознали, что повторение тридцатых годов невозможно…
Лариса Пияшева: Дело не в том, возможно ли повторение масштаба репрессий. Скорее, это невозможно. А конфискации, пожалуй, неизбежны. Ведь в начале тридцатых годов дошли до конфискаций в сельском хозяйстве не по чьему-то злому умыслу, а просто наделали много глупостей. И чтобы как-то выкрутиться, пришлось посылать рабочие продотряды. Насилие над крестьянами казалось логичным тогдашним руководителям, ведь иначе горожане, рабочие начали бы умирать от голода. Но большевики решили, что пусть лучше умирают «несознательные» крестьяне.
Сейчас объективно ситуация повторяется — продуктов на всех не хватает.
Владислав Ларин: А может быть вероятность того, что это саботаж партийных начальников, не желающих отдавать власть? Скажем, в магазине тканей спрашиваешь: где же хоть какие-нибудь ткани? Что, фабрики не работают? Да нет, отвечают продавцы, всё работает, а ткани, скорее всего гноят на складах. Быть может, тем самым просто подогревают наше недовольство? Чтобы у нас, как в Чили, произошла революция домохозяек? Ведь уже сейчас в очередях женщины говорят, что раз мужья ничего не хотят делать, они сами пойдут на баррикады.
Лариса Пияшева: Это лишь отчасти так. На самом деле, часть фабрик, действительно, не работает. Изношено оборудование, не хватает сырья, которое раньше исправно поступало из республик Средней Азии, по экологическим, националистическим и ещё бог знает по каким причинам закрываются фабрики, дающие сырье или компоненты для красителей.
Уже много десятилетий не проводилась модернизация оборудования на наших фабриках. Деньги на амортизацию государство исправно забирало из прибыли предприятий, а расходовало их на всевозможные «стройки века», на идеологию, на поддержание «дружеских» режимов, плюс то, что вкладывали в военное производство. В результате произошел элементарный подрыв производительной базы. Это началось довольно давно, а сейчас, буквально, произошел обвал. Всё посыпалось. Это как с людьми — одно поколение вступает в жизнь, а потом начинает умирать.
То же с нашей индустрией. Отжили своё технологии, при смерти парк машин, разваливается инфраструктура. Мы сейчас выпускаем то, что уже никому не требуется. А то, что надо — не умеем. Одно цепляется за другое.
Так что сказать, что где-то полно хороших тканей — это будет не полная правда. Или, точнее сказать — правда лишь на несколько процентов. Что-то продают за валюту, что-то уходит на черный рынок, что-то закупают кооператоры, а остальное — на наших магазинных полках.
Владислав Ларин: Итак, начинается «переход к рынку». Как ни крути, а без права собственности рынок — пустой звук. Как центральная власть будет передавать заработанное тем, кто это заработал?
Лариса Пияшева: Пока этого, похоже, не знает никто. Но ясно уже сейчас, что предприятия должны принадлежать не республике, не краю, и не местным советам, а частным лицам или фирмам — скажем, «Киселёв и Ко». Вот они — Киселевы, а вот их завод. Причем, капитал может быть акционерный, может быть какой-то еще, но если мы всерьез рассчитываем на перемены, то это неизбежно.
Владислав Ларин: Но если так, то как можно будет давить на частных собственников? В начале нашего разговора Вы сказали, что предусмотрено воздействие на руководителей, не обеспечивающих продукцию для «отоваривания» карточек. Как можно будет привлечь к суду частного собственника, если государство предложит ему работать в убыток, а он откажется?
Лариса Пияшева: Это именно то самое, о чем я и говорю — попытка совместить несовместимые вещи. Частному предприятию никакой госзаказ навязан быть не может. На то оно и частное. А отношения с государством регулируются исключительно с помощью налогов.
Владислав Ларин: Но ведь могут предложить отдавать налог «натурой» — произведённой продукцией, скажем, те же 60%. И в результате всё равно получится госзаказ.
Лариса Пияшева: Частное предприятие себе в убыток работать не будет, иначе оно попросту прогорит. А государственное предприятие не вправе претендовать на какую-то хозяйственную самостоятельность. Государство дает рабочим оборудование, достает сырьё, рискует своим капиталом и в результате распоряжается товарами. И здесь уже требовать что-либо просто смешно. Смешанной же собственности быть не может. Это абсолютно бесперспективный путь.
Я считаю, что вступление в эпоху карточек — это последний шаг. За ним последует то, с чего начиналась наша новейшая история. Неизбежно выстроится цепочка: карточки — продотряд — конфискация — гражданская война. В этом отношении мой прогноз на сто процентов пессимистичный. До тех пор, пока есть очаги хозяйственной самостоятельности, пока есть частные собственники, есть надежда на удачный исход затеваемых реформ — через два-три года, может быть через пять лет мы все-таки вырвемся из принудительных конфискаций, без саботажа, без всех этих периодически повторяющихся в нашей истории вещей.
Владислав Ларин: Как я понимаю, автор идеи введения карточек в переходный период — Гавриил Попов. Почему этот уважаемый экономист, а теперь и политический деятель не приемлет Вашу аргументацию?
Лариса Пияшева: В том и нелепость ситуации, что автор идеи введения карточек — Гавриил Попов. А за ним стоит группа «Демократическая Россия», которая эту идею поддержала. И у меня возникли разногласия с ними из-за того, что я вслух заявила о своем несогласии по этому пункту экономической реформы, за мою статью против введения карточек.
Тогда меня поддержали Николай Шмелев и Геннадий Лисичкин. И это мне сильно помогло, иначе получилось бы, что все «идут в ногу», правильно понимая ситуацию, и одна я «иду не в ногу». Значит, не одна я так думаю. И я продолжаю считать, что Гавриил Попов в этом плане не прав.
Он считает, что надо поддержать бедных людей, чтобы они не умерли с голода. А остальные смогут покупать продукты по коммерческим ценам. Боюсь, что это тот же порок мышления, которым грешат все наши коммунисты. Чем выше пост они занимают, тем более радужной им представляется ситуация в стране. Мне это приходится изредка испытывать на себе. Скажем, когда проходит какая-то международная конференция, а по вечерам для участников устраивают банкеты в центральных ресторанах, то на пятый день начинает казаться, что нет в стране людей, которым все это недоступно.
Очень быстро привыкаешь к хорошему. Даже кратковременная оторванность от повседневной жизни порождает иллюзию, что у нас жить хорошо.
Владислав Ларин: Приближается зима, которая, как нас пугают, будет голодной и холодной. Продовольствия, говорят, запасено мало, тюменские нефтяники готовы в любой момент прекратить подачу топлива, на угольных шахтах тоже весьма неспокойно. Можете Вы как-то прогнозировать наше недалекое будущее?
Лариса Пияшева: Здесь невозможно что-то прогнозировать. Если Михаил Горбачёв со своей командой захочет сделать что-то реальное для стабилизации положения в стране, то всё будет нормально. В конце концов это дело правительства — сделать так, чтобы граждане жили нормально. Если правительству с его министрами будет угодно, чтобы зима оказалась голодной и холодной, то так оно и будет.
Владислав Ларин: Вы думаете, это в их власти?
Лариса Пияшева: А в чьей же это власти? Если до сих пор качают нефть и газ за границу, продают за доллары, а потом эти денежки отдают колхозам для поддержания любимого колхозного строя, то что мешает ограничить продажу во благо собственному народу? Или недавно было опубликовано сообщение сколько танков, ракет и прочей военной техники мы построили за последний «период разоружения». Так что теперь становится ясно, почему ситуация продолжает ухудшаться.
Если Президент не в силах справиться с ситуацией при помощи сформированного им кабинета министров, то что тогда он может? Ведь это их святой долг — создавать условия, при которых мы сумеем одеться, обуться и прокормиться. Может быть, стоит весь его аппарат отправить на переподготовку, переобучение в Америку на пару лет? Пусть поучатся там, а мы пока здесь попробуем исправить то, что они наворотили. Страна это вытерпит.
Всех, кого надо было критиковать, мы уже покритиковали, кого надо было обвинить — обвинили. Эти проблемы ушли на задний план. Теперь проблема в том, захочет ли Президент (именно он, поскольку его правительство этого точно не захочет) заняться своими прямыми обязанностями.
Игры для взрослых
Беседа с Константином Боровым состоялась в декабре 1990 г., офис РТСБ (Российская товарно-сырьевая биржа), Москва. Также в офисе была Ирина Хакамада, выполнявшая обязанности бухгалтера биржи, и ещё кто-то третий. Это был весь руководящий состав биржи.
Материал опубликован в газете «Ведомости Госснаба», январь 1991 г. (после публикации этого материала К. Боровой пригласил меня возглавить пресс-службу РТСБ, но у меня была более интересная работа)
Справка: Константин Натанович Боровой (1948) — российский предприниматель и политик. С 1989 по 1993 гг. в качестве эксперта и управляющего участвовал в создании ряда предприятий — бирж, банков, инвестиционных компаний и т. д. Президент Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ) — 1990 — 1993 гг. Депутат государственной думы 1996—2000 гг.
Несколько месяцев назад мы писали об открывшейся в Москве товарно-сырьевой бирже («Ведомости Госснаба, «Побег из «лагеря социализма», август 1990 г.). С того момента прошло немало времени и теперь биржа, по словам её организаторов, существует «уже в следующем веке». А недавно состоялось её «освящение», значит, сам бог велел: работайте, товарищи! Наш корреспондент Владислав Ларин встретился с главным управляющим Российской товарно-сырьевой биржи Константином Боровым, который рассказал — что это за биржа и как она может работать в наших условиях.

Когда есть товар и покупатель, то их можно свести двумя путями — «советским» и «несоветским», капиталистическим, значит. Советский подразумевает распределение всего произведенного через какой-то централизованный орган, в котором сидят люди, путем весьма сложных расчетов высчитавшие, что сколько стоит, и почём это самое можно продать. Причем, если в теории ещё удается представить работу подобного механизма, то на практике мы сейчас пожинаем плоды такого распределения.
Второй путь — назовем его капиталистическим — это использование биржи. Причем, надо понимать, что биржа выполняет гораздо более сложные функции, чем это кажется на первый взгляд.
Во-первых, это торговля. Но функция торговли для биржи не главная. Как считают специалисты, через биржу на Западе проходят всего несколько процентов товаров.
Во-вторых, и это, пожалуй, главное — на бирже происходит котировка товаров. То есть, путем выяснения спроса и предложения выясняется стоимость любого товара, представленного для торгов. Причем, на первый взгляд, всё выглядит элементарно просто. Скажем, предметом торгов становится партия пшеницы. В зависимости от её количества, качества и условий поставки (скажем, где её должен получить потребитель — из хранилища, в пункте перегрузки или принять прямо на своём складе) цена будет несколько различаться. Но после недолгой «игры» партия будет оценена и куплена кем-то, кто даст максимальную цену. Получается своеобразный аукцион.
В-третьих, биржа страхует производителя продукции от всяких капиталистических бед — скажем, от перепроизводства. Здесь механизм более сложный, но суть его заключается в том, что производители практически перестают опасаться перепроизводства товара. Пример с той же пшеницей. Чтобы фермеры не опасались кризисов, связанных с её перепроизводством, биржа выполняет буферную функцию. Урожай покупается «на корню» ещё до момента его сбора. После этого задача фермера — собрать столько, сколько было обещано, а остальное — не его головная боль. Именно в таких случаях иногда приходится уничтожать часть урожая, чтобы сохранить стабильные цены. Зато фермеры могут не опасаться, что разорятся и окажутся безработными. Ведь если это произойдет, кто будет завтра выращивать новый урожай? Тем более, если год окажется менее удачным.
Механизмы такой биржевой игры весьма сложны, но результаты получаются неплохие. Наверное, именно поэтому «там» биржи как были сто лет назад, так и остались. А у нас позакрывали их шестьдесят лет назад, так сейчас приходится создавать вновь. И учиться наши брокеры едут в ту же Америку. Кстати, интересный вопрос — откуда в нашей стране берутся коммерсанты? Оказывается, склонность к подобной деятельности присутствует у некоторых людей всегда. Только раньше за это сажали за решетку, а сейчас, вроде бы, перестали. И стали в стране распрямляться те, кто испытывает интерес к «альтернативной» экономической деятельности. В других странах это называется предприимчивость, а у нас — экономическое преступление.
В связи с этим скоро появится ещё одна проблема. Когда из уголовного кодекса исчезнут такие термины, как «экономическое преступление» и «валютные махинации», а из тюрем и лагерей начнут возвращаться те, кто пострадал на этой почве, у государства появится новая статья расхода. Как сейчас требуют компенсации за свои страдания узники сталинских лагерей, так же могут предъявить свои претензии к государству «прорабы экономической перестройки». Они-то за что пострадали?
Когда произносится слово «биржа», то в памяти всплывает виденный где-то в кино огромный зал, напоминающий сумасшедший дом, где все отчаянно жестикулируют, что-то кричат и вроде бы не слушают друг друга. На самом же деле, такая эмоциональность — это пример высокого профессионализма. Сделки вспыхивают и совершаются практически моментально.
У наших брокеров такого класса пока нет, поэтому сделки обсуждаются более вдумчиво. Но опыт приходит быстро, и сейчас во втором подъезде Политехнического музея в Москве, где временно базируется биржа, нарастает оживление. Приходят люди, приехавшие со всего Союза и желающие начать биржевую деятельность. Причем, если на первых порах было больше «ходоков», выбивающих что-то для родного предприятия и мыслящих терминами «фонды», «лимиты» и так далее, то сейчас больше желающих открывать что-нибудь «биржеобразное» у себя дома.
Дело в том, что мир рыночных отношений совершенно отличается от того распределительного мира, к которому привыкли наши производственники-снабженцы. И цены на рынке, если никто не вмешивается и не пытается их «регулировать», устанавливаются очень демократично — в зависимости от наличия товаров на нём. Оказывается, можно насытить даже такой ненасытный рынок, как наш. Скажем, недавно появилось сообщение, что на проводимом нашими таможенниками аукционе уже несколько раз оставались невостребованными… компьютеры! Конечно, это можно объяснить насыщенностью рынка компьютерами определенного класса, но сам факт!
И в связи с этим, у специалистов вызывает сомнение, что отпущенные на свободу цены взлетят до небес. Как показывает биржевый опыт, рыночная цена на товары, ставшие предметом торгов, отличается от государственной процентов на 25—30. И это при том, что таким способом продаётся меньшая часть продукции, выпускаемой предприятиями. Можно представить, что когда на рынок хлынет вся продукция, то эта разница станет еще меньше. Причем, уже сейчас встречаются товары, на которые рыночная цена оказывается ниже государственной.
Конечно, и мясо на первых порах подорожает в несколько раз, и некоторые другие пищевые продукты. Но всё равно, цены будут гораздо ниже, чем на сегодняшнем «регулируемом» колхозном рынке. Ведь когда из нашего языка исчезнет понятие «спекуляция», а правительство перестанет произвольно повышать цены, то среди производителей начнется конкуренция. Никуда от этого не денешься — вспомните, как снижались цены в первый год на кооперативные товары, пока не начались гонения на кооператоров. И на сельхозпродукцию цены снизятся — как миленькие, достаточно будет нашим свободным крестьянам собрать один приличный урожай не для дяди, а для себя. Вот тогда-то и начнется настоящая работа для биржи. А пока — учеба, тренировка, накопление опыта.
Похоже, что российское правительство питает доверие к организаторам биржи — успехи за последнее время весьма впечатляющие. А без «высокой благосклонности» это едва ли возможно.
Сперва образовалась общественная биржа — группа людей, желающих заняться такой вот необычной деятельностью. Позже, в июле 1990 года, биржевый совет решил создать акционерное общество. С первого сентября началась подписка на акции, а в середине октября прошло собрание акционеров, которых к тому времени было две сотни. Причем, это получилось довольно демократичное образование. Дело в том, что акционерное общество «Биржа» отличается от других акционерных обществ тем, что каждый акционер является держателем только одной акции. Получение дивидендов хотя и ожидается, но это не главное. А главное заключается в том, что акция дает право участвовать в торгах. Фактически, каждый держатель акции может открыть брокерскую контору и заняться биржевой игрой.
Первоначально акция стоила сто тысяч рублей, но так как их количество было ограничено, то сейчас новые члены, желающие приобрести акции, выкупают их у прежних держателей по цене в полтора раза выше — до ста пятидесяти тысяч. Сегодня среди организаторов биржи прослеживаются две точки зрения на её будущее. Одни считают, что надо повысить стоимость акций, чтобы тем самым ограничить число участников, а значит — конкурентов. Но как считает управляющий, это приведет к состоянию стагнации.
Наоборот, надо увеличить уставной капитал и распространить еще большую партию акций, чтобы как можно больше брокерских контор было в стране. Пока в торгах участвуют около ста восьмидесяти брокеров, но в будущем эта цифра может заметно возрасти. По стране уже открыты около сорока отделений биржи, а в каждом отделении может быть до двухсот брокерских контор. В результате, конкуренция приведёт к совершенствованию биржевой деятельности.
Определенный интерес к бирже проявляют и иностранцы. Если их активность будет направлена не только на вывоз нашего сырья, но и на ввоз своих товаров, то от этого сможем выиграть все мы. Ведь чем больше товаров, тем ниже котировка, а пример с компьютерами показывает, что даже очень дефицитными вещами можно насытить рынок — сперва, конечно, по высокой цене, но чем дальше — тем дешевле. Пока же нет законов, позволяющих иностранным партнерам вывозить прибыль, так что их трудно заинтересовать.
Что же дает приобретение акции, кроме места на бирже? Пожалуй, главное — это доступ к информационным каналам. Сегодня биржа может использовать каналы связи министерства путей сообщения, а в будущем её организаторы собираются использовать спутник связи для контактов со своими отделениями и биржами других стран.
Но даже приобретя место на бирже, рано приступать к делу — нужны специалисты. А где их взять, если практически никто не помнит тех времен, когда в России были биржи? Для помощи, консультаций и обучения привлекают наших, советских людей, которым при хотелось работать на западных биржах (есть оказывается и такие!). Приглашают американцев для обучения. На подобные расходы есть и валюта — ведь появились первые иностранные держатели акций, которые купили их за валюту.
Причем, оказываются полезными и истории биржевого дела. Как считают специалисты, наша, современная, советская биржа аналогична тем биржам, что были на Западе лет тридцать-пятьдесят назад. Конечно, если идти этой дорогой, то путь будет пройден нами быстрее — главное смелее шагать. Сейчас «там» биржи крайне специализированы — так проще работать. Они напоминают слоеный пирог, где в каждом слое — свои биржевые товары.
Наша же биржа универсальная. Это можно рассматривать как недостаток, если соизмерять с Западом. Но сейчас нашей биржи иные задачи — она восстанавливает экономику, налаживает новые связи и определяет новые цены.
Можно предположить, что в скором времени через нашу биржу будет проходить до двадцати процентов продукции. Это очень много, но на первых порах это неизбежно. Со временем, когда установятся нормальные, коммерческие цены, нагрузка будет уменьшаться.
Но пока у нас есть определенные ограничения на вывоз товаров. Это мешает работе с иностранцами. Поэтому на бирже есть ревизионная комиссия, возглавляемая председателем, который выполняет обязанности государственного комиссара на бирже. Он собирает гербовый сбор, контролирует сделки и объемы товаров — чего, сколько и куда продано. Как предполагается, в будущем Совмин РСФСР выделить несколько генеральных лицензий, по которым можно будет получать разрешения на продажу товаров у руководства биржи и у комиссара. Ограничиваться будет только объем продаваемой продукции.
В недалеком будущем все цены должны стать свободными — у частного производителя, о котором нам сейчас толкуют, других просто быть не может. Или он продает по выгодной цене всё, что произвел, или же не производит ничего. И не надо этого бояться! Если исключить монополизм, то цена все равно будет диктоваться спросом, а спрос будет подстегивать производителей. Начнется перетекание капитала туда, где выше заработки, а это, в свою очередь, приведет к росту производства и снижению цен. Механизм этот старый, надежный и действует во всем мире. Особенно смешно — бояться роста цен на сельхозпродукцию. Во всем мире постоянно наблюдается се перепроизводство. Только у нас — вечная нехватка.
Чтобы механизм работы биржи стал понятен, можно рассмотреть его на примере какой-нибудь сделки. Например — снова с пшеницей. Брокер получает от клиента предложение продать тысячу тонн зерна. Он распространяет эту информацию по своим каналам, чтобы другие брокеры успели подготовиться. Назначается день, когда будут проходить торги. Известна начальная цена, известно качество товара. Люди собираются, и кто дал максимальную цену, сказав «покупаю» — тому и принадлежит товар. Причем здесь не может быть места обману. Брокер может обмануть только один раз. Если он сказал «покупаю», а потом передумал — ему делать на бирже больше нечего.
Доход брокера тоже напрямую зависит от цены. Чем дешевле он купил для клиента какой-то товар, тем выше его комиссионные. Чем дороже продал — то же самое.
Кстати, скоро все желающие смогут наблюдать за процессом торгов своими глазами. Руководство биржи договорилось с исполкомом Краснопресненского района Москвы о выделении участка земли под строительство «торговых залов», офисов, гостиницы. Есть западные фирмы, желающие взять подряд на это строительство. Но это дело будущего. А пока биржа собирается переезжать в Краснопресненский район, где ей уже сейчас выделается помещение. Торги будут проходить каждый день, а все желающие научиться этому делу смогут наблюдать за ними с балкона.
У ворот рынка
Беседа с И. В. Ручкиным и О. Н. Суховой состоялась в 1990 г., Выкса.
Материал опубликован в газете «Ведомости Госснаба», январь 1991 г.

Два человека стоят у ворот, на которых красуется большой амбарный замок. Наверху надпись «Рынок». Первый: интересно, что делать, если мне нужно что-то купить прямо сейчас? Второй: сейчас нельзя, ведь у нас регулируемый рынок — директор сам решает, когда торговцы должны работать… (рыночная шутка).
К неразберихе с указами, директивами, постановлениями и разъяснениями к ним все уже привыкли — не первый год живем в этой стране. Но программа «500 дней» вроде бы начала реализовываться, и хотя народ шутит: «пошел пятнадцатый день — чувствуешь как жизнь изменилась?», однако, все ждут, с чего «они» начнут? Люди давно уже не идентифицируют себя с правительством, а лишь ждут: что «они» еще придумают?
Интересно, а что думает руководящее звено крупных предприятий, и те на кого в первую очередь проливается весь этот бумажный дождь? Бумагу-то составить не трудно, а вот как реализовать написанное в ней? Как согласуются между собой декларации и документы их подкрепляющие? На эти темы с нашим корреспондентом Владиславом Лариным беседовали заместитель начальника производственно-сбытового управления Выксунского металлургического завода — что под Нижним Новгородом — И. В. Ручкин и техник этого завода О. Н. Сухова.
В конце октября — начале ноября прошлого, 1990 года у руководителей предприятий было горячее время. Совсем недавно вышел очередной указ Президента — на этот раз о сохранении долгосрочных связей между производственными партнерами. А затем подоспело постановление Совмина СССР, самым интересным разделом в котором многим показался тот, что касался санкций за ослушание. Плюс к тому, Россия вроде бы начала реализацию эпохальной программы «500 дней». Проблема обострялась ещё и тем, что один из создателей отказался от нее под тем предлогом, что потеряно время. Вот и работайте, дорогие товарищи, как знаете.
Прежние производственно-сбытовые главки Госснаба СССР теперь сменили вывески и стали посредническими фирмами. Причем функции этих фирм сократились. Теперь на завод приходит бумага, в которой указывается завод-поставщик, территориальный орган Госснаба и количество поставляемого продукта — скажем, труб — на весь год. И всё. Дальше вертитесь сами. Вот такой рынок.
Причем госзаказ будет составлять в 1991 году порядка 90% всего объема продукции, хотя, возможно, и больше. А ведь прежде, чем отправлять потребителю готовую продукцию, её нужно произвести. Для этого необходимо сырье, материалы, должен быть подписан договор о загрузке производственных мощностей. Хотя бы на первое полугодие. Но этого нет — всё затянулось. А продукцию потребитель будет требовать в срок, причем в случае непоставки в срок — штраф, составляющий 50% стоимости заказа. После выплаты штрафа поставщик обязан все-таки выполнить обязательство…
Виноватым окажется завод. Скажут, что он — монополист эдакий — саботирует сроки поставки. Кроме того, он должен будет возмещать убытки потребителю, а они могут оказаться миллионными. Кроме того, в постановлении заложен пункт — потеря предполагаемой прибыли. Сумма тоже может оказаться совершенно «неподъемная».
А какие санкции можно применить к ведомствам? Скажем, к тому же Госснабу? Есть и такой пункт. Скажем, за несвоевременное доведение до предприятий заказов государства, лимитов на материальные ресурсы, за несвоевременное прикрепление потребителей к поставщику придется уплатить по заявлению предприятия или производственно-сбытовых органов штраф в размере ста рублей за каждый день просрочки, но всего — не более тысячи рублей. Иными словами, предприятие должно платить, если арбитраж сочтет это необходимым, пятьдесят процентов стоимости заказа, плюс вероятный понесенный ущерб, а ведомство — сто рублей, ну, или в крайнем случае — тысячу!
Сейчас начнутся массовые обращения в арбитраж обиженных предприятий. Дело в том, что не все поняли пункт постановления, в котором говорится о долгосрочных связях. Долгосрочными партнерскими связями считаются те, и они, кстати, должны обеспечиваться ресурсами, которые продолжаются более двух лет. А на завод приходят обиженные депеши: как же так, мы сотрудничали год или два, а вы отказываетесь от продолжения. Но ведь эти связи не будут обеспечиваться сырьем и материалами!
В 1989 году у завода госзаказ составил 100%, в 1990 году — 95%, на 1991 год ориентировочно можно сказать — 90%. Причем, если раныше госзаказ распространялся на всю продукцию, то теперь он дифференцирован по видам. Будет ли этот госзаказ обеспечен необходимыми ресурсами? Вопрос пока открытый. Во всяком случае, сейчас вся кампания прикрепления партнеров друг к другу срывается. До 15 ноября должно завершиться прикрепление, к 15 декабря договоры должны быть заключены. Как считают специалисты, сроки эти совершенно нереальные. В постановлении заранее заложены невыполнимые вещи. Но у нас это в традиции… Так надо начинать штрафовать этих нерадивых работников! Но можно быть уверенными, что с какой-нибудь высокой трибуны вновь раздастся объяснение: мы сделали все, что должны, виноваты предприятия.
Кстати, те обиженные предприятия, которые состоят в договоре с поставщиком менее двух лет, тоже будут подавать жалобы в арбитраж. А так как сейчас арбитраж будет завален делами, у людей там не будет времени внимательно разбираться со всеми, то в этой бумажной реке вполне могут оказаться ошибочные решения. В результате, завод могут обязать выполнять прежние договоры, под которые Госснаб не выделит лимиты. Разумеется, завод подаст на пересмотр, но ведь все это — потеря времени.
Что касается программы «500 дней», то она совершенно очевидно идёт вразрез с начавшейся кампанией загрузки предприятий заказами. Ведь в программе идёт речь о сохранении связей лишь в первой половине года, а дальше — начинайте действовать сами. В постановлении же сказано о загрузке предприятий на весь год. Маховик крутится в прежнем направлении, и как-то не видно возможностей для его остановки.
Можно предположить, что в условиях свободного рынка, во всяком случае на первых порах, завод сможет жить неплохо. Он производит колеса для железнодорожных вагонов, трубы разного назначения, некоторый ширпотреб. Список невелик, но вещи это дефицитные, спрос заметно превышает предложение, и в условиях монополизма производителя можно было бы даже не очень поднимать цены. Правда, при условии того же со стороны поставщиков сырья. А этого уже никто гарантировать не может.
Сейчас есть некоторый опыт реализации продукции сверх госзаказа — завод завален просьбами. Сделки, преимущественно, бартерные: мы вам — трубы, а вы нам — стройматериалы, сантехнику и прочие полезные вещи. Кстати, разговоры о начавшемся вытеснении рубля долларом с нашего внутреннего рынка подтверждаются делом. Скажем, бывают предложения оплаты продукции в свободно конвертируемой валюте.
Интересно получается и с ярмаркой, на которую в Москву приезжают снабженцы со всей страны. Эту «ярмарку» без кавычек тоже не упомянешь. Казалось бы, на ярмарку люди приезжают, чтобы подкупить чего-то за собственные денежки, или наоборот — чтобы продать что-нибудь. На ярмарке Госснаба все не так. Туда приезжают подписывать контракты партнеры, подобранные Госснабом и «прикрепленные» друг к другу. Бывает, подваливает случайный покупатель и заговорщически подмигивает: а как на счет «безлимитных» поставок? В смысле — прямые договорные отношения за «живые деньги» по взаимовыгодной цене и — без разрешения Госснаба. А никак — отвечают ему. Всё расписано сверху — давно и окончательно. И никакие договорные цены не используются — их по традиции рассматриваю как «выкручивание рук» потребителю монополистом-производителем. Так что говорить о бизнесе в рамках государственного предприятия не приходится.
Но, с другой стороны, какой же это завод-монополист, когда он получает все необходимое для производства из других регионов страны, а значит сам завязан на поставщика? Такому монополисту могут диктовать свои требования подобные монополисты из разных мест страны Советов. Но… можно сотрудничать с капиталистами.
Можно, только не выгодно. Во всяком случае — пока. А что будет потом, никто не знает, поскольку опыт перехода от развитого социализма к капитализму является уникальной привилегией нашей страны. Некоторые специалисты завода считают это дело совершенно невыгодным. Прикажут — сделаем, а самим связываться — нет смысла. Ведь 70% заработанной валюты сразу уходит в госбюджет, из оставшихся 30% десять процентов забирает Министерство металлургической промышленности (Минмет), пять процентов — областной бюджет. Остальное — заводу, на собственные нужды. И ни в одной программе не прочитаешь, что же ожидает подобные заводы в будущем.
Конечно, мартены по-прежнему плавят металл, цеха выпускают колеса, трубы и всякие вилы, но делается всё это рабочими, которые по-прежнему не заинтересованы в результатах собственного труда. А неуверенность растет, цены растут, зарплата же у рабочих остается прежней. И на фоне общего перестроечного настроения собственная неподвижность воспринимается без энтузиазма, а скорее с раздражением.
Даже в тех бумагах, что приходят руководству сверху, разобраться трудно — слишком много неясностей, расплывчатых формулировок, да и прямых противоречий одного положения другому. Причем, командиров много — и Совмин СССР, и Госснаб СССР, и Минмет СССР, а теперь ещё прибавляется Совмин России. Все что-то приказывают, и причем нередко — противоположные вещи. А за разъяснениями куда ехать? В Госснаб, конечно. Там всё решается. И не всегда лучшим образом. Только где после этого искать крайнего?
Скажем, уже было такое, что совместно с иностранными фирмами по разработкам наших специалистов построили цех для производства труб для магистральных газопроводов. Начали производить трубы, на трассах газопроводов их стали зарывать в землю, а качество оказалось «не то». В результате всё пришлось выкапывать, убытки — огромные, цех сломали. Теперь строят новый, но есть опасение, что его продукция — те же трубы для газопроводов — не потребуется в том объёме, на который рассчитана мощность цеха. Может не оказаться рынка для всей продукции. Так что пока всё развивается по-старому, то есть — по плану. И существующая система не позволяет качественно сотрудничать ни предприятиям с Госснабом, ни предприятиям друг с другом.
Опять на коротком поводке у государства
Материал написан в марте 1991 г., Москва.
Опубликован в газете «Ведомости Госснаба», апрель 1991 г.

Налоги — это не только бич для производителей, но и один из главных рычагов, с помощью которого правительство регулирует экономическую деятельность во вверенной ему стране. Исследуя систему налогообложения, можно понять, чего хочет стоящее у власти правительство. Наш корреспондент беседовал с разными людьми, занятыми как в кооперативном секторе производства, так и в государственном, чтобы понять — на что направлена наша налоговая система.
Когда меньше года назад Верховный Совет и Совмин СССР совместно готовили новую систему налогообложения, то сумма, после которой работа становилась бессмысленной с точки зрения выгоды для работника, составляла примерно семьсот рублей в месяц. Эта цифра многим казалась головокружительной — ведь средняя зарплата едва перешагнула за две сотни в месяц. О доходе на члена семьи и об уровне бедности (прожиточном минимуме) вообще речи не было.
Потом в Прибалтике этот уровень прикинули, и решили, что каждый, имеющий в месяц менее ста двадцати рублей должен не только освобождаться от налогов, но плюс к тому получать от государства недостающую сумму. У нас прожиточный минимум пока официально не признан. Ничего удивительного — ведь тогда нужно будет раскошеливаться на пособие, а союзное правительство пока не знает, где взять деньги на объявленную пенсионную программу. Так что в расчетах попробуем опереться на прибалтийские данные.
Итак, средняя семья, состоящая из четырех человек, будет жить за чертой бедности, получая менее пятисот рублей в месяц. Скажем, работает только муж, а жена — в наших полувоенных условиях — обеспечивает дома жизнеспособность семьи. Значит, для этой «ячейки общества» разница между прожиточным минимумом и налоговым максимумом составляет примерно двести рублей. Сумма неплохая, если жить по ценам и «изобилию» двух-трёхлетней давности. Но сейчас-то другое время! Двести рублей качественно не меняют жизнь тех, кто получат возможный «низконалоговый максимум», по сравнению с теми, кто вынужден жить на государственную помощь. Тогда зачем напрягаться на работе?
Аналогичная система существует в Швеции. Там разница между уборщиком в кафе и квалифицированным инженером по деньгам не превышает пятидесяти процентов. Их зарплаты уравниваются налогами. И сами шведы признают — хорошо жить на честные заработки практически невозможно.
Фермер, для снижения своих расходов и повышения доходов, берёт на работу нелегальных рабочих, у которых нет разрешения работать в Швеции. Значит, им можно меньше платить. Рабочий не выходит на работу, звонит начальству и говорит, что болен. Благо там можно пять дней в месяц болеть, не приглашая врача и не представляя на работу никаких оправдательных документов. А сам идет красить потолок соседу или делать ремонт знакомому. Разумеется, полученные за это деньги налогом не облагаются. Безработный, зарегистрированный на бирже труда, получает очень неплохое пособие. Пока ищет работу. Пособие составляет примерно 80—90% от прежней зарплаты. Правда, возможны всякие частные случаи, но в целом картина такая.
Потом наступает лето, и этому безработному приходит желание съездить в теплые края — например, в Грецию. Там и море тёплое, и цены низкие, и вообще… Честный человек приходит на биржу и говорит: я уезжаю на два месяца. Прошу мне это время пособие не платить, так как я временно перестаю искать работу. Но не каждый может добровольно отказаться от тысячи долларов в месяц. Конечно, за подобные махинации можно и пострадать, но кто не рискует…
И в результате сами шведы признают, что такой «социализм» им нравится всё меньше. Там хорошо живется плохо обеспеченным слоям — пенсионерам, больным, безработным. Именно эти люди получают от общества больше всего. Но ведь надо, чтобы производители национального богатства тоже были заинтересованы хорошо трудиться! Так что сейчас в Швеции много говорят и пишут о необходимости «реставрации капитализма».
Какими бы баснословными ни были заработки, брать налог более тридцати процентов вредно для экономики. Люди начинают хитрить с налогами или перестают хорошо работать.
Ну какой пример может быть показательнее, чем история с «победным возрождением» кооперативного движения? Какие посулы звучали, когда за его нарождением следил сам Генеральный секретарь ЦК КПСС! И режим наибольшего благоприятствования, и освобождение от налогов, и светлое будущее. Пока соответствующие инстанции, поднимающим и опускающийся шлагбаум на пути паровоза кооперации могли за саботаж поплатиться партбилетом, дело худо-бедно шло. И конкуренция росла, и цены на произведённую продукцию снижались, и широкий слой молодых, а главное энергичных людей начал получать приличное вознаграждение за хорошие результаты. И работникам кооперативов руководство стало выплачивать не символическую, а нормальную по тем временам зарплату.
Но пути господни неисповедимы, а действия правительства непредсказуемы. И теперь сидят «простые-рядовые» кооператоры и чешут голову — куда подаваться, когда заработки снизятся до той самой черты бедности, о которой мы уже говорили. Кстати, что интересно: большинство работающих в производственных или строительных кооперативах называют в качестве суммы, ниже которой работа теряет смысл, те самые пятьсот рублей. Это лишний раз говорит о смехотворно низком уровне притязаний тех, кто взвалил на себя риск, ответственность и проблемы, связанные с кооперативными делами. Конечно, там, где появляются большие деньги — сразу ухудшатся криминогенная обстановка. И грабители направляются туда, и сумма взяток возрастает, и всякая «запрещёнка» усиливается — например, торговля валютой, игорный бизнес, обманы. Но сколько можно вместо того, чтобы обирать с яблони вредителей, рубить всё дерево, а потом сидеть возле упавшего дерева и ждать, когда на нём появятся наливные яблочки?
Безусловно, сильны в народе уравнительно-охранительные инстинкты. Хочется поймать жулика за руку. А кого считать жуликом? Разумеется, того, кто больше зарабатывает. В НКВД на такого теперь не пожалуешься, а гайки попробовать закрутить можно. Тем более, что делать это проще, чем выбирать из здоровой растительности затесавшимся сорняки. Косой работать — сподручнее.
Не будем говорить о торгово-закупочных кооперативах — их особенно не любит «народ». Можно подумать, что когда нет продуктов, то это лучше, чем когда есть, но дорого. Можно не касаться и производственных — не всем нравятся цены на их продукцию (хотя, покажите мне — что сегодня всем нравится?). Давайте поговорим о строительных, от которых никакого вреда — строят себе и строят.
Ещё год назад действовало положение, согласно которому они в течение пары первых лет вообще освобождались от налогов. Затем налог начинали взимать, но приемлемый — процентов десять — пятнадцать. Сейчас же налог собираются брать в размер примерно шестидесяти процентов, из которых половина — сам налог, а половина — взнос на социальное страхование. Казалось бы, социальное страхование — святое дело. Сам потом, в старости, всё пол учишь обратно.
Но, во-первых, кто же сегодня верит обещаниям правительства? Разве мы не видим, как делится пенсионный фонд между «заслуженными» и «прочими»? А во-вторых, весь этот фонд соцстраха всё равно уходит в государственный бюджет для финансирования сегодняшних пенсионных программ. Значит, все эти фонды обезличиваются, и кооператив для социального страхования своих работников должен производить дополнительные отчисления. То есть советское государство промотало всё заработанное прежними поколениями и теперь залезло в карман к потомкам — будущим пенсионерам этой страны. Что же там остаётся в фонде развития и фонде зарплаты?
Вместе с этим, как считают сами кооператоры, если налог будет составлять более тридцати процентов, то производство перестанет быть рентабельным. Здесь, кстати, тоже наблюдается совпадение со среднемировыми цифрами — помните те самые тридцать процентов?
Вот и идут письма с жалобами, в которых поверившие в экономическую реформу работяги жалуются на жизнь. Скажем, столяр работал три месяца, делал гарнитур, и ему в конце заплатили три тысячи рублей. Казалось бы, какая разница — каждый месяц получать по тысяче или раз в три месяца — три. Может быть где-то и нет разницы, но у нас — огромная. В результате человек практически половину заработка вынужден отдать в виде налога.
А сколько жалоб от творческих работников, у которых вообще «от зарплаты до зарплаты» может пройти год. Зато и сумма получается внушительная. Но тут навстречу — налоговый инспектор, и — плакали ваши денежки. Правда, творческим работникам, скорее всего, удастся добиться льгот — и работа их на виду, и Президент с их министром считается, и даже встречался с ними, чтобы заручится поддержкой «культурного сообщества». Но почему в нашей стране каждая группа граждан должна сама добиваться себе льгот? Почему нельзя раз и навсегда унифицировать систему налогообложения независимо от того, чем человек занимается? Если он честно зарабатывает, чтит уголовный кодекс, то почему должен платить налогов больше, чем сосед?
Конечно, можно упрекнуть того столяра, что проявил несообразительность, взяв всё сразу. Надо было каждый месяц брать по тысяче. Но почему у нас даже честный труженик должен хитрить и изворачиваться? Нет, что-то не так в государстве Российском…
Но мы отвлеклись от строительных кооперативов. Как сегодня работают строители? А практически никак — нет материалов, нет техники, зато есть налоги и поборы. Если же всё нашлось, то с работодателем заключается устное соглашение. Он обещает снабжать материалами, строители обещают строить. Но почему устное? А потому, что все эти поставки являются незаконными — материалы в кооперативы поступают «левые». Ситуация может показаться забавной, но наши законы делают все самостоятельные сделки незаконными. Рынок декларируется, но не действует — все материалы «фондируются» — распределяются Госснабом без возможности купить их за деньги. В первую очередь, конечно, трудно найти дефицитные материалы. А сейчас дефицитно всё — и пиломатериалы, и кирпич, и отделочные материалы. Короче, всё то, из чего можно что-то построить. Ничего этого купить нельзя. Зато можно достать. Скажем, если приятелем председателя кооператива является директор завода строительных материалов. В этом случае можно договориться, и тут без взяток не обойтись. Ясно, что подобные сделки не фиксируются, а как считают работники строительных кооперативов, таких договоров большинство. Иначе ничего не достанешь, останешься без работы и как следствие — без зарплаты. Это не на государства работать, где свой минимум-миниморум всегда хоть когда-нибудь, но получишь.
В результате, до половины прибыли кооператива — той, что осталась после вычета налогов, уходит на такие вот «производственные нужды». Это прояснят ситуацию с высокими ценами на их продукцию. Ведь конечная цена, которую платит потребитель, включает в себя все эти налоги и поборы. И свободные рыночные цены скорее всего не повысятся, а быть может даже понизятся против существующих. Во всяком случае, если удастся избавится от промежуточных звеньев в виде посредников между заказчиком, производителем и потребителем. Но здесь появляется драконовский налог, который превышает все известные ранее. Куда там до него всем рэкитирам вместе взятым!
И, разумеется, устный договор, при изменившихся обстоятельствах несложно аннулировать. Были материалы, потом что-то изменилось, и их не стало. Скажем, звучит солидно: совместное советско-канадское предприятие силами наших кооператоров-строителей возводит свой объект. Материалы идут, объект растёт. Потом материалы заканчиваются, стройка стоит, кооператив несёт убытки. Почему? А потому, что совместный советско-канадский объект называется «гараж» и возводится для личного автомобиля одного из руководителей, который в прошлом занимал место председателя исполкома. У него остались знакомые на предприятии, выпускающем строительные материалы. Но время наше полно перемен, и знакомый куда-то делся. Пришел новый, с которым нужно вновь налаживать отношения. А у него своих знакомых хватает, так что объект остается недостроенным. Ведь материалы без знакомства не достанешь.
Ещё о проблемах. Не только все материалы, но и вся строительная техника осталась в строительных объединениях. Но оттуда разбегается народ, который идет в кооперативы — ведь там больше платят. И теперь в строительных трестах работают те, кому пообещали жильё, те, кому осталось чуть-чуть до пенсии и те, кому вообще ничего не нужно — было бы что выпить. Вновь возникает нелепость. Рабочие, которые хотят работать и зарабатывать, не имеют материалов. А там, где есть материалы — люди работать не хотят.
В результате техника и материалы лежат, гниют, а планы по введению, скажем, жилья выполняются на какие-то смешные проценты. И это вместо ожидаемого строительного бума. Причина-то пустяковая — зеленый свет предпринимательству дали, а стрелку не перевели.
Доходит до смешного — строительные тресты подряжают строительные кооперативы, и те «закрывают» объем строительства госпредприятий. Может быть это и есть оптимальная ситуация, когда и рабочие получают приличные заработки, и материалы в дело идут по государственным ценам? Так что происходит возврат блудных кооперативов под государственное крылышко. Хотя и в новом качестве. Но сейчас и так хорошо, потому что остается неразрешимой загадкой — где берут материалы те же государственные предприятия? Похоже, что система снабжения «по знакомству» сегодня захватила все отрасли.
И всё равно неприятие госчиновниками сравнительно высоких доходов кооператоров побороть невозможно. Хочешь — не хочешь, а этот самый чиновник должен подписывать бумаги, закрывать наряды, фиксировать объём работ, выполненных кооперативом. И такой начальник говорит: я это подписывать не буду, они слишком много получают. «Но люди выполнили эту работу?» — спрашивают у него. «Да, выполнили, но всё равно это слишком много». И есть вероятность, что при этом он многозначительно оттопыривает свой карман… Вот такое отношение к тем, кто взял на себя большинство проблем сегодняшнего этапа так называемой «экономической реформы».
Так что дело не только и не столько в налогах, сколько в людях, которые эти налоги выдумывают. Пока сильна психология «отобрать и поделить, только не работать» — никакие перемены в экономике провести не удастся. Нужно дождаться, пока к власти придут более разумные руководители. Только тогда можно будет рассчитывать на реальные перемены к лучшему. Надежда слабая, но быть может российскому парламенту удастся сформировать более прогрессивный кабинет министров по сравнению с союзным?
«Надо посоветоваться с народом…»
Материал написан в марте 1991 г., Москва.
Опубликован в газете «Ведомости Госснаба», апрель 1991 г.

Население России всегда отличалось политизированностью. Если жители других стран чаще всего вспоминают о денежных проблемах, ведут беседы о прошлогоднем отпуске или о предстоящем приобретении чего-либо материального, то у нас всё не так. В любой очереди, в застолье, в столовой или по пути на работу, быстро пройдя круг «дежурных тем» разговор неизбежно сползает на политику. Раньше громко ругали американцев, вполголоса сетовали на отсутствие товаров и шепотом делились соображениями относительно внутренней политики. Теперь громко ругают собственное правительство, вполголоса сетуют на отсутствие товаров и шёпотом сообщают, где в последний раз стояли в очереди за едой.
И все-таки, интерес к политике начинает затухать, возвращаясь в «доперестроечное» русло. Нельзя долго томить народ ожиданием, ничего не давая из желаемого. Кстати, а чего сегодня хочет народ? Это знает любой депутат, только почему-то они никак не могут договориться между собой. Может, у них народы разные?
Один «народ» умоляет президента схватить страну «крепкой рукой», а другой возмущается волокитой с принятием закона о выезде из страны и отсутствием целенаправленных мер, направленных на достижение полной конвертируемости рубля. Один «народ» радуется всемерному препятствованию частнопредпринимательской деятельности, а другой старается её хоть как-то сохранить на плаву. Один «народ» хочет поскорее стать реальным собственником мифической общенародной собственности, а другой упирается, отпихивает от себя наваливающиеся в связи с этим проблемы и желает по-прежнему всем владеть ни за что не отвечая. В том числе и за последствия такого владения.
Конечно, из столь широкого спектра человеческих устремлений любой депутат или иной толкователь народных желаний может выбрать для себя нечто подходящее, согласующееся с его планами. А потом выступая, ссылаться на «глас народа». И если пожелания такого «народа» попадут в струю царствующих «наверху» устремлений, то его воля будет услышана и воспринята.
Ну, казалось бы, сколько можно испытывать терпение жителей больших городов, регулярно выходящих на демонстрации под лозунгами отставки Совмина и ускорения так называемой «приватизации» — раздачи народной собственности народу? Однако глас этого «народа» так и не был услышан. А вот пожелания жаждущих «закручивания гаек» доходят моментально, хотя «народ», желающий этого, найти непросто.
Скажем, какие-то тёмные личности раздают на улицах листовки, состоящие из пятнадцати пунктов, в которых требуют ввести чрезвычайное положение по всей стране. Заморозить выдачу денежных вкладов. Закрыть границы «туда» и «оттуда». Ввести смертную казнь за спекуляцию и саботаж. Привлекать к уголовной ответственности людей без прописки и женщин, берущих деньги за любовь. Распустить все организации и партии, проводящие политику, направленную на изменение «социалистического» строя. Провести расследование связей «демократов» с ЦРУ. Привлечь к ответственности представителей прессы, радио и телевидения, причастных к «попыткам развалить государство». Кто же должен заниматься всеми этими «добрыми делами»? Рабочие дружины и призванные из запаса «афганцы».
Интересно, а что думают об отведённой им роли сами парни, лежавшие под пулями в чужой стране? Там было всё ясно — чужой, враждебный народ, опять же страх за свою жизнь, анаша, спиртное. А что должно их заставить воевать в своей стране? Разве что расстрел за невыполнение приказа командира. Хотелось получить некоторые разъяснения по тексту листовки, но распространитель уже куда-то испарился. Всё-таки, с продавцами газетёнки «Секс-беспредел» общаться проще — они не боятся покупателей. Впрочем, как и милицию. Пожалуй, среди них немало тех самых парней, которым «просоциалистические» силы уготовили участь бойцов за чистоту «основ».
Казалось бы, один «народ» открыто требует ускорения перемен, другой же неуловим. Но именно пожелания неуловимых доходят до тех, кто дирижирует оркестром с гордым названием «СССР». И в результате четвертый съезд народных депутатов СССР принимает решение о проведении референдума относительно разрешения на частное владение землей. Тема второго референдума звучит еще неожиданней: о Союзе Советских Социалистических Республик. Других проблем, конечно, у нашего народа нет.
Казалось бы, зачем тратить народные денежки на организацию такого масштабного «мероприятия»? Тем более, что центральное правительство неважно зарекомендовало себя при решении как серьезных экономических, так и политических проблем. Пусть жители каждой республики сами решают свою судьбу, уберечь народы от гражданской войны проще с помощью многонациональных сил ООН и «голубых касок». Зачем железом скреплять то, что уже развалилось? Зачем обсуждать необходимость разрешения частной собственности, если при её отмене в 1917 году никакого референдума не проводили?
С позиции общей логики это неясно. Значит, следует исследовать групповые интересы. Здесь многое становится понятно. Введения частной собственности на землю могут не хотеть те, кто эту землю уже имеет и опасается потерять связанные с этим преимущества. Могут этого также не хотеть пожилые люди, для которых такая собственность представляется бесполезной и даже опасной- вдруг всё захватит мафия? Но тогда следует уточнить — а кто, собственно говоря, сегодня ею владеет? И кто выделяет эту самую землю своим наиболее везучим согражданам по шесть соток? Уж не те ли самые «демократы», которых сегодня упрекают в стремлении к перераспределению власти? Нет, скорее это те, кто имеет и землю, и власть, причем ни с тем, ни с другим расставаться не хочет.
Они-то и настаивают на проведении референдума, рассчитывая оттянуть время. Более того, в нашем государстве нет опыта проведения референдумов, и вдруг сразу — референдум по такой кардинальной проблеме как собственность на землю. Здесь необъятный простор для ошибок, неточностей и прямой фальсификаций данных. Особенно, если вспомнить наш недавний опыт выборов одного из одного при результате 99,99%.
Кстати, стоимость референдума тоже может оказаться «неподъемной» для оскудевшего союзного бюджета. Там счёт будет идти, скорее всего, на миллиарды рублей (учитывая, что население СССР пока ещё составляет 285 млн. чел.), а где их взять? Кроме того, второй референдум — о будущем Союза. Можно подумать, что жители республик и их правительства ещё не сделали своего выбора! Интересно, а почему же тогда они так упираются, когда их пытаются заставить подписать союзный договор?
Можно также попытаться проанализировать — кому он нужен в том виде, в каком договор существует сегодня. Хотят ли республики оставаться бесправными? Едва ли. Недаром началом политических проблем стал «парад суверенитетов», который мы наблюдаем в течение последнего года. Что это? Амбиции местного руководства? Может быть, но ведь амбиции должны на что-то опираться. В данном случае они опираются на нежелание местных руководителей — как политических, так и производственных — оставаться в роли прислуги у дяди из Центра.
А что с экономикой, с производством? Безусловно, предприятиям нужны взаимные «связи». Но не те, что были, и значит, не те, которые им может предложить имеющийся проект договора. Всем надоело воевать со «смежниками», которые вечно срывают договорные обязательства, несмотря на грозные окрики «директивных органов». Конечно, всем хочется, чтобы комплектующие материалы и изделия доставлялись если не на блюдечке с голубой каемочкой, то хотя бы в срок и в необходимом объеме. А этого можно добиться лишь имея дело со свободными партнерами.
Кто там у нас остался из числа «интересантов»? Центральное руководство во главе с президентом СССР. Им, конечно, без союзного договора не жить. Ведь если республики приобретут слишком большую самостоятельность или вовсе разбегутся — центром чего тогда будет Центр в Москву? И президентом чего будет президент Горбачёв? Так что заподозрить союзное руководство в безразличии к договору невозможно.
Вот и получается, что идея с референдумами, которые первоначально казались наиболее демократичной формой волеизъявления народа, сегодня в стране с таким населением может оказать всем нам «медвежью» услугу. Ведь в странах с глубокими демократическими традициями референдумы проводятся нечасто, и начали их проводить не так давно. Прежде люди привыкли свободно мыслить.
Можно привести пример с Соединенными штатами Америки. Там время от времени тоже происходят референдумы, но не во всей стране, а отдельных штатах. Дело в том, что такую гигантскую страну трудно всю призвать к референдуму. А для того, чтобы организовать референдум в штате, необходимо собрать определенное количество подписей. Если это удастся, то руководство штата назначает референдум. Например — размещать ли на территории штата какой-то опасный промышленный объект или нет. Можно даже путем референдума решать вопрос о том, на каком расстоянии от школ можно продавать «взрослую» литературу, чтобы она не оказывала вредного влияния на неокрепшую психику детей.
Но представить себе президента США, объявляющего всеамериканский референдум относительно отмены на территории страны частной собственности, можно лишь в юмористическом рассказе. Ведь если ты хочешь владеть собственностью — пожалуйста, владей. А не хочешь — так передай её властям штата или города. В крайнем случае — продай, а деньги раздай бедным. Зачем опрашивать всех?
Конечно, воспаленное сознание борцов за чистоту «основ» может сразу нарисовать такую кошмарную картину: уголовники и руководители торговой мафии скупают всю землю в стране и бедным, неимущим слоям приходится просить политического убежища где-нибудь в Швеции. Так что уж пусть земля лучше никому не принадлежит.
Если же, не дай бог, референдум о праве владения землей состоится, то что делать на следующий день после подсчета результатов? Скажем, желающих владеть землей окажется 60% (все-таки молодых и энергичных людей у нас хватает), а нежелающих — 40%. Что делать?
Желающие иметь землю начнут требовать её распределения, а нежелающие, во главе с Союзным руководством, разумеется, будут упираться. Начнутся конфликты, результат которых — гражданская война. Этого хотят союзные власти?
Конечно, здесь можно будет вновь призвать армию для «нормализации положения» и защиты «убежденного» меньшинства от прочего большинства. Но если вспомнить классиков, то у них говорится о солдатах как о тех же рабочих и крестьянах, только одетых в солдатские шинели. Захотят ли четыре с половиной миллиона военных сражаться со своими согражданами за столь сомнительные идеалы? Едва ли. Правда, в любой армии найдутся люди, готовые на всё ради своих карьерных устремлений. Они называются «спецназ». Но их не столь много, чтобы делать на них ставку.
Значит, боевые действия будут разворачиваться между простыми гражданами, как это было после событий октября 1917 года. Уж не подталкивают ли нас к этому? Скорее всего — нет. Просто руководство стремится оттянуть время — вдруг как-нибудь «само рассосётся».
Нет, не рассосётся. Более того, подобные референдумы — это благодатное поле для семян будущих раздоров. Так что если уж наше руководство хочет приобщиться к «общечеловеческим ценностям», то начинать надо с того, от чего пока не отказалась ни одна демократическая страна мира — с введения института частной собственности. А то республики сделают это на своей территории самостоятельно. И уж после этого существование Центральной власти окончательно потеряет свою актуальность.
Старая жизнь при новых ценах? О стоимости нефти
Материал написан в феврале 1991 г., Москва.
Опубликован в газете «Ведомости Госснаба», апрель 1991 г.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
