
Бесплатный фрагмент - Наследство последнего императора
том 4
1. Новосильцева. На пути в Ледяной ад

СОЛДАТСКИЕ руки на ходу подхватили Новосильцеву. Она ощутила под ягодицами чужие ладони, широкие, как садовые лопаты, и взмыла вверх — прямо в вагон, почувствовав себя пушинкой. Под смех и шуточки легионеры усадили её около двери на пол, застеленный свежим мягким сеном и зелёным камышом.
— Вот уж спасибо, братцы! Спасибо, солдатики родные! — она улыбалась сразу всем.
В ней вспыхнул радостный миг давно забытого чувства защищённости. Торопливо Новосильцева отодвинулась от двери, открывая пространство для комиссара Яковлева и матроса Гончарюка — поезд резко увеличил ход.
Но мгновение радости тут же сменилось ужасом, когда усатый чех ударил прикладом винчестера по пальцам матроса, ухватившегося за дверной порог теплушки.
Новосильцева онемела и оглохла, когда в вагон попытался запрыгнуть комиссар Яковлев и получил по рукам такой же удар жёлто сверкнувшим прикладом. Тот же усач ударом сапога в грудь вышиб из вагона под откос комиссара в мундире офицера Соединенного Королевства.
Новосильцева метнулась ко входу, но её с грубой силой оттащили. Худой высокий легионер одним сильным движением закрыл дверь и защёлкнул её на задвижку.
Извиваясь, Новосильцева, сбросила с себя солдатские руки и снова рванулась к двери. Прижалась к ней спиной и оглядела теплушку.
У стены напротив — огромный кожаный диван, дорогой ореховый стол и несколько кресел; слева два мотоцикла прибиты рейками к боковой стенке; гора чемоданов в правом дальнем углу; тюки мехов, перевязанных верёвками, уложены до самого потолка; тут же пальма в кадке.
Перед ней четверо легионеров смеялись, кричали, хохотали, сверкали зубами, брызгали в лицо слюной. Один высунул язык, желтый от табачного налёта, и, как змея, то быстро прятал его, то высовывал.
Новосильцева отметила и пятого солдата в дальнем углу — бледного, ошалело глядевшего на неё. Он поймал взгляд Новосильцевой и отвернулся, словно смутившись.
Но уже через несколько секунд она пришла в себя. Весело, игриво улыбнулась солдатам. Подмигнув, спросила:
— Proč jste mě, bráchové, nepustili dovnitř? Jak to, že jsem teď bez nich?
Вагон снова взорвался хохотом и криками:
— А мы ещё лучше!
— Смотри-ка, Марушка по-нашему умеет! Так ты не англичанка?
— Да красная шпионка она! Большевичка. Из чека. Надпоручик сказал.
— Может, ты ещё и чешка?
— Чешка — да! — с вызовом сверкнула глазами Новосильцева. — Из Вены. Не нравится?
— Ещё как нравится! — заверил легионер с фурункулом на шее. — Венские девки самые горячие! Как французские булки из печки. Мадьярки рядом с чешками — снежные бабы. Что скажешь, Пепичек? Ты вроде тоже из Вены?
— Точно, — показал в бороде желтые зубы Пепичек. — Ну-ка, Марушка, чему тебя Вена научила? А я знаю тебя! — вдруг заявил он. — Ты на Грабене клиентов ловишь. Точно, она с Грабена! Я её там часто видел.
— Земляк? — обрадовалась Новосильцева. — Как хорошо! Только моих друзей все ж таки надо взять. Остановите поезд.
— Да зачем они тебе, красуля? — хохотнул рыжий легионер. — Мы тоже хорошие парни. Ещё лучше твоих. Нас полюбишь — сразу забудешь про них.
— Догонят, если надо! — крикнул из-за спины Пепичека тощий легионер.
Он протискивался вперед, но усатый Пепичек его оттолкнул:
— Назад, Матус! Лавка только открылась — всем хватит, все своё получат!
Новосильцева криво усмехнулась и покачала головой.
— Никто — ничего — не получит! — отчеканила она. — Даже не думайте.
— Значит, она не из Вены! — заявил тощий шикователь слева от нее. — Она здешняя. Венские чешки сразу соображают, что надо солдату.
— Пусти-ка, я сейчас ей всё объясню! — вызвался легионер с фурункулом, расстегивая ремень.
— Ну, что ты мне можешь объяснить, поросёнок! — прищурилась Новосильцева. — Мама тебе уже разрешает гулять с девушками за руку?
Шикователь оттолкнул фурункулёзника.
— Осади, Сайонек! Лезешь впереди начальства. Всё она знает и понимает! Любишь мужчин, Марушка, а? Признайся! По глазам вижу — любишь. Особенно, солдат.
— Ничего ты не видишь! — отмахнулась Новосильцева.
— У тебя, Марушка, на лбу всё написано! — через головы товарищей крикнул Сайонек. — А я читать умею! Еще со школы. Не тяни, Марушка, раздевайся! А то наш Пепичек сейчас помрёт…
Пепичек, весь багровый, пыхтел и никак не мог справиться с пуговицами ширинки.
— И чего же такого ваш Пепичек хочет? — с вызовом поинтересовалась Новосильцева.
— Сахарку!
— И я хочу! — крикнул ей прямо в ухо фурункулёзный Сайонек.
— И я! А ты, сразу видать, сладенькая!
— Медовая! — подхватил тощий Матус.
— Выбирай, Марушка! С кого начнёшь? — напирал на нее шикователь. — Давай с меня, потому как я здесь командир!
И по-хозяйски схватил Новосильцеву за колено. Она тут же ткнула пальцем в его предплечье и сразу попала в нужную точку. Шикователь выпустил колено и обалдело уставился на свою руку, внезапно окоченевшую.
— Нет, — закричали другие, — пусть Пепичек, он первый её затащил. Ну-ка, Пепичек, покажи нашей Марушке, на что способен настоящий чех!
Однако Пепичек, обливаясь горячим потом, всё ещё не мог справиться с ширинкой, и Новосильцева получила ещё несколько секунд.
— Нужен мне ваш Пепичек, как же! — презрительно заявила она. — Да он девки голой сроду не видел! Трясется весь, щенок!
— Тогда я! — крикнул фурункулёзник, напирая на Новосильцеву.
Ему Новосильцева ответить не успела, потому что Пепичек, наконец, победил пуговицы. Она отшатнулась.
— Стойте, парни! Все назад! — крикнула Новосильцева. — Так дело не пойдет! Ordnung muβ sein! Сначала разберитесь, кто за кем. Вы мальчики хорошие, но всех сразу я не приму. Соблюдайте живую очередь, вы не на Ринге в кондитерской.
— Я первый! — крикнул Пепичек. — Все остальные — последние.
— Ну, хорошо, — сдалась Новосильцева. — Только пусть остальные на это время отойдут. И отвернутся. Я стесняюсь, — скромно призналась она и добавила: — Хоть здесь и не Грабен, но и вы тоже не покойники.
— Она стесняется! — загоготали легионеры, и Пепичек громче всех. — Марушка у нас еще девочка, так? Ты малолетка у нас? Малолетка с Грабена?
— Кто ни есть, а по-другому не будет! — твердо заявила Новосильцева.
— Ну-ка, все отошли — разом! — рявкнул шикователь — рука у него уже отошла.
Легионеры недовольно заворчали и нехотя отошли на пару шагов. Сам же шикователь не двинулся с места. Не обращая внимания на трясущегося Пепичека, он уставился на приоткрывшуюся грудь Новосильцевой и сипло задышал, запустив оттаявшую руку в карман штанов.
— Значит, ты, красавчик, у меня идёшь первым, — она подмигнула Пепичеку. — Погоди чуток, прихорошусь… для тебя.
Туманно улыбаясь и щуря глазки, она медленно расстегнула пуговицы юбки с правой стороны.
— Сейчас, сейчас… потерпи.
Наклонив голову, извлекла из волос на затылке шпильку крупповской стали, отточенную на конце с обеих сторон до остроты бритвы.
— Один момент, милый…
И резанула Пепичека шпилькой по сонной артерии — левой. И тут же по правой.
Алая кровь двумя горячими фонтанами хлынула ей прямо в лицо, однако Новосильцева успела отстраниться.
Пепичек ахнул, выпучил глаза, опустил руки и, захрипев, медленно повалился набок.
Шикователь открыл рот и застыл с отвисшей челюстью, ничего не успев осознать. Только услышал, последний раз в своей жизни, как в вагоне будто тявкнул щенок. Мелкокалиберная пуля, заранее рассечённая на конце крест-накрест, влетела ему в правый глаз, раскрылась на четыре лепестка и вышла, выбив вместе с мозгами затылочную кость величиной с ладонь.
Еще трижды прозвучало слабое тявканье, разрывные пули разрушили еще три легионерских черепа. Солдат, застывший в дальнем углу вагона, задрожал, увидев, что ствол никелированного браунинга направлен ему в лоб. Жалобно вскрикнул, хватил ртом воздух и обмочился.
С четверть минуты Новосильцева задумчиво рассматривала парня. Тот, широко раскрыв глаза, ждал последнего в своей жизни звука. Но браунинг почему-то не выплевывал из дула огненные язычки.
Пистолет медленно опустился вниз. Новосильцева качнула головой — с явным неодобрением, непонятно кому адресованным, и сунула браунинг под подвязку черного шелкового чулка. Подняла шпильку, упавшую в лужу крови от Пепичека, вытерла о спину трупа и снова воткнула в прическу.
С трудом отодвинула дверь теплушки. В вагон ворвался ветер, задрал сено на полу, расшевелил волосы на головах еще теплых мертвецов. Он принес степные и лесные запахи, кисло-угольный пар от паровоза.
Новосильцева выглянула из вагона. Впереди, в сотне саженей, увидела железнодорожный мост через небольшую реку, еще дальше — белую церковную колокольню и синий, в желтых звездах купол церкви, чуть дальше на склоне — несколько почерневших изб.
«Новая Прага, надо полагать, она же старообрядческое Раздолье, — подумала Новосильцева. — Хватило бы глубины… А если под мостом просто овраг со стоячей водой?»
Тем временем паровоз выехал на загремевший мост. Под ним, похоже, все-таки река. Не широкая, но вода темная, без тины и ряски посередине, значит, не очень мелкая и с сильным течением. «Метра бы полтора! Мне хватит. Господи, не выдай!»
Она перекрестилась, отступила на несколько шагов внутрь вагона, глубоко вздохнула, задержала дыхание и, когда до середины моста оставалось несколько метров, разбежалась и прыгнула — вперед и в сторону. Поезд погрохотал дальше, унося в себе серебристый делоне бельвиль, который Новосильцева успела полюбить.
Река оказалась неглубокой, Новосильцева погрузилась ногами в густой слой ила. Чтобы погасить инерцию падения, в воде повалилась набок, потом оттолкнулась от дна и вынырнула. Выплюнула речную воду и короткими саженками быстро доплыла до берега.
Отдышавшись, передохнула несколько минут, спряталась за ракитовый куст и разделась догола.
Развесила на кусте юбку, френч, белье и чулки, вылила воду из сафьяновых полусапожек, выложила на солнце содержимое сумки. Обхватила себя за плечи обеими руками и стала ждать.
Солнце медленно перевалило зенит, воздух застыл, словно кисель из печи, — горячий и неподвижный. Где-то над головой увлечённо распевал невидимый жаворонок. Озабоченно крякала утка в камышах, попискивали утята; скоро семья дружно выплыла на открытую воду — впереди мамаша, за ней строго в линию шесть серо-желтых пуховых комочков.
Прошло около часа, солнце припекало сильнее, одежда высыхала прямо на глазах, однако Новосильцева тряслась в ознобе, не понимая, почему ей вдруг стало холодно. Захотелось забраться в раскаленную русскую печь и, сидя внутри, выпить горячего, вкрутую, чая с малиной. Или без малины. Лишь бы горячего. «Простыть не хватало! Очень кстати…» — с досадой подумала Новосильцева, стуча зубами.
Скоро ей надоело дрожать. Сидя на траве, она скрестила ноги, положив пятки на бедра. Сделала несколько полных вдохов, задержала дыхание на полторы минуты. Медленно выдохнула, расслабила межреберные мышцы и предоставила легким дышать, как им вздумается. Потом сконцентрировалась на точке в солнечном сплетении и ощутила, как туда медленно вливается оранжевое тепло. Дыхание стало поверхностным и скоро почти остановилось. Постепенно испарилась простудная трясучка, тело немного согрелось изнутри.
Теперь Новосильцева сосредоточилась на ярко-белой точке между бровей. Однако состояние медитации так и не наступило, и Новосильцева решила сосредоточиться на том, что произошло меньше часа назад.
Чехи, похоже, знали, кого на самом деле берут в эшелон. Они не посмели бы так поступить с англичанами. И эта вода вместо бензина… От надежного человека газолин, утверждал матрос.
Какая-то досадная искра промелькнула в мозгу и исчезла. Новосильцева подобралась, вызвала в голове состояние пустоты. И попыталась добраться до места в памяти, где отпечаталась тревожная искра.
…Вот солдаты отбили матроса Гончарюка и Яковлева, дверь теплушки стала закрываться, однако Новосильцевой удалось на секунду глянуть наружу. Именно в этот момент в памяти отпечаталась картинка — неясная, размытая, но сознание успело её зафиксировать. Однако извлечь ее из памяти никак не получалось.
Открыв глаза, Новосильцева определила по солнцу стороны света и села лицом на восток. Закрыла глаза, повторила дыхательное упражнение. Дождалась, пока дыхание практически остановится. Теперь воздух поступал крошечными порциями — только в кончик носа — и вытекал в точку между бровями. Точка росла, становилась ярче, теплее, скоро превратилась в желтый энергетический шарик. От копчика по позвоночнику поползла тёплая опаловая струйка, просочилась через нёбо в мозг и вышла наружу через темя. Шарик между бровями становился теплее и больше, и в нем медленно всплыла и остановилась та самая раздражающая искра. Постепенно, словно на стеклянной пластинке негатива, опущенного в проявитель, в шарике возник слабый отпечаток картинки, которую успело зафиксировать подсознание и с закрытыми глазами различила Новосильцева.
…С дороги напротив железнодорожного переезда съезжает автомобиль с открытым верхом. Его сопровождают двое верховых, кажется, казаки. Рядом водителем офицер в фуражке с бело-красной ленточкой вместо кокарды. Автомобиль медленно спускается по косогору вниз, останавливается перед переездом. Офицер снимает фуражку, сверкнула лысина…
Новосильцева старалась, сколько возможно, замедлить картинку.
Офицер достаёт белый платок, вытирает лысину, надевает фуражку…
Больше Новосильцевой ничего не понадобилось.
Она узнала чешского полковника Йозефа Зайчека, начальника колчаковской контрразведки, известного садиста и палача, который наводил ужас даже на своих командиров — на генерала Гайду и Верховного правителя адмирала Колчака. В следующий момент вагонная дверь захлопнулась, картинка исчезла.
Теплый поток в позвоночнике иссяк. Новосильцева открыла глаза и постепенно различила перед собой куст ракиты, на котором сушились, раскачиваясь на ветерке, ее панталоны, тонкая сорочка, парижский кружевной бюстгальтер на китовом усе, шёлковые чулки с соблазнительной стрелкой — тонким зигзагом сзади; юбка тонкого сукна цвета хаки и с белыми костяными пуговицами сбоку по всей длине, френч табачного цвета.
Снова навалился озноб. Мелко стуча зубами, Новосильцева ощупала одежду. Белье можно надевать, френч и юбка были еще сырыми, однако Новосильцева решила одеться: на солнце одежда досохнет, а самое важное, расправится — сколько еще идти до ближайшего утюга. А сафьяновые боты — легкие, изящные и точно по ноге, конечно, потеряют форму. И Новосильцева едва не заплакала с горя: в Екатеринбурге армянин-сапожник содрал с нее два николаевских полуимпериала по 5 рублей.
И с бумажными деньгами беда. Пачка в пятьдесят тысяч «сибирок» крупными купюрами, полежав после воды на солнце, сильно полиняла, кредитки слиплись, и отодрать одну от другой удалось с трудом. «Какое государство, такие и деньги, — заключила Новосильцева. — За такую фальшивку царь отправлял на вечную каторгу». А вот две тысячи царских белыми «катеньками» и синими «петеньками», напротив, испытание выдержали. Двадцать золотых «николаевок» тоже не растерялись. Совершенно не пострадало и удостоверение личности агента SIS/MI-6: матрос Гончарюк, умница, запаял документ в прозрачную клеенку.
Неторопливо одевшись, Новосильцева разобрала браунинг, тщательно вытерла каждую деталь. Собрала пистолет и загнала в рукоятку последнюю обойму.
Она неподвижно сидела на широком плоском берегу, усыпанном белым речным песком. Шуршали и скрипели камыши, крякали невидимые утки. Совсем близко от лица Новосильцевой пролетела отчаянная пичужка, едва не задев ее крылом, схватила мошку и исчезла. В небе заливался без памяти невидимый, но, очевидно, довольный всем жаворонок. Новосильцевой показалось, что весёлый певец поддразнивает ее, уставшую и измученную, отчего стало грустно и обидно. Она попыталась разглядеть жаворонка в ослепительной голубизне, но ничего не увидела, только шею внезапно заломило и закружилась голова.
Её снова стала бить мелкая дрожь, подступила тошнотворно-обморочная слабость.
— Да что же это! — обозлилась она сама на себя. — Не ко времени, тётка, ты решила захворать. Запрещаю.
Приказала себе встать на ноги, сделала два десятка максимальных вдохов и выдохов, работая легкими, как кузнечными мехами. Помогло — тошнотворный морок отступил, в голове посвежело.
Она снова села на песок. Противоположный берег высокий и крутой — там запад, значит, река течет на юг. Новосильцева вызвала в памяти карту с Транссибирской магистралью. Параллельно железной дороге, южнее, идет грунтовая, которую здесь называют Колесный тракт. Всё просто: надо двигаться по берегу вниз.
Огляделась. Ничего из вещей не забыла. Сделала несколько шагов и покачнулась, едва успев ухватиться за ветку ивняка. Перевела дух, постояла, прислушиваясь к себе, и медленно двинулась вдоль берега на юг.
Что за напасть? Послебоевой синдром, конечно. Запоздалая реакция на смертельную опасность. Непростое дело — за минуту убить четырех человек.
Ей и раньше приходилось убивать людей, и не один раз, но то была война. На войне не убивают, а воюют. Право истреблять противника ей дало правительство. Оно же взяло на себя моральную ответственность за убийства и тем обеспечило защиту от собственной совести. А час назад она отправила на тот свет не солдат, а преступников в солдатской форме, и каждый из них заслужил топором по шее. Или шпилькой, превращенной в бритву, по магистральной артерии.
Последний раз ей пришлось застрелить двух высокопоставленных офицеров рейхсвера — одного за другим. Дело было в Берлине год назад, куда начальство отправило ее с невыполнимым заданием — срочно найти подход к источнику в оперативном отделе немецкого генштаба, любой ценой. Она добросовестно попыталась выполнить приказ и едва не поплатилась жизнью. Только ценная информация её начальникам уже не понадобилась. Да и самих начальников не стало.
В ту страшную войну, непреодолимо перешедшую в революцию, Российская империя вступила преступно неподготовленной. Мало того, что треть армии оказалась без винтовок, а снарядов хватило только на первые четыре месяца. Даже штабные карты безнадежно устарели, они составлялись еще во времена наполеоновских войн. Однако самое преступное — русская армия воевала вслепую, с завязанными глазами, почти не имея информации о противнике. Русские спецслужбы — военная разведка и контрразведка — были не просто слабы, они оказались совершенно беспомощными в условиях войны. И никакие сверхусилия и подвиги таких же отчаянных и бесстрашных агентов, как Новосильцева, спасти дело не могли. Да и слишком мало их было. Шпионаж в пользу собственного государства считался среди чистой публики в России делом низким, даже постыдным, тем более что им поначалу занимался жандармский корпус. Да и денег на вербовку агентуры, на добычу военной и политической информации всегда не хватало. На жалкие гроши, предусмотренные военным бюджетом, построить сильную, современную, технически оснащенную спецслужбу с образованными, профессионально подготовленными кадрами было невозможно.
В то же время противник к началу войны имел не просто шпионскую сеть, а мощную разведывательную машину, которая, словно гигантский пылесос, вытягивала массу ценной военно-политической и экономической информации из стран Антанты, в первую очередь — из России.
Особенных успехов добились немцы. Россию они плотно накрыли густой агентурной сетью. Агентуру вербовали открыто, внаглую, ничего не опасаясь. Русскую контрразведку немцы попросту презирали. Дошло до того, что они вербовали предателей среди русских офицеров и чиновников через объявления в газетах, хотя деньги предлагали небольшие. И русские чиновники, высокопоставленные военные, а паче — аристократы, в том числе члены Семьи Романовых, светские львы и львицы и даже священнослужители выстраивались в очередь к германским резидентам, спеша продать собственное Отечество. Шпионаж в пользу противника постыдным они, наоборот, не считали.
— Что же, — сказала себе Новосильцева. — Я оказалась умнее многих. Вовремя спрыгнула с поезда. И с царского, и с чехословацкого. И как только уцелела? Господь хранит. Помоги мне, Господи, и сейчас, без тебя мне не справиться…
Она шла, поначалу увязая в песке, потом пришлось прыгать с камня на камень, и Новосильцева быстро устала. Присела отдохнуть и тут же вскочила — из камышей неожиданно вылезла жирная блестящая нутрия размером с небольшую собаку и уселась на пути. Таких больших нутрий Новосильцева ещё не видела.

Жёсткая шерсть огромного грызуна отливала на солнце металлом. Два желтых резца грозно торчали из пасти. Неторопливо шевеля усами, нутрия мрачно разглядывала Новосильцеву и, похоже, раздумывала, что ей делать со своим извечным врагом. Она, конечно, поняла, что Новосильцева почти без сил.
— Что расселась на дороге, дрянь этакая? — наконец разозлилась Новосильцева. — Ты мне дорогу не загораживай. Думаешь, патрон на тебя пожалею? Не пожалею, — пригрозила Новосильцева и достала из-под юбки пистолет, чувствуя, как голову снова окутывает обморочная дурь. Земля, вместе с желтозубым зверем, с тропинкой на берегу и рекой, шевельнулась и медленно поплыла по кругу, точно гигантская карусель в берлинском Луна-парке.
Новосильцева тряхнула головой, вытерла ладонью холодный пот со лба и прицелилась в нутрию. Однако та не испугалась пистолета. Грозно ударила о землю два раза толстым плоским кожаным хвостом, присела на задних лапах и неожиданно короткими прыжками бросилась на Новосильцеву.
Новосильцева едва сумела увернуться в сторону. Нутрия проскочила мимо, прыгнула в реку и нырнула, оставив на поверхности расходящиеся темные круги.
— Откуда ты, негодяйка, вообще тут взялась?.. — ошалело бормотала Новосильцева ей вслед. — Ты же в Северной Америке живешь. Или в Южной?.. Забралась в наш край, северный, студеный. Ладно, что мне до тебя… Патрон сэкономила, и хорошо. Хуже, что форму потеряла, никакой Рамачарака помогать не хочет.
Медленно шагая по тропинке, она жарко бормотала, шатаясь их стороны в сторону:
— Простуда. И ничего больше — лёгкая простуда. И перепуг. Тут кто хочешь перепугается, когда тебя собрались насиловать целым вагоном… И в воду с высоты и на ходу… Когда же, интересно, я так прыгала? Да никогда не прыгала — вот первый раз, хорошо получилось… И речка — не теплый океан в Биаррице. Вот куда мне надо. В Биарриц. Или на пару дней заскочить в Лозанну, снять деньги и — снова в Биарриц, к океану, теплому, как парное молоко. Да, именно туда. Но сначала в постель. С голландскими простынями — жёсткими, прохладными, накрахмаленными. И самовар. И чаю. Липового. И горшок мёда. Нет, ведро малины. Нет, малину и мёд вместе. В одном ведре.
Она помолчала, потому что тропинка исчезла из-под ног, ушла в сторону, а ей надо дальше вдоль реки, к Колёсному тракту.
— Нет, сейчас нужнее не малина и не Биарриц, — продолжала сипло бормотать Новосильцева, внимательно глядя себе под ноги: не дай Бог споткнуться — не встать потом. — Кто же нас предал? И откуда выскочил людоед Зайчек? Ехал за нами, определенно. И надпоручик Кучера всё знал. От кого? Зайчека — от кого ещё! Или не знал? Знал, мерзавец, всё знал… Настоящих англичан тронуть не посмел бы — свои же и расстреляли бы.
Она помолчала.
— Значит, мы поучаствовали в тараканьих бегах… Нас, как тараканов, пустили по дорожке, между барьерами. В сторону не свернуть. А мы-то, по самоуверенной глупости своей, полагали, что путь и направление выбираем самостоятельно… И откуда эта зверюга, нутрия, взялась? И Зайчек? Кто же нас предал? Разве что…
Она остановилась.
— Нет, — и побрела дальше. — Только не Павел Митрофанович. Я бы почувствовала. Нет-нет, даже предполагать пакостно. Вы уж, Павел Митрофанович, извините… это не от большого ума у меня. Просто шпионская привычка ничего не упускать. Вы с разными людьми встречались, когда бензин искали. А у Зайчека непременно должны быть везде осведомители, иначе он не Зайчеком был бы, а лопухом. И всё-таки…
Так она бормотала, едва волоча ноги.
— Так-с… Как же ты выглядел, верный наш матрос, когда открыл канистру? Искренне разозлился или хорошо сыграл? Я должна, просто обязана подозревать всех. И комиссара. И тебя. Да и себя тоже. Неосторожно ляпнула где-то кому-то. Нет, вроде ничего такого не было. Значит, матрос? Матрос?.. — последние слова она произнесла шёпотом и остановилась.
Больше всего на свете хочется одного — сесть. Ещё лучше — лечь прямо здесь, на берегу или, пожалуй, вон на той полянке, под кустом боярышника. Лечь, закрыть глаза. И пропади пропадом весь белый свет, только бы крутого, прямо с огня, даже пустого кипятку…
Она брела, глядя в землю и пятками оставляя на песке длинные полосы следов.
— Так-так, — остановилась. — А это что там виднеется? Это, мадам, мост. Хороший деревянный мост через речку. Под ним можно лечь — прекрасная крыша над головой. Дождь, снег — нипочём… Можно заснуть под мостом и проспать до зимы. Только бы лечь… — шептала она потрескавшимися губами и брела дальше.
— Ну, вот и добралась…
Она присела под мостом, привалилась спиной к деревянному быку, вбитому в песок, закрыла глаза и тут испуганно открыла. Останется здесь — пропадет. Нужно где-нибудь разыскать постель, теплое одеяло. Кружку крутого кипятку. В него можно бросить несколько цветков липы.
— И три чайные ложки коньяка. Как тогда, когда меня арестовал комиссар Яковлев, страшный чекист. И сама любезность с маузером и в кожанке. Просижу еще минуту, иначе просто помру. И никто не узнает и не пожалеет. Приползет крыса желтозубая и станет грызть меня. Нет, она же питается только священными цветками лотоса от йога Рамачараки. Или нет? Водяными орехами она питается. Сейчас выползем на тракт, а там подумаем, откуда желтозубая негодяйка берет водяные орехи и какие они…
Чтобы выйти на дорогу, предстояло невозможное: подняться по тропинке из-под моста на косогор. А там кто-нибудь Новосильцеву увидит. И раздует самовар. Только бы не Зайчек. Матрос и комиссар её, конечно, ищут повсюду, с ног сбились, а она — вот она. Как ни в чем не бывало.
Спазм сдавил горло. Слёзы сами полились. Неожиданно Новосильцева испытала облегчение.
— Так вот зачем бабам слезы, — всхлипнула она и вытерла глаза. — Душу омыть и освободиться от боли. Повезло, что я не мужчина… Ну, вперед!
И поползла вверх по тропинке, хватаясь за землю, за толстые корни каких-то деревьев.
Один корень оторвался, другая рука скользнула, и Новосильцева поползла вниз. Остановилась у кромки воды. Перевела дух и принялась карабкаться снова. Наконец добралась до края косогора и упала на землю грудью.
Отойдя немного, села на траву, лечь не решилась — точно знала, что не встанет.
И вдруг вспомнила, что у неё на руке должны быть любимые швейцарские часики. И обрадовалась: на месте они, идут прилежно, показывают четыре часа пополудни. Потом долго, страдая до боли, рассматривала свежую дыру на правом чулке, на колене. Вздохнула, утешая себя: «Скоро новые куплю. В Париже. Пятьдесят пар сразу. Но сначала на тракт».
Медленно пересекла широкую грунтовую дорогу, по которой ветер гонял тонкую желтую пыль. И села на траву у обочины, в тени огромной лиственницы.
— Что же… Справилась. Так будет и завтра, и всегда.
Глянув на часы, она обнаружила, что прошло двадцать минут. Надо идти.
Она с трудом поднялась, но едва прошла пять шагов, как её насквозь пронзила страшная боль в животе. Новосильцева тонко вскрикнула, словно цыпленок под ножом, оседая на землю. Обморочная тьма накрыла собой и её, и боль в животе.
Очнувшись, почувствовала легкий холодок на висках, в лицо брызнул дождик — тонкий и мягкий. Потом услышала топот копыт, скрип тележных колёс, ощутила острый запах лошадиного пота и свежего сена.
Она открыла глаза и увидела, что на нее в упор смотрят чужие глаза — серые, прищуренные, под седыми бровями, озабоченно сдвинутыми. Ниже толстый нос с кустиками седой шерсти в каждой ноздре, еще ниже — широкая, лопатой, крестьянская борода, черная, блестящая, тронутая сединой.
Мужик брызнул ей в лицо воды из глиняной кружки и сказал:
— Вот и слава Господу, пообмогнулась… Слышишь меня, барышня? Видишь?
Проглотив комок в горле, Новосильцева кивнула. Где-то она уже видела этого мужика, и, кажется, недавно.
— Чегось ты здесь, барышня? — спросил он.
Теперь Новосильцева разглядела и высокую суконную шляпу на голове крестьянина и вздрогнула: это был тот самый старовер-начётник, у которого Яковлев спрашивал дорогу. Уже тогда мужик Новосильцевой очень не понравился, а сейчас она и вовсе испугалась.
— Что ты здесь? — повторил мужик. — Почему-от сама? Где твои? Куда подевались?
Она молчала, продолжая мелко дрожать.
— Да не робей ты, не съем, чай, — усмехнулся крестьянин. — Попьёшь?
Он поднес кружку к её губам, она сделала несколько глотков тепловатой воды.
— Бросили тебя одну? — снова спросил мужик. — А если чехи? Такую зазнобистую не упустят.
— Не знаю… — прошептала она.
Мужик вышел на дорогу, глянул направо, налево — ничего не увидел. К нему сзади подошла лошадь и толкнула хозяина мордой в спину.
— Погодь чуток, Мушка, — сказал крестьянин и погладил лошадь по нежному розовому храпу. — В сей же час пойдем.
Ответ Мушке явно не понравился и лошадь, задрав хвост, вывалила на дорогу несколько жёлто-зелёных яблок. От них пошёл пар.
Мужик снял шляпу, вытер ладонью лысину и вернулся к Новосильцевой. Оглядел её, задержавшись взглядом на дыре в чулке, покачал головой.
— Да тебя обидел кто? — тихо спросил он.
Она всхлипнула и кивнула, вытерев ладошкой слезы.
— Господи, — сказал крестьянин и глянул на небо. — Покарай злодеев по твоей правде, если люди не смогут.
Он снова глянул на её ноги:
— Неужто покалечили? — и потянул носом.
Теперь и она ощутила отвратительный запах — запах гнилой крови. По ногам потекло что-то тёплое.
— Мне плохо, отец, — еле выговорила Новосильцева. — Я сейчас умру.
— Да что-от ты выдумала! — всполошился крестьянин. — И не посмей! Погодь, потерпи, свезу тебя к себе, баба моя тебя поправит, у ней вся деревня лечится.
Он осторожно поднял Новосильцеву и бережно уложил в телегу на сено. Порылся в углу, выкопал из сена кусок белого полотна, свернул.
— Ты вот что… На меня не гляди. Возьми, — он протянул ей клубок. — Положи себе… А то ж истечёшь-от, пока доберёмся.
Мужик отвернулся, взял в руки вожжи, а Новосильцева расстегнула вверх юбку, приспустила панталоны, собираясь положить клубок между ног. И тут страшная боль снова пронзила ее — теперь в самом низу живота. Она крикнула — отчаянно, с надрывом. Лошадь испуганно всхрапнула и дернула телегу, мужик натянул вожжи, оглянулся, потом хлестнул ими лошадь.
2. Новосильцева. Исчезнувшая среди старообрядцев

ЖЁЛТЫЙ мягкий свет.
Тёплый и нежный. Льётся, просачивается сквозь веки.
Точно трепетный огонёк восковой свечки в церкви. Или на рождественской ёлке — из еловых лап истекает сладко-морозный запах, даже одежда пахнет Рождеством, хвойной свежестью, восторгом и немного тайной. Так пахнет детское счастье.
Никак не открыть веки. Даже не шевельнуть. Но свет всё равно сквозь них проникает и становится всё ярче.
Вслед за светом пришли звуки.
Где-то близко фыркнула и глухо переступила копытами лошадь.
Заквохтала курица — недовольно, с раздражением. Явно ищет место, чтоб снести яйцо без свидетелей.
Хрипло ей ответил сердитый хор гусей.
Чему-то удивляясь, тоненько заблеял ягнёнок.
Зазвенели колокольчики — похоже на детские голоса. И снова тишина.
Глаза не открываются. Словно их и нет совсем — растаяли. И тело не отзывается. Наверное, испарилось.
А тёплый золотой свет по-прежнему ласкает застывшие веки над растаявшими глазами. И снова тишина. Ни лошади, ни курицы с гусями, ни ягнёнка, ни детей с голосами, словно колокольчики… Или это не дети? Ангелы, наверное. Уж очень красивые голоса — хрустальные, неземные.
«Вот какая она, смерть. И всё по науке. Сначала умирает тело, распадается на молекулы. Мозг гибнет не сразу. Телом он уже не управляет, но свет и звуки воспринимать пока способен. Я ведь умерла? Что же ещё. В Тот Мир — или он уже Этот — живыми не попадают.
Главное, совсем не страшно. Легко, тепло. И, удивительно, никакой боли.
И не обидно, что так мало прожила на Том Свете — страшном, безжалостном и бессмысленном. Там невозможно счастье, какое сейчас ощущает всё… тело? Нет-нет, тело — грубая и ненадёжная материя, оно разлетелось молекулами во Вселенной. Вместо него пришло счастье. Я переполнена счастьем. Как и обещано: «Блаженны плачущие, ибо утешатся. Блаженны чистые сердцем, ибо Бога узрят».
У меня чистое сердце? Было чистое? У меня теперь нет сердца. Может, и не было. И счастья не было. Чуть попробовала, оно и закончилось. Зато сейчас хорошо. Но всё же не так, как этого хотелось на Земле.
Минутку. Разве на небесах есть скотный двор? Лошади, гуси. Или там есть всё?»
Тут веки поднялись сами собой — легко, и Новосильцева увидела над собой сплошную черноту.
Она пристально вглядывалась в неё, и постепенно тьма менялась. В ней стали появляться формы.
Прямо над головой обнаружился низкий потолок из закопчённых досок, на них различались светлые древесные разводы. Потом из темноты выступила коричневая бревенчатая стена. Висят веники на деревянном колышке, вбитом в стенку. Обычные банные веники. Два берёзовых и один дубовый.
«Значит, прав оказался мерзавец Свидригайлов? Потусторонний мир он так себе и представлял — закоптелая деревенская банька с пауками по углам».
Пауков Новосильцева не рассмотрела. Но обнаружила, что лежит на широкой лавке, на мягком тюфяке. Укрыта лёгким шерстяным одеялом, похоже, домотканым — ярким, в большую черно-красную клетку, вроде шотландского пледа.
Справа приставлена трехногая табуретка. На ней аккуратно сложена её юбка цвета хаки, френч и нижняя сорочка. Все чистое и безупречно выглаженное — явно чугунным утюгом, а не крестьянским деревянным рубелем. Даже её английская фуражка с козырьком, широким, как навес, здесь же. Из-под фуражки выглядывает никелированная рукоятка браунинга. И её деньги двумя стопками: «сибирки», их побольше, и маленькая царских «петенек» и «катенек». Рядом холщовая колбаска с империалами. Новосильцева с усилием вытащила из-под одеяла руку и потрогала — да, она, не тронута. Никто не соблазнился.
Снова заорала курица — теперь высокомерно и самодовольно: снеслась, наверное.
Новосильцева ощупала себя — тело никуда не делось. Только его стало вроде бы меньше, и сильно выпирают берцовые кости.
— Сколько же я тут лежу? — спросила себя Новосильцева. — И раз уж банька не свидригайловская, значит, и я ещё живая, никуда не перенеслась. И не испарилась.
Она с трудом выпрямилась и села. Вздохнула два раза, опустила босые ноги на деревянный пол — гладкий, словно шёлковый, видно, песком начищен. Встала и…
Чёрный потолок навалился, уплыло в сторону банное оконце. Тело прошибло горячим потом, и Новосильцева, лихорадочно дыша от слабости и страха, упала на лавку.
Когда темень отошла от глаз и сердце освободилось от страха смерти, она тихо позвала:
— Эй, хозяева… Слышит меня кто?
Но это ей только показалось, что она позвала. Голос словно заржавел, вместо слов удалось вытолкнуть из груди бессильный хрип. Она подождала, пока наберёт ещё немного сил, с трудом откашлялась:
— Хозяева! Есть кто?
Получился мышиный писк, но всё же получился.
Скрипнули половицы в предбаннике, загремела жестяная шайка. В дверь громко постучали.
— Барышня! А, барышня! Ты звала? — услышала Новосильцева несмелый юношеский голос. — Как ты там? Взойти-от можно?
— Можно, — снова откашлялась Новосильцева и продолжила уже почти нормальным голосом. — Да, я звала, заходите, пожалуйста.
Звякнув, поднялась щеколда. Низкая дверь приоткрылась, просунулась сначала голова, русая, стриженная в скобку. Потом показался крестьянский парень лет восемнадцати — в светлых холщовых портах, босой, в выгоревшей полотняной рубашке.
— Я взойду? — спросил и переступил порог.
Оба молчали, рассматривая друг друга. Новосильцева отметила необычно яркие синие глаза парня — даже в полутьме видно.
Наконец парень заговорил чуть смущённо:
— А я за лошадью шедши, слышу — голос будто подался, нут-ка гляну. Уж который день спишь.
— И сколько же я проспала?
— Да, считай, с неделю, — оживился парень. — Маманя тебя маком поила, так хвороба легче уходит. Ну, значит, надо маманьке сказать. «Пора, грит, барышне оклематься, а то как бы хуже не стало». Не стало, знат?
— Мне хорошо. Будто только родилась, — улыбнулась Новосильцева.
Парень хмыкнул, довольный:
— Была чуть не помёрла. Хорошо, папаня успел привезти. Маманька у нас знахарка. Да ты не бойся, не ведьма, просто травы знает, всех в округе лечит. С молитвою.
— Как же я могу бояться? — возразила Новосильцева. — Своей спасительницы? А кто хозяин?
Парень переступил на месте.
— Папаня у нас хозяин — кто ещё. Он тебя привёз, — повторил парень. — Только знай сразу: строгий он у нас, потому как ещё и начётник.
— Начётник? — задумалась Новосильцева. От кого-то она недавно слышала это слово.
— Мы древлеправославные, — скромно, но с достоинством пояснил парень. — У нас вера истинная. Как издревле отцы церкви, святые и мученики заповедали. Мы Христу молимся, а ваши попы московские — раскольники, жеребячье племя, пьяницы, Антихристу молятся. Вот митрополита у нас нет своего, чтоб попа назначить. Потому мы беспоповцы. Папаню нашего мир выбрал службу править, молитвы читать, судить, если надо. И крестить, и причащать, и хоронить.
— И указы Синода не признаете? — спросила Новосильцева, что-то вспоминая.
— Не признаем — они ж раскольники. И царску власть тоже, и колчаковску признавать не могём, потому как белые тоже от царя, стало быть, от Антихриста. А что, вправду красные царя расстреляли? Слыхала?
— Слышала. Правда, — она теперь все вспомнила, что рассказывал Яковлев.
— Давно надо было с ним. Ничего, дай срок, и Колчака с белыми погонят, и чехов с казаками.
— Вы что же, верите красным? — с трудом улыбнулась Новосильцева.
— Ну, как… — парень почесал в затылке и вздохнул. — Землю обещают. И попов с белыми генералами прогнать.
— Обещать можно что угодно. Важно, что потом.
— Как почнут давать — вся Расея за них станет. И мы. Не забоишься таких? Ты ж, вроде, из господ, из владельцев. Страшно?
Она улыбнулась свободнее.
— Нет у меня земли. Да и страх давно потеряла.
— Нехорошо, — озабоченно сказал парень. — Страх нужóн. Иначе, как Бога бояться — да без страху.
— А звать тебя?
— С утра Никишкой звали. Потаповы мы.
— Никифор, верно?
— Никифор Абрамов. Тятя у нас Амбрам Иосич.
— А мать?
— Соломонида Наумовна. Как папанька тебя притащил, она была в дальний скит собралась, за Варюху молиться. И не поехала, чтоб на нас однех тебя не оставить.
— Спасибо ей, — тихо произнесла Новосильцева. — Так не пойму, вы всё-таки православные будете? Или иудеи?
Никишка удивился:
— Какие тебе иудеи? Жиды, что ль?
— По именам получается. И отец твой в шляпе, я помню, — с виду натуральный раввин. Абрам Иосифович, говоришь. И мать, ты сказал, — Наумовна.
Никифор с сожалением посмотрел на Новосильцеву.
— Жидов в нашу веру крестить не можно. Они и сами не пойдут. А имена у нас по Библии. По календарю. На кого какое выпадет.
— Варвара что же — сестра твоя?
Тут парень вздохнул — на этот раз тяжело, переступил на месте и глухо сказал, глядя в сторону.
— Невеста мне. Из Фатеевки. Только сосватали, родители по рукам ударили, свадьбу назначали после жнитвы, и всё. Пропала Варюха.
— Как так пропала?
— Была и нету. Никто не знат. Ты, чай, про чехов ничего не знаешь? Не слыхала?
— Как же. Хорошо слышала… Еле от них вырвалась. Оттого и заболела.
— Тоже своровать хотели? — напрягся Никифор.
— Да. Только не получилось у них, — ответила Новосильцева и поёжилась: перед ней встала картина в теплушке — фонтаны горячей крови из шеи легионера, ветер шевелит волосы убитых. Передохнула. — И где же она может быть, твоя Варя?
Он резко отвернулся, потом глянул на неё заблестевшими ярко-синими глазами.
— Знать неведомо. Искал, как мог… Так они все на поездах. Сегодня здесь, а завтра за три сотни вёрст. Не говорят, смеются, Иваном-дураком кличут. Кабы… — начал он с ненавистью и остановился.
— Кабы что? — спросила Новосильцева.
— Ничего! — выдохнул он. — Не твоё это.
Она медленно покачала головой:
— После того, что случилось со мной… Может стать и моим, — тихо возразила Новосильцева.
— В поездах искать надо, — решительно заявил парень. — Да как? Они на колёсах живут. Мясо коптят в дороге, водку курят, веселятся. Есть такие у них вагоны — срамные. Они туда девок и баб собирают. Кого за деньги, кого обманом. В блудни превращают, в бесомыжниц. Иных воруют — те насовсем пропадают. И следов не найти. Истреблять их, чехов, — всех! Как волков бешеных, — неожиданно выкрикнул он. — Ужо будет им Чехия, попомнят и Рассею!
Помолчав, спросил хмуро:
— Ты вроде, из военных будешь? Значит, правду говорят, нонче бабы даже на фронте воюют?
— Воюют, — подтвердила Новосильцева.
— И стрелять умеешь? — он глянул на рукоятку браунинга.
— Выучилась, да.
— Хорошо, — сказал он с завистью. И быстро спросил: — Научишь?
— Что, прямо сейчас? — удивилась Новосильцева.
— Нельзя тут, — возразил парень. — Услышат — тебя прогонят со двора, и мне достанется. Потом. Скажу, когда…
Резко распахнулась дверь бани, зазвенела щеколдой от удара в стенку.
На пороге стояла пожилая крестьянка в красном дубасе, в голубой, вышитой на рукавах сорочке, в тёмно-зелёных полусапожках. На голове — лёгкий плат, похожий на монашеский, но вышитый серебряной нитью по краям, открыто только лицо.
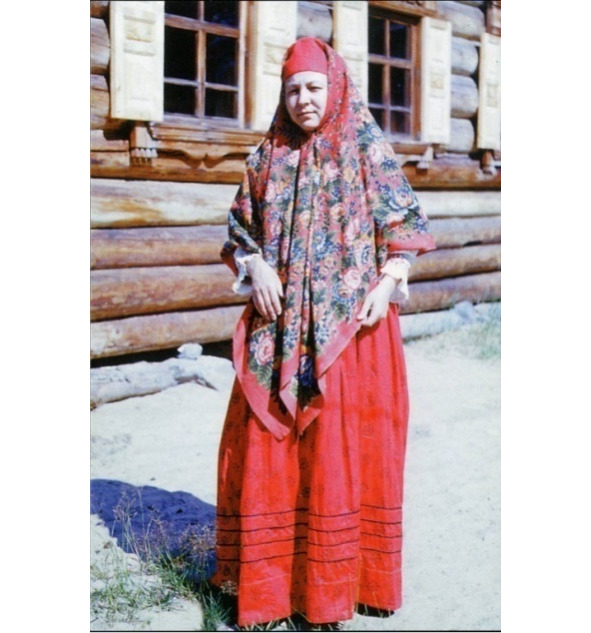
Властно глянув на Новосильцеву, она обернулась к парню и — грозно:
— А ты чевой-сь закатился сюда? Сказано же: не тревожить её.
— Не, маманя, я не сам, — смело заявил Никифор. — Мимо шёл, слышу — зовёт барышня.
— Не тебе тут слушать и видеть. Ты куда направился? Туда и ступай!
— Соломонида Наумовна, миленькая, — взмолилась Новосильцева. — Не ругайте его!
— А что Соломонида? Тебя, девица, никто не спрашиват. Помолчи.
— Как же мне молчать? — жалобно сказала Новосильцева. — Ведь я жизнью вам обязана. Век молиться за вас буду и всю вашу семью, и за Никифора тоже.
Соломонида свысока усмехнулась:
— Молиться? Ты? — и непонятно, чего в её тоне было больше — насмешки или пренебрежения. — Ужо вы нам намóлитесь! Всё от вас имеем. Князь тьмы у нас есть, чехособаки тоже имеются. Одних московских молитв, антихристовых, не хватает.
— Я… — робко сказала Новосильцева. — Я не то хотела сказать… — её снова прошибла болезненная испарина.
— Вот и помолчи, всем лучше будет, тебе — первой, — заявила Соломонида. — А ты, Никиша, ступай. Там Серёнька заявился. До тебя чтой-то у него. В конюшне он, с отцом. А ты, девка красная, — приказала Новосильцевой, когда Никифор закрыл дверь. — Хоч, знаю, и не девка… Сорочку задери-ка.
Положила Новосильцевой на живот широкие, жесткие, как доски, ладони, и затихла, словно прислушивалась. Потом твердыми пальцами аккуратно ощупала Новосильцеву — от груди донизу и по бокам.
— Болит где?
— Вроде бы нигде, — неуверенно ответила Новосильцева.
— Так и надо, пора, — с удовлетворением произнесла Соломонида. — С того света, почитай, вернулась. Не думала я, что из лихоманки выйдешь. Из заражения — по-вашему, по-городскому.
Сейчас, вблизи, Новосильцева разглядела знахарку подробнее. Лет не меньше сорока, но лицо гладкое и матовое, без единой морщинки, только у глаз крохотные лучики. Из-под черных соболиных бровей смотрели необычайно яркие синие глаза. Одета недешево, хоть и по-крестьянски. На груди староверческий крестик без распятия, на листочке, — женский.
Соломонида трижды перекрестилась и прошептала трижды иисусову молитву.
— Нут-ко поднимись, — приказала.
Внимательно осмотрела простыню, кивнула. Провела ещё раз пальцами по рёбрам и снова с удовлетворением отметила:
— Один только Господь спас тебя. И мне чуток помог. Зачем-от Ему ты понадобилась. Не скажешь, зачем?
— Не знаю, — тихо ответила Новосильцева. — Что со мной было?
Соломонида удивилась:
— Совсем память отшибло? Знат, до головы лихоманка дошла. Как еще с разуму не съехала… Выкинула ты. Кровью мало не истекла. Поняла?
— Теперь поняла… Не знаю, как благодарить вас, — произнесла Новосильцева, понимая всю тусклоту и беспомощность своих слов.
— Не знаш? — усмехнулась Соломонида. — А потому не знаш, что вы, мирские, живете вверх тормашками. Да как можно бабу, да тяжёлую, ещё и в армию? Шастать с пистолями. В людей палить. Всё бабское соображение и стыд потеряла. Одна только печка у тебя между ног осталась! И ту закрыть надо.
— Так у меня… — помедлив, тихо произнесла Новосильцева. — Так у меня вышло. Я, правда… на самом деле, пыталась убежать от войны. И… — снова подступили слезы.
— И не убежала, стало быть. Так?
— Не убежала.
— Снасильничали? Чехи, аль белые? Иль красные?
— Чехи хотели. Только не успели. Я из поезда прыгнула. На мосту, в речку. Перепугалась сильно, матушка. И… — она заколебалась.
Соломонида ждала. Прищурилась.
— А с ними что? — наконец спросила.
— Стреляла в них, — всё Новосильцева сказать не решилась.
— Вот оно! — удивилась Соломонида. — И правильно! Око за око. Сказано в Писании: «Возлюбите врагов ваших, но бейте врагов Господних». Порешила кого?
Новосильцева молча пожала плечами.
— Значит, порешила. Прыгала — и ни одной косточки не сломала. Господь над тобой руку простёр, — твёрдо сказала Соломонида. — Всё одно, чешских разбойников тебе опасаться следоват. А здесь у нас тебе бояться нечего, у кержаков-то.
Новосильцева кивнула и поёжилась.
— Можно спросить, Соломонида Наумовна?
— Спрашивай да поживее. Слыхала — пришли к нам.
— Я могу уже идти?
— Коли смерти себе не желаешь, недельки две-три ещё побудешь.
— Мне нельзя так много! — испугалась Новосильцева. — Мне мужа искать надо.
— Найдёшь, как на ноги станешь. Иначе прям на дороге и помрёшь. Только меня при тебе уже не будет. Теперь так-от: сейчас младшую пришлю, Гашку.
— А… позвольте ещё спросить?
— Дозволяю. Только живо.
— Вот вы про меня сказали — «городская»…
— Мирская, московская — уточнила Соломонида.
— Всё равно, не вашей веры — чужая.
— Чужая, — согласилась Соломонида.
— Муж рассказывал: старообрядцы не любят чужих. И к себе даже в избу не пускают.
— А за что же вас любить? — удивилась Соломонида. — Одне беды и хлопоты от вас. А то и хуже: силён Антихрист. Да не вечен.
— Вы меня к себе взяли, вылечили. И приют дали.
— Чего-сь? — прищурилась крестьянка. — Это ты про то, что в бане лежишь, а не в горнице хозяйской?
— Нет-нет, — смущённо заторопилась Новосильцева. — Я о другом…
— О том ты, о том! Знаем мы вас! Так чтоб поняла: баня — самое чистое место. Наши бабы, не как мирские, всегда рожают в бане. И я своих тут всех выводила на свет. На сей же лавке, где ты лежишь. А в избе тебе делать-от нечего. Потому как разные к нам ходят. Не к чему, чтоб тебя видели. Наганы твои, юбки военные. Будешь наша племенница из Перми, если что. У моего там сестра живёт, замужем. За купцом, из мирских. Ты погостить приехала и захворала.
— Я не стесню вас и на шею не сяду. Какие расходы — только скажите. Деньги у меня есть, даже золотые.
— Да уж видели! — отмахнулась Соломонида. И добавила с неожиданной жёсткостью. — Вот что, девка. Нам твого золота не надо. Не заради него ты здесь лежишь. Ещё раз скажешь про деньги — выкину за ворота, как кошку драну. Поняла? Нет, ты скажи — поняла? Повторять не стану!
— Да-да, — улыбнулась сквозь слёзы Новосильцева. — Очень хорошо вас поняла. На всю жизнь поняла. Как кошку.
— Ничего ты не поняла, — вздохнула Соломонида. — Притчу о добром самарянине знаешь? Да где тебе знать, коли даже в свою церкву не ходишь. Не ходишь ведь? Ладно, скажу, может, поймёшь что.
Притчу Новосильцева знала, но решила, что лучше ответить:
— Нет, не знаю, матушка. Расскажите, — и правильно сделала, что соврала.
Потому что Соломонида с удовольствием прищурилась и чуть улыбнулась. И, словно сказочница, заговорила нараспев.
— Ну, слушай. В Библии сказано… Шел некий еврей из Иерусалима. И напали на него разбойники — чуть жив остался. Лежит, несчастный, на дороге, кряхтит, помирает. Идут мимо другие евреи, даже священники среди них. И хари свои в сторону воротят. Идёт самарянин. А самаряне, народ такой в Иудее, тогда с евреями враждовали. Так что самарянин — еврею враг смертельный. И что? Остановился самарянин, вздохнул-от, подумал и перевязал еврею раны. Посадил на своего осла, отвёз на постоялый двор. Лекаря нашёл и даж заплатил — и лекарю, и хозяину двора за постой, пока еврей не вылечится. И отправился-от своей дорогой. Всё. Дошло до тебя?
— Дошло, вроде бы…
— Так и нам Господь велел: сначала помогать тому, кто в беде, а там посмотрим — из мирских он или ещё откуда. Сиди, жди.
— Гашка! — услышала Новосильцева её голос во дворе. — Ну-ка, подь ко мне. Тебе бы всё цветочки да веночки. Корову подоила?
— Машка подоила, — ответила Гашка.
— Гусей выгони на выпас!
— Выгнала-от.
— Ну, тогда ступай за мной, что-от тебе скажу…
Осторожно став босиком на тёплый пол, Новосильцева попыталась сделать шаг. Но перед глазами опять закружились огненные кольца, и она легла.
Солнечный луч, разбудивший её, ушёл в сторону, оставил на полу шевелящиеся пятна теней от листьев за окном бани. Пятна медленно передвигались к дальнему углу, и гладкие доски пола отсвечивали мёдом. Вот тебе и банька Свидригайлова. Только сейчас Новосильцева увидела и пучки трав на гвоздях по углам — от них шёл сильный и острый аромат. В запахах Новосильцева различила хлебный оттенок. Вспомнила, как в деревне, в отцовском, бывшем уже, поместье, в бане пахло ячменным солодом, и тихо всхлипнула, но тут же одёрнула себя.
Снова загремел предбанник. И знакомый голос девчонки:
— А, барышня? Проснулась? Можно к тебе?
— Можно, можно! — торопливо ответила Новосильцева, натягивая на себя одеяло, от которого (она только сейчас обнаружила) пахло смесью перечной мяты и шалфея. «Вот почему у них нет блох, злейшего врага деревенской жизни!» — успела она подумать, прежде чем открылась дверь.
Порог переступила рыжеватая девчонка лет четырнадцати, с непокрытой головой, в лёгком сарафане, ситцевой сорочке; на ногах — лёгкие светло-жёлтые лапоточки. Две косички отбрасывали искорки, из-под жидких рыжих бровей глядели пытливо, как у матери, прищуренные глаза — такие же ярко-синие. Двумя руками она прижимала к животу большой берестяной короб.
Поставила его на пол и некоторое время строго, точно вторая Соломонида, рассматривала Новосильцеву. И неожиданно улыбнулась, показав не по-деревенски превосходные зубы.
— Здорóво живёшь!
— И тебе здорóво, — подхватила Новосильцева. — Это ты — Агафья?
— Ну да. Свои Гашкой кличут.
— А мне можно, как своим?
Девчонка повела правым плечом («Кокетка, цену себе знает», — отметила Новосильцева), потом левым и ответила неопределённо:
— Там поглядим. А тебя?
— Звать? Почти как тебя. Глашкой. Глафирой, значит.
Гашка удивилась.
— Вона как! А мы-от думали, ты Евдокия.
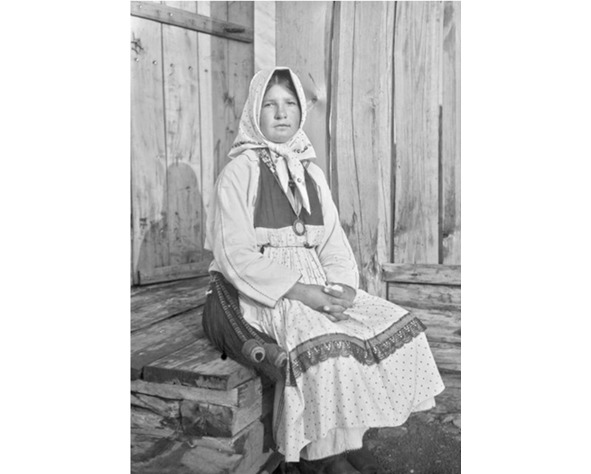
— И почему же вы так подумали? — осторожно спросила Новосильцева.
— Так ты ж сама и сказала, когда тятька тебя притащил! Ух, мамынька и ругала его!
— Правильно ругала, — охотно согласилась Новосильцева. — Нечего таскать во двор кого ни попадя.
Гашка теперь смотрела на Новосильцеву с откровенной жалостью, словно только сейчас обнаружила перед собой дурочку или калеку.
— Ну, вы, московские, как вроде и не люди совсем.
— И что же я такого московского сделала? — в меру обиделась Новосильцева. — Что в вашем дворе оказалась? Не сама же пришла.
— Кого ни попадя к нам водить не можно, — рассудительно согласилась Гашка. — А заругалась мамынька на тятьку, что шагом ехал, а не погнал лошадь. Из тебя ж почти вся кровь изошла. Ой! — она приложила ладони к щекам. — Как вспомню!.. Ты вся белая была, аж синяя, и вся юбка в кровишши… Насилу я твою юбку отстирала.
— Спасибо тебе, Гашенька, — растрогалась Новосильцева. — А насчёт Глафиры я пошутила. Звать меня, действительно, Евдокией.
— Бог спасёт, Авдотья! — важно заявила Гашка.
Подхватила короб и принялась выкладывать из него на полок деревянную миску и ложку, чашку — фаянсовую, белую, в огромный красный горошек. Потом глиняный расписной горшок, укутанный в тёплую мохнатую ширинку. Появился из короба берестяной туесок. Глашка туесок открыла, понюхала, пробормотала: «Свежий, только из воску скачали…»
В горшке оказалась жидкая, как обрат, овсянка — тёплая.
— Ешь, сколько душа примет, — приказала Соломонида голосом Гашки. — Да не давись. Мёд тоже не хватай, не с голодухи, чай.
Откупорила тёмную склянку — по бане распространился запах рождественской кутьи.
— Как поешь, отсюда один глоток можешь, самый маленький. Но лучше перед сном. Настой маковый. Мамынька больше не велит, разум потеряешь. Ужо хватит тебе без разуму. Залежалась.
— Кто же за мной ухаживал? — глаза Новосильцевой снова наполнились влагой, а сердце досадой — не новые силы появились у неё, а одни слёзы. — Не отходили от меня, верно…
— А ревёшь-от почто? — удивилась Гашка. — Никто тут не сидел с утра до вечера — тоже надумала! — и тут же опровергла себя. — Одна мамынька сначала днём три раза, а я ночью — тут, на полкé. Спать ты мне не давала, так кричала — зайчики-де за тобой гонятся… — и вдруг задумалась удивлённо: — А что не волки? Это только волки могут напасть… Совсем ты плоха была. Мы все молились за тебя, тятенька больше всех. Ты не ела, не пила, дышала еле. А как отмолили тебя, лучше пошло. И питьё, потом кисель овсяный в тебя заталкивали. Ты ела и пила во сне, и что там другое. Ну, вот и проснулась. Небось, спужалась, что в бане? Или весело?
— Очень весело! — заявила Новосильцева сквозь слёзы.
Но теперь Гашка смотрела на неё с удовлетворением.
— Оживела, коль слезами пошла, — заявила она. — Ой, что я тут! — всполошилась. — Мамынька уши надерёт! Хватит лясы точить. Ты ешь, а я счас нужную лохань принесу — сама теперь ходить будешь, а то надоело за тобой подмывать. Нужду справишь, позовёшь, я рядом: вынесу, лохань помою.
— Спасибо, Гашенька…
— Бог спасёт! — важно повторила девчонка. — Ещё одеться принесу, чистое.
И, круто развернувшись, махнула подолом сарафана и затопала во двор.
Из тёплого горшка Новосильцева выложила на тарелку несколько ложек жидкой овсянки, съела немного. Но опять почувствовала слабость. Легла, натянула до шеи одеяло. Выпить настойки? Нет, лучше, в самом деле, подождать до вечера. Уставилась на чёрный потолок и усмехнулась: и всё же хорошо, что банька обернулась этим светом, а не тем. И почувствовала, как после слёз душа стала лёгкой и словно обрела новое дыхание.
В следующий раз Гашка принесла другую кашу — тыквенную с мёдом, кружку парного молока; в чайнике травяной настой. Поменяла простыню и наволочку, опорожнила и вымыла лохань, накрыла её крышкой и поставила в дальний угол. Потом уселась на полок напротив, подпёрла кулачком подбородок и молча стала наблюдать, как Новосильцева ест тёртую тыкву в меду. Скоро тишина стала Новосильцеву угнетать.
— А что, Агафья, — поинтересовалась она. — Как жизнь твоя? Случилось что?
Гашка фыркнула и спросила чуть свысока:
— Чё… эта у меня может случиться?
— С ухажёром, может, поссорилась.
— Скажешь тоже! — отмахнулась Гашка. — Дам я ему ссориться, шалишь! А што тебе мои ухажёры сдались?
— Молчишь, переживаешь о чём-то.
— Ты ешь-от да без болтовни, — снова голосом Гашки приказала Соломонида. — Неча языком трепать, коли за ложку взялась. Тут-от быстро тебе бес в рот вскочит. Ты, поди, и не ведаешь: бес-от прячется в каком-нито слове. Влезет, а ты и знать не узнаешь.
— Вот как? — удивилась Новосильцева, но больше вопросов не задавала.
Гашка собрала посуду.
— Помыть схожу. А что, Дуня, на солнышко не хош? Мамынька сказала, надо тебе выбираться и на деревья смотреть, на листья, травку, на цветочки.
Переступив порог, Новосильцева сделала несколько шагов, пошатнулась. Гашка подскочила к ней, обхватила за талию.
— Куда бежишь-от, Дунька! Али волк за спиной? Или заяц твой? Понемножку, постолечку, по крошке.
Подвела Новосильцеву к скамейке под липой и усадила.
— Вот тут и побудь. Я скоро.
Оглядевшись, Новосильцева едва не задохнулась от внезапного восторга:
— Боже ты мой! Да чего же хорошо!
Она, словно впервые, увидела зелёную траву на лужайке перед большим двухэтажным домом, расписанным, словно шкатулка. По углам двора четыре мачтовые сосны с сине-зелёными шапками чуть не до облаков краснели стволами на солнце. Лениво шевелили листьями три вековых дуба у ворот. Две клумбы перед домом. Новосильцева с жадностью вдохнула вязкий аромат красных и белых роз, медуницы и флоксов, от которых исходил запах осеннего холодка.
К цветочным ароматам примешивались запахи коровьего и конского навоза от больших хозяйственных помещений, пристроенных к дому «глаголем». Навозные запахи тогда показались Новосильцевой естественной приправой к цветочным.
Явилась Гашка, но тут же на балконе дома показалась Соломонида — сегодня не в красивом дубасе, а в простом ситцевом сарафане.
— Агафья! — строго сказала она. — Довольно зубы Авдотье заговаривать. Отлипни, дай ей отдохнуть. Прялка со вчерашнего тебя ожидает.
— Пусть дождётся, — дерзко ответила Гашка. Но тут же спохватилась: — Счас, уже бегу…
С каждым днём Новосильцева засиживалась на солнце всё дольше, ощущая в груди тихую радость выздоровления. Над цветами гудели отряды пчёл — семья держала дюжину ульев, только для себя, белый фабричный сахар считали вредным. В небольшом пруду за двором озабоченно переговаривались гуси. В свинарнике хрюкали шесть свиней; в коровнике на рассвете, уже в четыре утра, требовали внимания три громадные симментальские коровы цвета кофе с молоком. К ним со всех ног мчались Гашка, растрёпанная со сна, и её старшая сестра Мария. Ещё три дочери у Потаповых, но с ними Новосильцева не познакомилась. Те жили у мужей и приходили только раз или два навестить родителей и помочь по хозяйству. В эти дни Соломонида приказывала Новосильцевой на глаза никому не показываться.
Мария и Гашка несли в хлев цинковые вёдра с тёплой водой и чистые полотенца — мыть коровам вымя перед дойкой. Оттуда тащили по ведру желтоватого молока — на кухню, к сепаратору, который вертела Соломонида. Время от времени она зачерпывала сливки деревянной ложкой и придирчиво стряхивала — не слишком ли быстро стекают.
И сливки, и творог, и ряженка шли только на стол. Раньше Потаповы вывозили молочное на рынок, но чехи ограбили — увели четырёх коров и пятерых лошадей и почти всех овец. Из тридцати овец остались пять, к ним три коровы и три лошади — пожилые кобылы Мушка и Красотка и престарелый мерин Хитрец.
Оказывается, кержаки Потаповы до набега чехов держали и небольшую ферму на берегу пруда, разводили диковинных для Сибири крупных водоплавающих выдр — нутрий. Но чехи и нутрий расхватали, правда, несколько грызунов не дались им в руки, убежали.
— Так это я, значит, с вашей зверюгой на реке столкнулась! — догадалась Новосильцева. — Она на меня напала. Значит, от вас сбежала.
— И пусть. Страшные, — призналась Гашка шёпотом. — Зубы у них — жуть. Смотрит на тебя — счас так и кинется в морду нос отгрызти. Тут я на чехов не в обиде. А вот токарню — варнаки! Все станки украли, лестрическую машину даж! Станцию. Лектрическую. Знаш про такую?
— Электростанция? Откуда у вас может быть электростанция? — удивилась Новосильцева.
— Так тятька с Никишкой и поставили. Зятья приходили помогать. Речка-от недалёко. На колесо мельничное динаму наладили, от неё лектричество крутилось. Станки токарные вертело. Тятенька и братья разну посуду точили, а мы, девки, раскрашивали в узоры золотом да лаком. За нашей посудой даже из Самары купцы приезжали. Брали не скупясь. Теперь — всё, кончилось лектричество. А знаш, тятька свет лектрический и в дому-от наладил. Так ноне при свечках да на керосине и сидим.
Целый день до вечера по двору мелькали сарафаны Гашки и семнадцатилетней Марии, которая после исчезновения Варвары панически боялась выходить на улицу, а при появлении человека в любой форменной одежде пряталась в подклети. Свой английский мундир Новосильцева теперь не надевала. Её переодели в гашкин свежий, хоть и полинявший, сарафан и в суровую полотняную сорочку. Отдала ей Гашка и свой белый плат, похожий на монашеский, который постоянно сползал Новосильцевой на затылок.
В один из вечеров Абрам Иосифович неожиданно спросил Новосильцеву:
— Мёрзнешь в бане?
— Нет, не мёрзну… — почему-то испугалась она.
— Мёрзнешь. Холодеет, осень близко. В избу перейдёшь. Оружье в дом не неси — грех.
Пришлось Новосильцевой спрятать пистолет и патроны в бане — Никифор показал свой тайник.
В светёлке ей отвели маленькую комнату с единственным окном на деревенскую дорогу. К общему столу Потаповы её всё-таки не сажали, еду носила Гашка прямо в светёлку, в посуде для чужих.
Нигде в европейской России Новосильцева не видела таких крестьянских домов, как у Потаповых. Уж избой-то его никак не назвать. Сложен из вечной лиственницы, в два этажа. Восемь комнат, каменная подклеть, где можно ходить во весь рост. Дощатые полы окрашены дорогой фабричной краской. Стены изнутри добела оштукатурены, и на каждой — яркие, хоть и примитивные, картинки на деревенские сюжеты или сказочный орнамент, напоминающий древнегреческий.
К дому примыкали хозяйственные постройки — огромный хлев, конюшня, сеновал, двухэтажный овин с печью для сушки снопов, овчарня. Крепкие стены, утеплённая крыша. Староверам нет нужды брать скотину в дом даже в сорокаградусные морозы, когда трещат и раскалываются деревья. А вот в сёлах европейской России крестьяне даже при небольших морозах часто вынуждены заводить скотину в избу, превращая её в хлев.
Потаповы жили выселком. Село Раздольное в двух верстах, названное чехами Новой Прагой, сплошь было старообрядческим. Рассказывала Гашка, что дом у Потаповых не самый лучший, и хозяйство не самое большое. И всё равно, Новосильцева поражалась, насколько жизнь и быт старообрядцев отличались от жизни подавляющего большинства русских крестьян в Центральной и даже в Южной России — в Малороссии с её чудесным мягким климатом и лучшим в мире чернозёмом. Но там даже представить себе невозможно такие громадные, удобные двухэтажные дома, а уж об электричестве — и не мечтать.
Почти вся крестьянская Россия жила так же убого, тяжело и беспросветно, как и полтысячи лет назад. Особенно недоумевала Новосильцева, снова и снова вспоминая крестьянство Малороссии, где не знали ни лютых морозов, когда земля промерзает на три метра вглубь, ни страшной летней жары континентального климата, ни беспощадного осенне-весеннего гнуса. И избы в благословенных южных краях почти все, даже у богатых, — с земляными полами, хаты сложены из самана — сырого глиняного кирпича, смешанного с соломой. Крыты тоже соломой, иногда камышом. У Потаповых дом под железом, в деревне большей частью — под берёзовой дранкой, но есть даже черепичные крыши, правда, у зажиточных.
Не сравнить и с северной Псковщиной, где крестьянин половину зимы кормит скотину сеном, а потом до весны — соломой с крыши.
Или с западными Смоленскими краями, где большинство крестьян ест хлеб «пушной» — пополам с мякиной, отчего крестьянские дети страдают кишечными болезнями и многие умирают в раннем возрасте.
Или с центральной Тульской губернией, где, как почти и по всей России, голод, словно по дьявольскому расписанию, повторяется один раз в пять лет, и трупы умерших, распухших от голода, валяются по обочинам дорог. На этих же дорогах — полицейские и даже армейские заслоны не пропускают голодающих в города, где люди ищут спасения.
Теперь Новосильцева поняла, что имел в виду Лев Толстой, когда говорил: для тульского крестьянина неурожай не тогда, когда не уродили рожь или пшеница. А когда не уродила лебеда! Ибо ядовитая лебеда для крестьянина — главный продукт, без которого нет хлеба. «На границе Ефремовского и Богородицкого уездов, — писал Лев Толстой о голоде 1890-х годов, — положение худо. Хлеб почти у всех с лебедой… Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют».
В это же время эшелоны и пароходы с превосходной русской пшеницей шли из крупных, в основном, помещичьих хозяйств на продажу в Европу. Россия, не способная справиться с неизбежным регулярным голодом, была самым крупным заграничным продавцом пшеницы и ржи. Голодающая Россия не только Европу заваливала дешёвым хлебом, она даже до Америки дотянулась, время от времени вызывая кризис избытка дешевого зерна на американском хлебном рынке. Излишки зерна собственники — помещики и немецкие колонисты, имеющие крупные хозяйства, — перегоняли в водку и продавали тому же крестьянину через густую сеть распивочных и еврейских шинков.
По крайней мере, две важнейших причины достатка староверов и бедности большинства крестьян в европейской России и Зауралье стали Новосильцевой ясны.
Для старообрядца труд — не проклятие, не наказание Божье за первородный грех Адама и Евы. И даже не средство существования. А, прежде всего, исполнение важнейшей Божественной заповеди, возвышающей человека и открывающей ему путь к жизни вечной: Господь трудился, то же и человеку заповедал. Труд — религия старообрядца, ежедневная молитва, связывающая его с Богом, его путь к спасению.
К тому же Потаповы вели хозяйство по науке. Рядом с книгами духовного содержания на полках у них стояли выпускаемые министерством земледелия брошюры «В помощь аграрию» — о современных методах обработки почвы, о племенном животноводстве, о разведении пчёл, о правильном огородничестве. И эти брошюры они по вечерам, после ужина, всей семьей читали вслух.
Второе, огромное, несравненное преимущество старообрядцев перед остальным православным крестьянством, оказалось не моральным и даже не чисто экономическим. Шире — политэкономическим.
По законам империи, ещё с екатерининских времён, когда Великая Екатерина во многом приравняла старообрядцев к остальным подданным, старообрядцы, тем не менее, платят все налоги в двойном размере. За веру. Но они не платят государству самый большой, самый разорительный и губительный для народа налог — налог водкой.
Крепкий алкоголь проник в Россию во времена Ивана Грозного, рецепт приготовления спирта из чистого зерна «подарили» русским пришедшие католические монахи. До этого тысячу лет Русь пила только слабоалкогольные напитки — медовуху, пиво, квас. И то лишь по праздникам.
Поначалу спирт использовался как врачебное средство и продавался только в аптеках. Но очень скоро выяснились его наркотические свойства. В массе своей русский человек, особенно в тех местах, где он получил примесь финно-угорских генов, из-за физиологических особенностей организма беззащитен перед крепким алкоголем. У многих русских, как и у коренных северных народов России и родственных им индейцев, печень не вырабатывает достаточного объёма пептидов, разлагающих алкоголь на углекислоту и воду. Поэтому привыкание к алкоголю быстрое и часто непреодолимое. Пьющий по-чёрному мужик за шкалик продаст всё.
И скоро сметливые бояре подсказали царю-батюшке Иоанну Васильевичу IV замечательный способ наполнять казну — «пьяными», то есть наркотическими деньгами. Тогда и появились на Руси первые «царёвы кабаки» с двуглавыми орлами на вывесках. Царь стал главным наркоторговцем. Право торговать водкой казна отдавала на откуп частным лицам. Те клялись не утаивать от власти доходы и на том целовали крест. Потому и назывались целовальниками. Правда, нередко откупщики обходились без целования креста, поскольку исповедали другую религию, чаще всего иудаизм.
Однако прошло не так много времени, и повальное отравление народа натолкнулось на глухое, потом открытое и яростное сопротивление самого народа. Силу ему дала вера. Именно она в дониконианские времена уберегала большинство податного населения от алкогольного истребления.
Дореформенная Русская православная церковь сыграла огромную роль в спасении народа: объявила употребление водки и табака смертными грехами.
Но в 17-м веке, после раскола, новая церковь запреты водку и табак постепенно сняла. Пьянство стало возвращаться в русскую деревню, в казну опять потекли лёгкие «пьяные» деньги.
Только староверы остались несокрушимо твёрдыми поборниками абсолютной трезвости. Полностью запретили себе крепкий алкоголь и табак. Пиво варили, иногда медовуху ставили — несколько раз в году, опять же по религиозным и по сельскохозяйственным праздникам.
И даже петровские реформы, которые сопровождались зверскими способами выкачивания денег из податного населения, не смогли превратить Россию в страну алкоголиков. А возобновившееся государственное преследование старообрядцев только укрепило их дух и традиционный, не оскверняемый водкой и табаком образ жизни. Потому-то старообрядца и сегодня всегда легко узнать в толпе: мужчины высокие, сильные. Даже у седобородых молодые лица. Женщины им под стать, в большинстве красивые, легко рожают, младенцев вскармливают до года исключительно грудным молоком. В «мирской» же крестьянской России детей отлучают от груди очень скоро, максимум через месяц — мать должна работать на барина или по временнообязанности, как правило, четыре-шесть дней в неделю. Молоко у неё сгорает, основной пищей младенца становится жёваный хлеб, здоровье народа губится с младенчества. Потому-то большинство крестьян в России — низкорослые, худые, с гнилыми зубами, нередко с признаками кретинизма.
И всё же долго царская власть не решалась сделать пьяные деньги главным поступлением в казну.
Вплоть до восшествия на престол Николая Второго и назначения главой правительства будущего графа Сергея Витте, которому не давал покоя реформаторский зуд.
Он остался в истории не только графом «Полусахалинским» — так его прозвали, когда в Портсмуте на переговорах с японцами по итогам войны Сергей Юльевич неожиданно сделал японскому императору подарок — южную половину острова Сахалин, богатую углём, нефтью и другими сокровищами недр.
Но, прежде всего, Витте прославился своей «золотой реформой». Смысл её был в привязке бумажных денег к золотому эквиваленту. В любом банке ассигнации теперь свободно менялись на золото. Каждый чиновник, например, мог потребовать себе жалованье золотым слитком. Часто требовали.
До сих пор лукавцы от экономики считают «золотую» реформу Витте образцом государственной мудрости. Как же, рубль стал котироваться во всех зарубежных банках! Но твёрдая валюта при незащищённом внутреннем рынке открывает путь повальному импорту товаров и капитала. И к удушению собственной промышленности.
Внутренний рынок империи оказался широко открыт и беззащитен. Подавляющая часть заводов и фабрик, крупные сельскохозяйственные производства вдруг оказались собственностью иностранцев, которые вывозили огромные доходы за рубеж, но рабочим платили гроши, а налогов не платили. Свободный обмен рубля на золото обернулся тем, что золото мощной рекой и так же свободно потекло из России. Мало того, чтобы поддерживать золотой курс рубля, государство Российское брало все новые и новые займы за границей, в основном, во Франции.
К началу 1915 году покупательная способность рубля катастрофически упала, золотой рубль на чёрном рынке сначала шёл за 20 рублей ассигнациями, потом реальная стоимость казначейских билетов опустилась до 30 копеек за рубль. Золотая, серебряная и даже медная монета почти исчезла из оборота. Но и бумажных денег не хватало, экономика была обескровлена. Ведь деньги, точнее, свободные финансы, — кровь экономики.
И тогда правительство бросилось выпускать бумажные деньги в огромных объёмах, чем спровоцировало бесконтрольную инфляцию и безумный рост цен. Уже в 1916 году Петроград голодал.
Дошло до того, что в качестве разменной монеты Госбанк и казначейства постановили использовать почтовые марки, на которых печатали: «Имеют хождение наравне с серебряной монетой».
Марки не имели защиты от подделки. Поэтому не только в провинции, но и даже в столицах частные типографии тайно печатали деньги-марки без ограничений.

Мало того, фальшивые русские марки стала выпускать Германия. В качестве оружия информационной войны. На оборотной стороне марки немцы печатали:

«Имеет хождение наравне с банкротом серебряной монеты».
В разгар войны финансовая система империи рухнула, утянув за собой всю экономику. Таким оказался итог гениальной «золотой» реформы.
Однако самой важной реформой графа Витте стала не «золотая», а алкогольная.
Именно С. Витте в полном объёме воскресил «пьяный» бюджет. Была введена монополия государства на продажу крепких напитков. Отныне все доходы от водки в виде акцизов, прямых и косвенных налогов пошли в казну. Царской власти стало очень выгодно истреблять водкой собственное население. Продажа крепкого алкоголя увеличивалась по экспоненте.

Неожиданно Россия, прежде всего, крестьянская опять ответила на «пьяную» реформу мощными протестами. Не только деревни, крестьянские общины, а целые уезды добровольно отказывались от употребления водки и полностью запрещали её продажу на своих территориях.
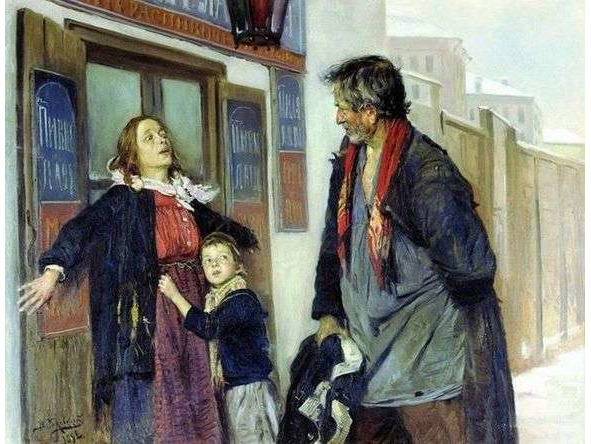
Власть ответила жестокими репрессиями — арестами особенно активных трезвенников, массовыми порками населения. Пороли всех без разбору — вплоть до стариков, женщин и детей. Пороли даже священников. Вождей движения за трезвость вешали.
Народное сопротивление против истребления народа было подавлено. Но старообрядцы, как всегда, устояли перед очередными зверствами царской власти. Хотя и в их среде постепенно начался процесс «обмирщения» — некоторые, в основном, столичные богачи, приобщались к европейскому платью, начали пить вино и даже курить. И все же в массе своей староверы оставались носителями лучших качеств русского народа — религиозного трудолюбия и здоровой жизни.
Видно, поэтому, решила Новосильцева, нет среди старообрядцев бедности, а нищеты и подавно.
— Не, Дунька, нищие у нас быват, я слыхала от людей, — сказала ей Гашка. — Хоть сама не видела. Варя одного видела, да не отгадала, наш или мирской.
— А воровство? — спросила Новосильцева.
— Попадаются. Но с крадунами у нас быстро.
— Руки отрубаете? — догадалась Новосильцева.
— Сдурела, городская? — расхохоталась Гашка. — Верно, у вас, у московских, отрубают. У нас по-другому. Быстро, — повторила она.
— Как же?
— Попадётся кто на воровстве, тогда собирают всю деревню. Каждый подходит и говорит вору: «Отрекаюсь от тебя, злодей, навечно!» Потом, коли возраст у крадуна подходящий, сдаём его вашему царю в солдаты. А ежели возраст не подходит, староста пишет бумагу царскому начальству, вся деревня бумагу подписывает. И по той бумаге вора ссылают на край Сибири, а то и дальше — на Сахалин. Так всегда делали, — уточнила Гашка. — Теперь не знаю, как. Сейчас другие напасти — вылезли из преисподней чехи, белые, зелёные всякие…
— А красные?
— Красных у нас нету. У нас партизаны, свои, — шёпотом сказала Гашка. — В других краях, слыхать, есть и красные партизаны. Про наши не слыхала.
— А что Варвара? Слышно что?
— Ищем. Никеша с Серёнькой ищут. Какую неделю уже.
И ещё один важный вывод сделала Новосильцева из своих наблюдений.
«Мирские» русские, в массе своей, — народ со слабым чувством национального единства. У старообрядцев, наоборот, необычайно сильны солидарность, взаимовыручка и доверие друг к другу. Как у евреев, а, может, и ещё сильнее. Но, в отличие от евреев, давать деньги в рост староверы считают непростительным грехом. В делах со своими обходятся без письменных договоров и обязательств, несмотря на поголовную грамотность. Всё на честном слове. Обмануть своего или украсть старообрядец может только раз в жизни. После чего его изгоняют из общины. И проклинают. По таким же законам русские старообрядцы живут и в других странах, даже в самых далеких, за океанами.
3. Новосильцева. Исчезнувшая среди старообрядцев (окончание)

ПОСТЕПЕННО Новосильцева втягивалась в хозяйственные работы на подворье. Сначала ей доверили собирать яйца в курятнике, потом давать лошадям сено и овёс, гонять гусей на выпас. Скоро Гашка научила её доить корову, и Новосильцева была в восторге, когда надоила первое своё ведро.
Когда захолодила осень, Гашка и Мария наладились квасить капусту. Пришла помогать старшая сестра Акулина, беременная на седьмом месяце. И Новосильцеву позвали.
— Все в округе капусту тяпками рубят. А тятька вона что наладил, — сообщила Гашка, показав деревянный лоток с косыми ножами.
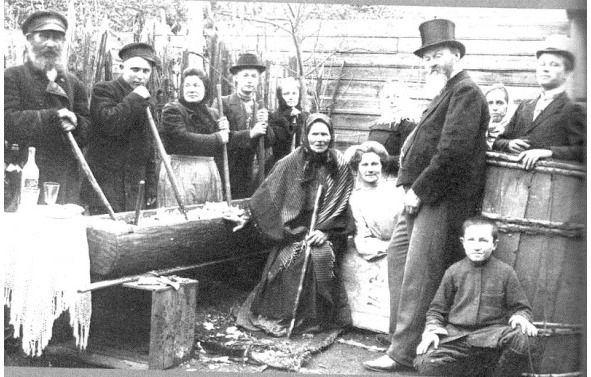
Чуть оробев, Новосильцева взяла небольшой кочан, положила его в лоток. Осторожно провела кочаном по ножам — в бочку посыпались тонкие полоски, запахло капустным соком. Руки задачу поняли, Новосильцева осмелела — и капуста у нее затрещала.
К вечеру наготовили четыре бочки. Нашинковали туда моркови, антоновских яблок, накидали в каждую бочку клюквы и брусники, засыпали каменной солью, перемешали. Гашка еще добросовестно и долго деревянным толчком по капусте поработала. И вздохнула удовлетворенно, вытирая пот со лба:
— Ох, умаялась, девки.
— Ничего, работай, найдет тебя за то мужик хороший, полюбит, — пообещала Мария.
Отдыхать сели на лавку у клумбы. На закате цветы пахли особенно сильно. И от аромата ночных фиалок сердцу Новосильцевой стало чисто и немного грустно.
— И не сказать, что ты из барских, — заметила беременная Акулина. — Сноровистая. Мы думали, дурная.
— Я мало что умею, — ответила довольная Новосильцева, не в силах пошевелиться от усталости. — Но учусь быстро. Стараюсь — быстро, — скромно добавила.
— Да уж быстро. Из пистоля тоже палить? — прищурившись, поинтересовалась Гашка.
— Ещё сестрой милосердия служила, когда в Германии жила, — ушла от прямого ответа Новосильцева. — Могу — авто поведу, коня тоже оседлаю. Даже в монахинях побывала.
— Да с тебя монашка! — возмутилась Гашка, вытаращив глаза. — Монашка с пистолем, знат? Ну, вы, московские…
— Споём, что ль? — перебила её Мария. — Гашка, начинай! Нашу, про батюшку Аввакума.
Гашка кивнула, помолчала, собираясь, и тоненько, чуть дрожащим, но чистым и наполненным голосом завела:
В Даурии дикой пустынной
Отряд воеводы идёт,
В отряде том поступью чинной
Великий страдалец бредёт.
Вторым голосом вступили Акулина и Мария:
Вот стонет жена, голодая,
И силы кидают её,
И дети к ней жмутся, рыдая,
Пеняет она на житьё:
«Петрович, да долго ль за правду
Изгнание будем нести?
Ужели не встретим отраду
И долго ли будем брести?»
«До самыя, Марковна, смерти», —
Сказал ей Аввакум борец. —
«До самыя, Марковна, смерти,
Когда мой наступит конец».
И ветер в Даурии дикой
Унылую песню поёт,
И отзвуки речи великой
В Россию он смело несёт.
— Хорошо, — выдохнула Новосильцева.
Все замолчали и слушали вечернюю песню дрозда-пересмешника.
— О! — Акулина замерла, прислушиваясь к своему животу. — Пяткой бьёт, — и улыбнулась. — Надоело, знат, тёмно ему.
— Мальчика ждёшь? — спросила Новосильцева.
— Он, — согласилась Акулина. — Девка так пяткой не бьёт.
— Когда живот круглый — значит, девка, — авторитетно сообщила Гашка. — А у неё, вишь, жёлудем.
— Да… — в раздумье произнесла Новосильцева. — Вы живете не так, как все в остальной России. Всё у вас… так добротно, надёжно, а главное, чисто. Даже удобства при доме, в тепле.
— А ты попробуй с голой попой — да на мороз, да в метель! Забудешь, зачем в нужник выскакивала! — захохотала Гашка.
— Даже в иных европейских державах простой народ тоже живёт кое-где, как в хлеву. Где обитает, там и гадит. Я жила там, знаю, видела. Иные даже выгребные ямы не копают. В Курляндии, например. Там чухонцы живут.
Гашка ухмыльнулась — свысока, а Мария заметила:
— У многих наших тоже скворечня нужная в хлеву или на дворе. Это тятька выдумал каналезею выкопать, да подале от реки. Около реки нельзя. Два лета строили. Чистота — самое для жизни главное.
— Знаш — бесы и тока бесы грязь любят, — заявила всезнающая Гашка. — Так прячутся в ней, что не видать. На руках грязных. А особливо в кухонной посуде. Ты думаешь, миска там, или горшок, иль чугунок просто немытые стоят. Нет, в них уже бесы спрятались, тебя дожидаются! Откроешь рот — так в тебя, в нутро бесы и запрыгнут. А ты потом: «Ой, живот болит! Ой, болячка моровая, знобуха, огневица прицепилась, вся горю! Летячка всю рожу порыла! Спаси, Наумовна!»
— Вот оно как! — поразилась Новосильцева, которой только что кратко преподали основы микробиологии и социальной гигиены.
— Нравится у нас? — усмехнулась всё понимающая Гашка.
— Нравится, — призналась Новосильцева.
— Так оставайся насовсем! Ты девка толковая, без московских глупостей, работы не боишься, научаешься быстро. Зачем тебе война? Окрестим тебя по нашему закону, жениха подыщем, чтоб работящий был, в вере крепкий и чтоб жалел тебя. Оставайся.
— Ах, Гашенька, родная… — едва не расплакалась Новосильцева. — Может, и осталась бы. Только не одна я. Муж у меня пропал.
— Чехи схватили?
— Они. Искать буду.
— Да справишься ли?
— Должна. По-другому никак. Я уже вашего отца попросила помочь.
Гашка вытаращила глаза — вот выскочат. Акулина усмехнулась:
— И поможет?
— Обещал, не знаю…
Скрипнула дверь токарной мастерской, вышел Никифор, подмышкой гармонь-тальянка. Она искрилась в лучах вечернего солнца красным перламутром. Постоял, раздумывая. Подошёл неторопливо и даже торжественно.
— Сшил? — встрепенулась Гашка.
— И сшил, и склеил, — внушительно ответил брат. — Подвинься.
Сел на скамью, растянул мехи, ловко перебрал клавиши, встряхнул головой. Гармонь была не в сборе — один колокольчик оторван.
— Чехи гармошку грабили, — пояснила Новосильцевой Гашка. — А он не дал. Чех тянет, Никишка не отпускает, крепко стоит. Тут гармонь — раз! — и надвое. Чех плюнул и отстал. Будешь играть? — спросила брата.
— Дома тятька? Вернулся из города? — озабоченно спросил парень.
— Нет ещё. Чтой-от задержался.
— Тогда сыграю. Новая песня! — громко объявил он. — Вчера слыхал у мирских.
— Зачем нам мирские песни? — хмыкнула Гашка.
— А ты послышь. Хорошая.
Сделал несколько звонких аккордов, упёрся подбородком в гармонь и запел:
Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца убили злые чехи,
А мать живьём в костре сожгли.
Сестру родную в плен забрали,
А я остался сиротой.
Не спал три дня, не спал три ночи,
Сестру из плена выручал.
И на четвёрту постарался,
Сестру из плена я украл.
С сестрой мы в лодочку садились
И тихо плыли по реке.
Но вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
То чех пустил злодейску пулю,
Убил красавицу сестру.
Сестра из лодочки упала,
Остался мальчик я один.
Взойду я на гору крутую
И посмотрю на край родной.
Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя!

Загремели железом колёса телеги — во двор въехал Абрам Иосифович.
— Ой, тять приехал, — вскрикнула Гашка.
Поперхнувшись, Никишка сильно сжал меха взревевшей гармони и вскочил. Все встали и поклонились отцу в пояс.
— Доброго вечера, батюшка!
Новосильцева тоже поклонилась.
Остановив тяжело дышащую лошадь, Абрам Иосифович медленно слез с телеги, бросил в неё вожжи и оглядел всех.
— И вам то ж, — хмуро сказал он. — Праздник-от какой? А я и не знал. Чего распелись?
— Дак Никишка гармонь стачал! — как всегда, смело ответила Гашка. — Вот пробовали. Все пробовали.
— Все? Пробовать — не на всю округу. Пошто гулянку затеяли? Твои вопли, Гашка, за три версты слыхать.
— А если весело? — задрала нос Гашка.
— Так с чего бы?
— Вот, нашинковали целу гору. Дуня тоже научилась. Гуляли, потому как работа сработалась.
— Гору, знат? — усомнился отец. — То гора называется? И Дуня? Тебе в пляс пуститься осталось.
— А чего-сь? — с вызовом прищурилась Гашка. — После хорошей работы и поплясать.
— После хорошей на пляски не тянет, — усмехнулся Потапов. И — Новосильцевой, словно ища сочувствия. — Вся в бабку свою. Такая же была. Татарка, одно слово.
— Ваша мать татаркой была? — удивилась Новосильцева.
— Тёща. Как окрестилась, строже всех стала в вере. В пост яишню не даст. А как разговеется — не удержать было, — усмехнулся в бороду. — И петь, и плясать, и всякие шутки шутить. И татарские песни петь. Ты думаш, откуда мои шалопуты глаза синие взяли? От неё, от татарки. Ну да мы не по крови — по вере на людей смотрим. Так… Никишка! — приказал он. — Распряги и, как выводишь Красотку, чтоб поостыла, напоишь, почистишь, овса задашь.
— Знаю. А зачем Красотку гнал, тятя? — поинтересовался Никифор и взял лошадь под уздцы.
Красотка роняла с губ пену, на боках и подмышками у неё темнели остро пахнущие пятна пота. Пожилая лошадь тревожно встряхивала гривой, звенела удилами и не могла отдышаться.
— Всё-от тебе знать надо, — проворчал Абрам Иосифович. — Сказано в Писании: не любопытствуй всуе.
Он взял с телеги большой свёрток, бумажный, обмотанный бечёвкой, и газету, сложенную вчетверо.
Никифор повёл лошадь за дом, на конюшню.
Отец, мельком глянув на бочки с капустой, сказал вполголоса:
— Евдоксья! — и кивнул на дом.
В прихожей Абрам Иосифович стащил с себя сапоги, влез в мохнатые пантуфли из медвежьего меха, стёртые по краям. Новосильцева сбросила лапти, осталась босиком.
Потапов положил свёрток на стол, развязал бечёвку, сунул её в ящик комода и после этого развернул бумагу.
— Оно? — спросил. — Или не оно?
В свёртке оказалось тёмно-серое платье с пелериной, белый передник с красным крестом на груди и белый плат, похожий на старообрядческий, с красным крестом во лбу.
— Будто и не ношено, — оценила Новосильцева.
— Стал бы я у чужих ношено для тебя брать, — хмыкнул Потапов. — Не надёвано ни разу. Такое ли надоть?
— Такое, спаси Бог. Только…
— Что только?
— Платье и передник — те, что надо, Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. А плат — Кауфманской общины, графини Бобриковой.
— И что тогда? — озабоченно спросил Абрам Иосифович.
— А ничего, собственно. И те, и другие были мобилизованы, многие погибли на фронте. И общин тех, думаю, уже нет. Важнее документ.
— Есть документ, — довольно сообщил Абрам Иосифович. — Он?
И положил на стол серую картонную книжечку — удостоверение на имя Марии Свиридовой, уроженки Череповца, сестры милосердия Крестовоздвиженской общины. Всё, как полагается — печать, неразборчивая подпись. Фотография мутная — переснята с сохранившегося у Новосильцевой паспорта на имя Свиридовой, но для такого удостоверения сойдёт вполне.
— Вот ещё.
Потапов достал из кармана пиджака картонную коробочку и открыл. Янтарно блеснули плотно уставленные патроны для браунинга.
Новосильцева взяла коробку и положила в карман.
— Благодарю вас, Абрам Иосифович, спаси вас Бог, родной. Век ваша должница.
— Век? — переспросил Потапов, чуть усмехнувшись. — Долго же мне ждать.
— Ой, простите, это я так, к слову, — смутилась Новосильцева. — Сколько с меня?
— За все на круг выходит пятнадцать тысяч, сибирками. Документ дорого вышел, зато быстро. Найдётся?
— Есть, сейчас принесу.
— А то можешь половину, — подумав, сказал Потапов. — Остальное — до лучших времён.
— Когда-то они ещё настанут, лучшие времена! — возразила Новосильцева. — И доживём ли? Есть и царские.
— Царскими — пятьдесят рублёв.
— Может, лучше золотом? Империалами. Сколько это?
— Золотом? Дай-ка сочту… Два империала по семь пятьдесят.
— Сию минуту! — заторопилась Новосильцева.
— Погодь, постой, Евдоксья, — остановил её Потапов. — Золотом — да, хорошо. Самое лучшее. Надежней не бывает. Только, чай, оно тебе сейчас нужнее будет. Мы-то остаёмся на своей земле, в своём дому. А как у тебя повернётся — кто знат? И где ты будешь?
— Спасибо. Сей же час принесу…
— Ещё постой. Не сказал главного. Так поспешал, что Красотку запарил. Ищут тебя. Чехи.
Она замерла.
— Но откуда?..
— Оттуда… — вздохнул Абрам Иосифович. — Я на Серёньку грешу. Не то, чтобы по своей воле, а сдуру болтнул где-то. Большая у них злоба на тебя. Всё вокруг обыскали, только до нас не дошли. Слышно, ты стрельнула кого-сь. Гада-от не жаль. Но могут и сегодня налететь. Сведения верные. Так что в дому больше нельзя.
— Хорошо… Я поняла, — тихо произнесла Новосильцева. — Сегодня же уйду. Как стемнеет.
— Не спеши, девка. Другое скажу.
— И… что?
— Скажу, скажу. Живо собирай вещички. И те, что в бане прячешь, захвати.
Она взяла сверток и через четверть часа была в сенях, уже переодетая в сестринское. На ремне через плечо — небольшой кожаный кофр, подарок Никифора.
— В другом месте тебя спрячу, — сказал Потапов. — В подклети. Есть там норка. Ни одна собака не сыщет.
Он поднял ковровый половик.
— Что видишь?
Она внимательно осмотрела блестящие жёлтые доски.
— Ничего.
— Стало быть, хорошо сделал, — удовлетворённо заявил Потапов.
Он нажал на половицу — приподнялась квадратная крышка люка.
— Одна Соломонида знает и старшой Васька. Ты — четвертая. — Принеси-ка, — он указал на свечу в медном подсвечнике на комоде.
Когда спустились в прохладную и сухую подклеть, Абрам зажёг свечу. Огонёк затрепетал.
— Здесь есть другой выход, — заметила Новосильцева. — Сквозит.
— А ты не дура городская, — похвалил Потапов. — За мной иди.
Пробираясь между ящиками, бочками и ларями, они оказались в небольшой комнатке. Потапов поднял свечу и осветил крохотный столик с керосиновой лампой и лавку у стены. Зажёг лампу, огонёк ушёл в сторону и застыл под ламповым стеклом.
— Выход, — указал Потапов на лаз с деревянной крепью. — Отсюда — в лес, к реке. Сажен двести. А там и до вокзала недалече.
— Пролезу ли? — засомневалась Новосильцева.
— Так я-от пролез! Позавчор и проверял, будто почуял… А, можа, и не понадобится. Можа, только отсидишься тут-от… Как Бог даст.
Он вздохнул и сказал тихо:
— Ну, оставайся. Что ни станет там, наверху, не выходи. Ни в коем разе. Гашка поесть, попить принесет.
— А деньги? Вот, — она открыла кофр.
— Потом, потом, — отмахнулся Абрам Иосифович. — Сказано же — до лучших времён. Сочтёмся.
— Я… я даже не знаю, что и сказать… — шёпотом произнесла Новосильцева, чувствуя подступивший острый комок в горле и близкие слёзы.
— Ну-ну, не раскисай, не ко времени! — приказал Потапов.
— Абрам Иосифович, — она обняла старика и поцеловала в волосатую щеку, пахнущую лошадиным потом. Потом неожиданно для себя самой схватила его тяжёлую загорелую руку и тоже поцеловала.
— Да ты что творишь? — прикрикнул Потапов и добавил. — Совсем с разума девка съехала… Мужику руку лобзать! Я ж тебе не поп ваш.
— Абрам Иосифович… — начала Новосильцева.
— Тихо, девка! — вдруг шёпотом приказал Потапов. — Слушай!
Сверху издалека донеслось глухое рычание автомобильного мотора, звонко заржали лошади — чужие. Своих Новосильцева уже научилась узнавать по голосам.
— Всё! — заторопился Потапов. — Спаси тебя, Господь! — и перекрестил Новосильцеву. — Ни в коем разе наверх не выходи! — повторил он.
И неожиданно погладил её по голове.
— Прощевай! Хорошая ты девка, хоть из господ, да ещё из мирских. Пришлась ты нам.
Когда Потапов исчез, Новосильцева достала из коробки четырнадцать патронов. Остро отточенной стальной шпилькой сделала на конце каждой пули насечку крест-накрест, превратив их в разрывные. И принялась заряжать обойму, одновременно прислушиваясь.
Сначала сверху доносились невнятные голоса — чехи спрашивали о чем-то Потапова, он отвечал. Потом раздались крики:
— Wo ist deine rote Bolschewikenhure? Zeige sie, oder deine Familie erschissen wird! Давай красную суку, будем всю семью твою здесь пиф-паф!
— Я ж вам в который раз, ваше благородие! — срывающимся голосом убеждал Потапов. — Нет её в избе, была — правда, была! Хворая была, ночевала — мы ж не знали, что вы её искать почнёте! А нонче нет её в дому!
— Все пистро у твор! У твор, in den Hof все пошли! Быстро-быстро, давай-давай! Los-los!
Загремели шаги в сенях, потом топот подкованных сапог. Затрещала мебель. Послышался звон разбитой посуды.
— Где вона? Где? Стреляем тебя и всю семью твою!
Новосильцева почувствовала, как по спине заструился холод. «Придётся выходить. Вот и конец», — усмехнулась.
Сапоги застучали по лесенке в светёлку, и наверху загремела мебель — похоже, опрокинули кровать и комод.
Новосильцева загнала обойму в рукоятку пистолета и сняла его с предохранителя.
Сверху послышались крики:
— Вонявка! Тут вонявка!
Так, нашли её флакон с остатком французских духов. Их Новосильцева оставила специально для Гашки — та просто млела каждый раз от волшебного аромата, но попросить для себя не осмеливалась.
— červené prostitucezde!
Чехи спустились на первый этаж, ещё что-то разбили и потопали на двор.
Новосильцева прикрутила фитиль керосиновой лампы, оставив крохотный огонёк, и кинулась к лестнице.
Люк наружу не открывался, как она ни старалась. Потом поняла: поверх люка — ковровый половик, он и не пускает.
Сосредоточившись и увидев внутренним зрением, как половик поднимается и освобождает люк, Новосильцева выбрала наилучшую точку опоры на лестнице. Упёрлась в люк обеими руками и головой, напряглась что было сил. И когда люк с трудом поднялся, во дворе послышались крики, потом грянул винтовочный залп. За ним несколько пистолетных выстрелов — Новосильцева насчитала шесть.
Она выбралась наружу и бросилась к окну. У крыльца четверо солдат и офицер молча наблюдали, как двое легионеров обшаривают убитых. Здесь они были все, и лежали головами к дому — Абрам, Соломонида, Никифор, беременная Акулина, Мария и Гашка.
Выбив локтем стекло, Новосильцева крикнула:
— Tak jsem přišla! Hledáte mě? Jeto tak?
Чехи не успели понять, что им крикнула из разбитого окна красотка с застывшим, словно каменным страшным лицом. Она ни разу не промахнулась и остановилась, лишь когда затвор пистолета застыл в заднем положении — кончились патроны.
Новосильцева внимательно оглядела из окна весь двор. Четыре лошади привязаны к воротам и к скамье перед клумбой. Однако автомобиля, который она услышала из подвала, нет. Она уже собралась выйти, но в этот момент приблизился звук мотора — автомобиль ехал к дому.
Она перевела дух, подавила комок в горле и вернулась обратно в подклеть, в потаённую комнату.
Здесь она сидела несколько часов, не шевелясь и ни о чём не думая. Медленно приказала себе замереть.
Когда, по ощущению, должен наступить рассвет, выбралась через лаз и оказалась на берегу реки — точно посреди густого ивняка, в котором был скрыт выход.
На вокзал станции Раздольная — на вывеске «Nova Praga» — она пришла в половине шестого утра и удивилась: уже в этот час полно народа. В основном, штатские, многие с детьми. Беженцы.
Мелькали в толпе и военные, крестьяне и несколько священников. Толпа была разделена на две очереди — к билетной кассе и к выходу на перрон. У турникета на посту двое солдат — русский и чешский.
Кассовое окошко было закрыто и заперто снаружи на решётку, на ней висело объявление, написанное от руки: «Билетов нет и не ждется».
Новосильцева огляделась. Отметила неподалёку усатого носильщика с дореволюционной бляхой на груди. Тот сидел на своей пустой тележке и скручивал махорочную «козью ножку».
— А что, отец, — подошла к нему Новосильцева. — Поезд на Омск скоро?
— Поезд… — хмыкнул носильщик. — Тебе, сестрица, поезд? Что, так сильно надо ехать?
— Очень нужно, уважаемый. Полгода с фронта добираюсь.
Носильщик лизнул край газетной бумажки с завёрнутой в неё махоркой, склеил. Чиркнул о колено спичкой, закурил. Новосильцева терпеливо ждала.
— Поезд, он — да, быть должóн, — наконец сказал носильщик. — Телеграмма диспетчерская уже была.
— Скоро будет?
— Может, через полчаса. Али задержится. Сама знаешь, как оно сегодня.
— И классные вагоны в нём есть?
Попыхтев цигаркой, носильщик прищурился:
— А коль и есть, тебе-то что? Билетов всё одно нету. Давно расхватали. Еще в Катькине. А то и в Москве.
— Что же тогда хвост на перрон стоит? Все с билетами?
— А ты что думаешь?
— Я — ничего. Но стоят же люди, ждут.
— Чуда небесного ждут. Готовы хоть на крыше ехать. Они уж с полгода ночуют здесь, поселились на вокзале. Только не дождутся. Видишь? — он кивнул в сторону турникета.
К солдатам на пропуске подошёл чешский офицер, рассеянно глянул на очередь, которая под его взглядом тревожно шевельнулась, и заговорил с постовыми.
— Мимо таких сторожей мышь без карты не проскочит, — заявил носильщик.
Новосильцева подступила к нему ближе и тихо спросила:
— Сколько возьмёшь за проездную карту в первый класс?
Носильщик усмехнулся:
— Ничего не возьму, да и с чего брать-то? Не кассир. И нет билетов, сказано тебе!
— Знаю. Читала объявление.
И быстро оглянувшись, шепнула:
— Плачу золотом. Впятеро от цены. Даже вшестеро.
Носильщик сначала застыл, потом тоже огляделся — быстро и воровато. И спросил с недоверчивым смешком.
— Где ж ты его возьмёшь, золото? Давно золота на Руси нету.
— Отсюда возьму, — ответила Новосильцева и сунула руку в кофр.
Медленно извлекла из кофра сжатый кулачок, слегка раскрыла его — империал блеснул на солнце. Она снова зажала монету в ладони и отступила на шаг.
Носильщик молча курил и сплёвывал в сторону. Наконец спросил коротко:
— Сколько там?
— Семь с половиной.
— Два таких.
— А если нет у меня больше?
— Шестьдесят тысяч давай. Хотя кому они нужны, твои бумажки. Так что по семь с полтиной двух николашек возьму. Или никак, — и сплюнул желтой табачной слюной.
— Хорошо. Получишь, — помедлив, согласилась Новосильцева.
— Ну-с, тогда… можно попробовать. Давай.
— Нет, братец, — возразила Новосильцева и отступила еще на шаг. — Сначала карту. В первый класс.
Носильщик поднялся, почесал в затылке.
— Вона какие сестры милосердные нонче пошли! Православному человеку не верят.
— Я верю, — заявила Новосильцева. — Всем православным верю. Но сначала карту. Я барышня простая, только по-другому не будет. Не хочешь, найду того, кто согласится.
— Что с тобой поделать… — нехотя и будто с огорчением сказал носильщик. — Оно, конечно, пожалеть надо такую молодую да пригожую. Ладно, жди, не сходи с места.
Вернулся носильщик через четверть часа и сунул ей в руку проездную карту — похожую на казначейский купон, в разноцветно-денежных узорах.
Новосильцева повернулась спиной к толпе и внимательно изучила билет: поезд «Екатеринбург-Иркутск», класс-вагон МОСВ прямого сообщения, второе купэ, место тоже №2. Штамп станции. Без имени, на предъявителя.
Мимо них медленно прошел высокий господин в верблюжьем пальто и при котелке, с сигарой в зубах. Приостановился, вынул сигару, блеснул золотым зубом. Глянул с любопытством на Новосильцеву, на ее кулачок, в котором она зажала монеты, хмыкнул и прошел мимо. Новосильцева дождалась, пока барин в верблюде уйдет подальше.
— Получи, любезный.
Носильщик цапнул монеты, одну попробовал на зуб.
— Годится? — осведомилась Новосильцева.
— Вроде оно и есть, — согласился.
— Такие нынче носильщики пошли: сёстрам милосердия не верят. Не «вроде», а настоящее золото, — упрекнула Новосильцева.
— Так время ж такое. Никому верить нельзя. Только мне! — хохотнул носильщик.
Новосильцева с сомнением посмотрела на очередь:
— Как же я на перрон попаду? Такой хвостище.
— Сказал же тебе — там, почитай, все безбилетники. У кого карта — тот уже в вагоне. Ты — сразу к офицеру, помимо очереди. Пропустит, — заверил носильщик.

— Благодарю за билет. Спаси тебя Господь.
— И тебя пусть сохранит.
— Только вот что, дядя! — вдруг жестко отчеканила Новосильцева. — Если обманул с билетом или места не будет, знай: можешь даже не прятаться. Не уеду — под землей тебя сыщу.
И взглянула так, что носильщик отпрянул.
— Да ты… да ты што-от, девка! Что б я?.. Вот те крест святой!
— Я за твой крест и гроша ломаного не дам в базарный день.
— А хошь, я провожу тебя, стану у вагона, пока не уедешь. Тогда поверишь?
— Может, и поверю. Ступай к поезду. И жди меня.
— Побежал!..
К турникету пришлось пробиваться. Люди с жадной завистью глядели на неё, угадав счастливую обладательницу билета, и расступались с большой неохотой. Она уже хотела окликнуть чешского офицера, который продолжал тихо разговаривать с солдатами. В этот момент офицер поднял голову, снова бросил рассеянный взгляд на толпу и возвратился к разговору.
Новосильцева торопливо повернулась к перрону спиной.
У турникета стоял надпоручик Ярек Кучера, начальник того эшелона, в котором Новосильцеву едва не изнасиловали чехи.
4. Неистовый демон войны Лодевейка Грондейса

УВИДЕВ на перронном контроле надпоручика Кучеру, который по-прежнему спокойно, не поднимая головы, продолжал беседовать с часовыми, Новосильцева резко отвернулась. Морозная волна обдала ее с ног до головы.
Надпоручик Кучера закончил разговор, мельком глянул на очередь. Потом что-то негромко сказал.
Очередь зашелестела, зашевелилась, взволнованно заговорила.
— Будут пропускать сегодня? Что говорят? Офицер сказал — пропускать… Кого? Сказал ждать?
— Военных, военных, говорит! Мимо очереди! — крикнула женщина впереди. — Слышали?
— По какому праву? — взревел над толпой медный бас уже знакомого господина в верблюжьем пальто и в дореволюционном котелке.
— Тебя, буржуй, не спросили, — с ненавистью отозвался солдат из очереди.
— Сам ты буржуй! — заявило верблюжье пальто. — А я — адепт свободных профессий, и не позволю всякому хаму…
«Адвокат? Нет, скорее, ночной спец по банковским сейфам», — решила Новосильцева.
Адепта заглушили крики толпы.
— Пусть пройдут! Пройдите… Господа офицеры!.. Солдаты! Все идите… — и несколько военных в изношенных мундирах неторопливо потянулись к турникету, выстраиваясь в небольшой хвост по соседству. Но их все равно почему-то не пропускали к поезду.
— Сударь, я отлучусь ненадолго, не возражаете? — обернулась Новосильцева к пожилому господину в вицмундире без петлиц. — Вы сможете потом меня узнать?
— Без возражений, сестрица! — с готовностью отозвался бывший чиновник. — Как же не признать, не волнуйтесь! А то, пожалуй, вам лучше с военными. Ведь вы из таких же? Иначе вам ждать и ждать. До второго пришествия.
— Благодарю вас душевно, сударь. Попробую, когда вернусь.
— Поторопитесь! — в спину ей крикнул чиновник. — Этот поезд недолго стоит!
Она не торопилась. Развернулась и пошла от платформы, не глядя, куда идет. Медленно миновала бесконечный ряд картонных и деревянных ящиков, навесов, накидок, плащ-палаток. Дикий городок беженцев протянулся вдоль привокзальной дороги. Здесь расположились, в основном, женщины — пожилые, многие с детьми. Было немало и молодых, с виду курсистки или студентки — девушки, похоже, из когда-то приличных семей. Попадались солдаты, почти все — раненые. Ни одного офицера.
Обитатели стихийного городка жили здесь не одну неделю. Многие даже освоились, привыкли, обжились, не теряя надежды когда-нибудь уехать на Восток. Конечно, не с этим поездом. Знали: в этот их не пустят.
Они оживленно переговаривались с соседями, обменивались слухами, препирались, спорили. В какой-то момент Новосильцева с удивлением услышала смех — тоже женский. И только дети грустно молчали, нахохлившись, как воробьи под дождем.
Облачка вкусного пара подымались из котелков, кастрюлек, жестяных консервных банок. Беженцы готовили себе на примусах, керосинках, небольших кострах. У «особняка» из пятиместной палатки, выгоревшей на солнце добела, Новосильцева увидела даже турецкий мангал.
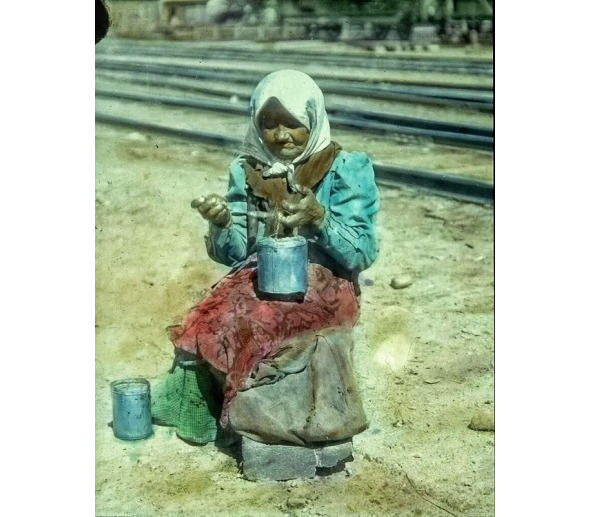
Транссиба. Фото офицера чехословацкого легиона. Осень 1919 год
Снова раздался смех, на этот раз с оттенком неудовольствия: девушка в осенней пелерине, поселившаяся в настоящем дворце из трех крепких снарядных ящиков, хлопнула по руке молодого солдата с забинтованной головой. Тот разместился под навесом из английской плащ-палатки в желто-коричневых пятнах, растянутой на четырех кольях, и только что нарушил границы соседнего владения.
Как же попасть на этот чертов поезд?
И тут будто солнечная искра попала ей в глаза.
Около пыльного куста придорожной облепихи стоял странный господин, явный иностранец. Небольшого роста, чуть выше Новосильцевой, но крепко сбитый и с виду физически сильный, господин своим круглым лицом, южно-азиатскими черными глазами в круглых очках напоминал японца, или, скорее, малайца. А в остальном — европеец. Он был в мундире капитана французской армии, офицерских брюках и в русских высоких сапогах — сильно избитых, но зеркально начищенных. На ремне через плечо у него висела портативная фотокамера фирмы «Кодак». Занимался он не менее странным делом.
Французский малаец медленно, очень осторожно снимал с колючих веток облепихи прозрачные янтарные ягоды, долго нюхал каждую. Потом неторопливо клал её в рот и медленно жевал, чуть морщась.
Однако не солнце сверкнуло в глаза Новосильцевой, а искрящееся великолепие высших орденов Российской империи и королевства Бельгии на груди любителя облепихи.
Сиял высший бельгийский Орден Короны — звезда из пяти концов мальтийского креста. Русские награды впечатляли больше. Два офицерских Ордена Святого Георгия четвертой степени, Святой Станислав, Святой Владимир с мечами, дающий награждённому право на потомственное дворянство. И даже Орден Святой Анны. Были еще у капитана и ордена других стран — Новосильцева их не знала.
Похоже, франко-азиатский кавалер приготовился к какому-то торжеству: обычно, на каждый день, военные носили скромные колодки с орденскими лентами.
Новосильцева поколебалась и решительно шагнула к сверкающему господину.
— Hallo, mijn Heer Grondeys! — весело сказала она.
Тот резко обернулся к ней, потом едва заметно, но вполне учтиво поклонился:
— Hallo, gerespecteerde mevrouw! Kennen wij elkaar?
— Nietecht.
— Но вы меня знаете?
— Я о вас знаю. Правда, немногое. Хотелось бы побольше.
— Понятно, — кивнул капитан. — Вы читали мои статьи.
— Ваши статьи очень интересные. Но о том, что мне про вас известно, в газетах не пишут.
— А где пишут? — заинтересовался капитан.
Она не ответила, загадочно улыбаясь. Потом многозначительно повела глазами вокруг.
— Давайте лучше по-русски, — предложила Новосильцева. — С голландским у меня плохо, к тому же, опасаюсь, мы привлекаем внимание.
Ничьего внимания они не привлекали. Иностранцами Сибирь сегодня не удивить. С первых дней гражданской войны, развязанной в России странами Антанты, сюда хлынули англичане, французы, немцы, итальянцы, американцы, китайцы, японцы, корейцы, арабы. Мелькали даже индусы в фиолетовых чалмах и негры в форме французских зуавов — ярко-красные шаровары, синие куртки, турецкие фески. Только голландцев почти не было. Поэтому такая редкость и знаменитость, как военный репортер Лодевейк Грондейс из королевства Нидерландов, мало кому была известна в Сибири. Разве что тем, кто привык читать газеты, в первую очередь, иностранные. Или тем русским солдатам и офицерам, кто недавно воевал на Юго-Западном фронте.
Похожий на азиата голландец еще раз сверкнул на солнце грудью, которая еще больше засияла радужной эмалью, золотом и серебром.
Он внимательно изучал лицо сестры милосердия — красивой, однако исхудавшей, измученной. Вид у иностранца был такой, будто он держит на ладони пушистого зверька, быть может, белку; она помахивает хвостом, однако на своей ладони он чувствует ее холодные лапки и готовые к делу острые коготки.
— Интересно, интересно… — наконец произнес на хорошем русском Грондейс. Снова отщипнул ягодку облепихи и укололся. — Вы знаете, что эти шарики пахнут настоящим ананасом? Сказка. В такой холодной стране…
— Пахнут, как ананасы у вас на родине?
— Ошибаетесь, мисс. In het koninkrijk der Nederlanden ананасынерастут.
— Я имею в виду, на вашей первой родине — там, где вы родились и родилась ваша мать. В голландских колониях. В Индонезии. Восточная Ява, если точнее.
— И где же такое пишут обо мне? — удивился Грондейс, отвернувшись от облепихи. — И о моей матери? Кто вы такая, сударыня?
— В газетах о вашей семье не пишут. Пишут совсем в других документах. Но тоже интересных. Строго конфиденциальных. Думаю, даже вы их не видели. О них не знают ваши друзья и ваши родные. Может быть, не знают и все ваши враги. Только ваше непосредственное начальство. По ту сторону Английского канала. И моё. Отчасти.
Грондейс даже не дрогнул. Он только коротко глянул на Новосильцеву поверх очков и прищурился, задумавшись.
— Начальство… А вы, надо полагать, эти мифические документы читали, — наконец с сухой иронией сказал голландец. — Интересная вы персона, однако. Не думал, что когда-нибудь встречу настоящую Шехерезаду. Да ещё в Сибири, а не в Персии. Так о чём же нынче повествуют багдадские сказки? Что нового у Гаруна-аль-Рашида?
— Какие уж тут сказки! Ваша бабушка была яванской принцессой. А вы женаты на русской. Точнее, на малоросске. Мадам Гончаренко, кажется? Или Петренко? Точно знаю, что Валентина. Она пианистка. Учительница музыки.
Он несколько секунд глядел ей прямо в глаза. И произнес ледяным голосом:
— Похоже, вы не совсем Шехерезада. Должен признаться, не часто мне доводилось встречать столь… осведомленных персон, тем более, среди дам. Полагаю, на моем месте вы тоже удивились бы, мисс…
— Мария.
— Мисс Мария. Коль скоро так… Откуда вы взялись? — повторил он. — Может быть, вы расскажете что-нибудь и о себе, мисс Мария? — вкрадчиво поинтересовался Грондейс. — И о ваших удивительных источниках сведений. Или это тоже секрет?
— Непременно расскажу, mijn Heer Грондейс, — пообещала она. — Даю слово. Обо всех секретах. Или не обо всех. В более благоприятный момент. Пока одно открою: до недавних пор мое начальство пребывало в деловых, точнее говоря, в союзнических сношениях с вашим. Иногда делились секретами. Так что мы с вами, можно сказать, почти коллеги.
— Прошу, beste mevrouw, принять к сведению: у меня нет и никогда не было никакого начальства. Никакого! Надеюсь, и не будет, — надменно отрезал голландец. — Кроме моей королевы Вильгельмины, разумеется, — с достоинством уточнил он. — В остальном я совершенно свободный и абсолютно независимый человек. И вы об этом знаете, как я понял с ваших же странных слов.
— В самом деле, независимый? — нежно улыбнулась Новосильцева. — И от чиновников с улицы имени другой королевы, Виктории, дом номер 64, что в Лондоне, тоже независимы?
С укоризненной мягкостью Грондейс произнес:
— Даже оттуда, из совершенно неизвестного мне адреса, beste mevrouw, мне никто не указ.
— Прошу прощения, mijn Heer, я неточно выразилась. В самом деле, никаких приказов из того дома вы не получали. Секретные донесения из Ставки Главнокомандующего русской армии вы отправляли в британскую военную разведку добровольно. И совершенно бескорыстно. Это мы все знали.
— Все? — поднял брови Грондейс.
— Все из тех, кому следовало.
Грондейс застыл, но всего на несколько секунд. Потом быстро глянул по сторонам и сказал неожиданно примирительным тоном.
— Будем считать, beste mevrouw, что я оценил вашу шутку. Хотя и не очень удачную, откровенно говоря. Самое неудачное в ней то, что вы шутите слишком громко — согласитесь.
«А ведь самого факта ты, голубчик, не отрицаешь! — злорадно отметила Новосильцева. — Прав был полковник Скоморохов».
— Ах, простите, сударь! — спохватилась Новосильцева. — Вы правы: я всего лишь попыталась пошутить насчет вас и британской разведки. В самом деле, не очень удачно.
В ответ голландец завернул такую многоэтажную матерную конструкцию, что Новосильцева отшатнулась.
— Я вас попрошу, сударь, — произнесла она ледяным тоном. — Выражайтесь поизящнее в моём присутствии. Или этим ваши знания русского языка исчерпываются?
— Что же вам не нравится? Не слышали таких слов? Не были на фронте? И вообще в войсках? Какая же вы сестра милосердия?
— Не надо меня так грубо экзаменовать.
— А мне показалось, что это вы меня экзаменуете.
— Была. На особом фронте. Том самом. Его мало кто различал. И вы на нем были. Минхеер, мы же друг друга поняли!
— Вы уверены?
— А вы нет? Все равно, подобного поведения, какое вы себе позволили, я не потерплю.
— Вот как! Раньше, значит, терпели.
— Никогда.
Грондейс снова оглянулся по сторонам.
— Вот что: я отплачу вам другой монетой. Однако настоящей, не поддельной, — заявил он. — Без шуток. Сейчас я понял, кто вы на самом деле. И на кого объявило охоту командование чехословацкого легиона вместе с чешской и колчаковской контрразведкой. Полковник Зайчек вас заждался. Мечтает видеть вас в своем подвале.
Новосильцева замерла.
— С нетерпением ждет! — с удовольствием сказал голландец. — Ваши друзья уже у него. Мне, простому репортеру, известно больше, чем любому вашему шпиону. Пусть он даже из Генерального штаба.
Голландский корреспондент Лодевейк Грондейс был бешено популярен во время войны. В Западной Европе его репортажи рвали из рук. В России знали мало. Больше был известен на фронте. Грондейс был, пожалуй, единственным тогда журналистом, кто собирал горячий материал не в штабах, а в окопах и траншеях, на переднем крае, под огнем. Он ходил в боевую разведку вместе с русскими пластунами, с оружием в руках, что запрещено журналистам. И вместе с солдатами атаковал укрепления противника, удивляя всех своей отчаянной, совсем не европейской храбростью.
А ведь ещё совсем недавно Лодевейк Грондейс жил тихой, размеренной жизнью, преподавал в школе, потом в университете физику и математику и увлекался историей Византии. Никто не предполагал, и он сам, что внезапно оставит свою благополучную жизнь и бросится в самый центр мировой бойни.
Будущий отважный репортер Лодевейк Херманн Грондейс родился в Индонезии, в городе Памекассене, Восточная Ява. Отец его Херманн Грондейс был директором школы, мать Йоханна Элизабет Ле Брюн — потомственной туземной аристократкой, внучкой яванской принцессы. Она передала сыну не только азиатские черты лица, но и нечто такое, что перевернуло в 1914 году всю его жизнь.
Закончив в колонии голландскую гимназию, Лодевейк переехал в метрополию, где получил два высших образования — в Утрехтском и Лейденском университетах по специальности физика и математика.
И все бы ничего: постепенно складывалась педагогическая и научная карьера. Как вдруг прогремели августовские пушки первой мировой.
Час пробил. В крови Грондейса проснулся яванский демон войны Батара Кала, переданный Лодевейку, очевидно, с генами матери. Демону зачем-то понадобилась всеевропейская битва, где реки крови сливались в одно кровавое внутриконтинентальное море.

острова Бали, вселившийся в Лодевейка Грондейса
Сам Грондейс рассказывал: «Я ощущал себя неистовым индонезийским богом войны, который грозно и озабоченно, восторженно и порой даже сочувственно наблюдает с облаков за битвами гладиаторов, которых бросили в бой местные боги».
Грондейс никогда не изучал военное дело, в армии не служил, даже винтовку в руках до этого не держал. Однако, получив аккредитацию нескольких европейских газет, сразу бросился в самую гущу войны, где научился убивать и выживать.
Сначала он отправился в Бельгию, по которой германские войска нанесли первый удар. Здесь Грондейсу удалось спасти пятьдесят бельгийских священников, которых немцы приговорили к смертной казни. За свой подвиг он получил бельгийский Орден Короны из рук самого короля Альберта — короля-солдата. Бельгийские граждане так назвали своего монарха не только потому, что он был реальным, а не свадебным главнокомандующим, каким через два года оказался Николай Второй. Король Альберт сам с оружием в руках сражался впереди своей крошечной армии, бросившей отчаянный вызов тевтонскому стальному монстру.
В 1915 году Грондейс — в России, при армии генерала Брусилова. Он был на передовой во время знаменитого Брусиловского прорыва. Когда погиб командир отряда, Грондейс взял командование на себя и повел русский отряд в атаку. Его солдаты выбили врага из первой линии траншей и взяли в плен целую роту. За этот подвиг Грондейс был награжден первым Георгием.
В своих репортажах он с уважением и нередко с восторгом писал о собратьях по оружию. Русского солдата Грондейс считал лучшим в мире. Он полюбил Россию и даже развелся со своей голландской женой, чтобы жениться на русской — на пианистке Валентине Гончаренко-Петренко. Так, утверждал Грондейс, приказал ему его бог. Попробуй, не подчинись.
Слава о нем разошлась по всему Юго-Западному фронту. И донеслась до контрразведки Генштаба. Вскоре русская агентура доложила полковнику Скоморохову, что в британскую разведку стала регулярно поступать информация обо всем, что происходит в русской Ставке. И совпало это событие с появлением в ней Грондейса. Полковник решил взять голландца в разработку и поручил это Новосильцевой. Но его остановило большое начальство.
Сам главком великий князь Николай Николаевич проникся таким доверием к храброму голландцу, что разрешил ему, единственному из иностранных корреспондентов, бывать в Ставке в любое время и даже участвовать в штабных секретных совещаниях. Без ограничений. Дело

неслыханное, особенно, если учесть, что великий князь к тому времени окончательно спятил на почве шпиономании. Но, тем не менее, он никогда не поверил бы, что обласканный им Грондейс — британский крот, хоть и «союзный».
Так что напрямую в шпионской деятельности Грондейс уличён не был. Но подозрение осталось. И только что подтвердилось — Грондейс молча, сам того не заметив, признал: да, он шпионил на МИ-6.
Многое Грондейс повидал в России. Был свидетелем успешного заговора капиталистических воротил и генералитета вместе с членами семьи Романовых, которые свергли царя. Наблюдал Февральскую революцию — жестокую, кровавую, напомнившую Великую французскую. На улицах Петрограда людей грабили и убивали среди бела дня, расстреливали офицеров, «буржуев» — под эту категорию подходили все, кто не носил солдатскую шинель или рабочую поддевку. Выбрасывали из окон на асфальт бывших полицейских и жандармов, поджигали правительственные и судебные здания, расхищали важнейшие государственные документы. И эта вакханалия продолжалась несколько месяцев, только к лету слегка затихла.
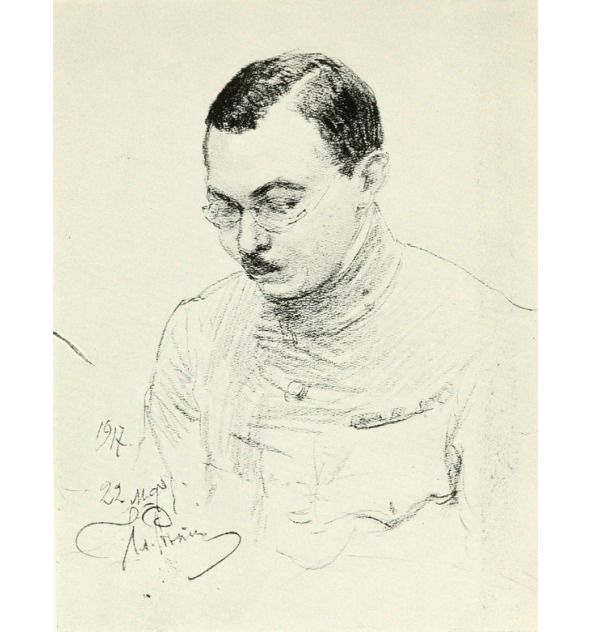
Видел Грондейс, как Временное правительство вместе с эсеровским Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов стремительно уничтожили русскую армию, а потом ликвидировали государство и в итоге — саму империю.
В России воцарились хаос, беззаконие, тотальное насилие, в ней подлинными хозяевами стали бандиты, грабители и убийцы, которых Временное правительство по случаю революции амнистировало. И выпустило из тюрем даже самых тяжких преступников, никакой амнистии ни при какой власти не подлежавших.
Он предвидел неизбежный приход большевиков. Ни одна политическая сила не была способна взять на себя опасную ответственность власти и спасать страну. Но открыто стать на их сторону, объявить себя союзником большевиков Грондейс не пожелал.
Описывать гражданскую войну Грондейс решил со стороны белых — исключительно из упрямства полуанархиста, кем он и был по своим убеждениям. Тем не менее, к большевикам относился серьезно, наблюдал за ними внимательно. Читал их прессу и знал некоторые печатные труды их вождей. Даже побывал у красных сначала в плену — в расположении Южного фронта. А потом уже по их официальному приглашению в Москве.
Когда его арестовал красный разъезд, Грондейс был уверен, что его немедленно расстреляют. Он, уже по привычке, не только собирал материал о Добровольческой армии, но и сам воевал против красных. И об этом было известно по всему фронту.
Однако новости о воинственном голландце сюда еще не дошли. И потому его плен больше напоминал пребывание в гостях, хоть и не добровольное. Впрочем, и в красных войсках Грондейс времени не терял.
Вот что он вспоминал через несколько лет.
«В кармане у меня лежал документ, подтверждавший мое участие в боях на стороне Добровольческой армии, и мне очень хотелось его сохранить для истории. Если красные его найдут, меня тут же расстреляют. Возможность уничтожить документ у меня была. Но я предпочел рискнуть и сохранить его.
Солдаты, провожая меня к начальнику и, смеясь, говорили обо мне как о «пленном корниловце», и я понял, что все равно пропал.
Привели меня к комиссару Зиновию Шостаку, молодому человеку лет двадцати трех, еврею с живыми умными глазами. Во время войны он бывал в Калифорнии, бегло говорит по-английски и, похоже, был рад встретить в моем лице иностранца. Мои официальные документы ему не понравились. И он решил удержать меня качестве пленника рядом с собой. При этом пояснил, что для моей же пользы. Покинь я комиссарский бронепоезд, красные солдаты меня бы растерзали.
Я сказал ему, что, по заданию своих газет, должен попасть в Киев.
— У вас ничего не получится. Железная дорога между Торговой, Ростовом, Новочеркасском и Тихорецкой перерезана разведкой Корнилова.
— Я мог бы проехать на санях.
— Все равно далеко не уедете. Вас пристрелят в первой же деревне. Лучше я выделю вам купе в моем поезде. Как подданный нейтральной державы вы будете наблюдателем гражданской войны с нашей стороны фронта. И скоро увидите, как рассеется эта мелкая банда (that little bunch) белых разбойников.
Тут прибежал, задохнувшись в панике, красный офицер и отрапортовал, что оборонительный рубеж перед Белой Глиной покинули 230 солдат — дезертировали. Шостак невозмутимо распорядился взять на станции столько же бойцов и отправить на оставленный рубеж.
На мои расспросы о Красной армии, Шостак отвечал, что пока и речи быть не может о формировании регулярных войск. Всё впереди. А до того им приходится довольствоваться случайными солдатами и случайными командирами».
Очень Грондейса заинтересовала персона комиссара.
«Шостак, русский еврей из Крыма, уехал во время войны в Соединенные Штаты, вполне возможно для того, чтобы избежать военной службы. Он умен, хоть и малообразован, но амбициозен. Благодаря своему пребыванию за границей, имеет довольно хорошие манеры, вполне цивилизован. Для своего возраста он на удивление скептичен, не верит в людей. Одержим идеями Троцкого, но не понимает их сути.
Ненавидит аристократов и смотрит свысока на невежественный и покорный народ, который надо просвещать. Считает себя настоящим русским и уверен, что работает ради блага того самого народа. Однако возможностей быть понятым этим народом у него нет. С офицерами и солдатами он обращается пренебрежительно. Красногвардейцы подчас с трудом выносят его, злорадствуют из-за его промахов. Но поскольку они не доверяют всем, кто служил старому режиму, то охотно верят якобы «гонимым при царе»: полякам, латышам, евреям…»
С утра до заката, каждый день Грондейс ездил с Шостаком по войскам. А вечерами до хрипоты дискутировал с красным комиссаром.
Кончилось тем, что Шостак предложил ему съездить с ним в Москву. И Грондейс с удовольствием согласился.
В Москве голландец посетил бывшего главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала Брусилова, который перешел на сторону большевиков. Когда Грондейс объявил высшим советским властям, что ему, газетчику, необходимо съездить в колчаковскую Сибирь, то большевики препятствовать не стали. Даже снабдили его охранной грамотой.
ПРОПУСК
Настоящий выдан подданному королевства Нидерланды Людвигу Хермановичу ГРОНДЕЙС, военному корреспонденту буржуазных и социалистических газет и журналов с дозволением собирать сведения не секретного характера для написания им разных правдивых статей.
Помощник секретаря СНК Вилкин
Грондейс раскрыл плоский портсигар из крокодиловой кожи, достал тонкую черную сигариллу и закурил.
— Не угодно ли? — он предложил портсигар Новосильцевой. — Правда, табак бразильский, очень крепкий — не турецкие вам и не греческие. Но сейчас многие дамы за границей и бразильский курят. А во Франции того пуще — чёрный «корпораль».
— Благодарю, я не из числа таких дам. Кстати, разрешаю вам курить в моем присутствии.
— О, вы бесконечно любезны! — поперхнулся дымом голландец.
Попыхтев сигариллой, спросил:
— Откуда такие странные намеки относительно моей персоны? И моей семьи? Только не удивляйте меня долго. Лучше быстро и сразу.
— Служила по ведомству генерала Батюшина. Даже имею офицерский чин.
— Ага! — торжествующе заявил Грондейс. — Вот где собака зарыта. А я сразу вас разгадал.
— Сразу? Мне показалось — наоборот. С опозданием.
— То есть, я понял, кто вы. Но… плохо ваше бывшее ведомство работало, если вы заявляете обо мне такие странные вещи без доказательств.
— Плохо, — согласилась Новосильцева. — То плохо, что тогда они не смогли доказать. Но, по-моему, все это давно никакого значения не имеет. Правда? Та война ушла. А мы всего лишь ее живые осколки.
— Тем не менее, вы неспроста подошли. Вам поезд нужен, верно? Вы хотите уехать.
— Видите чешского надпоручика на контроле?
— Не только вижу, но и хорошо его знаю. Ярек Кучера.
— Вор и убийца Кучера, — с ненавистью уточнила Новосильцева. — Его мерзавцы ограбили меня и моих друзей. Их выбросили из поезда, хотя взяли за проезд огромную плату. А меня попытались изнасиловать и убить.
— Это когда вы вознамерились проехать в воинском эшелоне, к тому же по подложным документам?
— Совершенно верно. По фальшивым документам агента МИ-6. Между прочим, качеством они были получше настоящих.
— Разве МИ-6 выдает своим тайным агентам удостоверения личности? — удивился Грондейс. — Плохая идея: вы сильно рисковали.
— Конечно, не выдает. Но кто об этом знает? Только в Лондоне, высокое начальство.
Грондейс кивнул, бросил на землю окурок сигариллы, но раздавить не успел. Прямо из-под сапога голландца окурок подхватил мальчишка в лохмотьях, отбежал на безопасное расстояние и продолжил курить.
— Дитя войны, — вздохнул Грондейс.
— Двух войн. И двух революций.
— Почему вы со мной так откровенны? — спросил он. — Совсем не опасаетесь?
— Нисколько.
— Отчего же?
— Потому что хорошо знаю: вы не только репортер и солдат. Вы — джентльмен.
— Вот как! — усмехнулся голландец. — Не подозревал… Скажите честно, — он понизил голос и быстро спросил. — Вы агент Ленина?
— Нет.
— Троцкого?
— Отвечу честно: нет и нет.
— Осведомительница Дзержинского?
— Тоже нет. Хотя в его ведомстве пришлось… побывать. Вот что я вам скажу с полной откровенностью. Когда мне удалось вырваться от чехов, я пережила шок, тяжело заболела, была при смерти. Спасла меня простая крестьянская семья. За это чехи их расстреляли. Убили даже беременную женщину.
— Vloek! — воскликнул Грондейс. — Мерзавцы! Если то, что вы сказали, правда, я буду требовать…
— Ничего не надо требовать, минхеер. Будет только хуже. Тем более что убийцы уже наказаны. Поэтому чехи меня ищут. И сейчас вы единственный человек, кто может мне помочь. Сохранить не только мою свободу, но и жизнь,
— Приказывайте, моя jonge dame! — учтиво шаркнул Грондейс.
— Мне нужно в Омск. На этом поезде.
— И, конечно, у вас нет места. Боюсь, я ничего…
— Место у меня как раз имеется, причем классное.
— Неужели? — не поверил Грондейс.
— Только что купила.
— Невероятно! А… позвольте взглянуть на ваш билет.
Рассмотрев внимательно проездную карту, Грондейс вдруг расхохотался.
— Что такое, сударь? — нахмурилась Новосильцева. — Там что-то смешное написано? Уж не обо мне ли?
Не отвечая, голландец хохотал от души, громко, со вкусом. И все не мог остановиться, только отмахивался от Новосильцевой. Хрюкнув напоследок, достал носовой платок и вытер слёзы.
— Жду объяснений, минхеер, — мрачно напомнила Новосильцева.
— Объяснений… — бормотал Грондейс, протирая очки. — Она ждет объяснений!.. Тут и объяснять нечего.
— А вы попытайтесь.
— И какое же у вас там, в вашем вагоне, место?
— Вы не читаете по-русски? Вагон международный, второе купе, место номер два.
— А теперь смотрите сюда. Демонстрирую чудо. Абракадабра!
Жестом фокусника он вынул из кармана и протянул Новосильцевой два билета. Оба в вагон МОСВ, второе купе, места №1 и 2.
— Поняли? В Екатеринбурге я выкупил оба места. Терпеть не могу соседей в дороге, мешают работать. А вам мошенники продали второе место ещё раз. Пойдете требовать с них деньги?
Растерянно пожав плечами, Новосильцева произнесла упавшим голосом:
— Наверное, уже поздно. И без толку.
— Без толку, — согласился Грондейс. — Ждать они вас не будут.
— Что же мне делать? — в отчаянии вскрикнула она.
— Молитесь вашему Богу. Благодарите. Кто бы мог подумать, — покачал он головой. — Словно по заказу: вы подошли именно ко мне. А у меня в кармане ваше место. И ваша судьба.
Он положил свои карты в карман, поразмыслил.
— Сделаем так. Сейчас пойдем к поезду. Держитесь за моей спиной поближе. Документы быстро показать солдату, русскому, который справа, но в руки не давать. И не торопясь, прогулочным шагом — в вагон. Запритесь, никому не открывайте. Откроете только на мой голос. Вот, держите мой ключ от купе.
— Брате Ярек, надпоручик! — весело закричал Грондейс, подходя к турникету. — Имею замечательную контрабанду! Угощайтесь.
Открыл и протянул чеху портсигар. Кучера, улыбаясь и прищурив глаза, взял сигариллу.
— Спички? Спички есть, брате надпоручик?
— Куда ж без спичек! — заявил Кучера, достал коробку шведских safety matches, повернулся спиной к ветру и к Новосильцевой и принялся раскуривать. Новосильцева сунула прямо под нос часовому сестринскую книжку и билет. Тот и смотреть не стал:
— Проходи, сестрица, поспеши, сейчас отправляют.
Склонив голову, она неторопливо шла вдоль эшелона — сплошь товарного. Где же классный вагон? Носильщик, мерзавец, конечно, не пришел ее провожать.
Двери нескольких теплушек были открыты, из них выглядывали чешские солдаты. На стенах вагонов виднелись полустёртые надписи «40 человек 8 лошадей, Варшава-Киев». Некоторые были разрисованы свежими веселыми картинками с надписями на чешском.
При виде сестры милосердия чехи кричали, хохотали, вопили по-чешски и по-русски:
— Эй, красотка, не проходи мимо! Сюда иди, не пожалеешь!
— Сестра, помоги: живот болит!
— А у меня — пониже живота. Сейчас помру, спасай!

Даже не подняв голову, Новосильцева прошла почти весь чешский эшелон и растерянно остановилась. Где чертов пассажирский поезд?
— Гражданин, — спросила она у дежурного по вокзалу. — У меня место в пассажирском на Омск, классное. Разве он еще не прибыл?
— Давно прибыл, барышня, и сейчас отправится, — чуть приподняв красную фуражку, ответил дежурный.
— Где же он? — испугалась Новосильцева.
— Да вот, перед вами.
— Но это же товарный!
— Правильно говорите, товарный.
— А пассажирский? На Омск.
— Он и есть омский. Микстовый, стало быть, сборный. Пассажирских вагонов всего три. Пройдите к паровозу, там они.
Она пошла дальше и, не доходя до паровоза, изумленно остановилась.
Словно прозрачная стена оказалась перед нею, а за стеной — волшебный вход в другое, давно ушедшее время. В другую эпоху — в счастливую, довоенную.
Новосильцева несмело сделала шаг — стена пропустила её, и она прошла к паровозу.

Зеркально сверкал черным котлом и горел красными, высотой с человека, колесами красавец «Русский Пасифик» — лучший в мире паровоз Путиловского завода. Великан горячо и с долгим шумом вздыхал, словно кит в океане, и время от времени выпускал по бокам голубоватые паровые усы. От них щемяще пахло мирной дорогой. Такие паровозы ходили только по Транссибу и по курортной владикавказской линии. Скорость у них была фантастическая — 125 километров в час.
К паровозу были прицеплены два синих вагона и её вагон МОСВ — темно-ореховый, с медной крышей, в открытых окнах ветер шевелил занавесками.
Она не поверила бы глазам своим, но у входа стоял вполне натуральный, привычный обер-кондуктор с пышными усами — непременной частью кондукторской формы.
Скользнув равнодушным взглядом по сестре милосердия, остановившейся рядом, обер достал из кармана часы, щелкнул крышкой, закрыл. Глянул в сторону дежурного, чья красная шапка поплыла к вокзальному колоколу, и обнаружил, что сестра по-прежнему стоит рядом и улыбается.
— Вам что-то угодно, сестрица?
— Угодно, — весело ответила она. — Я к вам. Принимайте пассажирку, — и протянула билет.
— Ничем не могу помочь, — строго ответил обер, не обращая на билет внимания. — У меня мест нет. И не было.
— Может быть, вы все-таки примете карту?
— Зачем? — фыркнул обер. — Вы не расслышали? Мест нет.
— А вы все-таки посмотрите, — настаивала Новосильцева.
Обер-кондуктор мельком глянул на проездную карту и вернул ей обратно.
— В указанном купе едет особый пассажир. Иностранец. Выкупил оба места. Сесть вам туда никак не можно. Ваша карта, барышня, продана на занятое место и потому не действует.
— В этом купе едет мой друг — господин Людовик Грондейс. Голландец, иностранный корреспондент.
— Да, едет такой. И что с того? Все одно: не действительна ваша карта.
— Послушайте, он в Екатеринбурге оплатил всё купе — для себя и для меня. Чтобы я не волновалась и могла спокойно сесть на этой станции. Занял место для меня.
— Меня не предупреждал. А карту, что же, вам продали здесь?
— Именно так.
— Зачем же вы покупали карту, коль говорите, что место вам забронировано?
— Чтоб наверняка. Я не знала, удалось ли ему занять купе.
— Но барышня! Сведений на эту станцию о вакансии я не отправлял. И потому вам никак не могли продать билет в мой вагон, — не поддавался обер-кондуктор.
— Господин Грондейс позаботился. Он дал знать в здешнюю кассу.
— Да быть такого не может, сударыня! — обер стал закипать. — Касса продает билеты только по сведениям обер-кондуктора. Никто другой кассиру не указ! Даже голландский писатель.
— Значит, вы не знаете, насколько мой друг важная и влиятельная персона. Он не только корреспондент всех европейских газет и журналов. Он еще и член совета союзной миссии при штабе Верховного правителя.
— Верховного, говорите, — озадаченно сдал назад обер. — Что-то тут все равно не вяжется… Нет, не могу посадить вас. Вот подойдёт хозяин, тогда и выясним.
— Но мой друг велел мне не ждать, а немедленно размещаться! Ах, надо было взять у него ту карту, которую он купил для меня в Екатеринбурге! — не отступала Новосильцева. — Но все равно он придет — перед самым отправлением. У него дела с комендантом эшелона, надпоручиком Кучерой.
— Есть такой — Кучера, да… И все ж не могу, — упрямо повторил обер. — Даже не просите. Пусть всё так, как вы говорите, всё одно — не могу. Даже открыть купе для вас не могу. У хозяина свой ключ. Он запер дверь и ушел с ключом.
— Положим, открыть-то вы можете, — упрекнула его Новосильцева. — Но господин Грондейс знает, что вы человек ответственный и открывать дверь для меня не станете. И дал свой ключ мне.
И поднесла ключ к самому носу обер-кондуктора.
— И все ж таки, — уже мягче возразил обер. — Лучше бы нам дождаться хозяина.
— Он велел ждать в вагоне! — воскликнула в отчаянии Новосильцева. — А не здесь, среди чехов! Сейчас затащат меня к себе, пропаду — вся вина будет на вас.
Тут обер-кондуктор заколебался. Покрутил головой, вздыхая, посмотрел на ближайшую теплушку, откуда чехи по-прежнему махали руками Новосильцевой, кричали и жестами приглашали к себе.
— Чехи, говорите… Они — да, могут. А — будь что будет! — махнул рукой обер. — Сделаем так. Я вас пропущу. Но не выпущу, покуда не придет хозяин и вас признает. И не обессудьте, ежели придется вас высадить и сдать жандарму.
— Не придется, — повеселела Новосильцева. — Я не мошенница и не воровка. Верьте мне, — в последние слова она вложила всю силу убедительности, и обер сдался.
— Ну, проходите, — сказал обречённо.
Войдя в вагон, Новосильцева убедилась, что чудеса продолжаются: она ступила на толстую, чисто подметенную ковровую дорожку. И пахло здесь не удушливой вонью солдатских портянок, махорки и самогона. Как и десять лет назад в таких вагонах, в воздухе стоял благородный хвойный аромат: проводники регулярно распыляли в вагоне специальный освежитель. И под раскаленной медной крышей вагона не изнуряющий жар, а прохлада. По-комариному, едва слышно, зудели вентиляторы от вагонной электростанции.
Стены вагона обиты тисненой темно-коричневой кожей, прекрасно сохранившейся. Здесь ни разу не побывали грабители, дезертиры, чехи, партизаны и разбойники всех цветов — красные, белые, зеленые. Словно вагон прошел по границе реального мира и тот нисколько его не задел.
— Ваше, — кондуктор остановился у двери. — Пожалуйте ключ, — он взял у Новосильцевой ключ и отпер купе. — Милости прошу, — и отдал ключ.
Она переступила порог: и здесь не сказка про Золушку. Всё настоящее. Кожаные стены купе, как и в коридоре, отливают благородным ореховым оттенком. Мягкий диван, темно-синего бархата, шириной чуть ли не с железнодорожную платформу. Спинка дивана откидывается и превращается в верхнюю полку, к ней ведет лесенка. Напротив дивана — такое же бархатное темно-синее кресло. Столик у окна покрыт белой тугой скатертью. Настольная электрическая лампа с розовым абажуром. У изголовья дивана и верхней полки — ночные светильники в форме двух белых тюльпанов.
Она с размаху уселась на диван и с удовольствием подпрыгнула два раза. Закрыла глаза — не диван, а спасательный плот среди обломков крушения.
— Вы еще здесь? — она словно очнулась и впервые обнаружила рядом обер-кондуктора. — Благодарю, братец, ты свободен, — велела по-хозяйски.
Обер приложил ладонь к фуражке, но отчего-то медлил.
— Ах, постой, сейчас… — спохватилась Новосильцева.
Достала из кофра ридикюль, вытащила две тысячных купюры «сибирками».
— Получи за труды, любезный.
— И вы благодарствуйте, — почтительно ответил обер. Сложил купюры пополам, и они словно сами нырнули ему под полу кителя: там у всех кондукторов и даже ревизоров всегда имеется потайной карман для чаевых и незаконных денег от безбилетников.
Заперевшись, Новосильцева достала из-под подвязки чулка браунинг и бросила на диван. Разделась, накрыла его платьем и фартуком. Сняла туфли и чулки и осталась босиком. Достала из кофра легкие восточные шаровары, подарок Марии, летнюю блузку, быстро оделась.
Открыла туалет — вода есть, смыв работает. Над умывальником два сверкающих медных крана с табличками под каждым: «хол» и «гор». И что удивительно, нет двери в соседнее купе.
Заглянула в багажный чулан. В углу обнаружился хорошо смазанный ручной льюис со снаряжённым диском на 92 патрона. В другом углу — снайперская винтовка ли-энфильд с оптическим прицелом, новейшая. «Однако, чудо как хороши письменные принадлежности у иностранного корреспондента!» — успела подумать она, когда раздался легкий толчок, потом другой. Заскрипели, потом зашипели отпущенные пневматические тормоза.
— Крути, Гаврила! — заревели по-русски в теплушках чехи.
Поезд плавно, почти бесшумно тронулся с места. Паровоз рявкнул, прогоняя всех с дороги, и мягко и легко стал набирать скорость. Вагон, шестиосный, повышенного комфорта, полетел, словно по воздуху. Где же Грондейс?
И тотчас в дверь постучали.
— Кто? — резко спросила Новосильцева, одновременно нащупывая браунинг.
— Ваш попутчик и верный преторианец, beste mevrouw!
Грондейс принес коробку конфет фабрики когда-то знаменитого Эйнема. Подмышкой он зажимал бутылку коньяка, которую со стуком поставил на стол.
— Еле успел запрыгнуть. Будете? Сделайте одолжение, — он открыл коробку и протянул Новосильцевой тесно уложенный коврик разных конфет. — Надеюсь, они еще не стали археологической ценностью.
Новосильцева осторожно взяла шоколадного зайца и откусила у него ухо. Шоколад затвердел, но ещё не окаменел.
— Сто лет не видела такого, думала, всё исчезло навсегда. Надеюсь, после полуночи паровоз не превратится в крысу, а вагон в тыкву. Вы же не допустите такого?
В ответ Грондейс неопределенно пошевелил бровями.
— Человек! — крикнул он в коридор. — Самовар!
После второго стакана чая с конфетами Новосильцева обнаружила, что веки у нее смазаны тягучим клеем.

— Простите. Я нынче как сова днем, — сказала она, зевнув два раза. — Сил никаких. Отправлюсь наверх, не возражаете?
— Какие могут быть возражения! Располагайтесь, подожду в коридоре. Стукните в дверь вашей прелестной ножкой, когда можно войти.
Он прождал полчаса, так и не услышав стука. Осторожно открыл дверь — Новосильцева спала, укрывшись простыней до подбородка. На ее спокойном и ясном лице появился легкий румянец, под носиком проступили мелкие капельки пота.
«Сон — на зависть. Словно никакой войны за окном», — отметил Грондейс.
Сел за стол, открыл блокнот, отвинтил колпачок вечного пера и принялся быстро писать. Лег он в пять утра.
5. Сапоги генерала Гофмана и нота Ленина

ПРОСНУВШИСЬ, Новосильцева тут же закрыла глаза — так не хотелось покидать теплый кокон тепла и уюта. Но когда до неё донёсся аромат настоящего кофе, она мгновенно вынырнула из своей защитной оболочки.
Внизу позвякивал чашками и ложками её спаситель и попутчик, что-то мурлыча себе под нос. Потом дунул — хлопнуло и погасло пламя спиртовки.
Внезапно рядом с лицом Новосильцевой выросла полуазиатская физиономия в круглых очках. На кончиках смоляно-черных жестких волос засеребрилось солнце.
— Мадемуазель Мария уже проснулась? — осведомился Грондейс. — Примите пожелания доброго утра.
Она улыбнулась, по-кошачьи коротко зевнула и сладко потянулась.
— И вам доброго, милый Людовик.
— Ваш кофе готов.
— Так скоро?.. Я бы ещё немного поспала.
— Как вам угодно. Тогда я выпью и ваш кофе тоже. А когда проснётесь, сами себе и приготовите.
— Ни за что! — возмутилась Новосильцева. — Раз уж для меня, не отдам. Отвернитесь.
— Пажалте! — с московским акцентом произнес Грондейс и повернулся к окну.
Когда она через полчаса вышла из купейного туалета — свежая, прохладная, чуть приправленная капелькой духов, на столике между двумя креслами стоял кофейник, две китайские чашки и блюдо с горкой бутербродов — французские галеты с американским шоколадным маслом, русский ржаной хлеб с английской ветчиной, давешняя коробка конфет, к которой рука Новосильцевой невольно потянулась, но тут же вернулась обратно. Рядом с жестянкой под надписью «Элитная махорка» темнела вчерашняя бутылка коньяка.
Грондейс откупорил бутылку, понюхал пробку — в купе распространился аромат дорогого напитка.
— Не рано ли? — Новосильцева кивнула на бутылку.
— Что вы, драгоценная барышня, в самый раз! — убежденно заверил Грондейс.
Он разлил кофе на три четверти каждой чашки и до краёв добавил коньяку.
— Сахар? — спросил он, берясь за коробку с махоркой.
— В кофе?
— Ни один разумный араб или турок не станет пить кофе без сахара. Хоть чуть-чуть (он выговорил «тшут-тшут»), но подсластят — они же известные всему миру знатоки, с древних ещё времён.
В «Элитной махорке» оказался желтоватый сахар-песок. Лодевейк отмерил для Новосильцевой полторы ложки, себе положил одну.
— Откуда у вас такое сокровище? — поинтересовалась Новосильцева, прихлебывая из чашки и ощущая начальный полувосторг легкой эйфории.
— Вы про кофе? От негодяев интервентов. Из английской миссии.
— Вы прекрасно его готовите. Такого замечательного я еще не пробовала.
— Это еще что! Вот кофе по-явански — действительно чудо. Но его слишком долго надо готовить. И сложно.
— Вы умеете?
— Разумеется. Как любой прожженный колонизатор. Особенно, голландский, — скромно усмехнулся Грондейс.
— Секрет?
— Никакого секрета. Зерна нужно измолоть почти до пыли. Полученное засыпаете на мелкую сеть, а еще лучше — на кусок холщовой ткани. Добавляете щепотку соли. И медленно, не меньше получаса льете на кофе холодную воду, чашки полторы. Выходит немного крепчайшего экстракта. Слегка разбавляете кипятком — готово. Кофе получается подсоленный, конечно. Не для араба с турком. При случае непременно вас угощу. Но не каждое сердце выдерживает такую крепость.
Он взялся за кофейник.
— Изволите еще одну?
— Нет сил отказаться, даже если захочу! — с жаром заверила Новосильцева.
Теперь Грондейс наполнил чашки только до половины. И снова доверху налил коньяку. Новосильцева решила было возразить, но раздумала. Коньяк пополам с кофе ей пробовать еще не приходилось.
— Тоже по-явански? — поинтересовалась она.
— Нет, — засмеялся Грондейс. — Мой собственный рецепт.
— Коньяк, конечно, тоже от ваших интервентов. Французский?
— Вы не поверите, — сказал Грондейс. — Во-первых, не от моих. Во-вторых, местный. Больше того — деревенский.
— В Сибири растет виноград? В деревнях? — удивилась Новосильцева, сделала большой глоток и закашлялась.
— Нет, конечно! Сначала русские гонят спирт из разных ягод — черники, брусники, добавляют облепиху. Потом настаивают. Только не в дубовых бочках, а в липовых. И кладут туда дубовые листья. Представляете?
— Тогда это не коньяк. По крайней мере, не по-французски.
— Разумеется, не коньяк. Только бутылка. А назвать можно, как угодно. Главное — чудо как хорош.
Он продолжал говорить, однако Новосильцева уже начала таять изнутри и скоро уехала далеко-далеко, так что почти не воспринимала слов, только интонацию. Речь Грондейса лилась, проплывала мимо, как проплывали за окном поля и деревья. Шипели, иногда повизгивая, рельсы под колесами шестиосного вагона, редко и деликатно постукивали на стыках. Иногда экспресс нагонял чешские эшелоны. Тогда «Русский пасифик» резко снижал скорость и тоскливо тащился за чехами до ближайшего разъезда. И как только путь освобождался, снова смело нырял в туннели, зависал над бездонными обрывами, притормаживал на спусках и чуть ни не вскачь взбирался на подъемы. Ехать бы так без остановки. Без конечной цели, без тревог и страхов, без станций. «Интересно, — вдруг рассеянно подумала она. — Вагон сделан по системе Полонсо?»
Встрепенулась, услышав знакомую фамилию.
— И в этот, прямо-таки убийственный момент Троцкий заявляет…
— Простите, — смутилась Новосильцева. — Вы о ком? И о чём?
Грондейс молча вытаращился и даже отставил чашку. Спросил укоризненно:
— Не понимаю, вы шутите? Полчаса рассказываю вам, как обстояли дела на переговорах в Брест-Литовске, стараюсь изо всех сил, а вы даже не слушаете.
— Это все ваш коньяк… Еще раз прошу простить великодушно легкомысленную дамочку. И на чем же вы остановились?
— На Троцком… Когда он заявил: «Ни мира, ни войны, а армию распускаем», немцы с австрийцами натурально всполошились. В Германии, да и в Австрии тоже, продовольствия оставалось на десять-пятнадцать дней. По утрам полиция Вены и Берлина убирала на улицах трупы умерших с голода. Австро-германцам требовался хлеб сейчас, немедленно! А делегация большевиков во главе с Троцким избрала тактику затягивания. Троцкий, конечно, рассчитывал, что противник перед угрозой голода будет сговорчивее. Правда, Ленин был не настолько наивен. Коль скоро русскую армию кадеты с эсерами уничтожили, а новую быстро не создать, то подписывать мирный договор все равно придется. И чем раньше, тем мягче будут условия. А тогда один только генерал Гофман не потерял присутствия духа. В ответ на эскападу Троцкого он положил на стол переговоров ноги в сапогах со шпорами и объявил:
— Мой ответ товарищу Троцкому!
— Каков наглец! — возмутилась Новосильцева.
— Умный наглец. Потому что именно ему пришло в голову: переговоры с большевиками вообще не нужны. Красная Россия немцам и австрийцам совсем ни к чему. Им нужна лишь её южная часть — Малороссия с ее углем, хлебом и салом. И немцы тут же связались с малороссийскими сепаратистами, которые под австро-немецкую дудку объявили «независимую Украину». И хоть Троцкий кричал, что никакой Украины не существует, а Малороссия — часть России, ничего ему не помогло. Эту «независимую Украинскую народную республику» Центральные державы немедленно признали и подписали с ней договор о дружбе и военном союзе. Мало того, «самостийники», даже не изучив толком договор, стали умолять немцев как можно скорее ввести в Малороссию войска для защиты от красной России и от собственного населения, подавляющая часть которого — те же русские. А чтобы у большевиков не оставалось иллюзий, немцы двинулись на Петроград. 23 февраля остановились у Пскова, но своего добились: теперь большевики подписали договор на совершенно унизительных условиях. Много пришлось отдать. Правда, тут как посмотреть. Немцы, к примеру, потребовали уйти из Польши, Лифляндии с Курляндией, из Финляндии, дать свободу всей «Украине». Так ведь от прибалтийских территорий с Финляндией отказалось еще Временное правительство. И «автономную Украину» оно же признало еще в марте семнадцатого года. Малороссию красные и без того не контролировали. Но Ленин выиграл время, которое большевики потратили с величайшей пользой: сегодня они создают сильную дисциплинированную армию, и мощь ее растет с каждым днем.
— Такое чувство, что вы, Людовик, большевиками восхищаетесь, — с укором сказала Новосильцева. — Тоже продались за немецкие марки, как Ленин? — она пьяненько усмехнулась.
— Просто отдаю им должное. И я знаю, что говорю, — заметил Грондейс. — Для того мне, как репортеру, и даны глаза, чтобы видеть жизнь такой, как она есть. Тем я и отличаюсь от деникинских и колчаковских пропагандистов. И от красных тоже.
— Все равно, — упрямо сказала Новосильцева. — Капитулировать, когда победа так близка, — предательство. Какие тут оправдания?

Грондейс посмотрел на нее с сочувствием и даже с жалостью. Потом махнул рукой и предложил еще по глотку. Раскурив черную сигариллу, сказал:
— Надеюсь, вы прекрасно знаете и без меня: вещи, очевидные и простые, часто используются для того, чтобы скрыть настоящую правду, неудобную и даже позорную. Победа была близка? Если так, то Россия победила бы. И никакой малоизвестный политический эмигрант, пусть он даже семи пядей во лбу… — так, кажется, у вас говорят?
— Да, говорят.
— Так вот, даже гений заговоров, революций и переворотов не способен вот так, в два дня, развалить гигантскую империю. Пусть даже ему отвалили три миллиарда немецких марок. Или сто миллиардов. Между тем, еще царское правительство было готово заключить с немцами сепаратный мир. И немцы делали царю намеки на сей счет. Но у Николая просто не хватило духу надуть своих фантастически верных союзников. Его, представителя Гольштейн-Готторпской династии, которая присвоила имя Романовых, и без того обвиняли в тайной любви к немцам. У меня есть основания утверждать, что в шестнадцатом году, летом, в Петрограде тайно побывал великий герцог Эрнст Гессенский, родной брат императрицы. От имени кайзера приезжал.
— Зачем же? Да еще тайно.
— Да за тем же! — нетерпеливо притопнул ногой Грондейс. — Мир просить! Сепаратный!
— И почему же не выпросил? — снисходительно повела плечом Новосильцева.
— Я же сказал вам, Николай Романов испугался: подпишет мир — Антанта немедленно скинет его с трона.
— И без того скинула, — ворчливо сказала Новосильцева.
— И без того, — согласился голландец.
И предложил выпить еще.
— Иначе то, что я вам сейчас скажу, вас просто собьет с ног, — предупредил он. — Про Временное правительство. И тот же сепаратный мир.
— А коньяк поможет мне устоять? — не поверила Новосильцева.
— Еще как поможет, — внушительно заверил Грондейс.
— Ох, — печально вздохнула Новосильцева. — Надеюсь, ваша супруга не узнает, как вы тут спаиваете одиноких женщин.
— Все от вас зависит, — обнажил хищные азиатские резцы голландец.
— Тогда по глотку и — довольно.
— … Итак, уже на одном из первых заседаний Временного правительства генерал Маниковский, управляющий военным министерством, заявил: немедленный мир с немцами! Сепаратный, конечно. Иначе его подпишет следующее правительство. Получился небольшой скандалёзус. Но, посовещавшись, члены правительства пришли к выводу: Россия воевать больше не способна. Хотя бы по одной причине: Россия набрала слишком много долгов у союзников, за интересы которых она и воевала. Кажется, в мировой истории не было более идиотской ситуации. Как ни крути, надо подписывать.
— И почему же не подписали?
— Братья-масоны не позволили. Уже через неделю в Петроград примчался французский министр вооружений Альбер Тома. И сначала угрозами, а потом натуральными слезами выдавил из презренной кучки адвокатов обещание воевать до последнего русского солдата. Министр-социалист и крупный масон даже на колени стал перед собратом по масонству Керенским. Вы следите за ходом моих мыслей?
— Еще как слежу! — обиделась Новосильцева. — Никто еще не следил за вашими мыслями так, как я. Только какой вывод?
— Простой, — заявил Грондейс. — Любое правительство России неизбежно пошло бы на сепаратный мир. Кроме самоубийц.
— Допустим, мир, — согласилась Новосильцева. — Но на каких условиях?
— Вот замечательный вопрос! — обрадовался Грондейс. — Прежде чем обсуждать с немцами условия, Ленин обратился к странам Антанты с официальной нотой. Он спросил: могут ли большевики рассчитывать на помощь Антанты, если они согласятся возобновить боевые действия на Восточном фронте.
— И в ответ?
— И в ответ получил какишь… нет, кукиш, как у вас говорят.
— Идиоты! — возмутилась Новосильцева.
— Идиоты, — охотно согласился Грондейс. — Но только на первый взгляд, — добавил он. — Поначалу британский премьер Ллойд-Джордж и американский президент Вудро Вильсон ухватились за идею признать большевиков и заключить с ними военно-политический союз. Но… свои же в правительстве их и смяли.
— Идиоты, — повторила Новосильцева, обнаружив, что язык у нее движется не так свободно, и глупо хихикнула.
— Не говорите так! — возразил Грондейс. — У противной стороны тоже расчет — серьезный. Обоснованный. Большевики, оставшись без армии и союзников, подписывают мир и автоматически становятся врагами Антанты. Теперь их можно на законном основании хорошенько проучить. Точнее, раздавить, а вашу страну рассовать по карманам. Ведь всего пару месяцев назад, 23 декабря 1917 года, после первого предварительного заседания в Брест-Литовске, Британия и Франция заключили договор о разделе России. Англичане претендовали на Кавказ с его нефтью и на Прибалтику, французы захотели угольный Донбасс, Таврический край и Крым.
Он помолчал.
— Знаете, кто такой Роберт Брюс Локкарт? — неожиданно спросил Грондейс.
Новосильцева подумала.
— Британский консул. Шпион из Ми-6. Кажется, чекисты обвинили его в заговоре.
— «Заговор Локкарта-Рейли, или Заговор послов», — подтвердил Грондейс. — На самом деле, никакого заговора поначалу не было, а была провокация председателя чека Якова Петерса, который заменил Дзержинского после 6 июля, то есть после восстания эсеров. Отличная, кстати, была операция! Самого Сиднея Рейли, вашего не коллегу, большевики в дураках оставили! — восхитился голландец. — Но Ленину прыть Петерса не понравилась, он тут же Петерса сместил и вернул Дзержинского. В тот момент нельзя было большевикам портить отношения с Антантой. У них были другие планы. Поэтому Локкарта выпустили из-под ареста и предоставили неслыханную свободу действий. Но он был не послом. Должность его именовалась по-другому: английский дипломатический представитель.
— Все равно шпион.
— Все равно, — согласился Грондейс. — А как же иначе? Должность такая. Он мне много интересного рассказал. Но заговор — это потом, потом… А поначалу Локкарт так подружился с большевиками, что входил без доклада к Ленину и Троцкому, когда хотел. И убеждал своих начальников немедленно признать советское правительство. Дескать, это очень выгодно Англии. Иначе в Советскую Россию влезут немцы. Даже умолял своих руководителей сделать это. И доумолялся до того, пока ему, по заданию британского МИДа, написала жена, чтобы он прекратил стараться: пошли слухи, что Локкарт либо продался большевикам, либо сошел с ума.
— Так-таки продался или сошел? — уточнила Новосильцева.
— Ни то, ни другое. Просто у него оказалось больше здравого смысла. Он убедился, что с большевиками все равно придётся иметь дело, потому что они выражают коренные интересы русского народа. Но в итоге Локкарту приказали молчать и не бегать больше к своим новым друзьям. Тем более что еще раньше, при царе, страны Антанты решили не пускать Россию в компанию победителей. Потому и подарили вам Февральскую революцию. А с какой стати пускать сейчас? Ни в коем случае!
Он замолчал и задумчиво смотрел некоторое время в окно. Продолжил — тихо и медленно.
— Да, Ленин отчаянно пытался договориться с Антантой. Через агента американской разведки Робинса он передал официальную ноту правительству Северо-Американских Штатов. Сейчас… — он потянулся к своему блокноту и стал его перелистывать. — Минутку… А, вот она, у меня сохранилась выписка. Послушайте: «В случае если (а) Всероссийский Съезд Советов откажется ратифицировать мирный договор с Германией или (б) если германское правительство нарушит мирный договор и возобновит разбойничье нападение, то:
1. Может ли советское правительство рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов Северной Америки, Великобритании и Франции в своей борьбе против Германии?
2. Какого рода помощь может быть предоставлена в ближайшем будущем, и на каких условиях военное имущество, транспортные средства, предметы первой необходимости?
3. Какого рода помощь могли бы оказать, в частности, Соединенные Штаты?..» Ну и так далее, — он закрыл блокнот.
— Это что-то новое, — удивилась Новосильцева.
— Уже старое, — проворчал Грондейс. — По словам Робинса, Ленин до последней минуты не терял надежды на союз с Антантой. Сам Робинс присутствовал на Всероссийском съезде Советов, который должен был ратифицировать сепаратный мир или отвергнуть его. Голоса разделились, исход казался неясным. Заседали два дня и две ночи. Ожидалось решающее выступление председателя Совнаркома.
Перед выходом на трибуну Ленин тихо спросил у Робинса:
— Спрашиваю вас, Раймонд, в последний раз: можем ли мы рассчитывать на военную помощь Антанты в обмен на восстановление фронта против немцев? Если «да», то съезд проголосует против ратификации. Обещаю.
Робинс — всегда спокойный и непроницаемый, как вождь ирокезов (да он и внешне был похож на индейца, только белого), тяжело вздохнул и ответил чуть ли не со слезой:
— Еще несколько дней назад, Владимир Ильич, я надеялся, что и моё правительство, и британское прислушаются к моим рекомендациям и к мнению моего коллеги сэра Локкарта. Вы даже не знаете, сколько сил мы приложили. Я не просто рекомендовал — я, как и Локкарт, тоже умолял их помочь вам восстановить вашу армию. Скажу вам правду: нет, не надейтесь. Не ждите помощи от Антанты.
— Спасибо за откровенность, друг мой, — ответил Ленин и пожал Робинсу руку. — Сейчас похабный мир будет ратифицирован.
— Вы, похоже, были в тот момент рядом, — съязвила Новосильцева.
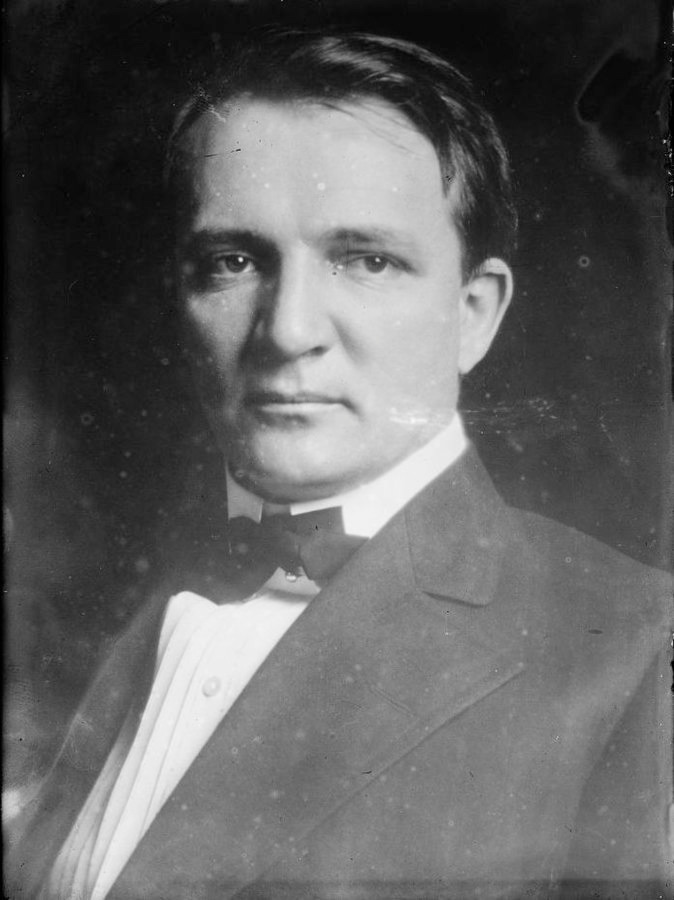
— Был? Да не все ли равно, — невозмутимо отпарировал Грондейс. — Был. Правда, немного в другое время и в другом месте… Главное — факты. Так что маневр Ленина — не предательство, а расчет. Немцы с австрийцами даже догадываться не могли, с каким политическим пройдохой они имеют дело. Мало того: он вел себя с победителями так, словно это они капитулировали перед Россией. Не успели высохнуть чернила на договоре, как Ульянов-Ленин начал их шантажировать. Для начала потребовал от немцев восемьдесят тысяч винтовок якобы для защиты от стран Антанты и, самое удивительное, — получил их! Генерал Гофман страшно возмущался.
— Есть чему удивиться. И возмутиться, — подтвердила Новосильцева.
— Дальше он потребовал пятьсот пулеметов. Но немцы дали только пятьдесят, самим не хватало. Скоро германский поверенный в делах Рицлер вообще потряс свое правительство: большевики желают, чтобы Германия выплачивала русским ежемесячно 30 миллионов марок в золоте, иначе большевики начнут сближаться с Антантой. И хоть такого сближения быть не могло, немцы заволновались: «Как так? Русские должны выплачивать контрибуцию нам, и тоже в золоте, и имеют наглость выдвигать встречные требования!»
— Он их просто сбивал с толку. И не давал передышки. Так?
— Я тоже так думаю, — согласился Грондейс. — Дурачить противника, шантажировать, угрожать — дипломатия по-ленински. Активная. Главное, ни капли страха и нерешительности. Мы с вами должны понимать, почему он так себя вел: большевики чувствовали себя оскорбленными из-за того, что враг хозяйничает на территории их страны, хоть и распавшейся. Это еще что! Ленин наводнил Германию своими агентами, и они спровоцировали революцию. Германию трясет похуже, чем трясло Россию в феврале семнадцатого. Я вам так скажу: не исключаю, что после Советской России на карте мира появится Советская Германия. Можете поверить?
Новосильцева подумала и покачала головой.
— Нет, не могу. Англия не позволит.
Грондейс неожиданно согласился.
— Да, скорее всего, так и будет. В любом случае, большевики сдаваться не собираются и поставленных целей достигнут.
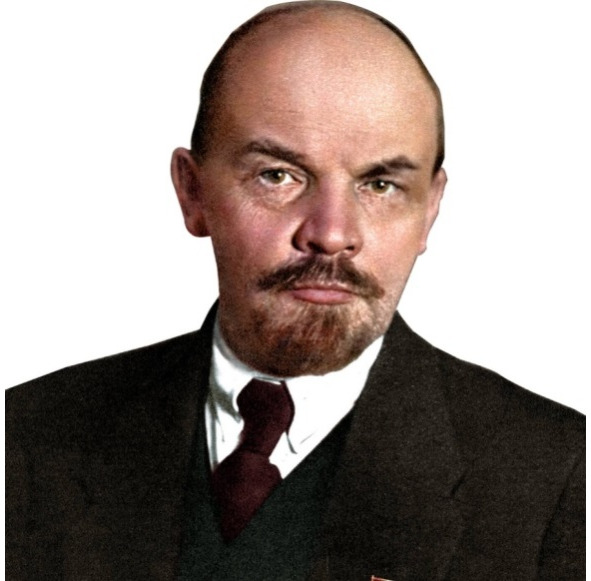
Новосильцева вздохнула.
— Конечно, если проводить политику зверства… Говорят, чека, будто с цепи сорвалась.
— Чека? Что вы знаете о чека? — снисходительно прищурился Грондейс.
— Не очень много, — осторожно ответила Новосильцева. — Но достаточно, даже кое-что видела изнутри. Красный террор — это всё, на что они оказались способны! Такого в России не было никогда. Даже при Столыпине.
— Зверства? — неожиданно удивился Грондейс. — Красный террор? Мария, дорогая моя, что может быть для революционной власти на данном этапе политической борьбы нужнее и естественнее террора! В катастрофических обстоятельствах спасают только крайние меры. Жесткий и беспощадный террор — это, если хотите знать, своего рода акт милосердия. Только по-другому называется.
— Я вас не понимаю, — озадаченно призналась Новосильцева.
— Такой террор, как правило, кратковременен. Но дает возможность избежать множества ненужных жертв, когда противостояние продолжается. Впрочем, зачем слова? Сейчас я вам покажу один документ. Точнее, выписку из него.
Он, не вставая с кресла, обернулся к столику у окна, взял свою офицерскую полевую сумку и стал в ней рыться.
— Тысяча чертей, — бормотал он, — куда же я ее девал? Ага! Вот — извольте, нежная тургеневская барышня…
И протянул ей листок.
— Французским владеете?
— Вполне, — ответила Новосильцева. — А почему на французском?
— Я же пишу для французских газет в первую очередь, — усмехнулся Грондейс.
Она принялась читать.
«Каждый гражданин имеет право задерживать, хватать и выдавать революционной власти заговорщиков, контрреволюционеров и других врагов народа. Это не только право гражданина, но и его святая обязанность.
Отменяется предварительный допрос обвиняемого. Достаточно того, что он изобличен революционным народом.
Если имеются материальные, а тем более моральные доказательства принадлежности арестованного к заговорщикам и врагам народа, то свидетели вообще не нужны.
Единственный закон для вынесения смертного приговора врагам народа — совесть судей, просветленных любовью к революции.
Никаких адвокатов врагам народа. Закон не предоставляет защиту заговорщикам.
Единственное наказание для врагов народа — смертная казнь. Приговоры революционного суда обжалованию не подлежат».
Дрогнувшей рукой Новосильцева вытерла пот со лба. Хмель мгновенно испарился, все слова куда-то исчезли. Бумажка выпала у нее из рук, но Грондейс ловко подхватил ее и невозмутимо сунул обратно в свою сумку.
— Каково? — усмехнулся он и откинулся на спинку кресла. — Впечатляет? Лично меня особенно умилил пункт о «совести судей, просветленных любовью к революции». И о ненужности защиты для обвиняемых. А вам что понравилось?
Она не ответила, губы ее сжались в две черточки.
— Можно еще кофе? С коньяком? — неожиданно спросила она.
— Не только можно! — воскликнул Грондейс. — Но и очень-очень нужно.
Он разбавил кофе коньяком наполовину.
Осушив свою чашку, Новосильцева еще немного помолчала. Щеки ее у нее раскраснелись.
— Не понимаю… — выговорила она. — Как вы можете восторгаться такой кровожадностью? Да по сравнению с ленинскими чекистами, те же французские якобинцы — дети малые. Значит, большевикам красного террора мало. Им нужна сплошная бойня на месте России. Теперь я окончательно поняла, почему люди бегут из их красного «рая».
— Что вы имеете в виду? — вкрадчиво поинтересовался Грондейс.
— Я была рядом с этими мясниками! — в отчаянии воскликнула Новосильцева. — И даже помогала им! Понимаю, во дни переворотов и напастей, конечно, бывает всё. Но возвести массовое смертоубийство собственных граждан в закон?.. Да еще в столь циничный! А ведь я еще совсем недавно сомневалась, надо ли уезжать из России. Теперь даже мне, человеку не религиозному, ясно: Россией завладело безграничное зло, и поистине она стала добычей Дьявола. Что? — возмутилась она, увидев, что Грондейс едва удерживается от смеха. — И вы еще смеётесь? Как вам не стыдно!
— Ничего, ничего, продолжайте, — махнул он рукой.
— Знала бы раньше, что красные дойдут до такой степени озверения, нашла бы способ прикончить обоих.
— Обоих? — поднял брови голландец и вытер слезы. — Это кого же?
— Приятелей вашего Локкарта — Ленина и Троцкого.
— Как Шарлотта Корде?
— Это кто?
— Молодая и весьма милая парижанка, заколовшая кинжалом важного революционера Жан-Поля Марата. Одного из идеологов и вдохновителей безграничного террора во время Великой французской революции XVIII века. Отвратительная личность. Я уверен, что его революционный зуд был вызван зудом физиологическим: Марат жестоко страдал от псориаза.
— Да он ягненок по сравнению с Дзержинским!
— Ответ неверный, — возразил Грондейс. — То, что я вам дал прочитать, — выписка из знаменитого закона революционной Франции, так называемый «Закон от 22 прериаля». Скажу честно: когда я впервые прочитал весь закон, я тоже просто оледенел. И это цивилизованная нация! Так что дети малые и ягнята — именно ваши большевики и чекисты. Ночные сторожа с колотушкой. Не по существу, а в сравнении, — добавил он.
— Так уж сторожа… — фыркнула Новосильцева. — Ночные сторожа красный террор не объявляют и гражданские войны не разжигают.
— Полагаете, Ленин начал гражданскую войну?
— Кто же еще! Или ваша работа? — прищурилась Новосильцева.
— Не моя, — с удовольствием отпарировал Грондейс. — Вот что я вам скажу: я не только журналист, я еще и историк. И кому, как не мне, знать, как уничтожается или искажается история в разные времена по прихоти властей предержащих. Через несколько лет гарантированно будут уродовать и калечить историю России — хоть красные, хоть белые, каждая сторона в своих интересах. Моя цель же пребывания здесь — донести до будущих поколений русских эту часть вашей истории такой, какова она есть на самом деле.
— Так вот, — продолжил он, — на самом же деле, большевики, взяв власть, точнее, подняв ее с панели, проявили поначалу неслыханную терпимость и даже мягкость по отношению к своим противникам и даже к непримиримым врагам. Ни одна буржуазная газета не была закрыта. Арестованных генералов, выступивших против красных, — ну, хоть того же генерала Краснова — освобождали под честное слово, что они не будут воевать против Советской власти. Генералы тут же свои обещания нарушали. Большевики с первых же дней пригласили в правительство своих политических противников, в частности, эсеров. Давали им треть мест в Совнаркоме.
— В еврейском совнаркоме, — съязвила Новосильцева.
— В еврейском? Почему в еврейском? Там только один еврей, Троцкий, да и тот евреем себя не считает.
— А Ленин? — с вызовом поинтересовалась Новосильцева. — Ведь его настоящая фамилия Лившиц. Мне покойный император говорил.
— Чушь он вам говорил, что не удивительно: покойный император умом и знаниями не отличался. Характером тоже. Потому безропотно дал себя свергнуть и расстрелять… Но это не имеет значения, а я продолжу… Пригласил Ленин эсеров в правительство, а они отблагодарили восстанием и покушением на него самого. И не большевики развели по всей России бандитизм, а Временное правительство, выпустившее из тюрем самых неисправимых злодеев. Но с бандитами в дискуссии вступать невозможно — вот и появилась чека, которая безжалостно стала бандитов истреблять. Вслед за ними — заговорщиков, саботажников, контрреволюционеров. Вы можете смеяться, но я поддерживаю лозунг Ленина: всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. При Робеспьере в одном только Париже было шесть-восемь казней в день на протяжении чуть ли не года. Ленин до Робеспьера явно не дорос. Мало того: когда он пришел в себя после ранения, то в первую очередь потребовал немедленно прекратить террор. Я сам не слышал, но Локкарт свидетельствует, а я ему верю.
— Но ведь гражданскую войну распалил именно Ленин со своим штатным евреем?
— С каким?
— С Троцким.
— Ничего подобного. Гражданская война большевикам была совершенно ни к чему. Они поставили перед собой другие задачи — помимо прочего, создать самую мощную в мире науку и энергетику. Честно говоря, я поначалу не поверил, когда узнал, что только за первые месяцы своего правления они открыли более тридцати научно-исследовательских институтов. И вели они себя миролюбиво, пока гражданскую войну не объявили белые — тот же Краснов и Корнилов с Алексеевым. Только на что генералы рассчитывали?
— На поддержку русского народа! — раздраженно заявила Новосильцева. — Не понятно?
— Может быть, — неожиданно согласился Грондейс. — Но народ в массе своей белых не поддерживает.
— Народ полюбил Маркса? — ядовито поинтересовалась Новосильцева. — О котором и не слыхал. Народу понадобилась мировая революция? Не пойму, Людвиг, когда вы всерьез говорите, а когда смеетесь.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
