
Бесплатный фрагмент - Наследство последнего императора
Том 3
Академику
Вениамину Васильевичу АЛЕКСЕЕВУ
Общая редакция Л. Н. Маршак
Волынский Н. Г.
Наследство последнего императора, 3 том. (Изд. 3-е, исправленное и дополненное. 2023 г.)
25 июля 1918 года белые войска захватили Екатеринбург и обнаружили в подвале ипатьевского дома следы расстрела, очевидно, семьи Николая II. Однако следователи Наметкин и Сергеев утверждают: это инсценировка. Чуть позже капитан военного угрозыска Кирста нашёл свидетелей, видевших в Перми бывшую императрицу и её дочерей. В Пермь срочно отправляется следователь Соколов…
Но ещё до прихода белых в Екатеринбурге появляется красный комиссар Яковлев, командующий Самаро-Оренбургским фронтом. В апреле 1918 года он, по личному поручению Ленина и Свердлова, должен был вывезти Романовых из Тобольска в Москву. Но Семью перехватили уральские большевики. Они решили, что большевицкие вожди, в первую очередь, Ленин, предали революцию.
Что теперь нужно Василию Яковлеву в Екатеринбурге?
Текст второй книги, как и первой, основан на новейших исторических материалах, уликах и свидетельствах — с художественной реконструкцией тёмных и загадочных эпизодов.
Важнейшими источниками стали, прежде всего, работы академика В. В. Алексеева.
1. Социалистическое Отечество в опасности!

ЧТОБЫ спасти изнурённую, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентёры 20 (7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не хочет мира.
Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности. До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии. Совет Народных Комиссаров постановляет:
1) Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело Революционной обороны
2) Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови.
3) Железнодорожные организации и связанные с ними Советы обязаны всеми силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать железнодорожные здания; весь подвижной состав — вагоны и паровозы — немедленно направлять на восток в глубь страны.
4) Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым грозит опасность попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному уничтожению; наблюдение за этим возлагается на местные Советы под личной ответственностью их председателей.
5) Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева, всех городов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под руководством военных специалистов.
6) В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать.
7) Все издания, противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти, закрываются; работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других оборонительных работ.
8) Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления.
Социалистическое отечество в опасности!
Да здравствует социалистическое отечество!
Да здравствует международная социалистическая революция!
Совет Народных Комиссаров
Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
21 февраля 1918 г.
Петроград

2. Терентий Чемодуров, камердинер императора
КОГДА за стариком Чемодуровым с лязгом закрылась железная дверь, он долго, остолбенев, стоял посреди камеры, пытаясь понять, что же все-таки с ним произошло. В голове, словно в шарманке с испорченным барабаном, скрипела одна и та же фраза: «Мне бы в Тамбовскую, по выслуге. Еду помирать…» Её он повторял вполголоса, тоже скрипя, пока конвоир не прикрикнул: «Да замолчишь ты, старый!» Но только после двух ударов прикладом в спину, перешёл на шёпот, а потом и затих.

Он простоял посреди камеры часа полтора, но так и не рассудил, зачем его перевели в одиночку. Ведь и расстрел уже пообещали и вели на смерть. Потом пошаркал к железной кровати, ножками замурованной в бетонный пол. Кряхтя, забрался на матрас, засаленный и тощий, словно блин. Глубоко вздохнул, закрыл глаза и стал ждать. В голове продолжала бег по манежу та же фраза: «Мне бы в Тамбовскую, по выслуге, помирать…»
Тем временем в камере потемнело. Настала быстрая, ещё светлая, почти, как в Петрограде, ночь, потом стремительно пришло утро, за ним — яркий до слепоты день: окошко, забранное ржавыми толстыми прутьями, выходило на юг. День тянулся мучительно, к вечеру так потемнело в глазах, что Чемодуров даже рук не мог разглядеть. Он ждал спасительной ночи, но когда бело-жестяное солнце скрылось, облегчение не наступило: теперь старика охватила невыносимая жажда. Тогда-то до него дошло: происходит что-то неладное. Даже непременной параши в камере не было.
С утра он попробовал сначала слабым кулаком стучать в стальную дверь. Потом попытался подать голос. Никто не отозвался.
Скоро Чемодуров почувствовал, что не может пошевелить жёстким, шершавым до боли языком. Он попробовал заплакать. Опять ничего не получилось: слез не оказалось. «Значит, я уже на том свете, — решил старик. — Как, однако, здесь всё похоже на тюрьму… Так, стало быть, мне за грехи отвечать. Без огня. Но и без воды. Лучше огонь, скорее всё прошло бы».
Он забрался на койку и через полчаса погрузился в сумеречное состояние, и только слабо наблюдал за бегом слов на потолке по кругу: «В Тамбовскую, на выслугу… Помереть бы скорей… Совсем хворый». Для него круглые сутки была одна полутьма, как в вечернем тумане, но именно состояние сумерек сознания помогло ему протянуть ещё трое суток без воды, а на четвертые старик услышал за окном чей-то неясный шёпот, прерываемый ветром, потом шёпот усилился, голос окреп и заговорил — звонко, ровно, уверенно, порой недовольно, а иногда с порывами, гремя металлом старой тюремной крыши и зашвыривая холодные капли через пустое, без стекла, окошко.
Почувствовав на лице холодные свежие брызги, Чемодуров стащил исподнее и вытолкал сквозь решётку наружу. Через несколько минут кальсоны страшно отяжелели, и старик едва успел втащить их обратно. Он жадно бросился высасывать из ветхой ткани сначала отвратительно горькую, потом восхитительно чистую и сладкую влагу. Снова вывесил кальсоны за окошко и снова едва не выпустил их из рук — так быстро они набрали воды.
Дождь щедро лил до утра и прекратился внезапно, как и начинался. Старик успел вывесить и исподнюю фуфайку, несколько раз выжимал воду из белья в грязную ржавую миску, которую нашёл под кроватью. Питья хватило на трое суток, а на четвертые снова пошёл дождь — теперь холодный, грозовой, и хлестал ливнем до рассвета. Но почему-то и после того, как прекратился дождь, взошло солнце и ярко осветило камеру, гроза продолжалась. Гром гремел по всему горизонту с юго-востока, переходя в частый треск залпов. И только к середине жаркого дня все затихло, хотя время от времени звучали отдельные выстрелы: в Екатеринбург вошли передовые части добровольческой Сибирской армии, состоявшей из казачьих и чехословацких соединений под общим командованием полковника Войцеховского.
Белые захватили город, почти не встречая сопротивления: красные эвакуировались вовремя. Недолго вели огонь только отдельные мелкие группы, которые прикрывали своих сапёров. Но и они очень быстро скрылись на последнем поезде из нескольких железнодорожных платформ.
Проснулся Чемодуров от громкого лязга дверного засова. Тяжёлая дверь со скрипом отворилась. На пороге стояли казачий подхорунжий, при шашке, с нагайкой в руке, и пехотный унтер, который держал в руках раскрытый тяжёлый гроссбух.
Старик скользнул по ним пустым взглядом, решив, что они ему снятся.
— Ну и вонь! — поморщился казак. — Свиней здесь большевики, что ль держали? Кто таков? — громко и резко спросил он Чемодурова.
Старик медленно, с трудом, встал и молча качал головой, беззвучно шевеля потрескавшимися губами.
Унтер нашёл в книге пальцем нужную строчку и медленно и старательно прочёл:
— «Камера нумер 14. Чемодуров Терентий Иванов, шестьдесят девять лет от рождения, холуй бывшего императора Николая Романова Кровавого…
— Что брешешь, пехота? — возмутился казак. — «Холуй… Кровавого…» Думай, Парфёнов!..
— Виноват: так здесь вписано, — пожал плечами унтер. — Дальше читать?
— Читай, да с умом, — проворчал подхорунжий.
— Слушаюсь… Так… «Помещён мая 24-го 1918 года распоряжением военного комиссара товарища Голощёкина, расстрелян 18 июля 1918 года. Похоронен в общей могиле для неизвестных лиц».
— Расстрелян? Как это? — перепросил казак, таращась глядя то на унтера, то на Чемодурова. — Кто? Он расстрелян?
— Так точно-с. Они, Терентий Иванов, холуй… значит, дворовый человек Государя-императора, и есть расстреляны, — подтвердил унтер-офицер. — И захоронены.
Казак разглядывал старика тяжело и молча. Наконец, спросил с подозрением:
— Как же есть ваше имя, настоящее, сударь? И фамилия, если имеется?
— Ась? — не понял Чемодуров.
— Имя, фамилия! — нетерпеливо повторил подхорунжий.
— Фамилия… — прошелестел Чемодуров. — Разве у меня есть фамилия? — он помолчал, вздыхая. Пожевал губами, поскрёб бороду — холёную, когда служил в Зимнем дворце, блестящую, как шерсть жирного чёрного кота, — а теперь поредевшую и в паршивых пятнах неровной седины. — У меня нет фамилии… давно уже. В загробной жизни не бывает фамилий. Меня расстреляли, я давно умер. И не спрашивайте… не мучьте меня больше… Подайте воды. Хоть кружку. Или половину…
Казак подошёл ближе.
— Хорошо, сударь, хорошо. Все ж как вас раньше-то звали?..
— Эх, — вздохнул старик. — Ежели пить дадите… хоть полкружки, я скажу, что звали меня на том, на белом свете, Чемодуров Терентий сын Иванов. А водворили меня сюда, в преддверие ада, бесы с красными звёздами, потом не стали давать пить и есть, а потом и расстреляли начисто. Там, в книге той, правильно написано, да?
— Не все в книгах бывает правильно, — глубокомысленно заметил казак.
— Так может, там про меня записана ошибка? — с надеждой спросил Чемодуров.
— Ошибка, конечно, ошибка! — заверил казак. — Никто тебя, старик, не расстреливал. И красных здесь нет — бежали, как зайцы. А ты живой и сейчас уйдёшь отседова на свободу.
Старик озирался вокруг, словно только сейчас обнаружил, что находится в тюремной камере.
— Вы и вправду прислуживали Государю-императору? — осторожно усомнился казак.
Чемодуров помолчал, потом мелко закивал и зашептал:
— Да, я был всю жизнь, до самой моей смерти камердинер Государя Николая Александровича… а потом Государя арестовали, в Сибирь увезли, и я с ним, а он меня отпустил домой в Тамбовскую век доживать — стар я стал и хворый, и меня арестовали бесы… Только никому не говорите, — спохватился он. — А то снова арестуют.
— Не бойтесь, таперича никто не обидит! — заверил его казак. — А ваши-то господа? Что-нибудь знаете? Где Государь? И Государыня где? Наследник цесаревич? Великие княжны?
— Дайте хотя бы полкружки, — жалобно всхлипнул старик. — Сейчас помру.
Казак бросил взгляд на унтера:
— Парфёнов!..
Тот козырнул и исчез.
Подхорунжий взял Чемодурова за локоть, усадил на койку, помог надеть ветхие кальсоны и брюки. Появился унтер Парфёнов. Принёс кружку воды, которую Чемодуров с неожиданной силой выхватил у него и осушил в несколько глотков. Потом замер, словно задохнулся, выронил кружку, она со звоном покатилась по каменному полу. Выпучив глаза, старик несколько секунд глядел на казака. В животе Чемодурова ёкнуло, и его вырвало одной струёй. Казак едва успел посторониться.
— Эге, бедняга, — сочувственно сказал унтер. — Исстрадался-то как…
— Пулю, сволочи, пожалели, — кивнул казак. — Оставили подыхать, как бездомного пса.
— Надо бы ему молока — глотка два сначала, не боле, — заметил унтер-офицер.
— Да! Позаботься, братец! — приказал подхорунжий.
— Слушаюсь! Сейчас или погодя?
— Сейчас. Потом продолжим — в комендантской. Парфёнов, приведёшь его.
Через полчаса унтер явился. Он отвёл старика в соседнюю камеру и дал ему полкружки сильно разбавленного козьего молока. Но разрешил только глоток, через четверть часа два, через час позволил допить остальное. Приказав старику лежать, унтер кружку унёс. Через час снова принёс, но уже с коровьим молоком, неразбавленным, а подмышкой держал свежую краюху ситного.
— Вот, ваша милость, — сказал унтер. — Половину сейчас можете выпить, а потом часика два вздремните и допьёте. Я за вами приду.
Проснулся Чемодуров не через два часа, а к вечеру. Не тронув хлеб, допил молоко, застегнулся на все пуговицы, навалился телом на железную дверь, с трудом отворил её и медленно пошаркал во двор тюрьмы.
Во дворе, поймав взглядом последний луч вечернего солнца, бывший царский камердинер — совсем недавно осанистый, с важным ощущением собственной значимости для империи, а теперь сухой сгорбленный полуспятивший старик — долго смотрел, как оно скрывается за тюремной кирпичной стеной, и широко улыбался беззубыми дёснами — вставные челюсти у него отобрали при аресте. Потом вздохнул, медленно перекрестился и пошаркал в комендантскую.
Здесь его провели в кабинет начальника тюрьмы. Самого начальника не оказалось. На его месте сидел офицер, назвавшийся капитаном Горшеневским. Рядом, за другим столом, поменьше, но полностью заваленном учётными делами заключённых, сидел пожилой одноногий чиновник в вицмундире. Обернувшись к двери, он спросил:
— Это вы Чемодуров?
— Я есть, сударь, — ответил старик.
— Присядьте. Тут все про вас говорят… — инвалид указал кивком на стул около начальника, взял со стола тонкую папку, протянул её Горшеневскому.
— Вот, Сергей Феофилактович, извольте. Чемодуров Терентий Иванович, камердинер бывшего царя. Заключён 24 мая 1918 года. Записано «расстрелян 18 июля». Такие у них, у большевичков, нынче порядки. Мир насилья они разрушают! Расстрелять не могут по-человечески…
Горшеневский открыл папку, но тут же захлопнул её и предложил Чемодурову чаю.
— Душевно вам признателен, — проговорил старик. — Я бы, с вашего позволения, съел бы чего. Ложку-две каши. Кружку молока, ежели дадите.
— Да-да. Непременно, но чуть позже, — пообещал капитан сочувственно. — А сейчас извольте ответить на несколько вопросов. Не возражаете?
— Не возражаю, — голосом бесцветным, как ростки картошки в погребе, подтвердил старик.
— Как вы сюда попали?
Чемодуров словно не услышал. Он уставился немигающим взглядом на верхнюю пуговицу капитанского мундира. Зрачки его расширились, челюсть отвисла.
— Как попали сюда? — громче повторил Горшеневский. — При каких обстоятельствах?
Старик по-прежнему рассматривал орлёную пуговицу и слегка раскачивался. Капитан понял, что царский камердинер заснул с открытыми глазами.
— Господин Чемодуров! Терентий Иванович! — ещё громче сказал Горшеневский.
Тот продолжал раскачиваться и вдруг всхрапнул. Капитан переглянулся с помощником, встал из-за стола, подошёл к старику и слегка тряхнул его за плечо.
— Ась? — встрепенулся Чемодуров.
— Как вы попали в тюрьму? Арестовали за что?
— Да-да… попал… — проговорил старик. — Арестовали меня, арестовали… Поначалу обещали отпустить в Тамбовскую, на родину…
Медленно и тихо, иногда замолкая на несколько минут, после чего капитан снова тряс его за плечо и будил, Чемодуров рассказал, что он приехал в Екатеринбург из Тобольска 28 апреля вместе с императором, императрицей и великой княжной Марией. Привёз их сюда какой-то московский комиссар, кажется, Яков его звали… А может, Василий. Ужасная дорога до Тюмени совершенно разбила старика, и он заболел.
— Сей красный Иаков хотел Государя и Государыню и всю Семью у красных бесов похитить и увезти. Но ему не дали тутошние.
Капитан и чиновник удивлённо переглянулись.
— Красный комиссар хотел вас похитить? — переспросил Горшеневский.
— Государя с семьёй.
— Вы уверены? Не ошибаетесь? Зачем ему?
— Чего тут ошибаться? — слегка оживился Чемодуров. — Государь мне сам говорил. И Государыня. Да и так видел, что Иаков спасал их от большевиков.
— Вам так доверяли ваши господа? — скептически покачал головой одноногий чиновник. — И своими секретными планами делились?
— А чего ж тут не доверять? — обиделся старик. — Много ли мало — тридцать лет служу при троне… то бишь служил. И десять лет при Государе Николае Александровиче. А до того — два десятка при великом князе… при Алексее Александровиче. Доверяли, потому как служба у меня такая — молчать надо уметь. Была служба… — со вздохом добавил старик.
— И куда же хотел этот красный… как его? Яков? Василий? — продолжил Горшеневский.
— Да!.. — обрадовался Чемодуров. — Яковлев — да, Василий Васильев!.. С ним ещё барышня была… интересная такая. Комиссарка. Только никакая она не комиссарка… Очень интересная. Даром что стриженая.
— И куда же все-таки красный комиссар Яковлев намеревался отвезти царскую семью? — вернул его к делу Горшеневский.
— Отвезти? Кого? А, — Государя… Сначала в Москву… а потом… не ведаю, куда, — тихо и медленно ответил старик.
— Может, в Германию?
Чемодуров подумал, потом отрицательно качнул головой.
— Нет, не в Германию. Государыню могли, а Государя — нет.
— Не ошибаетесь? — усомнился чиновник. — Вам же просто могли не сказать.
— Не могли, — с неожиданной твёрдостью возразил Чемодуров. — Я бы знал. Государь меня предупредил бы непременно.
Теперь недоверчиво усмехнулся Горшеневский.
— Стало быть, император во всем вам доверял?
— Нет, не во всем, конечно. В военных или в других государственных делах я ему был не советчик. А про Германию — доверил бы. Я всё про то знаю.
— Враньё! — с нетерпеливой брезгливостью хмыкнул чиновник. — Большевики с немцами давно сговорились германскую шпионку и бывшую царицу Александру со всей семейкой выпустить к родственникам. А вы тут нам сказку про белого бычка…
— Господин Модестов! Алексей Автономович… — укоризненно наклонил голову Горшеневский, и тот недовольно замолчал.
— Может, куда сначала и собирался красный Иаков, может, кто и договаривался, да только их величества никогда не согласились бы у Вильгельма искать пристанища, — возразил Чемодуров. — Они хотели в Англию или в Крым, и больше никуда. И Государь, и её величество много раз мне говорили: «Лучше помрём в России, а к кайзеру не поедем!»
Одноногий Алексей Автономович злобно расхохотался.
— Положительно, не сатрап самодержавный Романов-кровосос, а спартанец Леонид какой-то! Врал он вам. И не только вам! Кайзер Вильгельм брат Николаю Кровавому — вот в чем всё дело!
— Не родной. Двоюродный, — уточнил старик. — И Государыне кузен и только.
— Всё равно, у них там давно было слажено. Большевики перед кайзером на задних лапах пляшут. К нему и увезли всю семейку. А Государь ваш про вас и не вспомнил, оставил у большевиков на расстрел.
Чемодуров обиженно замолчал и закрыл глаза. Горшеневский обеспокоился, как бы старик снова не заснул.
— Что ещё важного можете нам сказать? — громко спросил капитан. — Извольте продолжать.
— А что там продолжать. Господин… господин… — показал взглядом на чиновника. — Господин…
— Модестов, — подсказал капитан.
— Да, Дестов… Он, чай, знает поболе моего. Я ему и говорить не буду. А вам, господин капитан, скажу: перед моим уходом из острога доктор Деревенко передал Государыне письмо с воли. От её родного брата, герцога Гессенского Эрнеста… Дай Бог памяти… — он погладил себя по лбу. — Его светлость писали Государыне, что кайзер зовёт её в гости, то бишь не в гости, а на жительство, но только её и дочерей с цесаревичем. Вот тогда Государыня мне и сказала: «Лучше казнь в России, чем приют у кайзера». Так брату и отписала.
— Она что же, вам читала письмо герцогу прежде отправки? — едко усмехнулся Модестов.
Старик бросил на него презрительный взгляд и отвернулся.
— Так-так, — вздохнул Горшеневский. — Но всё-таки продолжайте.
— Что продолжать — про кайзера?
— И про кайзера тоже.
— Про кайзера мне боле ничего не ведомо. Ещё что хотите?
— Про ваш арест. И где на самом деле ваши хозяева?
Чемодуров поразмыслил.
— Здесь где-то они.
— Да их след простыл давно, лакейская твоя морда! — возмутился Модестов и стукнул костылём об пол.
— Алексей Автономыч, ещё раз прошу, — недовольно проговорил капитан. — Видите — он едва жив, забывает, о чём его спрашивают.
— Не забуду! — возразил Чемодуров. — Я всё хорошо помню. Только пусть господин Дестов молчит.
— Он помолчит, — пообещал Горшеневский.
— Сильно я расхворался, как сюда приехали, — продолжил старик. — Совсем расслабленный стал. Работу работать не мог. Попросил у Государя отставку — домой поехать в Тамбовскую, доживать до смерти. Государь сначала огорчился, потом обнял меня, расцеловал, благословил и выдал рубль золотой со своим портретом за верную службу.
— Ха-ха! — не выдержал Модестов. — Какова щедрость, а? За тридцать лет службы — рублёвик. Крез, поистине Крез! Ещё щедрее!..
— Красные бесы у нас у всех деньги отобрали, — угрюмо возразил старик. — До рубля золотого не добрались. Государь в сапоге спрятал. Я вот давеча, когда ещё в остроге ипатьевском жил, у шельмеца Авдеева, главного тюремщика, спрашивал, выпустят меня из-под ареста иль нет. Два дня Авдеев думал, потом сказал, дескать, советская ихняя власть меня выпускает за старостию лет, и я могу идти. Только вышел за ворота, так они меня снова заарестовали и теперь пригнали сюда, в тюрьму, то есть.
— Такие у них порядки! И обещания, — качнул головой капитан. — И так у них во всем. Нельзя им верить ни на грош.
— У нас другие порядки? — хмыкнул Модестов.
— А дальше что? — спросил Горшеневский, не отвечая Модестову.
— Сначала вроде ничего было, — затуманился старик. — Два раза в день есть и пить давали. Отхожее ведро опять-таки же было — порядок. Прогулки опять же…
— Вас сразу посадили в одиночку?
— Да, только не в эту, в другую. На прогулках я многих видел.
— Кого же?
— Да вот… господин Татищев, его превосходительство… Илья Леонидович, генерал-адъютант, тут содержался… С ним Василий Александрович Долгоруков, гофмаршал. Потом привезли матроса Нагорного и повара Седнева. Их всех расстреляли. Так стража говорила. Не знаю…
— И больше никого не видели?
— Настеньку, — ответил Чемодуров.
Горшеневский и Модестов терпеливо ждали. Наконец, Модестов спросил:
— Кто же эта Настенька?
— Настенька… — вздохнул старик, — Настенька — это Гендрикова. Графиня Гендрикова Анастасия Васильевна. Все её очень любили, особенно, Государыня. Ещё потом Шнейдер привезли, Екатерину Адольфовну, гофлектриссу — учительшу при дворе, значит. Потом схватили Волкова — он камердинером при Государыне состоял. А ещё была великая княгиня Елена Петровна.
— А фамилия княгини? Она что — тоже из Романовых?
— Как замуж вышла — да, стала из Романовых, — пояснил старик. — Когда вышла за великого князя Иоанна Константиновича. А до того — принцесса Сербская. Сам великий князь, супруг ейный, Иоанн — в Алапаевске, под замком у красных, а она здесь.
— В Алапаевске были под стражей пятеро или шестеро Романовых и граф Палей. И родная сестра бывшей царицы Лизавета с монашенкой Варварой, прислугой, — вставил Модестов. — Красные сообщали, что их наши похитили. Вы слышали что-нибудь?
— Нет, — сказал Горшеневский. — Ничего не известно наверняка. Не думаю, что похитили. Иначе бы вы не спрашивали.
— А Михаил? — спросил Модестов старика. — Брат царя, ну — тот, кто отказался принять престол? Что он? Где?
— Ничего не знаю, — виновато вздохнул Чемодуров.
— Я знаю! — торжественно заявил Модестов. — Бежал Михаил Романов! Благополучно бежал. Теперь великий князь то ли в Японии, то ли в Китае, то ли в Сиаме.
— Вы уверены? — все-таки усомнился Горшеневский.

Модестов откинулся на спинку стула и некоторое время, снисходительно улыбаясь, смотрел на капитана.
— Дорогой вы наш Сергей Феофилактович! — наконец, с сожалением улыбаясь, произнес он. — Пока вы там с немцами воевали, мы здесь были более информированы — не в обиду вам будь сказано. Одно дело — фронт, куда не поступают новости. Другое — здесь, в лапах большевиков и, что ещё хуже, эсеров. Когда каждый день и каждый час ждёшь, что тебя схватят как заложника и без суда отправят в Могилёвскую губернию.
— В ссылку? — спросил Чемодуров. — Так ведь это далеко же отсюда…
Модестов приложил указательный палец к виску и сказал, все так же улыбаясь:
— Пиф-паф — voila tout! И ты в Могилёвской.
Горшеневский покачал головой и ничего не сказал.
— Тем не менее, в нашем здешнем положении было одно преимущество — сведения. Самые разные. От прессы, от иностранных дипломатов и представительств, от слушателей Академии Генштаба, да и от большевистских источников тоже. Про красные газеты распространяться не буду, однако же, телеграммы иностранных агентств приходили. Кстати, и царь выписывал несколько местных большевистских газет и даже совдеповские «Известия». Так что совершенно точно: великий князь Михаил живёт и здравствует. А касательно остальных Романовых, великих князей, коих содержали в Алапаевске, двести вёрст отсюда… Те, в самом деле, неделю назад бежали. Это было не трудно: не в застенках их держали, а в обычной земской школе, почти без охраны.
— Да, слышал, — подтвердил Горшеневский. — Был циркуляр на этот счёт. Но подробностей не знаю.
— Ничего особенного. Была перестрелка, на месте остались трупы красного солдата и одного из похитителей — нашего офицера. Личность его, насколько мне известно, не установлена. Полагаю, что капитан Кирста может рассказать про это похищение подробнее. И про царскую семейку тоже. Да что Кирста! Вот начальник штаба у красных, у самого Берзиня служил, — полковник Симонов, честный русский офицер, герой. Многих пленных и заложников из-под расстрела спас. Он теперь здесь. Вот у него самая точная информация, прямо от стола, так сказать: большевики театр с расстрелом устроили, чтоб народ успокоить. Уж очень люди требовали, рабочие особенно, чтоб Николашку-стервеца расстреляли прилюдно, на Вознесенской площади. Иначе обещали самих большевиков на клочки разорвать, причём, вместе с совдепами и чекистами. А что большевикам оставалось делать? У них немцы в командирах. Ульянова-Ленина на коротком поводке водят. Договор у них, Брест-Литовский. Его же выполнять надо! Так что воленс-ноленс пришлось большевикам Романовых охранять.
Капитан и Чемодуров слушали Модестова с напряжённым интересом.
— Как-то все же неправдоподобно выходит… — словно извиняясь, произнес капитан. — Чистый Луи Буссенар.
— Полагаете, большевики сами себе врут? Серьёзные люди недавно Романовых в Перми видели.
Чемодуров часто задышал, на глазах у него выступили слезы, и он разрыдался.
— Слава Богу! Слава Богу! Они живы! Господь спас…
— Все-таки в Перми? — переспросил Горшеневский.
Модестов немного помедлил.
— Есть, правда, дополнительная информация. Но пока не проверенная.
— О чём же?
Модестов снова помолчал немного.
— Ответственные чины из военного контроля — назвать не могу, как вы понимаете, — убеждены, что Романовых и в Перми уже нет. Матери и дочерей — точно. Немцы их вывезли на двух аэропланах, несколько дней назад. Ночью. Все дочери царские были в костюмах авиаторов.
— Вот как! — удивился Горшеневский.
А Чемодуров жадно смотрел то на чиновника, то на капитана, переживая каждое слово. Модестов выдержал ещё паузу.
— Так-то вот! — произнес он внушительно.
— Да-а, — протянул Горшеневский. — Очень интересно. И обнадёживающе. Хорошо бы к сему сюжету хоть какие-нибудь доказательства.
Модестов развёл руками:
— Ничем не могу возразить, — согласился он. — Но вот сегодня с утра я был в доме на Вознесенском — в том самом доме, который брал внаём инженер Ипатьев… И кое-что там увидел.
— Там мы все содержались, — тихо вставил Чемодуров. — В тюрьме, красные стражники болтали, что там, в доме, они будто бы и расправились со всей семьёй. И радовались, на наше горе глядючи.
— Вот видите? — воскликнул Модестов. — Издевались над вами, звери, а сами приказ кайзера Вильгельма выполняли. А нашим монархистам и всем, кто хотел бы снова посадить Николашку на трон, германцы и большевики тем самым дали знак: можете не стараться, господа монархисты, теперь уж некого восстанавливать. Для этого они и расстреляли в подвале каких-то лиц, а объявили всенародно, что Николай расстрелян. И в газете пропечатали. Следы, в общем, заметали. Молодцы, хорошо замели!
— Так что там, в особняке? — напомнил Горшеневский.
— Бедлам, форменный кавардак. Толпа! Бездельников понабилось, зевак, как тараканов на помойке. И я был вынужден обратить внимание чехословацкого генерала особняка, самого Гайду, что дом следует взять под охрану. Если не возьмёт, всё растащат праздношатающиеся. Да-с, разворуют на сувениры, вплоть до крыши.
— Они, чехословаки, сами не прочь украсть, что под руку попадёт, — фыркнул капитан. — Их уже «чехособаками» в народе прозвали. Неужели охрана не выставлена? А Гайда — он соображает?
— Не знаю. Сами понимаете, дом может понадобиться органам дознания — тому же Александру Фёдоровичу Кирсте и его ведомству. Определённо, там остались следы, улики, доказательства — ну, хотя бы того, что дочери царские на германских аэропланах улетели. Есть там кое-что. Многое есть… — таинственно добавил он.
— И что же? Интригуете вы нас, Алексей Автономович. Охотно свидетельствую: хорошо у вас получается.
— Уф, Сергей Феофилактович, — отмахнулся Модестов. — Какие мои интриги! Не до них. А доказательства, что княжны на германских аэропланах улетели, в самом деле, есть, и серьёзные. Сам видел.
— Что же видели?
— Они перед вылетом переоделись и загримировались, чтоб походить на мужчин, точнее, на своих же спасителей. На немецких авиаторов.
— Вот как? А отчего же вы так уверены?
— Там, понимаете ли, в комнате великих княжон найдены их волосы, в косы заплетённые и отрезанные. Четыре косы, волосы разного цвета от четырёх разных барышень. Кроме Романовых, там никаких девиц никогда с такими косами не было.
— Волосы? — удивился Горшеневский. — Зачем же их отрезать?
— А вы попробуйте надеть на голову авиаторский шлем, если у вас длинная коса.
— И пробовать не буду! — засмеялся Горшеневский.
— Позвольте, сударь, — робко подал голос Чемодуров. — Это не то. Это не совсем те косы…
— Как так «не те»? — обернулся к нему Модестов. — Вам что-то не понравилось, любезный?
— Нет-нет… Всё нравится, — испугался старик.– Только вот… Великие княжны никаких кос не обрезали.
— Тогда чьи же? Кому принадлежат? Может, вам? — раздражённо спросил Модестов.
— Великим княжнам.
— Ничего не понимаю — чушь! — заявил Модестов. — Отрезанные косы четырёх княжон никто не отрезал!.. Совсем разум, что ли, потеряли в тюрьме?
— Видите ли, сударь, — осторожно произнес Чемодуров. — Эти косы, числом четыре, княжны привезли с собой из дому. Из Царского Села. Им там, дома, пришлось остричься — насовсем, по-солдатски под нуль, когда заболели. В Царском Селе, зимой, в прошлом году, в марте. От хвори у них волосы выпадать стали. Вот и отрезали. И с собой косы привезли.
Модестов брезгливо посмотрел на старика и повернулся к Горшеневскому.
— Деменция полная, — с раздражением кивнул он в сторону бывшего камердинера. — Неужели не видите?
— М-да, — неопределённо протянул Горшеневский.
— Или вот ещё, — продолжил Модестов. — Родственница императрицы — сестрица родная Лизавета, в девичестве Элла, которая из Алапаевска сбежала. Всем давно известно, что эта Елизавета Фёдоровна, бывшая великая княгиня, которой Бог подарил мужа-педераста, — профессиональная германская шпионка, как и её августейшая сестрица. Состояла на полном жаловании у кайзера — он ей тоже кузен. И прикрытие себе придумала для отвода глаз военной контрразведки — монахиней заделалась. Шпионь себе направо и налево, и ничего.
— Да-да, — подтвердил Горшеневский. — Я тоже слышал. Бесспорно, кто же заподозрит монахиню да к тому же игуменью Марфо-Мариинской обители? К смертной казни была приговорена за шпионаж. Но выкрутилась, сука немецкая. Сестричка Александра Фёдоровна, императрица бывшая, конечно, споспешествовала.
— Несомненно! Без императрицы не обошлось! — подхватил Модестов. — А сама императрица была агентом кайзера, и тоже на содержании. Как тут не выручить сестру, а тем более коллегу по шпионажу! Вот вам и разгадка, почему именно братец Вильгельм озаботился царской семьёй, а не братец Георг, английский король. Кто же ещё согласится приютить германских шпионок? Какая держава? Только Германия.
Чемодуров попытался что-то возразить, даже привстал, но, видно, в последний момент передумал и снова опустился на стул, совершенно огорчённый.
— Что? — спросил его капитан. — Что-то добавить хотите?
— Да, сударь, добавить, — несмело проговорил камердинер. — Кайзер Вильгельм, хотя и в родстве состоит… Однако ж императрица Александра Фёдоровна терпеть Вильгельма не могла, можно сказать, всегда ненавидела. Сильнее ненавидела она разве что Керенского.
— Да-с, — вздохнул капитан. — Керенский… Герострат проклятый, масон, хуже Ленина. Всё развалил, всё пустил по ветру. Попадись мне, проклятый адвокатишка, эсер, мизерабль! Вот первый виновник всех наших бед. На части живого мерзавца перочинным ножом разрезал бы! Ещё в прошлом июле можно было на что-то надеяться, ввести диктатуру и сохранить государство и армию. Но как только Ааронка Керенский объявил своего же брата по заговору генерала Корнилова изменником, все полетело в пропасть. Безвозвратно. Ленин, конечно, тоже мерзавец, но гораздо меньший — хоть не врёт о своих целях.
— Только вот насчёт Ааронки, — заметил Модестов, — вы, дорогой коллега, не совсем правы. Точнее, совсем неправы.
— Как? — даже приподнялся на стуле капитан Горшеневский. — Что вы имеете в виду? Что имеете возразить? В чем я не прав?
— В том, что именно Керенский является перед державой и перед всеми русскими людьми преступником номер один, вы абсолютно правы. Расстрела для него мало. Да и живьём разорвать на части — несправедливое наказание. Слишком гуманное. Вот только насчёт его еврейства — чушь, сказки для дураков. Или для тех, кто свою бездарность оправдывает кознями всемирного кагала. Пархатое еврейство Керенского или того же Ленина есть увёртка для нашей кретинизированной интеллигенции и тупого офицерства. Для части офицерства, для части его, конечно! — поспешил добавить чиновник, со значением глядя в глаза Горшеневскому. — Для той, которая хоть и заблуждается, но — вполне добросовестно.
— Так-так, продолжайте, пожалуйста, — невозмутимо кивнул капитан.
— Керенский родился не так далеко от наших мест, там же, где и Ленин, — в Симбирске. По отцу он из духовенства, по матери — из потомственных дворян, хотя одна из прабабок Керенского была крепостной крестьянкой. Это точно, я специально интересовался. А вот что Керенский был масоном, — правда, но все молчат. И что всё Временное правительство было масонским — опять молчат! А почему молчат? Да потому что тайна сия ещё более страшная, и мировой кагал перед масонством просто меркнет.
— Вы так убеждены? — удивился Горшеневский.
— Абсолютно! — заверил Модестов.
— Да откуда же у вас такие сведения? Такие деликатные сведения?
— Деликатные — да, — с усмешкой согласился Модестов. — Из надёжного источника, будьте уверены.
Горшеневский встал, подошёл к окну и задумался, глядя во двор.
— И все же с волосами у вас, сударь, не то вышло-с, — подал голос Чемодуров, обращаясь к Модестову.
— У меня? С моими? — расхохотался чиновник и шлёпнул ладонью себя по лысине. — Куда уж дальше?
— Великие княжны здесь уже стрижеными были. Только шляпки надевали, когда выходили из дому, чтоб внимания лишнего не привлекать, — веско заявил Чемодуров.
Модестов только усмехнулся.
— Вам бы… Вам бы, Терентий Иванович, отдохнуть, как следует. И поспать. Чтоб не воображали себе невесть что и не сочиняли.
— Да, надо бы, — грустно согласился старик. — Уж, наверное, в Тамбовской…
Вошёл давешний унтер. Принёс тюремную миску с горячей гречневой кашей и оловянную ложку. Поискал глазами, куда бы поставить.
Модестов взял свои костыли и тяжело поднялся со стула.
— На мой стол ставь, служивый, — предложил он. — Идите сюда, Терентий Иванович, откушайте на здоровье.
Чемодуров сидел над тарелкой и все не мог приступить к еде. Плакал, роняя слезы в кашу. Горшеневский громко кашлянул.
Старик поднял на него глаза и затих. Медленно проглотил первую ложку, посидел и зачерпнул второй раз.
— Вот и хорошо, — ободряюще улыбнулся капитан. — Вот и славно.
Когда Чемодуров доел и попытался встать, комната закружилась, и он с трудом устоял.
— Благодарю покорно, — выговорил Чемодуров. — Теперь я могу к себе?
— К себе? Это куда? — спросил капитан. — Ах, да! Понял. В камеру?
— Да, в неё. Больше некуда. Соснуть бы немного…
— Проводи! — приказал Горшеневский унтеру.
Тот бережно взял старика под локоть и повёл к двери.
У порога Чемодуров остановился. Обернувшись, спросил:
— Господин капитан, а я мог бы?.. Сходить туда… в дом?
— Ипатьева?
— В его, в его…
— Боюсь, как бы вы не опоздали, — отозвался Модестов. — Не наши, так чехособаки там половину разграбили.
— А мне ничего не надо, — сказал Чемодуров. — Моего там ничего нет. Мне поглядеть.
— Наверное, можно, — сказал Горшеневский. — Только следует вам завтра, никак не сегодня — теперь поздно, с утра обратиться в штаб начальника гарнизона, а там — к полковнику Жереховскому или капитану Малиновскому. При штабе составлена дознавательская группа — особая. Упомянутые господа офицеры её возглавляют. Они-то вам и нужны. Может статься, и вы им понадобитесь.
— Так я, значит-с, того… — Чемодуров стряхнул несуществующую пыль с колен. — Того-с… э-э-э, значит, как ваша милость скажет, я могу идти-с?
— Идите, идите! — энергично закивал Горшеневский.
А Модестов хмуро пожал плечами и уставился в бумаги, всем видом своим говоря старику: надоел, без тебя дел полно.
— А потом у вас есть куда идти? — спросил Горшеневский.
Но старик не ответил и даже не обернулся. Он застыл у открытого окна и смотрел поверх цветов герани, в горшках на подоконнике, на тюремный двор.
— Терентий Иванович! — позвал капитан.
Старик вздрогнул и выговорил изумлённо:
— Спасён! Спасён, слава Господу и Царице Небесной! Чудо — чудо! — и широко перекрестился.
— Знакомого увидели? — заинтересовался Горшеневский, подходя к окну.
Прискакал и Модестов на одной ноге, оставив костыль у стола.
— Ещё один воскресший? — ядовито осведомился он.
3. АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ, КАМЕРДИНЕР ИМПЕРАТРИЦЫ

ПОСРЕДИ тюремного двора, вымощенного мелким круглым булыжником, стоял деревенский мужик — рослый, в косую сажень, в изношенной крестьянской поддёвке, отороченной серой смушкой и собранной на талии в гармошку, в полосатых портах и разбитых лаптях с грязными онучами. Чёрная с проседью борода, нечёсаная, свалявшаяся. Грязно-серые лохмы вылезли из-под полуразваленной шляпы, которая годилась разве что на воронье гнездо или для огородного пугала. Пришелец нерешительно оглядывался, словно не понимал, куда зашёл.
К мужику шагнул тюремный надзиратель.
— Чего-сь надоть, лапоть рваный? Не в трактир припёрся. Стража, зачем пропустили?
Крестьянин вдруг выпрямился — резко, по-военному, и прямо-таки ошпарил взглядом надзирателя:
— Ты что же, Спиридонов, харю суконную свою так высоко задрал? — осведомился мужик. — Ведь сам — крестьянский сын! Как и я, между прочим. А часовой хорошо знает, кого надо пропустить. Лучше тебя знает.
Надзиратель вздрогнул, отшатнулся, выпучил по-рачьи глаза и густо побагровел.
— Ваша милость, госпо… господин Волков? Вы ли это?..
— Трудно меня узнать? Верю, — усмехнулся мужик. — Но все-таки это я.
— Прошу покорнейше извинить, — резво согнул спину надзиратель. — Радость-то какая видеть вас в добром здравии!..
— Врёшь ты всё, Спиридонов. И не рад ты вовсе, и здоровье моё не так чтобы очень доброе.
— Вы к нам по делам? Чем могу служить-с?
— Ты уже мне услужил, когда я арестантом у тебя был. Начальник тюрьмы здесь?
— Ещё с паужина не пришли-с. Да вот они — пришли, стало быть-с!
В железную калитку в воротах протиснулся толстяк в мундире и направился в контору. Пройдя мимо крестьянина, внезапно остановился, обернулся:
— Тебе чего надобно, любезный?
И вдруг вскричал:
— Господин Волков! Алексей Андреевич! Да вы ли это? Глазам своим не верю!..
— Тем не менее, это я, любезный Пинчуков. Резво ты мимо проскакал. А Спиридонов мне и вовсе чуть было плетей не пообещал. Совсем загордились вы тут при большевиках, вознеслись…
Начальник бросился к пришельцу, схватил обеими руками его руку и затряс так сильно, что с его круглой физиономии слетели капли пота. Потом отошёл на шаг, продолжая с изумлением разглядывать гостя с ног до головы.
— Трудно, трудно вас узнать! Как вы, однако, измучены. Значит, спаслись… А ведь мы вчера по вам панихиду отслужили!
— Благодарю за заботу, — усмехнулся Волков.
— Из Перми телеграмма приходила, что вас там в тюрьме были расстреляли!
— Значит, не до конца расстреляли… В такое, наверное, поверить нелегко.
— Нелегко! — подтвердил Пинчуков, снова хватая Волкова за руку. — А вы вон какой герой: прямо из зубов красных драконов вырвались!
— Кто сей? — спросил Модестов старика Чемодурова, но тот лишь всхлипывал и мелко крестился.
— И вы не знаете, Сергей Феофилактович?
— Теперь знаю. Не сразу догадался, — ответил Горшеневский. — Перед вами — господин Волков Алексей Андреевич, личный камердинер бывшей императрицы Александры. Натурально цепным псом при ней состоял. Никто мимо него проскочить не мог. Даже сам Распутин. Это же какие тайны царского двора он носит в себе!
— И я вспомнил, — сказал Модестов. — В списке заложников, расстрелянных в Пермской тюрьме. Из придворных там содержались генерал Татищев, матрос Нагорный… Отдельной графой — великая княгиня Елена Петровна со сворой холуёв. Ещё графиня Гендрикова, гофлектрисса Шнейдер. И Волков. Все расстреляны! Кроме княгини. Как же он объявился с того света? Воленс-ноленс подумаешь, что без колдовства не обошлось, — хмыкнул он.
— Какое колдовство, Алексей Автономович! — отмахнулся капитан Горшеневский. — Не один он такой на свете. Нужно просто хотеть жить. И, конечно, немного везения. Про Чистосердова, присяжного поверенного и члена революционной управы, до большевиков, слышали?
— А что Чистосердов?
— Прямо из-под винтовок, из расстрельного строя бежал. Совсем голым. Как праотец Адам.
Тем временем Пинчуков, увидев, как по воротнику поддёвки Волкова поползла вошь, сказал решительно:
— Знаете что, Алексей Андреевич? Пойдёмте ко мне. Баньку-с велю истопить, жена соберёт поужинать, чем Бог послал, наливочка найдётся — ещё довоенная, точнее, дореволюционная.
— Благодарю сердечно, — сказал Волков, растрогавшись. — Банька… — он мечтательно закрыл глаза. — Настоящее чудо… А вот и наш Терентий Иванович!
С крыльца конторы сошёл Чемодуров и, шаркая подгибающимися ногами, поковылял к Волкову. Они обнялись.
— Как, Терентий Иванович? Не получилось в Тамбовскую?
Чемодуров заплакал. Пинчуков и Волков переглянулись и одновременно вздохнули.
— Государь, — всхлипывал Чемодуров. — Государь, я узнал сейчас…
— Да, — сказал Волков. — И я узнал, ещё в Перми. Расстрелян, Царство ему Небесное… А что с семьёй?
— Нет, не так! — воскликнул Чемодуров. Слезы у него моментально высохли. — Жив Государь! И Государыня! И детки! Врали красные бесы про расстрел. Врали!
— Вот как! — удивился Волков и снова переглянулся с Пинчуковым. Тот закатил глаза и развёл руками.
— Ведь вы тоже всё знаете! — с упрёком сказал Чемодуров начальнику тюрьмы.
— Не могу утверждать наверное, — осторожно возразил Пинчуков. — Я только четыре дня как в городе. Как большевики заложников стали хватать, загодя выехал подальше, в деревню, к родным супруги. Тем и спасся. Иначе не быть живу.
— А теперь на старую службу? — поинтересовался Волков.
— Не знаю. Комендант чехословацкий временно назначил другое начальство. Но и мне работа найдётся, — обещали в прежней должности. Тюрьма, хоть и пустая, но скоро будет тесно. Чистку большую чехи по городу делают.
Издалека послышался сухой треск — словно сломали пучок хвороста.
— Вот! — кивнул в сторону прозвучавшего залпа Пинчуков.– Уже вовсю чистка идёт. И то верно — иначе все вражьи дети тут не уместятся. Что, Терентий Иванович? Хотите что-то сказать?
Чемодуров не ответил — он съёжился и втянул голову в плечи.
— Так! Считаю, мы всё решили, — заявил Пинчуков.– Сейчас велю запрягать. Если новое начальство позволит.
Капитан Горшеневский разрешил заложить пролётку, но кучера не дал. Пинчуков сам взял вожжи, через полчаса они были на самой большой барахолке Екатеринбурга. Здесь Волков выбросил свою страшную поддёвку со вшами, порты и лапти. Не торгуясь, купил ещё хороший макинтош на тёплой подкладке, за ним поношенный английский френч, яловые офицерские сапоги с одной уцелевшей шпорой и новенькие французские кавалерийские галифе — явно украденные со склада союзников. Белье покупать не понадобилось: Пинчуков, с разрешения Горшеневского, взял два комплекта исподнего у тюремного каптенармуса. Один для Волкова, второй чуть ли не силой сунул в руки Чемодурову: старик отказывался поверить в такое счастье.
Вечером на квартире начальника тюрьмы Чемодуров и Волков — оба красные, блаженно распаренные, в чистом белье (старое со всем населением сразу ушло в печь) — сидели за столом, где в блюде лежал поросёнок с пучком зелени в зубах — истекающий жиром, в коричневой корочке с белыми трещинами. Грибы были солёные и маринованные, к ним ещё зелёные полосатые шарики арбузиков, мочёных в бочке. Был и квашеный, по-местному, в бочке, омуль, от которого шёл такой дух, что непривычных жителей столицы Чемодурова и Волкова едва не вырвало прямо за столом. Но после первой рюмки кедровой водки, своей, не монопольной, омуль уже не показался тошнотворным.
После второй рюмки Чемодуров загрустил, глядя на ветки яблонь, которые через открытое окно протянулись прямо в горницу. Слегка оживился старик, лишь когда принесли самовар. Он выпил только два стакана, после чего Пинчуков велел прислуге отвести Чемодурова, засыпавшего на ходу, в постель.
А сам открыл ещё штоф — с другой водкой, прозрачно-зелёной, на черносмородиновых почках. Выпили ещё и ещё, после чего Волков свою рюмку отодвинул в сторону и покачал головой:
— Ещё совсем недавно думал: всё! Жизнь кончена навсегда, а Россия отныне — сплошной красный ад. Бесконечный. Ужас без конца.
— Ну что вы, родной мой! — возразил Пинчуков. — Их песенка спета. Вся Россия восстала против большевизма. Фронт на юге, другой на севере, третий на Волге, у нас уже четвёртый, свой, сибирский фронт образовался. И союзники — Антанта у нас, а у большевиков никого.
— Да, нет у них союзников, — согласился Волков. — Пока. На нынешний момент.
— И завтрашний момент им ничего не обещает, — заверил Пинчуков. — Все передовые державы на нашей стороне. Даже Северные Американские штаты. Даже Япония! С такими союзниками…
Он многозначительно двинул бровями и налил ещё по одной.
— Союзники … — с неожиданной ненавистью произнес Волков и тут же оборвал себя. — А знаете, ваш омуль — настоящий деликатес. В Европе такого не знают.
— И не скоро узнают.
— А что до союзников… Не хочется самому верить, но жизнь заставляет. Это не союзники, любезный Григорий Степанович.
Вилка с омулем застыла в руке Пинчукова.
— А кто же?
— Грабители и мародёры. Неужто вы верите, что вооружённые иностранцы пришли, исключительно чтобы устроить наше счастье, что мы для них — прямо-таки братья родные? Чтобы потом, после краха большевиков, откланяться и уйти с такими же чистыми душами и пустыми карманами, как и пришли?
— Конечно, любая помощь должна быть вознаграждена, благодарность, знаете ли… — уклончиво произнес Пинчуков.
— Им не нужна наша благодарность. Им нужно наше добро! Причём всё и сразу. Выгодно будет белых поддерживать — поддержат. Предложат большевики больше золота, нефти, угля, леса — станут Ленин и Троцкий союзничкам братья родные…
— Вы, верно, очень измучились в эти дни, — ещё дальше отвёл от темы Пинчуков.
— Скрывать не стану. Измучился. Не дни — месяцы.
— Как же вам удалось уйти?
— Долгая история… Вам, действительно, интересно?
— Очень, Алексей Андреевич.
— Хорошо…
…Мы прибыли в Екатеринбург из Тобольска в мае, второй партией, с великими княжнами и цесаревичем. Сначала большевики увезли в дом Ипатьева только членов царской семьи. Потом комиссары возвратились к поезду.
— Волков! На выход.
Беру чемодан, была у меня ещё банка варенья, но приказали банку оставить. Сказали: привезут мне её потом. Так и не привезли. Не жаль мне варенья, только зачем врать? Сказали бы честно: чаю с малиной захотелось, я бы так отдал.
Нас — гофмаршала Татищева, графиню Настеньку Гендрикову, госпожу Шнейдер Екатерину Адольфовну — отвезли в тюрьму. Меня с Татищевым к заложникам, женщин в больничную камеру, обе были хворы. Через неделю пришёл новый приказ, ночью: «На выход — на вокзал».
— Меня тогда уже не было, — удовлетворённо отметил Пинчуков. — Господь вразумил: в самое время уехали мы с Макарьевной моей.
Волков кивнул:
— Да, нужно правильно читать знаки судьбы … — он скользнул взглядом по яблоневой ветке, обронившей в комнате два жёлтых листка. Потом посмотрел вверх на синий бархат за окном, где прошуршал ветер, заглушая сонный треск цикад, а когда затих, цикады затрещали ещё дружнее. В тёмном бархате медленно возникла свежая большая звезда.
— Да, — вздохнул Волков. — До чего же мы бываем легкомысленны. Надеемся, что всё само образуется, что Бог за нас всё сделает, — опасная привычка, я бы сказал смертельная. Чисто русская. Когда нас беда выучит?..
— Ещё по одной? Хороша получилась? — спросил Пинчуков.
— Изумительна!
Прожевав кусок омуля, Волков заметил:
— Хороша ваша водка. Даже в дворцовых погребах такой не сыскать… было. И, в самом деле, своя?
— Своя, своя. Чужой не держим. Даже монопольки. А насчёт знаков… Вы их видели? Читали?
— Да. Надо сказать, что тогда уже стали доходить до нас слухи о скором наступлении белых. Комиссары засуетились. Всем служащим выдали жалованье за три месяца вперёд. Понемногу уголовников, кто помельче, выпускать стали. Самое удивительное, заложников начали освобождать. И до нас очередь скоро должна была дойти — мы часы считали.
Однажды ночью вызвали в контору меня и женщин. Заложили две пролётки. В одну меня посадили с красноармейцем. На удивление, солдат был совсем без оружия. В другую пролётку посадили Гендрикову и Шнейдер — вообще без охраны. Спрашиваю солдатика, куда везёт нас. Он отвечает — по-доброму так, вежливо:
— Или к семье царской, в Пермь, или прямо в Москву.
От такого ответа у меня сердце зашлось. Ведь мы уже знали о расстреле семьи, хотя не верили поначалу. Болтали также, что расстреляли только Государя, а семья в Перми. Но мы в эту сказку не поверили. Значит, плохо наше дело.
Приехали на вокзал. Солдатик говорит:
— Вы здесь побудьте немного, а я схожу — ваш вагон, арестантский, поищу.
Ушёл красноармеец. Ночь. Вокруг ни души. Я слезаю с извозчика — кучер молчит. Будто не видит меня. Подхожу к женщинам. Говорю шёпотом:
— Слезайте. Уходим. Нельзя нам дальше ехать.
А они… Глазам и ушам своим не поверил: руками замахали, в один голос запричитали:
— Нет-нет! Не пойдём, да и зачем? Нас же в Москву везут!
Дескать, если тебе что пригрезилось, то уходи сам. И этот кучер всё слышит, но делает вид, что ему наши разговоры неинтересны.
— На тот свет нас везут, — говорю. — Поймите, наконец! Опомнитесь. Верьте мне!
Они снова руками машут: слышать не хотим.
— Господи! — перекрестился Пинчуков. — Помяни царя Давида и всю кротость его. Ведь это был момент!
— Да, — вздохнул печально Волков. — Само провидение говорило: «Спасайтесь! Даю вам случай!» Я знак понял, а женщины… За ошибку свою, за наивность недопустимую они очень скоро заплатили. По высшей цене. И я мог заплатить. Потому что никуда не ушёл.
— Так что же вы-то?! — воскликнул Пинчуков.
— Понимаете ли… Я и сам тогда засомневался. Может, и, в самом деле, зря паникую? Ведь кто оставит смертников без охраны? А нас оставили. Значит, не на погибель везут? Но вот если я сейчас уйду, они вполне могут женщин расстрелять. Из злости на сбежавшего.
Тут и красноармеец наш вернулся. И смотрит так странно, будто удивляется, что мы ещё здесь.
Повёл нас в арестантский вагон. Там много народу уже было, тут же и великая княгиня Елена Петровна, принцесса сербская. При ней самая настоящая миссия — чуть не дипломатическая: майор армии Мичич, солдаты Милач, Божич и, представьте себе, Абрамович. И секретарь миссии — русский майор Смирнов.
— Они же подданные иностранной державы!
— Да, кроме майора… И Елены Петровны. Она — супруга великого князя Иоанна Константиновича. Значит, уже наша. Приехала мужа повидать и хлопотать об освобождении. Причём, от имени правительства Сербии. Князь содержался в Алапаевске, в ссылке. На тюремном режиме.
Большевики не пустили Елену Петровну в Алапаевск, приказали возвращаться домой. Она ни в какую: без мужа никуда не поеду. Сказала, что правительство Сербии хлопочет перед Лениным об освобождении князя. Тогда ей предложили пожить в гостинице. И поместили в тюрьму. Сказали — здесь самая лучшая в городе гостиница. Шутники!
Короче, привезли нас в Пермь и сразу в тюрьму.
— Там, я слышал, порядки потяжелее, чем у нас, — заметил Пинчуков
— Как сказать… Я не почувствовал. Смотритель тамошний благожелательным человеком оказался. Но кормили плохо.
На прогулку выходили только я и майор Смирнов. Когда хотели, тогда и гуляли: запретов не было. Сербы не ходили, боялись: во дворе иногда заключённых расстреливали. На глазах у всех охрана убила бывшего жандармского офицера Знамеровского. В тот день к нему жена с сыном из Гатчины приехали, но свидания им не давали. Знамеровский и выразил неудовольствие, сказал охране что-то резкое. Его тут же и убили. Прямо во дворе.
И вот как-то ночью приходит в камеру надзиратель:
— Кто Волков? Одевайтесь.
Привёл в контору. Там ждут трое красноармейцев. При оружии. Простые, славные русские парни.
Пришли Гендрикова и Шнейдер. Настенька Гендрикова спрашивает, куда нас теперь.

— В пересыльную тюрьму.
— А потом?
— А потом в Москву. Это уж точно на сей раз, не сомневайтесь.
Настенька и Шнейдер повеселели: не на расстрел. Мне же стало очень тревожно — до холода в сердце.
Когда набралось заключённых одиннадцать человек, мы колонной, попарно, тронулись в путь.
Вели нас пятеро конвоиров, командиром матрос — весёлый, с папироской.
Провели нас через весь город. Скоро на Сибирский тракт вышли. Я удивляюсь: где же пересыльная тюрьма? Один арестант мне отвечает:
— Давным-давно миновали пересыльную. Я знаю, я сам тюремный инспектор.
Значит, на расстрел.
И тут я внезапно окоченел, будто в лёд превратился. Ни страха, ни ужаса — никакого чувства. Будто я — уже и не я.
Оглянулся, вижу, старушка Шнейдер с корзиночкой в руках едва ковыляет. Настеньку не вижу.
Едут навстречу крестьяне, несколько возов с сеном. Остановились, заговорили с конвоем.
Матрос дал команду свистком — стали и мы. Смотрю на ближайший воз, на лошадь, которая сзади чужого воза стала и сено из него щиплет.
И тут словно молния ударила меня. Будто со стороны себя самого вижу: как я в темноте проскальзываю между лошадью и возом на другую сторону дороги и в лес. Хорошо, прыгну, а дальше? Вдруг там забор! Ведь не видно ничего.
Снова свисток матроса:
— Вперёд!
Мы идём.
Стало чуть-чуть светать. Оказалось, не зря сомневался: по обеим сторонам дороги высокая изгородь, выше моего роста.
И вдруг наши конвойные такие любезные, такие услужливые стали! Предлагают каждому, у кого вещи, помочь нести дальше. Всё ясно. Чтоб не мёртвых грабить. Отобрали корзиночку и у Шнейдер. А в корзиночке той, я ещё в тюрьме видел, две деревянные ложки, несколько кусочков хлеба да ещё мелочь какая-то женская. Пустяки, в общем. Всё равно взяли, мародёры.
Свисток. Матрос кричит:
— Направо!
Свернули на другую дорогу, боковую, — в лес. Здесь уже забора нет. Снова свисток.
— Стой! — кричит матрос.
Снова возы с сеном нам навстречу. И эти остановились, мужики с конвоем разговаривают.
Тут слышу голос где-то в глубине у меня — то ли в сердце, то ли в душе. И говорит мне с укоризной: «Ну что же ты стоишь, глупец! Беги!» И сразу как будто кто-то сильно толкнул меня в спину, хотя сзади не было никого. Но боль от толчка была натуральная и затихла не скоро. «Спаси, Господи!» — подумал я. Перекрестился, пригнулся, проскочил между возом и лошадью, перепрыгнул канаву и пустился изо всех сил в лес.
Лесок был редкий, мелкий, сплошной валежник под ногами. Сзади кричат: «Стой! Стреляю!» Я ещё больше наддал, как вдруг споткнулся. И в тот же момент раздался выстрел, потом второй. Пули просвистели над головой.
Слышу: «Всё, готов!» И потом: «Не останавливаться, вперёд!» И свисток матроса.
Выдержал я минуту, резко вскочил и, петляя, добежал до больших деревьев.
Я мчался без остановки, продирался через кусты, завалы бурелома, через валежник. Провалился в болотце по пояс, выбрался, слышу: винтовочные залпы вдалеке.
Потом узнал: расстреляли всех, а на старушку Шнейдер, видно, из-за её нищей корзинки, даже пулю пожалели. Прикладом снесли ей полчерепа, головной мозг выпал на землю. Слава Богу, хоть скончалась в секунду. А некоторые умерли не сразу, их опять же прикладами добивали.
Волков замолчал, потёр ладонью грудь с левой стороны.
— Ещё стопочку? — предложил Пинчуков. — Как лекарство.
— Лекарство? — усмехнулся Волков. — Разве есть лекарство от ежедневных ужасов? Главное, какой смысл большевикам в таких зверствах? Врагов себе плодят. Чем им угрожала Шнейдер? Настенька? Я?
— Слушайте! — перебил Пинчуков и замер.
Вдалеке раздались несколько сухих винтовочных залпов.
— Ну, а это как назвать? — хмуро произнес Волков. — Чехи проводят чистку среди русского населения. Кого вычищают? Кого расстреливают? Кто им дал право? Без следствия и без суда… Изверги, хуже большевиков. По крайней мере, не лучше. «Освободители»…
Пинчуков промолчал и налил ещё по одной.
— Сколько я бежал, не знаю. Казалось, полдня, пока не упал без сил под какой-то стог. Лежу, перед глазами круги цветные, ничего не вижу вокруг, грудь горит внутри, и сердце сейчас лопнет. И кажется мне — да так натурально кажется — будто все это на самом деле со мной уже было. И лес, и воз с сеном. И матрос со свистком, и лошадь, таскающая сено…
Пролежал я долго. Уснул, и приснилось мне, что я умер. Проснулся в страхе — нет, живой. Встал и пошёл наудачу в ту сторону, где вроде бы должен быть Сибирский тракт. Вообще, нужна любая дорога, а уж она куда-нибудь да приведёт.

Когда вышел на дорогу, солнце пошло на закат, быстро темнело. Странно, мне поначалу совсем не хотелось есть. Потом захотелось зверски. Я шёл пшеничным полем, пшеница уже колосилась вовсю. Я срывал колосья, растирал в ладонях, но зерна ещё не затвердели, и погрызть досыта не удалось, но хоть мучного молока из колосьев пожевал. Когда совсем стемнело, ушёл в лес ночевать, снова нашёл стог.
Попытался уснуть, но какой там сон — холодно! И страшно: чуть звук какой или ветка треснет, сердце от ужаса заходится.
Утром снова вышел на дорогу. Навстречу крестьяне. Женщины, в основном. По народной привычке, здороваются с незнакомым и при том как-то странно смотрят на меня. Потом понял: ведь я без шляпы, только носовым платком голову обмотал. И оттого всем непривычен и подозрителен.
Проходил мимо какого-то хутора. На огороде пугало. Снял я с него рваную шляпу, нацепил на голову и пошёл дальше. Теперь встречные не удивлялись.
Голод меня уже с ног валил. Долго собирался с духом, наконец, в следующей деревне постучал в самую бедную избу. Вышла худая пожилая крестьянка. Попросил кусочек хлеба. Она вынесла довольно большой ломоть, а когда попросил попить, принесла воды и стала извиняться, что квас у неё не готов.
— Надо было побогаче дом выбрать, — хмыкнул Пинчуков
— Не скажите, — возразил Волков. — Богатые, как правило, прежде ищут выгоду. Выгодно отдать меня красным — отдали бы. Бедный человек чаще добр, сердечен и честен. Можете мне поверить. Хотя и среди бедных вы тоже встретите редкостных подлецов.
Только я попил воды и пошёл со двора, как из дома напротив, из окна, женщина машет мне, зовёт. Подошёл. Она из-под полотенца на столе достала мягкий, ещё горячий хлеб.
— Спрячьте на дорогу, — говорит. — Сейчас я вам ещё огурцов дам.
Вот вам весь русский человек! Ни одного вопроса — откуда, куда иду. Видели только, что трудно мне, на лице читали беду.
Рассовал я огурцы по карманам, ушёл в лес, там поел спокойно. Ничего вкуснее не знал в жизни, как этот тёплый хлеб и огурцы — сладкие, только с грядки.
Пошёл я дальше на восток. К вечеру хотел было попросить в очередной деревне ночлег, но не решился. Пошёл в лес, там зарылся в свежий стог. И так сладко выспался, что почувствовал себя счастливым. А почему нет? Жив, невредим, меня не преследуют, от голода не помру — ведь я в России. А в Екатеринбурге уже белые могут быть. Может, уже пришли.
Утром, как запели птицы и солнышко согрело стог, я проснулся, нашёл ручеёк, попил воды, умылся и снова в путь.
Так несколько дней шёл. В деревнях мне давали не только хлеб, но часто приглашали за стол, кормили обедами и даже один раз налили чарку перед едой.
Так дошёл до широкой реки — не знаю, как называется. Через неё мост. А на мосту стража. Издалека не пойму, кто.
Идёт навстречу женщина с ребёнком. Спрашиваю, можно ли мост пройти. Она остановилась, внимательно на меня посмотрела и говорит:
— Не надо вам туда идти. Там красные, тут же вас арестуют.
Огорчился я. Она смотрит сочувственно:
— Идите, в той стороне увидите церковь. Заходите, там хорошие служители. Всё вам скажут и помогут.
Пришёл в церковь, там как раз всенощная закончилась. Дождался, пока церковь опустеет. Собрался с духом — всё же открываться страшно. Думаю, была не была, все в руках Господних. Если Бог спас меня, значит, для чего-то я ему понадобился. Захожу в церковь, там дьякон уже уходить собрался.
— Отец дьякон, я к вам с просьбой.
— Пожалуйста, — говорит. — Говорите.
— Я нахожусь в храме Божьем и надеюсь, что вы, служитель Господа, меня не выдадите.
— Даю вам в том моё слово.
Рассказал свою историю.
— Стало быть, вам нужен Екатеринбург…
И рисует на бумаге дальнейший мой путь. Указал, через какие деревни можно идти без опаски, а какие следует обходить.
Забыл сказать вам, Пинчуков: тут не только дьякон был, но ещё и церковный староста. Даёт мне десять рублей и долго извиняется, что больше дать не может. Моей благодарности не было предела.
Дьякон повёл меня к себе домой, накормил очень хорошо и оставлял ночевать. Но я отказался, потому что боялся навлечь неприятности на добрых хозяев. Дьяконова супруга мне продуктов мешок спроворила — хлеба, масла коровьего, колбасу домашнюю, бутылку молока, ещё что-то.
Переночевал снова в лесу и пошёл по указаниям дьякона. Везде, где он говорил, я находил добрый сердечный приём.
Так я дошёл до большого села Успенское. Не доходя села, встречаю двоих мужиков с топорами. Поздоровались.
— Далеко идёте? — спрашивают.
— В Успенское. К родне. Правильно иду?
— Да вон на ту церковь идите и попадёте.
Успенское мне дьякон не советовал. Не доходя, свернул в сторону и попал в совсем маленькую деревушку. Выселки, как видно. Никого вокруг, словно всё нежилое. Только в последней избе у окна сидит крестьянка. Смотрит на меня — строго, молча.
Я поздоровался и спросил, каким путём можно обойти Успенское.
— Иди прямо, барин, до поворота, потом свернёшь по левой руке и увидишь — там мужики мост чинят, а Успенское справа окажется. Только поспеши. Через дом от нас живёт большевик. Да вон его мать идёт! Сейчас же донесёт сыну.
Я поспешил, удивляясь: хорош барин в шляпе от пугала огородного! И все же крестьянина во мне женщина не признала.
Дорога пошла дальше широкая, хоть и в топкой грязи после ночного дождя. Скоро увидел боковую сухую тропинку в лес. Только к ней направился, как вдруг спину словно холодом обдало. Оглядываюсь: сзади телега, а в ней — трое.
— Стой! — кричат и лошадь нахлёстывают не жалея.
Я прибавил ходу, надеясь, что телега в грязи увязнет, не разгонится. Навстречу воз с сеном. Пропустил я его и, когда воз поравнялся с телегой и закрыл меня от погони, быстро по тропке нырнул в лес.
Оглянулся. Телега стоит. Мои преследователи расспрашивают мужика, видно, обо мне.
Я — пулей в чащу, куда глаза глядят, без памяти. Скоро понял, что погони уже нет. Тут и лес кончился. Усталый, весь мокрый, вышел на опушку.
Стоит избёнка без дверей. Здесь в таких крестьяне отдыхают на покосе или пахоте. Зашёл туда, снял одежду просушить и как-то задремал. Сквозь дрёму слышу: лошадь фыркнула рядом, телега подъехала. Остановилась у входа — теперь мне не уйти.
На телеге мужчина и женщина. Спрашиваю, не их ли эта изба. Говорят, их собственная. Конечно, я рассыпался в извинениях, что без спросу занял.
— Ничего страшного, — отвечают. — Отдыхайте, Бог с вами. Мы работать пойдём, оставляем провизию: вот чай, хлеб, картошка, сахар. Котелок и таганчик. И спички. Воды в реке наберёте, дрова есть. Отдыхайте, сколько угодно.
Наелся, напился чаю от души. Пошёл в лес, отыскал хозяев, поклонился в пояс с благодарностью и спросил, где можно переночевать. Показали, как в их деревню пройти.
На пути наткнулся ещё на крестьян — стог мечут. Два мужика, две женщины тут же. Одна спрашивает таким сладким голосом:
— Здравствуйте, уважаемый, куда идёте?
Очень мне не понравился её голос. Я не знал, что ей ответить. Потом сказал, что ищу ночлег.
— А вы прямо к нам и ступайте. У нас часто ночуют. А это мой сын. Как, Вася, пусть они у нас переночуют, ладно?
— Мне-то что? — буркнул Вася. — Пусть, если так хочут.
— Вон наша деревня, — продолжает сладкоголосая. — Но сначала к старосте явитесь — такой порядок. Скажите, что на ночлег пришли к Собакиным. Он покажет нашу избу. Располагайтесь пока без нас, отдыхайте. А мы вернёмся до захода солнца.
На всем пути я ощущал себя уверенно, на душе было спокойно. Везде меня встречали и провожали, по крайней мере, как доброго знакомого.
Но сейчас, в ответ на сладкий голос, я почувствовал знакомый холод на сердце. «Не надо идти, — думаю. — Остановись».
А, с другой стороны: ну, что плохого может быть? Красных давно не слышно, наоборот, все больше разговоров о белогвардейской армии. Дошли уже до крестьян имена полковника Каппеля, адмирала Колчака, чешского генерала Гайды. Слышали об их походах на Казань. Хотя, по-моему, большинство народа не очень вникало в события. И революция, и война, и зверства большевиков и белых — всё это далеко, в городах, где господа, дескать, с жиру бесятся. А у крестьян и без того хлопот много — от зари до зари, без продыху. Не до господских забот и глупостей.
Правда, некоторые в разговорах со мной удивлялись: как же так царь бросил свой народ? Разве может Государь вот так, по своей воле оставить власть, он ведь получил её от Бога. Стало быть, труды государственные царю наскучили, и от Божьего завета он отступил? Бог накажет.
Больно мне было слышать такое. Но ведь правда! Именно из-за отречения Государя империя рухнула. А он говорил, что надеялся, что всё будет наоборот, стоит только отречься. Неужели надеялся, что на Россию сама собой снизойдёт победа в войне и потом — вечная благодать? С чего бы это?
Иной раз я думал: да, были в феврале волнения в столице, беспорядки. Надо было твёрдость показать и навести порядок умелой силой. Разве можно во время войны допускать смуту? А ведь она исходила из Государственной Думы! Почему Государь не ввёл военное положение по всей империи — война того требовала! Была у него сильная армия, и вся государственная власть. Как легко он отказался от России!
Одно дело, когда требуют отречения под страхом смерти. Вспомните: полтораста лет назад шайка изменников, по приказу своих английских хозяев, пообещала императору Павлу Петровичу жизнь, если он отречётся от престола.
Но Государь Павел Петрович предпочёл погибнуть жестокой смертью и принять корону мученика, но никому не отдать корону царскую. Потому что и корона, и жизнь монарха не ему, смертному человеку, принадлежат. А Богу и всему русскому народу. И Государь Николай Александрович мог обратиться ко всей России за поддержкой, и люди стали бы на защиту своего Государя, раздавили бы разрушителей и подстрекателей, как клопов.
Ведь на самом деле, против царя и империи в феврале выступила, в основном, небольшая кучка негодяев — аристократов, приближенных к трону, богачей-мироедов, фабрикантов, адвокатов, генералов-изменников, включая бывшего главкома, великого князя Николая Николаевича. Ну, ещё болтливые юристы с депутатами, разные партийные проходимцы… Да и почти все великие князья Романовы бунт готовили. Им самим власти верховной захотелось. Они уже планы строили, как предать смерти Государя и Государыню.
Но это были планы кучки трусливых мерзавцев. Болтать они умели, а как до дела — в кусты!
Получилось что? Известный толстяк из Думы председатель Родзянко прислал царю несколько панических телеграмм. Поддержал Родзянку другой негодяй — начальник Генерального штаба Алексеев, самое доверенное лицо императора. Царь верил ему, как себе. Алексеев обманул всю военную верхушку, всех командующих фронтами. Представил дело так, будто император уже почти что отрёкся. Генералитету остаётся только поддержать царя в его намерении, одобрить, соблюсти простую формальность. Одобрили… Не генералы, а стадо баранов.
А потом в Ставку явились ещё два проходимца из Думы — Гучков и Шульгин. Приехали, умирая от страха. Думали, что их, с их предложениями царю отречься, немедленно арестуют и посадят в крепость. Верно думали: ведь заниматься изменением государственного строя во время войны, значит, неизбежно вести страну к военному разгрому и к внутренней катастрофе. По-другому не бывает.
Они что-то бормотали невнятно, но неожиданно Государь их выручил! Заявил, что ещё до их приезда он решил немедленно отказаться от тысячелетней державы и бросить её к ногам десятка или пусть даже сотни проходимцев и прохвостов. И прохвосты, получив империю, не знали, что с ней делать, кроме как уничтожить. Каким был «Приказ №1» Временного правительства? Приказ об уничтожении армии. Чтоб солдаты не подчинялись офицерам. Нет армии — нет государства. И тут же, прохвосты, стали хлопотать о создании «новых республик» — какой-то там Украины, Грузии, Таврии… Не дожидаясь Учредительного собрания, которое, по их же обещаниям, и должно принять новое устройство. Но всё это им позволил царь, объявив себя «бывшим». Росчерком карандаша уничтожил монархию, хранить которую клялся, не жалея своей жизни. Жизни, которая опять-таки не ему принадлежит, а России, всему народу!
Государь Николай Александрович сбросил с себя священное бремя власти так легко, словно скинул с ноги старую туфлю. И меня сбросил. И старушку Шнейдер, и Настеньку Гендрикову, из-за его отречения убитых. Но в первую очередь, навлёк беды на свою семью.
Я уже говорил: мы ещё в пермской тюрьме слышали, что Государь расстрелян, а семью большевики перевезли куда-то «в надёжное место». Никогда я в такое счастливое спасение Государыни и деток, увы, не верил. По натуре своей я человек незлобный, жестокостей за собой не замечал. Но… Бог все видит. Наверное, такую страшную плату именно Высшая Сила потребовала от того, кто нарушил договор с Нею. Он и заплатил за своё предательство.
Сколько раз я в эти дни слышал от крестьян, из самой глубины народа, что они хотят и землю от большевиков получить, и царя не потерять. России без царя никак нельзя: такая у неё особенность. «Царь во главе советской власти!» — вот такие желания сегодня у крестьян. Не у всего крестьянства, но они есть. Можете себе представить? Звучит невероятно. Но я таких видел и слышал достаточно.
— Я тоже такое слышал как раз вчера от местного бондаря, — заметил Пинчуков. — Земля ему не нужна, зверства большевиков его не коснулись. Поэтому он за советскую власть, но только чтоб с царём.
— В деревню, где жили Собакины, я пришёл быстро, отыскал старосту, назвался мещанином Ивановым, который ищет ночлег. Староста долго, недоверчиво молчал, сверлил меня взглядом. И сказал:
— Я же вижу, что у вас другое имя и происхождение. Не буду спрашивать, коли вам так надо. Куда идёте? Секрет?
— Пробираюсь в Екатеринбург. Говорят, там уже чехи?
— Говорят — и только… Никто оттуда к нам пока не был. Значит, вы не красный…
— Сам спасаюсь от них.
— Места у нас спокойные, но всяко бывает. Людишки поразболтались, страх потеряли, шалят на дорогах, да и в деревнях грабят. Позавчера на Ивановку — десять вёрст отсюда — налёт был. Вооружённые люди. За чехов себя выдавали, а командир — уж точно натуральный чехословак. Сказали, что красных ищут, даёшь обыск! Заодно пограбили деревенских. Пятерых девок испортили, а мужиков, которые за своих дочерей вступились, повесили. Лови их теперь!
— Неужто белые так могут себя вести? А, главное, чехи — европейцы цивилизованные?
— Может, и белые, может, другого цвета… Красные тоже налетают, обыскивают и грабят. Тоже под видом, что ищут белых. А скорее всего, просто воры, каиново отродье. Одного опознали. Из Ивановки на каторгу выходил. За убийство священника. А когда власть взял ваш Керенский, то всех душегубов на волю повыпускали. Вот и гуляют. Нет на них ни закона, ни исправника, ни урядника с жандармами… Да, — вздохнул староста. — Можно ли поверить: ещё год назад жили, как люди! Небогато, чаще бедно, но как люди. Мыслимое дело: знать не знали красных, белых, зелёных, Керенского, Ленина, Ваньку-варнака из Ивановки, большевиков с эсерами… А всё Сашка с Гришкой. Довели народ до смуты, чтоб им на том свете вечно раскалённые сковородки лизать!
— «Сашка» — это вы про кого? — я почувствовал обиду и стыд оттого, что вынужден снова слышать мерзость о Государыне — о честнейшей, порядочной, самоотверженной женщине, которая, как простая, трудилась с утра до ночи, знать не хотела развлечений и балов с танцами. Сама выучилась на сестру милосердия, по фронтовым госпиталям в операционных трудилась, выносила отрезанные руки и ноги, перевязывала солдат, ночные горшки за ними выливала. И девочек научила и заставила работать, делать то, за что не каждая крестьянка ещё возьмётся. Скажу вам от души, Пинчуков: Государыню я бесконечно уважал и даже любил, как сестру или даже как родную мать.
А Распутина я не любил. Но и он не заслужил клеветы со всех сторон. Когда педераст Феликс Юсупов, а с ним депутат и безумец Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович, такой же мужеложец и негодяй, стали ещё и душегубами, совершили величайший грех человекоубийства — зверски лишили жизни простого, ни в чем не повинного мужика Распутина, то меня тогда больше всего, до ужаса, потрясло поведение родной сестры Государыни — великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Сама она к тому времени монашеский постриг приняла, основала обитель, в ней же была игуменьей. И вдруг посылает радостные телеграммы убийцам! Поздравляет Юсупова с совершенным убийством! Пишет, что душегубы свершили «святое дело». Это по-христиански?! Кто им дал право отбирать чью-то жизнь? Даже если это Распутин. Или кто другой, пусть в сто раз хуже. Только закон и суд имеют такое право — распоряжаться жизнью человека.
Притворился я, что не понял старосту, и спросил, о ком он.
— Так я же про неё говорю — про царицку! Огромный гнев в народе пробудила, когда с Гришкой разврат творила. Вот вам и революция, вот вам нате — красные, белые, черные, грабители и насильники, вешатели!..
— Знаете ли, — с горечью сказал я старосте. — Мне, может, в нынешний момент и не следует говорить, но и молчать не могу. Заверяю вас от всей души, Господь свидетель: разговоры про какие-то «шашни», извините, Государыни Александры Фёдоровны и сибирского мужика Григория Распутина — всё от начала о конца гнусная ложь, грязная клевета!
— А вам-то откуда такое ведомо? — прищурился он.
Я заколебался и, в момент было, пожалел о своих словах, но все же решил не отступать.
— Глядя на вас, уважаемый, я уверен, что вы честный человек и не выдадите меня хоть белым, хоть красным.
Он ничего не ответил, но кивнул.
— Вы правы: я не тот, кем назвался. Около двадцати своих последних лет я прослужил Августейшей Семье. Сам я из крестьян. Попал сначала по набору в Павловский полк, откуда взят на службу к великому князю Павлу Александровичу. Потом переведён в Зимний дворец. И стал камердинером у самой Государыни. Так что вся её жизнь, до мелочей, мне хорошо известна, она проходила перед моими глазами. Я знал даже такие вещи, которые и Государю-то все известны не были. Поэтому, положа руку на сердце, заверяю вас: все разговоры о предосудительных отношениях императрицы с Распутиным — гнусная выдумка. Такое во дворце просто невозможно скрыть, там всё и все на виду. Но, к сожалению, многие этой клевете поверили, потому как распространяли её высокопоставленные персоны — министры, генералы, великие князья, депутаты, всякая газетная сволочь. И, конечно, германская разведка.
— Зачем же им такое понадобилось, ваша милость — как вас, бишь, величают?
— Меня зовут Алексей Андреевич. А вас?
— Михаил Спиридонович.
— Так вот, Михаил Спиридонович, ложь понадобилась, чтобы бросить тень на всю царскую семью, на всю династию и вообще на самодержавие. Вот, мол, до чего докатились, как низко пали. Не имеют права у власти оставаться. И доклеветались до революции.
— Зачем же им, царям, понадобился деревенский мужик Распутин?
— Затем, Михаил Спиридонович, что старец Распутин обладал некоей магнетической силой. Он лечил наследника цесаревича от тяжёлой и мучительной болезни. Самые знаменитые доктора не могли. А Распутин мог. И как после этого бедные родители должны были относиться к целителю?
— Да известно, как… Все мы люди, все родители. А что вы, Алексей Андреевич, искали в наших краях?
— Меня Бог спас от расстрела в Перми. Теперь, как сказал, пробираюсь в Екатеринбург. К чехословакам.
— Очень вам далеко ещё идти.
— Понимаю. Но мир не без добрых людей, они мне всё время помогают. Теперь ищу ночлег на сегодня.
Староста подумал немного и сказал:
— Я бы вас к себе взял, но я староста, и мне неудобно вас брать. Однако я определю вас сейчас к какой-нибудь хорошей семье.
— Благодарю покорно. Я уже определился к Собакиным, они меня пригласили. Сказали, чтобы сейчас шёл к ним в избу, а они придут вечером, после покоса.
Тут он странно посмотрел на меня и сказал, будто чему-то удивляясь:
— Именно к Собакиным? Зачем же вы так решили?
— Я не решил. Случайно встретил их в лесу, они и пригласили. Что-то не так?
— Не знаю-с… Ничего худого про них сказать не могу. Только… странные они какие-то, что-то там не то… Поселились они здесь недавно, года три. Откуда перебрались, не говорят. Никому не докучают, но и сами особняком. Тут у нас по домам распределяли пленных немцев на работы, за харчи. Так Собакины от немца отказались. По ночам куда-то ездят, возвращаются под утро. Куда ездят, не говорят никому, хотя в деревне вся жизнь на виду, никто ни от кого не таится. А когда появляются тайны, это не нравится не только мне, старосте. Людям тоже не нравится. Они беспокоятся: почему тайны? Что такое надо скрывать?
— Да вот они уже возвращаются.
Староста выглянул в окно.
— Да, они. Ну, Бог вам помоги. Если что, приходите. Заметьте, моя изба — четвертая с краю.
Тут подошла к нам жена старосты и сует мне в руки хлеб, из печи, и говорит, извиняясь:
— Уж не серчайте, что на людях даю вам хлеб, только я сразу Собакиных не заметила.
Изба у Собакиных оказалась добротная, пятистенная на две половины — зимнюю и летнюю. Там ещё оказалась мать хозяина, древняя старуха в каком-то совсем не крестьянском чепце, чистая Баба Яга. Хмуро оглядела меня:
— Кто таков? Купец? Коробейник?
— Просто странник, — ответил я как можно скромнее.
Видно, ей не понравился ответ, потому как зыркнула на меня и отвернулась, злобно шепча что-то себе под нос.
Младшая Собакина прикрикнула на старуху и велела постелить мне в зимней избе.
— Что там стелить? — огрызнулась старуха. — Не барин, чай. И на полатях отдрыхнется.
Я сказал, что не стоит беспокоиться, бывало, и хуже ночевал. Скоро молодая хозяйка позвала к столу.
Выложили картошку в мундирах, зелёный лук, квас. За ужином я пытался незаметно изучить хозяев. И в самом деле, странные люди. Все четверо, не стесняясь, разглядывали меня, словно корову на ярмарке оценивали. И глаза у них — будто в каждый на дно положили кусочек льда.
Старуха принесла огромную бутыль с мутной самогонкой. Хозяин подмигнул мне, налил большой стакан и предложил мне выпить за знакомство. Я и раньше-то самогонку терпеть не мог. Сейчас пить вообще нельзя было в моем положении и состоянии. И я сказал: дескать, доктор строго запретил мне, потому что при моих хворобах могу даже от одного глотка водки помереть в один момент, прямо за столом. Вижу, им мой отказ не понравился, хозяин и старуха злобно на меня глядят. Хозяин сам мой стакан выпил. А молодая хозяйка снова патоку льёт.
— Да что там с одной чарки да под закуску! У меня и мясо сейчас поспело. Когда ещё поедите по-человечески?
И ставит на стол деревянное блюдо с большими кусками горячего мяса. У меня прямо слюнки потекли. Но опасаюсь, что теперь уж точно заставят выпить. И я удержался. Заявил, что сыт, и спросил для вежливости:
— Барашка приготовили?
Хозяин в ответ хохотнул, выпил второй стакан, крякнул и полез прямо пальцами в блюдо.
— Кабанчик, — сказал он, жуя. — Маловат, но успел нагулять жирка. Бери, уважаемый, не стесняйся.
Мясо кабанчика мне показалось слишком красным для свинины. Я ещё раз поблагодарил и сказал, что свинину не ем вообще.
— Так ты, дядя, жид? — подал голос хозяйский сын — здоровенный балбес; этот прямо-таки пожирал меня ледяными глазами.
— Нет, я православный. Но доктор мне и свинину запретил.
— От этих дохтуров только помираешь быстрее. Все болезни от них, — буркнула старуха. — Раз ты, милок, наелся, так иди и спи, потому что вставать завтра до света.
В зимней половине было душно. Я открыл окно, забрался на полати, полежал с полчаса и понял, что не усну. Страх охватывал меня, какого ещё не было — липкий, удушливый. Лежу и дрожу.
Тем временем в летней избе ужин продолжался. Через открытую дверь хорошо был слышен звон стаканов. Разговоры становились громче, ожесточённее, пока старуха не прикрикнула:
— Тихо! Разошлись, окаянные! Так он не уснёт.
И наступила тишина. Потом слышу — жиг! жиг! «Зачем нож точить на ночь глядя?» — удивился я.
И сразу же слабость меня сморила. Вот-вот в обморок хлопнусь. И голос — тот самый, который давеча бежать мне приказывал, говорит: «Нельзя слабеть! Держись! Иначе быть беде».
Снова заговорили на той половине, заспорили. Тихонько я прокрался к двери. Слышу старуху:
— Бросьте его! Толку-то — кожа да кости. Пусть уходит.
Хозяин ей в ответ:
— Не «пусть», а какой-никакой филей вырезать можно.
И снова — жиг! жиг!
Старуха, видно, разозлилась:
— Я сказала: не замай! Без нужды нам. Ещё от купца лохань полная, а на этого только соль переводить.
Страх с меня слетел мгновенно. Бесшумно я обулся. Окно, по счастью, так и оставалось открытым и смотрело прямо в сторону леса, а до него шагов пятьдесят. Осторожно выбрался через окно и дал стрекача, как заяц, — в самую чащу, не разбирая пути.
Продирался сквозь кусты, натыкался на деревья, влетел в болото, насилу выбрался на сухое. Прислушался — вроде никакой погони, тихо. Только филин на сосне рядом ухает. Скоро вышла луна, стало светло, и я подуспокоился — главное, всё теперь видно вокруг.
— Ах, батюшка Алексей Андреевич! — воскликнул Пинчуков в ужасе. — Вот страсти-то! Я бы прямо там на месте помер от страха. Храбрый вы, сударь, человек! Поистине.
— Снова Бог спас, — скромно ответил Волков, принимая чарку с прозрачной изумрудной жидкостью. — В который раз… Потом я узнал, что Собакиных казнили — всей деревней. Вилами закололи. Сами судили, сами исполнили. Утром неожиданно староста пришёл к ним — меня проведать. И как раз увидел ту самую лохань с солониной из проезжего купца. Он, крестьянин, басне про кабанчика не поверил, а сразу догадался. Потому-то у них и глаза такие были особенные… Нечеловеческие.
Пинчуков глотком осушил свою рюмку, вместо закуски наложил на себя крестное знамение и снова:
— Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его.
— Сильно я вымок в болоте. Да тут ещё роса выпала. Но зато иду уже не торопясь, сердце успокоилось. Дышу. Глядь — передо мной опушка, А посреди стог сена. Свежий, но уже сухой. Зарылся в сено весь, но щёлку оставил, чтобы наблюдать. Совсем успокоился и даже начал подрёмывать. Чуть только голова склонилась, как вдруг кто-то вроде локтем толкнул меня — да так больно, как тогда перед расстрелом.
Гляжу — вокруг никого. Тишина. А уже знакомый голос мне: «Гляди в оба!»
Послушался. Гляжу. Ничего не вижу. Луна уже прямо надо мной.
Как вдруг на краю леса два огонька засветились, будто две капли фосфора. Потом задвигались, к ним ещё два огонька присоединились. Покинули лес и поплыли через поляну в мою сторону.
— Волки? — спросил шёпотом Пинчуков. И сам себе кивнул: — Они, конечно.
— Они, — подтвердил бывший камердинер. — Остановились, постояли и снова ко мне двинулись.
И я заметался в душе своей. Стог мой — посреди поляны, до ближайшего дерева мне не успеть. Шарю по карманам — да что искать? Ничего в кармане нет, даже нож перочинный обронил только что, видимо, на болоте.
Волки все ближе, и вот я их уже хорошо могу рассмотреть: один матёрый, другой поменьше, полегче — волчиха. В отчаянии схватил я ладанку на груди — там капелька елея освящённого из Морского собора, где святитель отец Иоанн Кронштадтский служил, и шепчу: «Спаси и помилуй, Господи Иисусе! Отец Иоанн, заступись за меня перед Господом и Царицей Небесной! Господи, Ты меня не для того спас, чтобы я убежал от двуногих волков, а попался четвероногим…»
Волки все ближе. Остановились в шагах десяти. Оба одновременно потянули воздух, принюхались и вроде совещаться стали, что им дальше делать.
И как снова двинулись, тут я и говорю им громко и с обидой — только не смейтесь, Пинчуков! Вам бы тоже там не до смеху было:
— Господа волки! — говорю им, как равным. — Разве вам леса мало? И не стыдно пугать меня, и так замученного и испуганного? Идите своей дорогой, мало чести нападать на слабого странника! А ведь я, может быть, ваш родственник. Дальний, но всё же.
Боже мой — остановились волки! Будто поняли меня. Стоят и молчат. Я тоже молчу. Матёрый вздохнул, прямо как человек, и на подругу свою смотрит: что, мол, скажешь? А волчиха изящно повернулась ко мне хвостом и повела своего кавалера назад, в лес. Вы думаете, они меня поняли? Что это было?
— Сказать по чести, не знаю, — осторожно ответил Пинчуков. — Но ведь вы из крестьян и знаете, что волки летом не нападают. Да и зимой стараются обходить человека стороной. Ну, разве что сумасшедший среди волков попадётся. Или изголодавшийся до смерти. Или изверг — хуже человека.
— Никого в природе нет хуже человека, — возразил Волков.
Издалека снова донёсся очередной винтовочный залп.
— Слышите? — спросил Волков.
— Да как же — слышу…
— Освободители наши! — снова разгорелся Волков. — Кто им дал право? И чем они лучше большевиков, которые хватали невиновных людей в заложники и также бессудно расстреливали? Как меня? Как старушку Шнейдер?
— Дела, дела… — вздохнул Пинчуков.
— Не надоел я вам своей болтовнёй?
— Опять вы… Никакая это не болтовня! — возразил Пинчуков. — Да и как выговоришься, душе легче. Правда?
— Правда, — согласился Волков и задумался.
— С того случая, — продолжил он, — я стал я опасливее. Боялся открыто выходить в каждую деревню, Да и красные стали попадаться. Ночлега уже не просил — только хлеба. В один дом постучался, вдруг выскакивает старик с длинной седой бородой.
— Ты что, босяк, безобразничаешь?
— Странник я. Мне бы хлеба кусочек или сухаря.
— Хлеба? — закричал старик. — Сухаря? Пошёл вон со двора, морда большевистская!
— Я не большевик, — попытался возразить я, но он словно не слышал. Схватил вилы и бросился на меня.
Пришлось убегать. И от кого? От брата, можно сказать, по классу. Скажите мне честно, Пинчуков, похож я на большевика?
— По правде сказать, не знаю. Разные они. Вот говорят, что у них много офицеров служит, даже генералы немалым числом к ним перешли.
— Да уж слышал.
— И дворяне среди них попадаются. Вот Ленин, ихний главный разбойник, — дворянин. Я его папашу знавал в своё время, когда в Симбирске служил, — Ульянова Илью Николаевича. Хороший был человек, кстати, из нашего крестьянского брата. Его Государь Александр Александрович лично награждал, за труды в дворяне возвёл.
— За что же? — поинтересовался Волков. — На какой же ниве пахал отец главного разбойника?
— На народной. Школы новые открывал для крестьянских детей, училища. Можно сказать, свет нёс нам, тёмным. Добрый был человек, мягкий.
— А мы теперь из-за сынка страдаем, — усмехнулся Волков. — Вот ежели бы он своего отпрыска почаще розгами угощал, и жизнь бы так не повернулась.
— Как знать, как знать, — уклончиво заметил Пинчуков. — Всё в руце Божией.
— Тем временем, в природе стало холодать. Особенно по утрам, — продолжил Волков. — И бродить по лесам стало очень плохо. К тому же я с удивлением обнаружил, что почти не приблизился к Екатеринбургу. Хожу по кругу, попадаю в одни и те же деревни. В некоторых меня уже узнавали, уже без просьбы давали хлеб и приглашали за стол. Часто так было: кормят, угощают чаем и сахаром, а сами сахар не едят — бродяге оставляют, то есть мне.
— Вот давайте мы по этому поводу чайку! — предложил Пинчуков. — Маша! У тебя самовар, небось, застыл уже?
Вошла кухарка с заново раздутым самоваром.
— Вы такое говорите, барин! — обиделась она. — Чтобы у меня — да застыл?
— Ну, это я просто так спросил, на всякий случай, — словно оправдываясь, сказал Пинчуков. — Маша строгая у нас. Начальница. Я иногда её боюсь.
Кухарка дёрнула подбородком, выпрямилась и исчезла. Через несколько секунд появилась с серебряным подносом, на котором горой лежали кренделя, плюшки, сибирские шаньги, пирожки с вареньем, капустой, рыбой и творогом.
— Тёплый! — растроганно сказал Волков, беря пирожок. — А запах-то! Божественный! Совсем забыл о таких.
— Вот и пробуйте, ешьте, пока горячие, — сказала кухарка. — А не хватит, ещё принесу.
И принялась разливать чай.
Волков отставил в сторону опустевший стакан и продолжил.
— Так вот, когда я обнаружил, что хожу по кругу, я был почти в отчаянии. Сколько потеряно времени и сил, всё на одном месте топчусь. Уже потом я выяснил, что и не следовало спешить: пришёл бы в Екатеринбург неделей раньше, точно попал бы к красным. Так что не леший меня водил по кругу, а всё та же спасительная сила.
Изучил я ещё раз схему, которую мне дьякон начертил карандашом, и решил, что надо идти в деревню Усолье — там живёт знакомый дьякона крестьянин, кустарь. Он, быть может, выведет на нужный путь.
По дороге надо пройти в деревню Распадово, точнее, село — как обозначил дьякон. Значит, там церковь должна быть. Встречный крестьянин мне подсказал идти туда не Сибирским трактом — там сплошные красные разъезды и заставы. Нужно идти просекой.
— Не заблужусь?
— А вы, сударь, чаще назад оглядывайтесь, линия просеки хорошо видна.
Через пару вёрст просека упёрлась в дощатый забор. За ним — две крестьянских избёнки. Надо перелезать.
Тут слышу — колокольчики. Сбоку, из лесу, вышла крестьянская девушка в лиловом сарафане, выгоревшем на солнце, и в новых жёлтых лаптях. Она гнала двух черно-пёстрых коров, у каждой вымя разбухло: значит, на дойку.
Спрашиваю, как идти в Распадово, далеко ли. Она смотрит на меня, как на сумасшедшего.
— Так вот же, дядя, Распадово, перед вами.
— Но здесь только два дома. И церкви нет. Может, есть ещё какое-то Распадово?
— Нету другого. А следующая деревня — Усолье. Только через забор не лезьте, там калитка есть справа.
Вот так деревня! Хутора крупнее бывают. Вошёл в первую избу, в сенях сидит старик, тачает сапоги.
— Можно войти?
— Ишь, спросил, когда уже вошёл, — проворчал он. — Что скажешь?
— Позвольте попить.
Смотрит старик на меня. А я, надо сказать, совсем бродяга стал. Борода — дикая, длинная, отощал, весь в грязи. Да и насекомые замучили.
— Ишь, воды ему! — фыркнул старик. — Старуха, поди-ка сюда!
Зашла старая крестьянка.
— Видишь, какой гость пожаловал?
— Здравствуйте, — говорит хозяйка и поклонилась — мне, бродяге.
— Пить будто хочет. Налей ему молока, да пирожков дай и собери чего-нибудь в дорогу.
Когда я поел, старик спрашивает:
— Далеко собрался, сокол, и кто сам-то будешь?
— Так — прохожий. А иду к чехословакам.
— Вон оно… Прохожий. К чехословакам, значит… А ведь я тебя уже видел. В Больших Бабах. Знаешь такое село? Был там?
— Неделю назад был. Большие Бабы — помню…
— А знаешь, никто не верит, что ты из простых. Говорят люди, из фабрикантов или из поповского сословия. От кого скрываешься? Натворил что? Аль не купец, а каторжник беглый?
— Ничего не натворил, просто жить хочу. Скрываюсь от красных. И, сказал, иду к чехам. Говорят, они уже в Екатеринбурге.
— Где чехи, мы того не знаем, а красных вокруг — что сельдей в бочке. Их ты не обманешь, никогда не поверят, что ты низкого сословия. Как пить, расстреляют. А если кто тебе ночлег даст, того тоже расстреляют — для острастки. Какая теперь жизнь, такие и порядки.
— Знаю, — упавшим голосом сказал я. — Сейчас пойду, спаси вас Господь.
— Не торопись так сразу, — заявил старик. — Митька! Ступай сюда.
Со двора явился парень лет двадцати.
— Звал, тятя?
— Ну-ка, неси сюда, что у тебя там есть из одёжи. Помочь надо доброму человеку, нельзя ему в таком виде ходить вокруг.
Парень принёс поношенную, но ещё очень хорошую поддёвку, чисто выстиранные полосатые портки, к ним ношенные, но крепкие лапти и чистые онучи.
— Одевайся! — приказал мне хозяин.
Я запротестовал, но он шикнул на меня, и я, скрывая удовольствие, послушался.
— Свою одежонку свяжи в узел. Когда выйдешь к своим, снова наденешь.
— А как же ваш сын? — смутился я. — В чем ему ходить?
— Не твоя забота.
— Нет-нет! Вот пальто моё — очень ещё хорошее, английское, дорогое. Только почистить. И сапоги послужат.
Ни в какую — не берут. Тогда я сказал, что возвращаю подарки. Парень сильно смутился, потом несмело взял пальто.
— Ну, с Богом, ступай теперь.
Стали прощаться, как вдруг хозяйка говорит:
— А как же он через реку?
— Да, — согласился старик. — Мост какие-то разбойники пожгли — то ли красные, то ли белые, а то и шайка Спирьки Кривого: с каторги пришёл до срока, Керенский ваш его освободил.
— Я его переправлю, — сказала дочь хозяйская — та девушка, которая коров гнала и сейчас принесла после дойки два ведра парного молока.
Вывела она лошадь неосёдланную, взобралась на неё, сзади я — на круп лошадиный, и так перешли реку.
И двинулся я дальше, очень довольный. Поддёвка моя — на меху, лапти лёгкие, прочные, не протекают. И в холод, и в жару в них одинаково хорошо. За поясом у меня топор: сын хозяйский в последний момент его мне вручил, поскольку крестьянину без топора в лесу делать нечего.
Пришёл я в Усолье, где был приятель дьякона. Спросил, проведёт ли он меня к чехословакам.
— Ой, нет-нет! — замахал он руками. — И не просите. Раньше бы провёл, а сейчас никак. Везде красные заставы, разъезды.
Пошёл я тогда к церкви — заперта. Нашёл священника, прошу помочь пройти к чехам.
— Бога ради! — испугался священник. — Даже не говорите об этом. Мать, дай хлеба, а вы, пожалуйста, поторопитесь.
Тут послышался топот копыт. Попадья глянула в окно и обмерла:
— Господи помилуй! Красные — уже в деревне, скачут!
Священник страшно побледнел и схватился за сердце.
— Господи, что же делать, что же делать?.. — зашептал он и опустился без сил на лавку. И на меня смотрит, а у самого слёзы в глазах.
Ноги у меня, словно снежные, таять начали и исчезать. Но я сумел удержаться от слабости. Спрашиваю:
— Огородами можно пройти к лесу?
— Можно! — говорит священник. — Только незаметно, под заборами. Спаси вас Господь!
Крадучись под плетнями, я залёг и дождался, пока отряд красных проехал мимо. Они начали обыскивать дома — хорошо, что с того края деревни начали, а не с этого.
Выбрался я, вышел на дорогу и медленно, с трудом воздерживаясь, чтоб не побежать, двинулся к лесу.
Вдруг сзади — лошадиный топот. Оглянулся — трое верховых в военном, без погон, скачут.
— Стой! Стой! — кричат.
И тогда я задал стрекача. Бегу изо всех сил, а топот ближе. Потом выстрелы — пули над ухом свистят.
Я прыгнул с дороги на пашню, потом снова на дорогу, чтобы не дать им прицелиться. Неожиданно дорога кончилась, поперёк неё канава. Перелез через неё — снова стреляют, и снова, по счастью, мимо, а петлять я уже не могу. Нет сил. И дыхание кончилась.
Лес уже рядом, на сосне впереди вижу — белка по веткам прыгает. А топот вроде тише. И совсем стих.
Оглянулся — лошади у красных перед канавой упёрлись. Не хотят перескакивать. Всадники посовещались и повернули шагом обратно. Остановились возле дома священника, спешились, вошли. Скоро оттуда донеслись выстрелы…
Долго я сидел под сосной… Поднялся с трудом и, шатаясь, словно оглушённый, снова тронулся в путь.
Несколько дней я шёл на восток, стараясь держаться Сибирского тракта. Днём прятался в лесу, а с темнотой выходил на дорогу.
Еда кончилась. И когда уже был не в силах терпеть голод, ночью пробрался в деревню и постучал в избу, где ещё был огонь, где, значит, хозяева не спали.
Двор большой, хозяйство, видно, крепкое. В сенях хозяйка отрезает огромный кусок сала, а женщина городского вида отсчитывает ей деньги. Рюкзак у этой женщины доверху набит продовольствием.
Разговорились. Слово за слово, и я сказал, что пробиваюсь к чехам. Поколебавшись, женщина сказала, что она с мужем и братом тоже наладились в Екатеринбург, они уже неделю в пути. Я обрадовался.
— Возьмите меня с собой!
Женщина поколебалась. И согласилась.
Я представился, в двух словах сказал, кто я и откуда. Она назвала только своё имя — Елена.
Хозяин принёс большой круг деревенского сыра. Елена стала расплачиваться. Я решил: раз меня берут в компанию, надо участвовать. Были у меня десять рублей. Но Елена наотрез отказалась взять деньги.
— Ведь последние? — спросила.
— Последние, — признался я.
— Вот пусть у вас пока останутся. А там видно будет.
Мужчины ждали в лесу, за околицей. Конечно, они были очень недовольны моим появлением. Но когда я рассказал о себе, смягчились и согласились взять меня.
Мы пошли очень быстро и уверенно. Муж и брат Елены — Андрей и Владимир (фамилии я не решился спросить) — явно были офицеры, оба в военном, конечно, без погон и знаков различия, у обоих револьверы.
Шли всю ночь, делая короткие остановки. Когда начало светать, на землю упал туман, очень густой, держался по колено. Нам он не мешал, так как мы шли по твёрдой дороге. А когда туман сошёл, увидели перед собой небольшую реку. Через неё узкий мостик из трёх брёвен переброшен. Андрей резко остановился:
— Стоять! Тихо.
Он напряжённо всматривался вперёд. Потянул носом воздух и посмотрел на Владимира. Тот тоже принюхался.
— Махорка, — шёпотом сказал Андрей. — Деревня?
— Костёр на берегу, — ответил Владимир.
— В лес! — скомандовал Андрей.
Мы расположились за густым кустарником. Увидеть нас с дороги было невозможно.
Я спросил Андрея, почему он так встревожился.
— Костёр на нашем берегу, а берег крутой. Кто там может находиться?
— А рыбаки?
— Может быть, и рыбаки. Разведать надо. И вот что: если вдруг окажутся красные и будет погоня, бежать будем все в разные стороны.
— Как же нам потом собраться вместе? — испугался я.
— Как получится. Однако, цель у нас одна, дорога тоже, направление общее. На удачу.
— Лошадь! — вдруг шепнул Владимир.
Я ничего не услышал, но скоро и до моего слуха дошёл стук копыт.
Быстрым шагом в сторону моста шёл чалый иноходец, на нём без седла крестьянин. Когда он приблизился, меня словно кипятком ошпарили. Это был мужик, у которого Елена покупала еду.
Он поравнялся с нами и вдруг придержал лошадь. Остановился и внимательно стал разглядывать кусты.
— Видит нас? — шёпотом спросил Владимир.
— Молчать! — прошипел Андрей. — Не дышать!
Мужик постоял ещё немного, потом тронул бок иноходца каблуком сапога и двинулся дальше. У моста он спустился под крутой берег и исчез из поля зрения.
Вскоре послышались голоса. С берега наверх поднялись трое верховых в солдатском, без погон.
Одного из них, коренастого солдата на кауром жеребце, я узнал тот час: он и ещё двое давеча гнались за мной и расстреляли священника, отказавшего мне в помощи. До сих пор не могу себя простить за то, что навлёк на него беду…
Остановившись на пригорке, они о чем-то тихо говорили с крестьянином.
— Вот ваши рыбаки, — шепнул мне Владимир.
Наконец, всадники и крестьянин попрощались. Они медленно спустились по берегу к мосту, шагом поднялись на противоположный берег и скрылись за пригорком. Мужик вернулся своей дорогой. Теперь он около нас не останавливался.
Мы просидели в своём убежище, наверное, около часа. Наконец, Андрей скомандовал:
— Вперёд!
Но едва мы сделали первые шаги по узкому бревенчатому мосту, как из-за пригорка другого берега блеснули несколько огоньков и раздались выстрелы. Засада! Они нас ждали.
Я увидел, как пуля пробила голову Елены и вышла через затылок, и кровь брызнула. Женщина упала сразу, во весь рост, как топором подрубили. Рядом с ней рухнул Андрей. В грудь Владимира попали две пули. Одна, я понял, была моя, потому что в момент выстрела я спрятался за спину Владимира, и пуля застряла в нём. Вместе со всеми я упал и замер, притворяясь мёртвым.
Из-за пригорка показались красные — пешие, с винтовками наизготовку. Выждали несколько минут и медленно подошли к нам.
Остановились около Андрея. Один вытащил из кармана шведскую спичку, чиркнул о голенище сапога, зажёг и поднёс огонь Андрею прямо в глаз. Веко у него вздрогнуло. И сразу в него всадили три пули.
Большевики передёрнули затворы, подошли к Елене. И ей ткнули горящую спичку в глаз. Она не шелохнулась. То же и Владимиру.
Красный направился ко мне. Подошёл, и, пока он зажигал новую спичку, я выхватил из-за пояса топор и всадил ему в голову между глаз. Тут же перевернулся на мосту и упал в воду.
Река оказалась совсем неглубокая и по-осеннему чистая. Одежда сразу меня потянула на дно. Плыть под водой я не мог. И потому просто пошёл ко дну, отгребая обеими руками. Совсем близко от меня, мелькали пули, пронизывая воду и оставляя за собой белые линии следов.
Должен вам сказать, дорогой Пинчуков, вообще-то, я хороший пловец. Ещё со своего деревенского детства. И мог держаться и плыть под водой довольно долго — три и даже четыре минуты. Но сейчас я слишком быстро истратил дыхание. И когда уже потемнело в глазах, я осторожно всплыл, огляделся, не показывая над водой всего лица. Никого позади не увидел. Тут река делала поворот и скрыла меня от красных.
Выбрался я на берег и долго шёл по лесу, с трудом продираясь сквозь чащобу. Наконец, вышел на поляну, залитую солнцем, остановился, разделся. Развесил всё, вплоть до исподнего, на ветках широкой ёлки, и когда одежда подсохла и стало вечереть, оделся в сухое и снова двинулся в путь.
Куда иду и на что выйду, я сначала себе не представлял. Зато ночью определился по Полярной звезде и двинулся курсом на восток.
Сначала шёл по лесу напролом, потом отыскалась тропинка. Постепенно она становилась шире и твёрже под ногами, пока не превратилась в грунтовую дорогу, которая привела меня снова на Сибирский тракт.
Вскоре я вышел к большому селу. Заходить не стал, решил дождаться утра и осмотреться.
Утро наступило скоро. На большую улицу стали выходить люди. Две крестьянские девушки с берестяными лукошками в руках, двинулись в лес — прямо в мою сторону. Они шли, весело переговариваясь и смеясь, как вдруг испуганно воскликнули, наткнувшись на меня.
— Не бойтесь милые, — сказал я как можно убедительнее. — Скажите мне, кто в вашем селе? Красные есть?
— Какие там красные! Уже три дня как нет.
— А белые?
— Белых тоже нет, но есть чехи.
— Боже милостивый! — заплакал я. — Наконец-то!
— Ты чего, дядя? Что с тобой? — участливо спросили они.
Не успел я ответить, как откуда-то донёсся мощный рёв.
— Что это? — обескуражено спросил я, не веря своему счастью.
— Да ты чего-сь, дядя, чугунку никогда не видел?
Рёв паровоза ещё раз ворвался в деревенскую тишину.
— Паровоз гудит, а стука вагонов не слышно…
— Так станция, чай! Ярцево. Там депо и свои паровозы.
— Далеко?
— В нашем селе и станция. Ещё при царе Николке открыли.
Не попрощавшись с девушками, я скатился с пригорка и побежал на паровозный рёв.
Да, вот она — станция. И платформа. Дом станционного начальства, буфет рядом. Я не верил своим глазам: не сон передо мной, а действительная жизнь. Уже отчаялся к ней вернуться.
Поезда на станции не было, а паровоз оказался манёвровый — «кукушка», без тендера.
Платформа была полна народу — крестьяне, в основном, и солдат много. И все подряд щёлкают семечки подсолнуха — платформа усыпана шелухой, будто серым ковром.
В буфете мне дали на пять рублей тарелку жидкого супа и кусочек хлеба. Я набросился на еду с такой жадностью, что смутился сосед по столику и отдал мне свой хлеб — изрядный кусок ситного.
— Далеко ли собрался, старик? — спросил сосед.
Я сначала не понял и даже оглянулся — кого он спрашивает. А потом дошло — да, конечно. Старик с длинной полуседой бородой и в истерзанной одежде, в лаптях — это я, кто же ещё?
— Да вот в Екатеринбург собираюсь. А что, билет, чай, трудно получить?
— Какой там билет? — засмеялся сосед. — Ты в своей деревне и не слышал, что давно никаких билетов нет. Получить надо разрешение, особое, и отправляйся, куда пожелаешь.
— И как можно его получить? У кого?
— У начальника станции. Да только никакого начальника давно здесь нет.
— И что же теперь?
— Теперь разрешения чехи выдают. Но не всякому.
Пошёл я к начальнику станции.
В самом деле, за столом начальника сидел толстый австрийский военный с нашивкой из красной и белой ленточек на рукаве и с тремя нашивками на погонах. Он пил чай из самовара, и откусывал от огромного ломтя белого хлеба, на котором был слой масла толщиной в два пальца. Я не знал, как обратиться к нему и потому сказал как можно любезнее:
— Доброго здоровья вам, уважаемый господин офицер, и приятного аппетита.
Толстяк глянул на меня круглым глазом и молча продолжал жевать.
— Покорнейше прошу… — опять начал я.
Глаз снова повернулся ко мне.
— Не офицер, мрачно буркнул он. — Четарж.
— Покорнейше прошу, пан четарж… — снова начал я. — Мне бы проездной документ. До Екатеринбурга.
Теперь он посмотрел на меня обеими глазами и сказал равнодушно:
— Пошёль вон.
— Но позвольте…
— Пошёль вон! — гаркнул четарж. — Пулью в лоб хочь, кольеньо хамски?
Такого в свой адрес я ещё не слышал. Хорошо, что был без топора, иначе ответил бы мерзавцу крепко.
«Как же так, — думал я, шагая по перрону. — Мы ждали чехов, как родных, как братьев-освободителей. Пришёл к нему простой русский человек, крестьянин, не богач, с естественной просьбой. За что же он меня оскорбил? За то, что увидел перед собой простолюдина? Но из таких вся Россия состоит — скромных и беззащитных. А сам — аристократ, что ли? Барин чешский?»
Крестьянский парень, подпиравший вокзальный столб, встретился со мной взглядом и сочувственно:
— И тебя, дядя, выгнали?
Я развёл руками:
— Даже не понимаю, почему. Как же теперь? Ехать-то надо.
— Всем надо. Я тут уже два дня сижу. Вчера чех меня выгнал, сегодня тоже выгнал…
— А поезда ходят?
— Вчера было два.
— А сегодня?
— Все ждут. У одних есть бумажка от чеха. Другие на крышу без бумажки прут. Да туда ещё попробуй влезть. Кошка не поместится.
Походил я ещё немного, собрался с духом и снова зашёл к чеху.
Увидев меня, он выпучил глаза, угрожающе поднялся:
— Ещё что, смерд смердячий?
Вместо ответа я вытащил оставшуюся пятирублёвку и показал ему. Толстым пальцем чех поманил меня ближе, взял деньги, рассмотрел. Потом неожиданно скомкал кредитку и швырнул мне в лицо.
Я закрыл на секунду глаза и замер, чтобы удержаться и не влепить пощёчину мерзавцу. Быстро снял с исхудавшего пальца золотое обручальное кольцо и протянул ему.
Четарж внимательно рассмотрел кольцо — там было клеймо пробирной палаты. Попробовал на зуб и усмехнулся, поводя в стороны тараканьими усами.
И дал мне бумажку, на которой ничего не было, только штемпельная печать: «Разрешается».
— И всё? — спросил я.
— А чьто ещё желаешь? Закордонный паспорт в Америку?
Я повернулся и пошёл. Но у самой двери чех меня остановил.
— Глюпый ты, дурак — настоящий русский мужьик, — сказал он. — Был бы умный, так поехаль без бумажки.
Я и поехал. Вечером пришёл поезд — переполненный, и на крыше тоже не было мест. Но мне удалось втиснуться — помог забраться наверх тот самый деревенский парень. Помог, а сам залезть уже не сумел. Остался. Из-за меня.
— Вот так-то, Пинчуков. Весёлая история?
Огромные кабинетные часы в виде Спасской башни московского Кремля пробили четыре раза.
— Пойдёмте-ка спать, Алексей Андреевич. Ваша постель давно уже ждёт-с.
— И простыни? — улыбнулся Волков.
— Как же без них?
— Белые, глаженые, накрахмаленные?
— Других не держим-с.
— Невероятно… Думал, уже не будет нормальной жизни.
— Будет, — заявил Пинчуков. — Дождёмся!
— А знаете, милый Пинчуков, вся эта одиссея моя лучше всего мне напоминает — только не удивляйтесь! — баню.
— Какую баню? Не понял-с…
— Нашу, русскую баню. С раскалёнными камнями и ледяной прорубью. Вы подумайте: сидишь в парной — жара, натурально геена огненная, волосы трещат, сейчас заживо изжаришься! Прыгаешь в прорубь — слава Богу, пронесло, жив остался, не сгорел. После сидишь в сенях или, вот как у вас, и понимаешь: жизнь-то — какая сладкая она! Ничего нет вокруг важного, ценного. И на тебе — ничего, одна простыня. Крахмальная. И жизнь. Она в тебе. И ничего не нужно больше. Ничего!
— Да, сладкая… Кабы не война да революция… — вздохнул Пинчуков. — Всё же лучшего хочется, а будет ли?
— Это уж как кому… Кому-нибудь да будет.
4. ГЕНЕРАЛ РАДОЛА ГАЙДА И «АНАБАЗИС» ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ЛЕГИОНА

УТРОМ, в семь часов, Пинчуков начистил асидолом пуговицы мундира и ушёл, сверкая грудью, в комендатуру выяснять насчёт дальнейшей службы.
А Чемодуров и Волков проспали до полудня. Не торопясь, пообедали, снова часик поспали, потом попили чаю с блинами и мёдом и решили пройтись по городу. Блаженное чувство освобождения и свежей, новенькой радости, как после затяжной и опасной болезни, гнало на улицу.
— Нам ведь куда-то в присутствие надо? — вдруг напомнил Чемодуров.
— Только не сегодня! — решительно заявил Волков. — Сегодня праздник — истинно праздник свободы. Ни службы, ни тюрьмы, ни бегства. Представьте себе, друг мой Терентий Иванович, я только сейчас, вот в настоящую минуту осознал, что такое свобода! — воскликнул Волков, и глаза у него заблестели. — За всю мою жизнь — первый по-настоящему свободный день! А у вас?
— Очень уж я уставши, Алексей Андреевич, — поёжился Чемодуров. — Ничего не хочу. Берите себе эту свободу, сколько унесёте. Мне бы покой, тишину и в Тамбовскую. Никакая свобода мне покоя не даст. Шуму от неё больно много.
— Какой вы, однако, стали философ! — удивился Волков. — Ну, пойдёмте же, не сидеть нам здесь камнем.
День был солнечный, небо синее и прозрачно-чистое. Холодный, от реки, ветер продувал город насквозь, однако не раздражал. Бодрил, действительно, по-праздничному. Волновал, словно обещал, что всё лучшее — впереди и очень скоро, уже в этот день.
Не зря Чемодуров заметил насчёт свободы и шума. Сегодня город шумел — был гораздо оживлённее, чем вчера и даже ещё во дни большевиков. На столбах и везде над воротами домов развевались и трещали на ветру праздничные флаги — трёхцветные дореволюционные, красные революционные (их потребовали вывесить местные эсеры), бело-зелёные сепаратистские сибирские, а также доселе неизвестные красно-белые, похожие на флаг Австро-Венгрии, но только без имперских корон, вместо них сложная эмблема посередине. Быстро сшили.
Носились по улицам туда и обратно моторы с открытым верхом, шоффэры в кожаных черных куртках и в очках-консервах куда-то мрачно-внимательно везли, в основном, офицеров — русских армейских и казачьих, а также австрийских без знаков принадлежности к государству, но с красно-белыми ленточками на фуражках и на правых рукавах. Чехословацкие легионеры — так они теперь себя отличают.
Посередине Вознесенского проспекта маршировал, ровно печатая шаг, отряд юнкеров, на плечах — лёгкие японские винтовки «арисака». По тротуару шёл их командир, прапорщик, и звонко командовал:
— Левой! Левой! Гляди веселей!
Волков полагал, что его отныне трудно чем-либо удивить. И все же странное чувство недоумения и беспокойства возникло у него при взгляде на лица юнкеров. Детские, свежие, округлые, без чётко выступающих лицевых косточек, которые проступят скоро — в очень близкой юности. Но глаза уже не детские, с жёстким прищуром. Каждый юнкер смотрит уже на всех вокруг сквозь прицел винтовки. И готов вполне по-взрослому убивать, на кого укажет командир. И в то же время — дети, мальчишки. Им обручи гонять с палками по улицам или в казаки-разбойники играть, а не живых людей убивать. Пусть даже большевиков с эсерами. Первое же убийство, даже по приказу, значит, законное, изуродует будущую жизнь, но прежде раздавит душу.
Проскакал на рысях казачий полуэскадрон — алые лампасы Сибирского казачьего войска. Всадники, как один, молодцы, глядят орлами. Чубы курчавятся из-под черных лаковых козырьков круглых фуражек. По царскому уставу — нарушение дисциплины, но царя нет. Так что и казачкам можно немного свободы — чубы повыпускать. Зато лошади у них все сытые, начищенные, блестят зеркально на солнце, даже глаза слепят. Жёлто-коричневые драгунские седла не сношены — жёсткие, звонко скрипят. Но и исконно казачьи, на подушках, тоже у многих имеются. Подковы у лошадей тоже новенькие, на высоких шипах — звонко гремят по мостовой и выбивают из булыжника жёлтые и белые искры. Среди всадников не только светлые и круглоглазые русские лица. Половина явно из коренных, из бурятов, — узкоглазые, смуглые, чубы черные и гладкие. Но тоже — орлы, тоже глядят молодцами. Разве против таких устоит даже товарищ Троцкий с его латышами и китайцами?

За казаками тоже посередине мостовой браво шагает, хоть не так чётко, как юнкера, полурота бывших австрийских солдат — теперь они чехословаки, воины бравого чехословацкого легиона.
Чехословацкие легионеры обуты в самые лучшие в мире русские офицерские сапоги — высокие, яловые. Прочные, мягкие и лёгкие. На многих шпоры — дзинь-дзинь! Военная форма, вражеская ещё недавно, сегодня радует. Вместо кайзеровских кокард на фуражках уже знакомые красно-белые ленточки. Такие же и на тусклых жёлто-серых медных касках с круглым верхом, вроде парикмахерских лоханок для бритья. И на рукавах тоже двойные ленточки — пришиты внутри треугольников, где указаны род войск и номера полков. Солдатики славные, хоть держатся не по уставу — переговариваются, хохочут, даже курят в строю, харкают и плюют на мостовую. Некоторые открыто, не стесняясь, несут плоские фляжки, и время от времени на ходу к ним прикладываются.
Публика с тротуаров радостно и чуть припадочно приветствует чехословаков. Дамы кричат что-то тонко и приятно и в восторге бросают прямо на головы легионерам цветы. Легионеры хохочут, кричат дамам в ответ что-то солдатское и, похоже, не очень приличное, потому как сами тут же гогочут над своими шутками. Дамы, кто поближе, краснеют и, давясь, хихикают. Наверное, улавливают все-таки смысл славянского языка, хоть и не очень близкого.
Но всё это мелочи. Пусть чехословаки измяты, ненаглажены, пуговицы на гимнастёрках болтаются или вообще оторваны, а сами солдаты небритые, много подвыпивших и даже пьяных. И все же — вроде как свои. Уже почти родные. Почему бы им не выпить ради такого дня? Пусть кто угодно шагает по Екатеринбургу, хоть дети Сатаны, только бы не большевики!
Поэтому и юные барышни, и дамы постарше, даже те, кто с кавалерами, не обижаются, а улыбаются в ответ радостно, и смеются, и тоненько выкрикивают «ура!» Одна гимназисточка забросала легионеров фиалками, вынимая из своего букетика по одному цветку. Легионеры ловко хватали фиалки — ни одна на землю не упала. Кто совал цветок себе за ухо, кто под погон, кто в зубы. А строевая дисциплина — смешной вопрос: такая она нынче у славных легионеров (а название-то какое мощное, героическое, культурное — Древний Рим! Да!).
Штабний шикователь даёт команду: легионеры дружно, с воодушевлением запевают.
— Ах, ах! Как трогательно, как волнительно! — щебечут дамы и подносят к глазам носовые платочки. — Какие нежные патриоты! Не то что наши.
Но вот отряд русских солдат, шагающий сразу за легионерами, Волкова не обрадовал. Идут более-менее стройно, но лихости и открытой, смелой решимости, любви к своей армии, гордости за неё что-то в них не видать. А когда Волков рассмотрел, во что одеты и обуты воины только что рождённой Народной Сибирской армии, и вовсе загрустил. Дай Бог, только треть в сапогах. Остальные кто как — в войлочных не по сезону ботах, в лаптях и даже в резиновых галошах, привязанных к ногам верёвками. Среди гимнастёрок, сильно ношеных, с фронта, и выгоревших добела, крестьянские сатиновые рубахи в белый горошек, армяки, кацавейки какие-то бабьи. И каждый второй без винтовки. Безоружные несут на плечах белые, ещё влажные, сосновые палки — точно, как в начале войны с германцем, когда отцы-командиры приказывали солдатам добывать винтовки у врага. Каждого третьего бросали в бой под кинжальный огонь врага безоружным.
Позже царь стал покупать за русское золото оружие у англичан и американцев, чтобы с этим, очень недешёвым оружием русские воевали и погибали за прибыли тех же оружейных продавцов.
— Армия? В самом деле, это идёт армия? — удивлённо спрашивал Чемодуров, склоняя голову, словно ворон на заборе. — Белая? Наша? Или пленные большевики? — и сам себе отвечал, уверенный. — Большевики пленные, кто ещё.
— Пленных никто не вооружает. Даже палками, — резонно заметил Волков. — И на смотр-парады не выводит. Новобранцы, и слепому видно. Но ещё не вечер: союзники оденут и обуют и вооружат белую армию. И мясных консервов подвезут.
— Оденут? — переспросил Чемодуров. — Всех оденут? На всех хватит?
— Гляньте-ка ещё раз, драгоценный Терентий Иванович, на мои замечательные галифе, — неожиданно предложил Волков. — Французские, кстати.
— Исключительно превосходные, — согласился Чемодуров. — Антанта, стало быть, привезла из-за моря.
— Купил я их вчера на барахолке. Помните?
— Купили. И что?
— А то, что штаны, безусловно, краденые. Следовательно, имеется что украсть, и вору не страшно. Значит, таких складов немало. Так что наша армия без портков не останется.
Чемодуров долго размышлял над ответом, даже пощупал на ходу суконную выпирающую вбок складку замечательных кавалерийских брюк с кожаным задом, носящих имя генерала Галифе — самого кровавого усмирителя Парижской коммуны. Но сказать ничего не успел, потому что Волков неожиданно остановился у витрины фотопавильона.
Шустрый фотограф успел выставить на продажу карточки нового начальства. Скользнув взглядом по большим фото командующего сводными войсками полковника Войцеховского и военного коменданта города полковника Сабельникова, Волков остановился на портрете типичного приказчика из галантерейной лавки или, скорее, провинциального парикмахера из тех, кто не скрывает большого и ревнивого уважения к себе самому. Волосы сильно прилизаны, похоже, яичным белком или деревянным маслом, которое для того же используют церковные дьячки. Усишки коротенькие, узкие — новомодные, по-американски. Глаза круглые, стеклянные — вот-вот выскочат.
Самое интересное, на парикмахере — мундир русского генерала. Подпись под фотокарточкой сообщала: «Его превосходительство генерал Радола Гайда, командир чехословацкого легиона, спаситель Сибири и России».
Рядом большая карточка (матовая, в благородном коричневом тоне) круглолицего, сытого и довольного, как кот, полковника. Усы тоже модные, но по-иному — квадратной нашлёпкой. Грудь и живот до самого низа сплошь в орденах и медалях, еле помещаются. Волков насчитал семь огромных, как чайные блюдца, восьмиконечных звёзд незнакомых орденов и семь крестов и медалей. И ещё поперёк груди — орденская муаровая лента, похожая на царскую «Святую Анну» или «Андрея Первозванного». Цвет не отгадать — пурпурный Анненский или голубой Андреевский. Подписано: «Полковник Ян Сыровой, заместитель командующего чехословацкого легиона».

У полковника, как у известного пирата капитана Кидда, имелся только левый глаз, а пустой правый закрыт черным кружком на шнурке. Фотограф — явно малый опытный и сфотографировал чехословацкого пирата так, что повязку на глазу сразу не разглядеть.
Рядом с портретом полковника висела почему-то одна пустая рамка. Но с подписью: «Капитан Йозеф Зайчек, начальник контрразведки чехословацкого легиона». Похоже, карточку поначалу выставили, а потом срочно извлекли, а надпись на паспарту осталась.
— Конечно, — тоном бывалого произнёс Волков. — Коменданта обыватель должен знать. А вот физиономию начальника контрразведки предъявлять всем подряд, конечно, не следует. Как вы считаете, дорогой Терентий Иванович?
— Считаю… Считаю, как и вы. Вы на военной службе побывали, всё знаете, а мне вот не пришлось.
Словно в подтверждение слов Волкова, чёрная занавеска фотовитрины внутри отодвинулась, показалась белая женская рука с обручальным кольцом и цапнула пустую рамку. Занавеска стала на место.
Совсем рядом, прямо в уши заревел мощный мотор. Мимо проехал огромный, как буйвол, десятиместный паккард. На втором диване, за водителем, словно трефовый валет, сиял тот самый спаситель с витрины. На нем был тот же генеральский мундир, но теперь с аксельбантами царского флигель-адъютанта. В правом глазу генерала Гайды сверкал монокль, отбрасывая солнечный зайчик.
— Смотрите-ка, — удивился Чемодуров. — Монарха у нас уже больше года как нет, а придворный чин — вот он. Восстановили, значит. Интересные времена наступают, в самом деле. Может, и Государя вернут, когда свободой наиграются. А?
Волков не ответил. Он с интересом смотрел, как за автомобилем, в голубом чаду, лёгкой рысью следовала шестёрка сопровождения — всадники в необычной форме: ярко-красные атласные шаровары, высокие русские сапоги со шпорами, черные кавказские черкески с серебряными газырями. На головах белые мохнатые бараньи шапки украшены зелено-черными петушиными перьями. На черных рукавах всадников Волков сумел разглядеть алые буквы кириллицей: «БНБИГГ».
— Что же это за войска? — спросил озадаченно. — Клоуны какие-то.
Чемодуров качнул головой.
— Туземная дивизия, однако! — внушительно поправил он. — Дикая, из кавказцев. Которой его высочество Михаил Александрович был начальником.
— А вот и ошибаетесь, господа, — послышался рядом чей-то голос.
Господин с небольшой ухоженной бородкой, в потёртом, но аккуратном сюртуке, в котелке, с докторским саквояжем в руке, усмехаясь, тоже глядел вслед кавалькады.
— Кто же они? — спросил Волков.
Лицо господина показалось ему знакомым.
— Преторианцы. Самые что ни есть. Личная гвардия.
— У генерала Гайды — своя гвардия? — удивился Волков. — Как у главы государства? Так он, стало быть, президент Чехословакии? Или Папа Римский?
— Президент у них уже есть, союзники назначили.
— Простите, сударь, — сказал Волков, чуть поклонившись. — Нам не приходилось с вами раньше встречаться?
Сударь ответить не успел — к нему с воплем бросился на шею Чемодуров.
— Владимир Николаевич! Владимир Николаевич, отец родной!
— О, Терентий Иванович! — произнёс господин, ловко отстраняясь от объятия. — Как же хорошо, что вы живы! Не узнал вас сразу, простите. И вас тоже не сразу, — сказал он Волкову, приподнимая котелок. — Ведь Алексей Андреевич, верно? Как нас всех жизнь меняет!..
Теперь и Волков вспомнил. Перед ними был доктор Деревенко, второй после Боткина лейб-лекарь царской семьи.
При большевиках он пользовался в Екатеринбурге удивительной свободой. Чекисты пропускали его в ипатьевский особняк в любое время и без ограничений. Доктор приносил письма Романовым и забирал письма от них, рассказывал новости, лечил заболевших, даже среди охранников. Сумел добиться разрешения, чтобы Романовым доставляли продукты монахини из хозяйства местного женского монастыря. Подозревали, что доктор Деревенко стал агентом чрезвычайки. Но доказательств тому не было. Да никто их и не искал.
— Наслышан, наслышан о вашем мужестве, — сказал доктор Волкову. — Все вами восхищаются. И я — первый.
— Да не так уж… — смутился Волков. — Просто немного везения… А как вы? И что нас всех ждёт впереди, как вы думаете?
— Так ведь в двух словах не скажешь… Пройдёмся? Вы, собственно, куда-то определённо направляетесь?
— Просто гуляем с Терентием Ивановичем, отдыхаем. Никаких дел, никакой службы. Счастье-то!
И Волков широко развёл руками, словно хотел обнять и доктора Деревенко, и Чемодурова, и солнце, и синее небо, и холодный осенний ветер, и собственную тень.
— Мне в комендатуру, — сказал Деревенко. — Полагаю, вам тоже надо бы туда. Да и всё равно вызовут.
— Безусловно, с новой властью следует познакомиться. А почему вы считаете, что меня там ждут?
— Ждут всех, кто имел отношение к Романовым. При комендатуре создана следственная комиссия: расследовать убийство царской семьи. Следователя официального пока нет, но любители уже шевелятся, ищут, самостоятельно допрашивают свидетелей, а права такого не имеют. Вот я как раз иду по их вызову, уже в третий раз за последние два дня.
— Зачем вы такое говорите, Владимир Николаевич? — неожиданно воскликнул дрожащим голосом, и с близкими слезами, Чемодуров. — Неправда же всё! Кого там ещё убивали? Уже который день клеветы слушаю… Жив государь на самом деле! И государыня тоже здорова, и девочки, и цесаревич.
— Вам-то откуда такое известно? — удивился Деревенко.
— От надёжных, очень надёжных людей — от военных, от офицеров. А ведь вы должны знать, кто такие страсти говорит и зачем клеветы разносит!
Доктор Деревенко коротко глянул на Волкова. Тот слегка пожал плечами.
— Для какой же такой цели мне разносить клеветы, дорогой Терентий Иванович? — с упрёком спросил Деревенко.
— Так ведь и младенцу понятно, зачем! Только вы один будто не понимаете. Вот и Алексей Андреевич всё понимает, а вам-то невдомёк.
— Но, может быть, вы мне разъясните? Не сочтите за труд.
— Такое нонче про расстрел говорят те, кто больше смерти боится возвращения государя на трон. Вот они и пустились во все тяжкие, потому что знают: за все их злодейства придётся ответить перед Государем Императором Николаем Александровичем лично. И, сделайте милость, не говорите мне про следователей да со свидетелями! Не ходите вы к ним. И вы, Алексей Андреевич, тоже не ходите, не помогайте неправедному делу. Я вот не пойду. Даже если снова в тюрьму засадят и снова расстреляют.
— А вот здесь позвольте не согласиться с вами, дорогой Терентий Иванович! — неожиданно возразил Волков — а ведь Чемодуров считал его своим союзником! — Именно потому, чтобы не распространялись клеветы, нам нужно участвовать в следствии. Надо рассказать все, что знаем, а дальше правда дорогу найдёт.
— Найдёт? — вскричал Чемодуров. — У этих, кто Государя свергал, правда? У его генералов, офицеров, у сановников, у великих князей, у клятвопреступников церковных правду искать? Они первые на всё пойдут, на любое смертоубийство и обман, лишь бы трон не восстанавливать. А России без трона не быть. Вы, Владимир Николаевич, уж не обессудьте, но про вас всегда при дворе говорили, что вы либерал и скрытый революционер. Да! Так и говорили, только Государь не верил слухам о вас. И Государыня тоже. И я не верил. А теперь могу и поверить. Очень даже могу! — пригрозил Чемодуров и отвернулся.
Доктор Деревенко озабоченно покачал головой и произнес спокойно и даже ласково — профессиональным тоном психиатра:
— Видите ли, Терентий Иванович… Приказ о назначении расследовательской группы издал комендант подполковник Сабельников Николай Сергеевич. Боевой офицер, фронтовик, в революциях не участвовал, против монарха не бунтовал. Начальником группы — капитан Малиновский Дмитрий Аполлонович, тоже достойный офицер, верный монарху. Революцию февральскую он не признал, и Временному правительству присягать отказался. Оба уважаемые люди.
— Всё едино, — угрюмо заявил старик. — Никому не верю.
Неожиданно рассердился Волков.
— Да вы хоть понимаете, Терентий Иванович, в какое дурацкое положение вы себя сами затолкали? Лично я вам теперь не завидую и даже беспокоюсь за вашу дальнейшую судьбу, а может, и за свободу.
— Ась? Что у вас такое есть против меня? — забеспокоился Чемодуров.
— Если вы не доверяете белым, значит, доверяете красным, — заявил Волков. — Иначе быть не может. И непременно найдутся такие, кто решит, что вы у красных в услужении были. А может, и остались. Им, шептунам, теперь совсем станет понятно, почему большевики вас не расстреляли. Чего ж своего-то шпиона расстреливать?
— Кто шпион? Я красный шпион? — в ужасе вскричал Чемодуров.
— Никто из разумных людей на самом деле так о вас не думает! — успокоил старика Деревенко. — Алексей Андреевич только предполагает чужие мнения и больше ничего. Но никому из нас не можно уклоняться от своего долга. Тем более что власть — любая! — никогда никого не просит. Она только приказывает. А за неповиновение карает. Особенно, в военное время.
— Ну, разве можно так про меня подумать? — растерянно бормотал Чемодуров. — Так что же… Придётся, видно, пойти… Только вы там от меня не отходите. Вдруг скажу не то или забуду…
— Не волнуйтесь, никто вас не оставит.
Их путь в комендатуру шёл через железнодорожную станцию. Уже издалека было видно, что там кипит большая и слаженная работа. На путях стояли четыре товарных эшелона. С полсотни легионеров, словно стая гигантских муравьёв в серо-зелёных мундирах, — чётко, без разговоров и лишних команд, без перекуров — загружали пустые вагоны. Теплушки принимали в своё чрево мебель гарнитурами — стильную, современную, и антикварную, бронзированную — «буль» и «ампир». Тащили сюда серо-зелёные муравьи также столы по отдельности — обеденные, кухонные, канцелярские. Волокли кожаную мебель — диваны, кресла, а также дешёвые венские стулья, табуретки и даже крестьянские лавки. Несли связками меха соболей, бобров, песцов, белок, лосиные и оленьи шкуры. Грузили ткани штуками: сукно, ситец, сатин, шерсть, диагональ, полотно, габардин, лён, шёлк, бумазею, даже тяжёлые рулоны очень дорогого чёрного, синего и пурпурного бархата. Аккуратно и бережно закатывали на брёвнах и размещали в теплушках вдоль стен и там закрепляли токарные и фрезерные станки, ящики с медными, чугунными и железными чушками. Катили зелёные и белые металлические бочки с керосином и бензином. Укладывали разобранные по частям мотоциклы, автомобили — в разборе пустые кузова, моторы, колёса и шасси, целиком велосипеды и зачем-то старые рессорные кареты с гербами на лаковых поцарапанных дверцах с выбитыми стёклами. Паковали стеклянную, фарфоровую и даже хрустальную посуду в деревянные ящики, набивая их соломой. Горшками несли фикусы, герань, кактусы…
— Вот настоящие работники! — восхитился Волков. — Красота! Даже просто наблюдать за ними — удовольствие. Когда же русский человек научится работать нормально, по-европейски красиво и с умом? Да эти легионеры, кабы взялись, самому Хеопсу пирамиду за неделю спроворили бы! Как вы считаете, Терентий Иванович?
Деревенко хмыкнул в бороду, а Чемодуров внимательно задумался. Потом поднял глаза на Волкова:
— А сей… Сей господин Хеопсов — он по какому ведомству числился?
— По какому ведомству? — хохотнул Волков. — Да по фараонскому — по какому ещё! Не знали?
— По фараонской… По охранительной, значит, части. Стало быть, это Департамент полиции. Слыхал, как же. У Столыпина такой служил, когда Пётр Аркадьевич ещё министром внутренних дел трудился.
— Потрясающе! — воскликнул Волков. — Я и не подозревал, что Хеопс непосредственно Столыпину подчинялся. И жалованье у него получал. Какой же вы, Терентий Иванович, у нас драгоценный кладезь знаний! Вот так, — обратился он к Деревенко. — Живёшь рядом с человеком, с давним и хорошим сослуживцем, многие годы, каждый день его видишь. И не подозреваешь, какая выдающаяся персона подле тебя!
— Ну, уж нет, — смутился Чемодуров. — Вы, дорогой Алексей Андреевич… не по заслугам меня возносите. Кто ж про того Хеопсова не слышал? Люди много чего говорят. И я слышал, что есть такой. А кто он и как государю служил, не интересовался. Сам-то я старался на своём месте, как мог, и до всего другого мне дела не было.
Неожиданно на погрузке возник галдёж, послышались крики, разбойничий свист. Затем грохот, треск… И — мощный струнный взрыв, словно кто-то ударил кулаком по струнам гигантской арфы.
Все трое вздрогнули и обернулись туда, где хорошо организованные и красиво работающие легионеры только что пытались затолкать в теплушку роскошный белый рояль, сверкающий на солнце, как рафинадный сахар на отломе. Запихивали рояль целиком, не сняв ножек и педалей. И после особенно красивого толчка у рояля оторвалась сахарная крышка. Грузчики потеряли баланс, рояль медленно повернулся набок и рухнул на рельсы. И внизу, издав струнный вопль, развалился на три части.
— Ну что за бестолковщина? Полные идиоты! — возмутился Волков. — Кто же так грузит? Руки им оторвать, работничкам европейским!
На крики прибежал офицер, долго всматривался вниз, потом махнул рукой. Несколько легионеров с топорами соскочили на рельсы. Застучали топоры, и через несколько секунд европейской работы от рояля остались щепки и ворох перепутанных струн.
— Ну, — повернулся Волков к Чемодурову. — Видели когда-нибудь подобных обезьян косоруких?
— Да уж… Инструмент дорогой — от Якоба Беккера, поставщика двора, — вздохнул Чемодуров. — Кому-то очень много заплатить за него придётся.
— Заплатить? — язвительно отозвался Деревенко. — С чего вы взяли, что кто-то будет за инструмент платить?
— Как же иначе?
— Да очень просто. Рояль чехи отобрали. Хорошо, если бывшего хозяина в живых оставили.
— Да что вы такое говорите? Про кого вы? — изумлённо воскликнул Волков.
— Про них, про союзников. Про спасителей наших.
— И что спасители?..
— Всё это добро, — Деревенко обвёл рукой вокруг. — Всё, что славный легион грузит в свои бесконечные эшелоны, награблено. Самым вульгарным образом.
— А власть? Полиция или что там сейчас… комендатура? Неужели никто им ни слова?
— Может, кто-то где-то кому-то слово и говорит. Но так, чтоб не огорчать спасителей. У них на эту тему разговор короткий. Со всеми. Невзирая на лица и чины.
— И люди мирятся?
— Возмущаются, скрипят зубами — только тихо и чтоб чехи не слышали. А как бы вы повели себя? Если чехам что-то приглянется, они задают хозяину простой вопрос: «Мы спасли вас от большевиков. Вы довольны?» А теперь попробуйте сказать «нет».
— Ну? — обратился Волков к Чемодурову. — Что я вам вчера говорил про всех этих союзников! Вот оно — доказательство! Будь моя власть, я повесил бы каждого чеха, у кого нашёл бы хоть краденый гвоздь.
— Не будет у вас власти. Никогда не будет, так что не расстраивайтесь, — успокоил его Деревенко.
Они продолжали наблюдать за погрузкой молча — Волков с растущей злостью, Деревенко и Чемодуров равнодушно. Быстро и безостановочно, словно по расписанию, продолжали подкатывать грузовики с плугами и боронами, сеялками и молотилками, цепами и косами. Стучали колёсами по деревянным сходням подводы и ручные тачки с обувью, с кухонной посудой — фарфоровой и медной, с горами мужских костюмов и женских платьев; овчинных тулупов, шалевых пальто на меху; шуб — волчьих, лисьих и медвежьих. Несли солдаты коробки с сапогами, шляпами, женскими и мужскими ботинками; перевязанные тюки овечьих и лошадиных шкур; упаковки старинных книг в кожаных переплётах, украшенных поделочными и драгоценными камнями; ящики с гвоздями — плотницкими и подковными; и снова — комоды, бронзированная мебель… В один из вагонов плотно укладывали железнодорожные рельсы.
Подъехали четыре грузовика, загруженные чем-то черным и сверкающим. Волков издалека понять не мог, пока один грузовик не остановился рядом. Оказалось, новенькие резиновые сапоги и галоши — горой. От них ещё шёл свежий остро-фабричный запах.
— А это что? — недоумённо спросил Волков.
— Никогда не видели? Галоши, — хмуро сказал Чемодуров. — На сапоги надевать в непогоду.
— Что такое галоши, знаю! — огрызнулся Волков. — Откуда у них? Да совсем новенькие.
— Резиновая обувь из Петрограда, фабрики «Треугольник». Хранилась на местных перевалочных складах. Пользуется за границей большим спросом, — сообщил Деревенко. — Третий день вывозят. Хозяева фабрики в Америке, здесь только управляющий. Каждый день хозяева шлют генералу Гайде телеграммы — возмущаются, просят, умоляют прекратить грабёж, большие деньги обещают…
— И что? — угрюмо спросил Чемодуров.
— Так вот же ответ на их телеграммы, перед вами.
Грузовики и телеги прибывали непрерывно и всё чаще. Ещё быстрее разгружались и отбывали за новым грузом.
— Смотри-ка, смотри! — воскликнул Волков, пальцем указывая на двух солдат: в каждой руке они несли уложенные столбами ночные горшки — фарфоровые, эмалированные и бронзовые с завитушками.
— У них что там, в Европах, ночные вазы кончились? — проворчал Чемодуров.
— Может быть, и кончились. Из-за войны. А может, и совсем нет — чехословаки не в Австро-Венгрию возвращаются, — сказал Деревенко.
— В Африку, что ль? Там да: какие нужники с горшками среди слонов и тигров.
— Напоминаю, любезный Терентий Иванович: у них впервые в истории будет собственное государство, новенькое, с иголочки — Чехословацкая республика. Антанта пообещала после победы.
— И где то государство будет? В Африке? — не унимался Чемодуров.
— На кусках бывшей Австро-Венгрии, — терпеливо отвечал Деревенко.
— Там пустыня разве? И ночных горшков и табуреток с галошами отродясь не было?
И сам ответил — рассудительно:
— Бывал я в тех краях — в Моравии, в Богемии. В Праге три месяца жил. Даже возвращаться домой не очень хотелось. Хорошо живут — удобно, красиво, чисто. Хоть и земли мало, не как у нас — за десять лет не обойти, а толку? Наши уездные города, и даже губернские, хуже их самых захудалых деревень. Водопровод, канализация. И никаких выгребных ям. Не везде, но почти везде. В отхожих местах намыто, духами пахнет. Ни за что не догадаешься, что в нужник попал. Зачем им ночные горшки?
— От жадности. Хватают все подряд, — сказал Деревенко. — На дармовщину и уксус сладкий.
— Ну их к дьяволу! — разозлился Волков. — Пойдёмте отсюда, господа.
По дороге Волков чуть поостыл и спросил доктора:
— Вот, Владимир Николаевич, насчёт преторианцев… Странно они выглядят. Скоморохи из бродячего театра.
— Театр тут, действительно, имеет место, — согласился Деревенко. — Но я не рекомендовал бы вам говорить такое в присутствии хоть одного легионера.
— Зачем они так вырядились, клоуны?
— Лучше всех сам Гайда объяснил давеча генералу Сахарову. При мне разъяснял.
И доктор рассказал о разговоре двух генералов.
Генерал Сахаров как раз бежал с красной территории и появился в Екатеринбурге. У комендатуры он долго рассматривал чешских ряженых и, наконец, спросил Гайду:
— Что за часть, генерал? Какого рода войск?
— То мой конвой, — гордо отвечал Гайда.
— Какая форма интересная! Сами придумали?
— Та форма, генерал, исторична.
— Из чехословацкой истории? Или австрийской? Или римской древней?
— Не австрийска. Руська история. Всегда в Русии самые великие люди — император, великий князь Николай Николаевич — имели такой коуказкий конвой. Когда мы с вами увийдем у Москву, то и мне надо иметь такой конвой.
— Как у русского императора?
— А то ж… Чи я хуже русского императора?
— Затрудняюсь сказать. Может быть, и лучше, — с серьёзным видом произнёс Сахаров.
— Я тоже так думаю, — согласился Гайда.
— Так что же, — продолжал допытываться генерал Сахаров. — Они у вас с Кавказа набраны, ваши коуказкие люди?
— Та не! Мы берём из своих, но шоб тип подходил до коуказкого. Долго искать пришлось.
— А буквы «БНБИГГ» что значат?
— Ти огненны букви значут: огонь воинский у грудях и «Бессмертный непобедимый батальон имени генерала Гайды».
— Очень трогательно. Поздравляю вас, генерал. Главное, что бессмертный. Нам, мелким человечкам, и не мечтать…
В те дни ни генерал Сахаров, ни доктор Деревенко, ни даже сам Гайда и подозревать не могли, что пройдёт совсем немного времени, и разукрашенный «коуказкий» батальон — желая, видно, если не остаться бессмертным, то хотя бы не помереть преждевременно — торжественно, развёрнутым конным строем, под музыку собственного медного духового оркестра дружно уйдёт в плен к большевикам. И хорошо будет воевать в составе Красной Армии.
Но тогда, выслушав доктора, Волков только фыркнул:
— И это военный человек? Парикмахер с вывеской «Иностранец Василий Фёдоров» — вот он кто!
Доктор Деревенко расхохотался:
— Да вы, я вижу, Гоголя не забыли!
— Не хуже императора он, как же! — продолжал возмущаться Волков.
— Знаете, что здесь самое интересное, Алексей Андреевич? — спросил доктор. — Ведь Гайда никакой не генерал, не офицер и даже не военный. Вы правильно сказали: он, в самом деле, по профессии провинциальный парикмахер. И зовут его в действительности Рудольф Гайдль. Немец он по происхождению, но выдаёт себя за славянина.
— Плевать на генерала-цирюльника! — заявил Волков. — Пошёл он к Дьяволу, у нас и без него забот полно.
И, подумав, добавил:
— А вот кто ему чин генеральский дал? Это интересно бы узнать.
— И мне тоже интересно, — отметил доктор.
Тут подал голос Чемодуров:
— А что, Владимир Николаевич, вы можете мне объяснить? — спросил он. — Только и слышишь со всех сторон — чехи, чехи, и опять чехи. С какого неба они вообще на нас упали?
Доктор Деревенко достал карманные часы, нажал кнопку. Брегет прозвонил два раза.
— Часа полтора времени есть. Как раз, чтобы застать коменданта. Но ведь вы тоже зайдёте туда? Или я ошибаюсь?
— Нет, не ошибаетесь! — заявил Волков. — Сначала не хотел, но теперь пойдём.
— Тогда по дороге расскажу.
— Я не знаю, кто дал Гайде генеральский чин, — продолжил доктор. — Причём, генерала именно русской армии, а не французской или чехословацкой, пока несуществующей. Но сделать это могли только высокие российские чины из старой власти. А может, и новой. Может быть, недавно издохшее правительство Учкома, которое составили бывшие делегаты Учредительного собрания, эсеры, в основном. Или министры теперешней Директории. А может, ещё Керенский возвысил цирюльника. Но не это суть важно. Анамнез у легиона вкратце такой.
В самом начале войны чехи и словаки, живущие в России, организовались и обратились в кабинет министров с предложением: создать национальную военную часть из чехов и словаков. В составе русской армии они желали воевать на Восточном фронте против немцев и против своих бывших сограждан за освобождение славянских народов.
Идея понравилась правительству и даже царю. Сначала была создана чехословацкая дружина. Отправили на фронт, и чехи со словаками воевали очень хорошо. А после брусиловского прорыва славянские подданные Австро-Венгрии стали сдаваться к нам толпами. Побежали к нам сербы, хорваты. Побежали поляки, бывшие в германских войсках. Но тут германское правительство выкинуло фокус: объявило, что после победы над Россией восстановит свободную Польшу. Если, конечно, поляки заслужат эту милость на фронте. И поляки побежали обратно к немцам, в том числе и из наших войск. Царское правительство тоже что-то им обещало, но немецкий пряник показался слаще.
— Вот так всегда с ними, с поляками! — заявил ворчливо Чемодуров. — Как волка ни корми…
— А что бы вы хотели? — возразил Волков. — Представьте себе, что не мы Польшу разделили, а поляки Россию. Хотелось бы вам восстановить родину?
— Не всё так просто, — буркнул Чемодуров. — Не дважды два.
— А что тут такого сложного! Есть страна. Её делят. Разделённый народ хочет воссоединиться и возродить своё государство. Имеет право? — с вызовом спросил Волков.
Но Чемодуров спорить не стал и только фыркнул.
— Молчите? Нечего сказать? — спросил Волков.
Неожиданно на выручку Чемодурову стал доктор.
— В самом деле, Алексей Андреевич, — сказал он, — тут всё несколько иное, а простым дело видят либо незнающие, либо нечестные.
— И к кому вы меня причисляете, доктор? — многозначительно осведомился Волков.
— К первым. Делила Польшу не только Россия. В разделе участвовали Пруссия и Австрия. Но матушка Екатерина Великая вернула своё — наши территории с малороссами и белорусами, которые поляки у нас в своё время оттяпали. А вот немцы и австрийцы цапнули исконно польские и стали их усиленно осваивать, где полякам место указали около выгребной ямы. Поляки в составе России пользовались равными правами, их шляхетство имело дополнительные привилегии, они оставались полными хозяевами на своих землях, заседали в земствах. К тому же наша интеллигенция особенно, революционная, поляков полюбила особо. И всё это время у поляков к России почему-то особый счёт и особая к ней ненависть. Только лишь от России они требуют возврата государства. А от Австрии и Германии — ничего! Словно они тут и вовсе в стороне. Словно не отрезали себе Австрия с Германией две трети Польши. Но к ним никаких претензий. Поляки не только ничего не требуют, но всячески пресмыкаются перед ними.
— Честно говоря, — сказал Волков, — мне это непонятно. Часто задумывался, но ничего не надумал.
— Я вам могу сказать, — вдруг каркнул Чемодуров. — Я понял сие раньше вас, дорогой Алексей Андреевич.
— Так просветите! — потребовал Волков. — Сделайте милость!
— Сделаю! — мстительно пообещал Чемодуров. — Тут и правда, всё просто: польской шляхте больше нравится лизать немецкие и австрийские сапоги. И за это удовольствие она отдала немцам и австрийцам большую часть своей страны. Русский царь шляхту сапогом в морду не пинал. За это шляхта его ненавидела. А ежели бы он, не дай Господь, подарил им вольную «Польску», вообще убили бы. На другой день. Таким манером шляхта устроена: чем больше вы её пинаете, тем больше она вас любит.
— Ну, вы тоже скажете, Терентий Иванович! — фыркнул Волков. — А у вас? — он обернулся к Деревенко. — У вас есть другие объяснения, разумные?
Доктор с сожалением вздохнул и развёл руками, глядя вверх и ещё выше:
— Я вас огорчу, Алексей Андреевич. По-моему, взгляд Терентия Ивановича на польскую проблему вполне научен и неоспорим. Поведение польской шляхты в отношении России объясняется исключительно особыми вкусовыми качествами немецких и австрийских сапог.
— А! — с досадой махнул Волков. — Давайте лучше возвратимся к чехам.
— С удовольствием. Итак, чехословацкая дружина показала себя на фронте хорошо. Но когда пленные повалили к нам толпами, командование поначалу не знало, что с ними дальше делать. И, наконец, было принято решение всеми странами Антанты: после победы подарить чехословакам собственное государство. Конечно, они, как и поляки, должны это заслужить на фронте. К тому времени чехословаков набралось у нас около пятидесяти тысяч. Из них сформировали армейский корпус, но для театрального эффекта ему дали название «легион», хотя настоящий римский легион был в десять раз меньше.
— Так почему же легион не воевал за нас в шестнадцатом, семнадцатом годах? — недоумевал Волков. — Нам тогда очень нужна была помощь.
— По-моему, опять весь секрет во вкусе сапог. Россия их приняла, дала отдохнуть, обмундировала, вооружила. Но воевать легион был назначен почему-то не у нас, подкрепляя русскую армию, а на Западный фронт в составе французских войск. И начальство у них теперь — французы.
— Поняли? — торжествующе спросил Чемодуров.
— Не понял, — упрямо сказал Волков. — Не понял, почему Государь согласился на такое. И зачем он вообще затолкал Россию в мировую бойню.
— Вы что же, Государя осуждаете, сударь? — с вызовом спросил Чемодуров.
Но Волков не обратил на него внимания и сказал доктору:
— Да можно ли их считать славянами — чехов и словаков? Онемечились, окатоличились за тысячу лет…
— Какие ни есть, набралось много. Итак, страны Антанты вместе с Россией уже официально провозгласили создание Чехословакии и пообещали гарантии. И даже назначили президента — фамилией Масарик. Американский подданный, либерал, но не пустой болтун, как наш Милюков, и не бестолковый мерзавец, как Керенский. Так чехословацкий легион получил государственный статус.
Но на фронт легион не торопился. А тут наша катастрофа — отречение царя, февральский переворот, новые правители — кадеты и эсеры с меньшевиками уничтожают всяческую власть и армию, разваливают Россию на отдельные «государства»… Армии нет, Керенский создаёт женский батальон. Но и женщины ему не помогли, октябрьский переворот стал неизбежен. А за ним Брестский мир. Германия и Австрия формально перестали быть врагами советскому правительству.
И что делать большевикам с легионом? Немцы потребовали его разоружить. Ленин и Троцкий не торопились. Сначала через посредников попытались договориться с Антантой таким образом: большевики выходят из Брестского мира, отправляют легион на наш Восточный фронт открыть боевые действия против немцев, Антанта активизирует Западный фронт и держит немцев и австрийцев в напряжении, пока большевики, с помощью Антанты, не восстановят русскую армию. Но Антанта на это не пошла. У союзников возникли другие соображения. И окончательно было решено, что легион отправится всё же в Западную Европу — через всю Россию, через Америку, через два океана.
Немцам, конечно, такое ещё больше не понравилось. И они потребовали легион вообще раскассировать. Но, по-видимому, большевики решили, что Германия всё равно идёт к концу. Кто же испугается полудохлой собаки? И сначала отказали немцам. Однако чехам велели сдать большую часть оружия. Себе оставить лишь необходимое для самообороны. Чехи согласились. Даже договор с красными подписали. Погрузились в эшелоны и начали движение на Восток.
И тут-то обнаружилось, что оружие они сдавать и не собирались. Так и заявили: пусть Троцкий сам придёт и возьмёт.
К тому времени выяснилось, что у них на вооружении не только винтовки — манлихеры и наши мосинки. Легионеры по дороге разграбили несколько войсковых складов и арсеналов. И теперь у них пулемёты, пушки, бронеавтомобили, бронепоезда и даже пароходы с артиллерией!
— Вот тут я скажу: молодцы чехи! — заявил Волков. — Правильно, Терентий Иванович? Согласны со мной?
Чемодуров пожевал задумчиво губами.
— Ой, не знаю, Алексей Андреевич, тут не просто, — озабоченно сказал он. — Ружья-то у чехов от кого? Кто им покупал?
— Кто, кто… Мы, то есть, правительство наше, ещё царское.
— Выходит, на русские деньги ружья, а не на чешские?
— Определённо.
— Стало быть, чехи не хотят вернуть чужое? Тогда это разбой! — заявил Чемодуров. — Хозяин требует вернуть своё, а они не отдают. Разве не разбой?
Волков сначала озадаченно уставился на старика. Потом расхохотался.
— Да, ведь так оно и выходит! Говорил же я, что вы, Терентий Иванович, у нас глубокий философ!
— Ах, да оставьте, — отмахнулся Чемодуров. — Вам бы только насмешничать. А я хочу дальше послушать Владимира Николаевича.
— И Троцкий объявил, что любой вооружённый чех на территории России объявляется вне закона, — добавил Деревенко.
— Ого! — заметил Волков. — Шутки кончились.
— Какие там шутки! Дело пошло серьёзное. Троцкий специально для всех трудящихся и нетрудящихся в России пояснил: любого чеха, буде он с оружием, можно и нужно прикончить на месте. И ничего убийце не будет, даже наградят. Однако чехи плевать хотели на Ленина с Троцким и на все их угрозы. Объявить-то Троцкий объявил, а как сделать? Никто не смеет сегодня безнаказанно грозить легиону.
Впрочем, один такой смельчак нашёлся, на вокзале Челябинска. Венгр какой-то, тоже из бывших военнопленных.
На вокзале напротив чешского эшелона стоял венгерский поезд. Какой-то венгерский дурак бросил шутки ради в вагон чехов гранату — без запала, безвредную. Попал какому-то легионеру по голове. Не убил, конечно, только слегка оглушил. А может, это вовсе не венгр был, а кто-то из местных. Никто не разбирался. А может, и чех. Но чехи решили, что всё плохое может исходить только от венгров. Или от немцев. И венгра повесили.
А надо сказать, там ещё была советская власть. И красные дело так не оставили: началось следствие, арестовали нескольких подозреваемых легионеров. В ответ чехословаки открыли стрельбу, расстреляли советскую власть. Установили прежнюю, эсеровскую. А большевиков перевешали. Каково?
Но Волков и Чемодуров промолчали.
— Впечатление легионеры, как понимаете, произвели на обывателей Челябинска, вообще на всех, сильное. Но не последнее. На другой станции, в Николаевске, продолжили впечатлять. Там уже новые власти встречали легионеров с музыкой. Медный духовой оркестр играл что-то из Дворжака, Сметаны и Станица, потом чешские народные песни. Женщины дарили воинам цветы. И тут кто-то из чехов обнаружил, что музыканты — сплошь немцы, тоже из военнопленных. Чехи возмутились. Как посмели германцы осквернять своими тевтонскими трубами чешскую музыку?
— И что, опять драка? — спросил Волков.
— Но они правильно музыку играли, не портили? — осведомился Чемодуров.
— Говорят, не портили. И чехи в драку не полезли сразу. Сначала предложили, чтобы немцы извинились.
— Ну вот, правильно! Цивилизованные культурные европейцы, — вставил Чемодуров. — А вы, Владимир Николаевич, вижу, недовольны.
— Я-то доволен. Точнее, мне абсолютно всё равно. Только вот форма извинения, которую чехословаки предложили немцам, мне лично показалась несколько… скажем так, необычной.

— Так-так, чем же? — спросил Волков.
— Немецкие музыканты должны отречься от своего германского происхождения и объявить себя чехами. Немедленно.
— Это как? — озадаченно спросил Волков.
— Вот и я о том же, — подхватил доктор. — И немцы о том же. Попросили легионеров объяснить, как они могут немедленно стать чехами. Оказалось, очень просто: спеть на чешском языке будущий гимн Чехословакии. На свою беду, никто из немцев не мог произнести хоть одно чешское слово. За это легионеры устроили здесь же, на вокзале — на глазах у празднично одетой, весёлой толпы — настоящую скотобойню: забили насмерть весь немецкий оркестр штыками и прикладами. Забрали музыкальные инструменты — как же: медь, ценный металл, очень понадобится будущей чехословацкой промышленности. Оставили на вокзале гору окровавленных трупов, расселись по вагонам и продолжили свой героический анабазис.
— Изверги! — вырвалось у Волкова.
Чемодуров вздохнул тяжело и отвернулся.
Доктор ничего не сказал. Он подошёл к старой липе на аллее и выколотил свою трубку о её ребристый ствол.
— Способен господин Троцкий напугать этих ребятишек? — спросил он.
— Чего уж там гадать, — махнул рукой Волков.
— Они даже плевать в его сторону не стали, — жёстко сказал доктор. — У них дела поважнее: как можно скорее вывезти за границу награбленное, пока за руку не схватили. Впрочем, кто их схватит? Сегодня легион — самая мощная, самая организованная военная сила на территории России. Ей никто противостоять не может — ни Троцкий, ни Деникин, не говоря уже об малороссийских недоносках и бандитах типа Махно или Петлюры. И потому чехи сейчас могут всё!
— То есть, как это всё? — ошалел Волков.
— Именно так — всё. Свалить в России одно правительство, поставить в Кремль другое. Разрезать Россию на ломти, создать на них «независимые» феодальные уделы.
— Ну, уж на «ломти», — протянул Волков. — Да ещё феодальные…
— А вы порассуждайте. Для начала: чехи захватили почти весь железнодорожный парк Сибири. И, по сути, лишили нас всех нашей же собственной железной дороги. Их эшелоны — бесконечная лента длиной в семь тысяч километров от Самары до Владивостока. Но, Алексей Андреевич, если вы полагаете, что чехословацкий легион — это просто огромное количество поездов, вы глубоко ошибаетесь.
— Я пока ничего не полагаю, — возразил Волков. — Я слушаю вас с огромным интересом. И Терентий Иванович — тоже одно сплошное любопытство. Верно, товарищ Чемодуров?
— Гусь свинье не товарищ! — обиделся Чемодуров. — Владимир Николаевич дело говорит, не мешайте ему.
— Прошу извинить покорнейше. Молчу.
— Так вот, господа, мы наблюдаем нечто, в человеческом обществе доселе небывалое. Захваченные чехами поезда — не просто большие сараи на колёсах. Чехи, и тут они достойны восхищения, создали в своих эшелонах, пусть временно, небольшую, но самую настоящую цивилизацию! Они открыли в поездах десятки и сотни пошивочных и ремонтных мастерских, столовые и даже трактиры. У них бесперебойно действуют почта и телеграф. В поездах, кроме бильярдных и игровых заведений для солдат, вы найдёте офицерские казино с рулеткой, музыкой и танцами. Имеются в поездах и свои госпитали, а военные доктора заодно контролирует целый отряд проституток, потому что чехи организовали десятки борделей на колёсах. Туда охотно подались наши деревенские дуры — девки и бабы, в основном, солдатские вдовы. Таких много. Понятно: голодают. Да что там! Чехи открыли самый настоящий банк. Он так и называется «Легион-банк». Есть у них своя полиция, точнее, жандармерия. Не говорю уже о военной контрразведке. Руководит ею сущий варнак, настоящий зверь капитан Зайчек.
— Да, — задумчиво произнес Волков. — Государство… Только что без земли. Государство на колёсах.
— И я бы точнее не сказал. Знаете, сколько у них эшелонов? Больше пятисот! По пятнадцать-двадцать вагонов каждый. По вагону на двух легионеров. И что этому государству до жалкого тявканья Троцкого! Их цель — порт Владивостока. А большой тоннаж Антанта им уже пообещала — полсотни грузовых пароходов будет, не меньше. Лишь бы поскорее загнать легионеров на фронт.
По проспекту снова прорычал автомобиль с генералом Гайдой. Теперь рядом с ним, на заднем ярко-красном диване сидели два офицера. Одного Волков узнал сразу — одноглазого толстого кота, украшенного, словно рождественская ёлка, медалями и орденами. Слева от Гайды сидел высокий костлявый капитан в мундире, но без фуражки. Голый череп его сверкал на солнце, лицо, словно вырезанное из дерева, странно неподвижно, глаза спрятаны за черными круглыми стёклами очков.
— Зайчек? — сразу догадался Волков.
— Он самый. Пример типичного садистическо-маниакального синдрома. Ему в сумасшедшем доме самое место.
— Стыдно признаться, но я его уже заранее боюсь, — сказал Волков, глядя вслед автомобилю, за которым на рысях следовали «бессмертные коуказцы».
— Правильно. Такого зверя надо очень бояться и обходить десятой дорогой.
— Рассказываю дальше, — продолжил доктор. — Итак, первые чехословацкие поезда уже достигли Владивостока, легионеры приготовились к погрузке на пароходы. Как вдруг генерал Жанен отдаёт приказ: погрузку остановить, движение эшелонов на Восток тоже. И немедленно двинуться обратно, на запад, откуда прибыли.
— Этот Жанен… француз? И он чехам приказывает?
— Француз. Глава объединённой миссии союзников в Сибири и одновременно главнокомандующий чехословацким легионом. Легион, как я уже сказал, считается частью французских войск. Так что…
— Так что, получается, — подхватил Волков, — чехи открыли второй фронт против большевиков, а, значит, и против немцев с нашей стороны! С юга — Деникин, с востока — Гайда. С севера — англичане. Прекрасно! Просто замечательная новость, Владимир Николаевич! Вот почему Гайда озабочен, в каком виде он появится в Москве. Да ради Бога, лишь бы в Москве появился!
— Именно, — согласился Деревенко.– Есть, правда, одно любопытное обстоятельство…
— Ах, Владимир Николаевич! — воскликнул Волков. — Любые обстоятельства — ничто, по сравнению с главным: Москва впереди! Конец большевикам! А значит, немцам с австрийцами конец. И войне. Знаете, — он доверительно сказал доктору.– Никогда я ещё не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас.
— А вы бы не торопились, Алексей Андреевич, радоваться, — неожиданно каркнул Чемодуров. — Пустил заяц лису в избушку погреться, да сам на улице и оказался.
— Вечно вы со своей скорбью лезете! — вспыхнул Волков. — По-вашему, ничему в жизни уже и радоваться нельзя.
— Мне ничего и не надо, — насупился Чемодуров. — Я своё пожил и своё видел. А вот как вы чехословаков из России потом будете выгонять? Я бы хотел посмотреть.
— Сами уйдут, зачем их гнать. Так, Владимир Николаевич?
— Уйти чехи, конечно, уйдут, им своё государство обустраивать надо. Только вот что они ещё потребуют за победу над большевиками?
— А это, думаю, целиком будет зависеть от того, какое у нас появится правительство, — заявил Волков. — Если, не приведи Господи, снова кадеты, вроде размазни князя Львова, болтуна Милюкова или негодяя Керенского…
— Поставят нам, кого захотят. И ещё не факт, что после них от России что-либо останется.
— Диктатор нужен! — заявил Волков. — Лучше самодержец, но сейчас пусть диктатор. Только свой.
— Такой на примете уже есть, — с таинственным видом сообщил Деревенко.
— Кто же это?
Но доктор только усмехнулся.
— Ага! — заявил Волков.– Значит, уже знаете! Значит, переворот готов, и Директории эсеровской конец. Но кто на роль цезаря?
Чемодуров тоже вопросительно уставился на Деревенко, но доктор молчал, усмехаясь.
— Знаю! — Волков хлопнул себя по лбу. — В Директории один настоящий военный — адмирал Колчак. Опять-таки, фигура широко известная, его и за рубежами знают. Угадал?
— Угадали.
— Но это ведь хорошо!
— Колчака назначает диктатором не народ, не русская армия или русская политическая сила. Его в диктаторы тащит генерал Гайда при поддержке союзников.
— Чем же вы недовольны?
— Подумайте: не только диктатору легче управлять страной, нежели парламенту. Но диктатором и манипулировать легче, чем парламентом или правительством. Теперь угадайте с одного раза: чьи команды будет выполнять Колчак, если за ним только одна сила — иностранная? Казачки наши или отряды оборванцев, каких мы только что видели, никакой военной роли не сыграют. А сильную русскую армию никто Колчаку создать не даст.
— Значит, в будущем… — начал Волков.
— Никакого будущего! — перебил Деревенко. — Не тешьте себя иллюзиями.
— Как же вам не стыдно, Владимир Николаевич! — вдруг обиделся Волков.
— Я позволил себе что-то неприличное?
— Такое настроение было счастливое, а вы в две секунды его сбили.
— Но позвольте, Алексей Андреевич, — запротестовал Деревенко. — Я только отвечал на ваши вопросы. А выводы делайте сами.
— Именно — всего лишь отвечали на вопросы… Но даже если победят большевики и выгонят Жанена с его Гайдой и всеми иностранными грабителями, все равно: с Лениным и Троцким я лично ужиться не смогу. Слишком мы разные. А вы?
— Боюсь, что и я, как вы… — начал доктор. И вдруг воскликнул: — Смотрите, что творится!
Он остановился около небольшой харчевни. Над её дверью двое рабочих приколачивали новую вывеску: «Русская чайная. Знаменитые филипповские булочки прямо как из Москвы».
— Московские, филипповские… — растроганно произнес он. — И как раз сегодня. Неужели, правда? Хорошая примета. Зайдём, что ли, господа? Угощаю.
5. БОЕВЫЕ БУДНИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ЛЕГИОНА
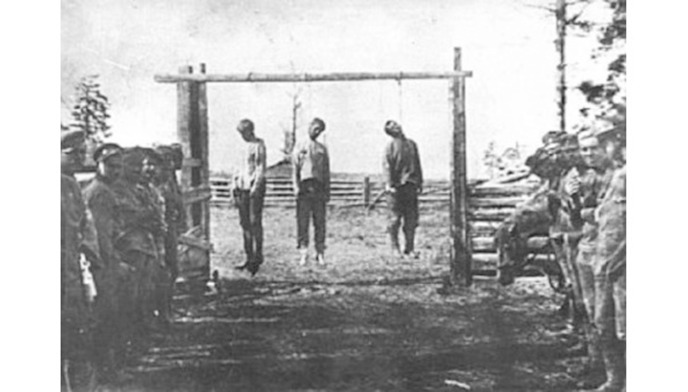
ОФИЦИАНТ поставил на стол графинчик монастырской водки, блюдо маринованной тонко нарезанной стерлядки, обложенной синими кольцами остро-сладкого лучка. Когда перешли к чаю, принёс деревянное блюдо со сдобными булочками. Они пахли горячей корицей и счастливой довоенной жизнью.
— Настоящие? — строго осведомился доктор Деревенко.
— Иных не бывает! — заверил официант.
— Да как же они из Москвы сюда попали? Ленин, что ли, вам прислал? Товарищ Ульянов? Или главный чекист товарищ Дзержинский?
— Тоже скажете, сударь, — обиделся официант. — Мы и печём. Потому и на вывеске написано: «как из Москвы», а не «из Москвы».
— Хитрецы, нечего сказать! А рецепт филипповский? — продолжал доктор. — Или тоже, «как у Филиппова»?
— Уж не сомневайтесь, ваша милость. Рецепт подлинный, московский.
— Значит, булки у вас с тараканами! — грозно заявил доктор.
Официант в ужасе отшатнулся:
— Отчего же вы, сударь, этакое говорите? И себя огорчаете, и нас обижаете! Изюм это, самый настоящий изюм — из Персии! Приглашаю вас на кухню и даже на склад посмотреть и убедиться. Извольте.
Доктор Деревенко расхохотался. И спросил у Волкова с Чемодуровым, которые озадаченно притихли:
— Знаете, конечно, как появились филипповские булочки?
Оба не знали.
— При окаянном самодержавии, — начал Деревенко, — за качеством продовольствия и за ценами — чтоб лезли не вверх, а только вниз — следили городовые. Однажды в булочную Ивана Филиппова, которая на Тверской, явился околоточный и потащил хозяина в участок. А там, на столе начальника квартала лежит его, Филиппова, булка, сдобная, ещё горячая.
Только вот торчит из булки чёрный запечённый таракан.
— Тараканами людей кормишь, мерзавец? — загремел квартальный. — Сейчас же тебя в холодную на месяц!
У Филиппова была только секунда на размышление.
— Где вы таракана увидели, ваше благородие? — обиделся он, да так натурально обиделся. — Изюминка это!
И не успел квартальный слова сказать, как Филиппов выковырнул таракана из булки и съел.
— Вкусная, сладкая изюминка. Напрасно отказались, ваше благородие.
— И с каких же пор ты печёшь булки с изюмом? — подозрительно осведомился квартальный.
— С сегодняшнего утра. Сейчас пришлю вам свеженьких к чаю, на пробу.
Примчался Иван Филиппов к себе и приказал весь изюм, какой только найдётся, немедленно высыпать в чан с тестом и послал купить ещё. Так что замечательными булочками мы обязаны безымянному московскому таракану.
— И смекалке булочника, — добавил Волков, усмехнувшись. — Нет чтобы тараканов вовремя вымораживать…
На всякий случай, внимательно осмотрев свою булочку, Чемодуров спросил доктора:
— А что, Владимир Николаевич, разузнал уже капитан Малиновский о семье государя что-нибудь? Вам известно? Куда их вывезли?
Деревенко неторопливо набил трубку, раскурил её и сказал неторопливо:
— Ничего толком не известно. Главное, нет следователя. Точнее, есть — Наметкин Алексей Павлович. Но приступать не желает. Упёрся, требует официальную бумагу — постановление прокурора. Так, дескать, по закону положено.
— По какому? — осведомился Волков.– По старому? Не действующему? Так ведь нового нет и когда ещё будет!
— Не в законе дело. Тут другое. Прокурор уже назначен новой властью, некто Иорданский, но предписание на розыск не даёт.
— Отчего же, интересно?
— Я знаю, отчего, — загадочно сказал Чемодуров.
— Так-так? — удивился Волков.– Что же вы знаете такого, что неизвестно нам, простым смертным?
— Оттого, что расследовать нечего! Что тут искать? Кого? Ежели кого искать, то не здесь.
— Я всегда… — обратился Деревенко к Волкову. — Я всегда завидовал людям, у которых ни в чём нет сомнения. Вот и прокурор: ещё следствия не провёл, но заявляет, что никакого расстрела в ипатьевском доме не было.
— И все-таки, есть что-нибудь достоверное, Владимир Николаевич? — спросил Волков.
— Почти ничего. Два-три факта.
И он рассказал, что несколько дней назад в комендатуру явился некий поручик Шереметьевский. Спасаясь от красных, он прятался в глухой лесной деревушке, а когда пришли слухи, что белые и чехословаки идут на Екатеринбург и скоро будут, двинулся сюда.
Около деревни Коптяки, у заброшенной старательской шахты в урочище Четырёх Братьев поручик наткнулся на группу крестьян, измученных, взволнованных и растерянных. При виде офицера с погонами, мужики сначала поколебались, но заговорили с ним.
Познакомились. Убедившись, что Шереметьевский — не переодетый красный, рассказали ему о своих находках возле шахты.
…Местные называют шахту Ганина Яма, рядом с ней расположено мелкое затхлое озерцо. В нём ещё лет пятьдесят назад старатели промывали золотоносную породу.
С 17 по 20 июля большая лесная территория вокруг урочища Четырёх Братьев была плотно оцеплена красноармейцами. Перекрыли и дорогу от деревни Коптяки на Екатеринбург. Как раз местные крестьяне везли на городской рынок молоко, творог, кур, гусей, масло, яйца, свежие овощи.
У железнодорожного переезда номер 184 скопились десятка два телег, остановились, и верховые и пешие, и даже четыре грузовых автомобиля. Несколько часов люди терпеливо ждали. Но постепенно толпа увеличивалась, народ осмелел и стал требовать проезд. Особенно те, у кого начало скисать молоко. Но охрана не сдвинулась. Сначала объясняли народу, что в лесу бродит диверсионный отряд белочехов, который проник сюда взрывать мосты, железные дороги, водопровод и электростанции. Однако самые смелые не успокоились, потребовали сюда красных командиров. А когда те явились и повторили историю о диверсантах, мужики попытались прорвать заслон.
Красноармейцы ответили стрельбой в воздух. Поднялась паника, несколько подвод развернулись и отправились назад, Но большинство, повозмущавшись, постепенно успокоились и смирились
Постепенно у переезда составился временный бивуак. Задымили костры, бабы с котелками и вёдрами потянулись к ручью за водой. Запахло гречневой кашей, толокном, овсяным киселём.
Однако несколько коптяковских — Николай Панин, Михаил Бабинов, Павел и Михаил Алфёровы, Николай и Александр Логуновы — решили обойти охрану лесом. Дело вышло не простое: оцепление оказалось плотным, в несколько рядов. Через один ряд крестьяне сумели пройти, а назад уже никак. Красноармейцы, похоже, были давно без смены, — стояли обозлённые, в разговоры с мужиками не вступали, а сразу стреляли в них поверх голов или совсем близко. Одна пуля попала Алфёрову в каблук сапога.
Так, оказавшись внутри оцепления, мужики бродили в лесу почти сутки.
Ночью в глубине леса увидели огонь. Подошли ближе — огромный кострище горел на открытой поляне около Ганиной Ямы. Мелькали в свете огня люди, и ужасающим смрадом несло оттуда — смесью горелой шерсти, мяса, костей. И ещё был запах чего-то незнакомого, химического, едкого, отчего слезились глаза.
Над низким тёмно-красным огнём медленно поднимался дым — чёрный, жирный и тяжёлый, разнося вокруг удушливую обморочную вонь. С десяток солдат и рабочих с черными от копоти лицами подбрасывали в огонь сухой валежник, сыпали в него вёдрами древесный уголь, потом сырые берёзовые дрова. В огонь бросали куски крупно рубленого мяса. Поливали огонь керосином и ещё какой-то жидкостью из керамических кувшинов. От неё огонь вспыхивал, и, словно шаровая молния, взрывался белым и жарким, так что больно было на него смотреть.
Командовал здесь высокий рабочий с длинными темными патлами до плеч. В нём признали известного Петьку Ермакова, большевицкого комиссара из Верх-Исетска.
Мужики всё никак не могли понять, что же такое ермаковцы жгут или пережигают, да ещё под такой плотной охраной. Как вдруг один из них едва не свалился от ужаса, когда Ермаков — так привиделось Михайле Алфёрову — поднял с земли за волосы человеческую голову, удержал в руке и произнёс злую короткую речь. Потом швырнул голову в костёр, приказал плеснуть на неё керосина и жидкости из кувшина. Голова вспыхнула оранжево-белым шаром и затрепетала десятками огненных лоскутов.
— Спаси и помилуй, Пресвятая Богородице! — ахнул Алфёров.
Он решил, что узнал, чья это была голова. Ещё полтора года назад портреты её хозяина были в каждом присутствии, в земствах, школах, больницах, а также по домам у многих крестьян — картинки, вырезанные из журналов «Нива» или «Огонёк».
Неведомая мощная сила подняла его из кустов и бросила в лес.
— Бежим, братцы, пока живы! — сдавленно крикнул он, давая ходу.
Панический страх всегда быстрее размышления, и мужики все, гурьбой, без мысли и соображения рванули за Алфёровым. И бежали, и продирались сквозь чащобу, пока подгибаться и заплетаться стали ноги и кончилось дыхание. На маленькой полянке все, мокрые, повалились на траву без сил.
Отдышались.
— Ты что, Миняй, спужался и нас всех тряхнул? Лешего, что ль, увидел? Или беса?
— Кабы беса… — непослушными губами выговорил Михаил Алфёров. — Радовался бы и не бёг…
— Тогда чего поднял всех, брательник? — спросил Павел Алфёров.
Теперь поразился Михаил.
— Да неужто, братцы, вы ничего не разглядели? — в ужасе воскликнул он.
— А что надо было разглядеть?
— А Петька Ермаков, патлатый, что такое в кострище кидал и керосином заливал?!
— Петька? Узел какой-то с тряпьём кинул, — уверенно сказал Николай Панин.
— Не, не узел, — возразил Михаил Бабинов. — Голову свиную. Или телячью. Ну и вонь!
— Свиную? Телячью? — вскинулся Михаил Алфёров. — А что они там, по-твоему, пожгли, и углём присыпали, керосин лили и гадость ядовитую?
— Кислота серная, — заявил Александр Логунов.
— А с чего ты взял?
— Уж мне-то не знать, — хмыкнул Логунов.
Конечно, Логунов знал, что говорил: кузнец всё-таки и на заводе каждую зиму подрабатывает.
— Так что он там жёг, по-твоему? — не отступал Михаил Алфёров.
— Падаль сжигали, — заявил Логунов.
— Ночью?
— А заразна? — возразил Логунов. — Язва моровая, что ещё? При народе сжигать мёртвую падаль нельзя. Тут же зараза.
— Значица, язва… падаль… — исподлобья обвёл всех мрачным взглядом Михаил Алфёров. — А голову людскую? Царску голову? Её Петька Ермаков и кинул, и кислоту лил. Было же объявленье, что Николку большевики расстреляли. Значит, там, у Ганиной Ямы, они и жгут его, чтоб могилу никто не искал. Да неужто никто из вас не разглядел?
Но, и в самом деле, никто человеческую, тем более царскую голову не разглядел.
— Да вы что, мужики? — возмутился Михаил. — Ослепли, что ль, все сразу? Или разуму в одночас лишились?
На такие слова мужики обиделись.
— Ты, Миняй, говори да не заговаривайся, — упрекнул его старший Бабинов. — Видано ли — всё обчество без разума. А только он один разумный! Бахарь выискался!..
Но чем больше убеждал мужиков Михаил, тем меньше ему верили, а под конец засыпали насмешками. Тогда и сам Алфёров засомневался, а потом и осознал ясно: приблазнилась ему царская голова, и было с чего. Столько времени в лесу на ногах, от усталости все валились. И ни маковой росинки во рту. И не такие страховища могли привидеться.
К утру они лесом выбрались в сторону Коптяков и обнаружили, что везде пусто, ни одного заслона. Ушли солдаты. И невольно потянулись мужики обратно к Четырём Братьям. Не сговариваясь, вышли снова к Ганиной Яме.
К своему удивлению, они не обнаружили следов кострища. Полянка оказалась прибранной и чистой. Была засыпана свежей глиной и аккуратно притоптана вся обширная площадка перед шахтным стволом.
С краю полянки мужики обнаружили следы ещё двух притоптанных костров, гораздо меньших. Разворошив смешанную с пеплом землю, крестьяне нашли куски полуобгоревших тряпок — явно от разрезанной или разрубленной одежды. Откопали пуговицы, петли и крючки, похоже, от женских платьев и корсетов. А главное, обнаружили несколько очень дорогих вещей…
— Каких вещей? — вскрикнул Чемодуров — он часто дышал и обливался потом. — Что нашли, сколько?!
— Этого, увы, я сказать не в состоянии, — ответил доктор Деревенко. — Не видел, да и крестьян сам не слышал. Всё со слов капитана Малиновского. Потому-то вам, Терентий Иванович, вместе с господином Волковым всенепременнейше надо эти находки осмотреть.
Разлили из самовара последний чай.
— Так что же нас ждёт? — спросил Волков. — Как вы считаете, Владимир Николаевич?
— Сейчас? В настоящий момент? — закашлялся доктор.
— Вообще. В будущем.
— Подождём, пока Гайда с Колчаком и Деникин войдут в Москву. Только…
— Только что?
Неторопливо доктор вложил в трубку три щепотки кнастера, прижал табак пальцем, зажёг шведскую спичку, прикурил и отогнал ладонью серный дым, уступивший душистому трубочному дыму.
— Собственно, мы с вами уже касались этого момента… — начал Деревенко. — Вы можете со мной не согласиться. Но мои долгие наблюдения человека, не зашоренного партийным догмами и глупостями, привели меня к твёрдому и, прямо скажу, нехорошему выводу. Для стран Антанты альянс Центральных держав — не единственный противник. Немцы, австрийцы, турки, болгары — противник явный. Но есть ещё один — скрытый, до поры до времени. Антанта о нем вслух специально не говорит, чтобы не спугнуть раньше времени. Этот, их второй противник, наивный неудачник и простак. Вслух они его называют даже союзником. До последнего момента этот олух не должен догадываться, что давно предназначен для съедения. И воюет с ним Антанта из-за угла, под покровом ночи, притворяясь другом. И тем страшнее её удары.
Чем дальше доктор говорил, тем мрачнее становился Волков и скучнее Чемодуров.
— Кажется, и я начинаю догадываться… — глухо произнес Волков.
— Пока белые, красные, зелёные и ещё там какие умники воюют друг другом или в носу ковыряются, наши лучшие друзья, и любимые союзники из Антанты не спят. Режут империю, как торт, на части. Немцы, не без участия ещё Временного правительства, соорудили неслыханную раньше «республику» Украина, откуда выкачивают продовольствие и уголь. Англичане придумали «независимое государство» Азербайджан, они же — неведомую Северо-Западную «республику» на месте Архангельской губернии и Мурмана. Французы сочинили Таврическую «республику», а заодно и Крымскую. Американцы с японцами желают пообедать Сибирью и Дальним Востоком. Целиком Россию проглотить никак, а по частям — пожалуйста, очень даже просто.
С улицы донёсся топот, потом крики. Где-то зазвенело выбитое стекло.
— Что? — дёрнулся Чемодуров. — Что горит?
— Цирк приехал? — спросил Волков официанта.
Официант покачал головой.
— Да уж так, сударь, цирк… Только совсем невесёлый цирк, плохой. Уже третий день показывают.
— Надо бы и нам посмотреть, — сказал Волков.
— Я бы не стал… — покачал головой официант.
Доктор положил на стол громадную «сибирку» в десять тысяч рублей.
— Достаточно? Сдачу себе оставь, любезный.
Официант поклонился:
— Душевно вам признателен, сударь, дай вам Бог здоровья.
На улице густая толпа неслась потоком, словно её гнали. Господа в сюртуках, дамы в нарядных платьях и с шёлковыми японскими зонтиками в руках. Студенты, гимназисты-милиционеры с белыми повязками на рукавах. Приказчики, крестьяне. Бежали куда-то юнкера, прислуга, разносчики, рабочие в сатиновых рубашках в горошек и черных картузах.
Когда толпа промчалась мимо, Деревенко, Волков и Чемодуров сошли по ступенькам на мостовую и двинулись в ту же сторону.
Остановившись, толпа разлилась на небольшой площади вокруг какого-то простого сооружения, смысл которого до Волкова сразу не дошёл. Только на вторую секунду он понял, что посреди площади поставлена виселица. Обычная виселица, только вместо верёвки свисает с перекладины рояльная басовая струна в медной оплётке, а табуреткой для приговорённого служит небольшая садовая стремянка с истёртыми деревянными ступеньками.
Доктор, Волков и Чемодуров переглянулись. Волков почувствовал тягучую, нудную боль в груди, Чемодуров замер, выкатив глаза. На лице доктора появилась гримаса брезгливости, переходящая в отвращение.
— Так вот какой у них цирк… Пойдёмте отсюда, Алексей Андреевич, — тихо сказал Деревенко.
— Да-да, — поспешно сказал Волков, чувствуя, как страх поглощает и растворяет его, как если бы он, словно Иона, оказался в желудке голодного морского чудовища. К страху примешалась жалость, непонятно к кому, может быть, к себе. Но одновременно охватило его острое и постыдное любопытство, которое властно удержало его от немедленного ухода с площади. Требовало дождаться, увидеть подробно, вблизи, как на площади будут казнить неизвестного ему человека. Волков изо всех сил попытался задавить, смять это своё отвратительное любопытство, но не смог.
Толпа нетерпеливо журчала. Слышались торопливые реплики, восклицания и даже смех, который полоснул Волкова прямо по сердцу. Как можно смеяться, когда стоишь перед самым большим, непостижимым в природе ужасом? Через несколько минут насильственно будет прервана, погашена чья-то единственная и невозвратная жизнь — пусть даже это жизнь преступника или врага. Она была один раз на этом свете, и больше её никогда не будет. «Так и у меня много раз могло быть… — подумал Волков. — И это ведь навсегда… Один раз получил жизнь — всё! Второго никогда не будет. Никогда!.. Остальное всё уже без меня. И все эти люди останутся. Будут разговаривать, злословить, подло, хамски, жестоко смеяться надо мной, когда я буду исчезать с их глаз. И я их всех не услышу и не увижу — тоже никогда больше. Как же весь этот мир будет потом без меня? Куда денется солнце, и это небо, и ветер, эта площадь? Куда исчезнет тень от виселицы, прохлада от ветерка? Нет, такое невозможно, мир без меня не сможет. Он тоже погибнет… Или нет? Он будет и дальше, и останется? Но тогда и я не могу никуда исчезнуть — ведь я был в этом мире всегда! Разве я могу куда-нибудь пропасть навсегда?»
— Ведут! Ведут! — закричали в толпе.
— Ведут красного гада!
— Палач большевистский!
— Изверг! Кишки ему выпустить!
— Лучше голову оторвать сразу!
Рядом с Волковым прилично одетый господин сказал звучным жирным голосом — профессорским или адвокатским:
— Проклятая чека, её опричники раз и навсегда должны запомнить: никогда им не спастись от народного гнева!
И на площадь внезапно обрушилась тишина, словно кто-то одним движением огромной ладони сгрёб всю толпу в сторону.
Послышался одинокий, звонкий и размеренный стук о булыжник — стук деревянного протеза, подбитого металлическим наконечником.
Из бокового переулка на площадь вышли двое легионеров. Они подталкивали штыками своих манлихеров старика лет шестидесяти, по виду рабочего. Его правая нога, отрезанная до колена, была на деревянном, круглом и толстом протезе. Им-то и стучал старик по площади. Протез залит кровью, она стекала из-под культи и оставляла тёмные влажные следы на булыжнике. Одежда на нём изодрана и тоже пропитана кровью, кое-где уже высохшей и затвердевшей. Короткая борода, ещё недавно вся была седой, а теперь в тёмно-красных пятнах, засохших и блестящих на солнце.
Глаз у одноногого не было. Вместо правого — слива с еле видной чертой поперёк. Левая глазница вообще пустая и чёрная внутри от запёкшейся крови. Из этой чёрной дыры свисали две белые нити. На них висел, подскакивая при каждом шаге, окровавленный мутный шарик. Волков догадался, что это второй глаз и висел он на зрительных нервах.
Чехи продолжали толкать штыками старика в спину. Чтобы уйти от них, инвалид, торопливо стуча металлическим концом протеза, спешил к виселице.
— Хам! Красный палач! — продолжали кричать из толпы.
Две женщины рядом с Волковым неожиданно завизжали прямо ему в уши, словно кошки, которым наступили на хвосты.
Инвалид подскакал к виселице. Остановился, деловито придвинул садовую стремянку вплотную к столбу. По-хозяйски проверил, хорошо ли держится. Стал левой здоровой ногой на первую ступеньку, и, держась обеими руками за столб, с усилием взобрался наверх.
Оттуда он молча посмотрел вокруг сквозь щель уцелевшего глаза. И толпа, непонятно отчего, понемногу и нерешительно стала затихать.
Одноногий глубоко вздохнул. Выдохнул. Взялся двумя руками за тонкую медную петлю и просунул в неё голову. Толпа шевельнулась, прошелестела и затихла совсем. Кто-то охнул и снова — тишина.
— Православные, — разорванным голосом прохрипел инвалид. — Господь свидетель — невинно погибаю. Никогда красным большевиком не был и в чеке не служил. А вы… — обернулся он к легионерам. — Будьте вы прокляты отныне и до веку! Кара Господня настигнет вас, и детей ваших, и внуков.
Инвалид перекрестился и ударом своей деревяшки свалил стремянку. Струна врезалась ему глубоко в шею. Кровь из рассечённых артерий вырвалась двумя фонтанчиками и прекратилась.
Старик умер почти сразу, повиснув на струне, только дёрнулся два раза. И слегка осел в петле, когда струна прорезала горло и шею и упёрлась в шейные позвонки. На грязных брюках между ног у него появилось мокрое пятно.
Волков и Деревенко встретились взглядами и тотчас отвернулись друг от друга. Чемодуров беззвучно открывал и закрывал рот, как лещ, выброшенный на берег реки. И как лещ на песке, бессмысленно таращил старческие слезящиеся глаза.
— А разве… — проскрипел Волков, но голос не слушался.
Откашлялся, отдышался и продолжил еле слышно:
— Владимир Николаевич… Разве большевики верят в Бога? И крестятся?
— Не верят и не крестятся, — мрачно произнес доктор.
— Тогда как же его?.. — растерянно сказал Волков и указал взглядом на повешенного.
— Всё нынче просто. Как раз плюнуть. Этого я знаю. Знал… Он, действительно, служил в Американской гостинице. Устроился туда за два года до того, как там разместилась чека. Когда вернулся с фронта без ноги, хозяин гостиницы взял его плотником. Из жалости. Взял, чтобы солдат не пропал, как пропадают почти все они, на фронте изувеченные, от нищеты, водки и тоски. Но одно связывало его с чекистами. У начальника чека фамилия Лукоянов, а у мужика Лукин.
— И только за это казнили?
— Знаю, что говорю. Я часто бывал в Американской… Весь персонал гостиницы чекисты разогнали, а Лукина оставили — тоже из жалости. Кем он ещё мог им служить? Только плотником.
Волкова внезапно охватил холод, по-настоящему зимний, и он задрожал в крупном ознобе.
— Так что же вы сейчас промолчали? — шёпотом воскликнул он. — Почему не объяснили, почему не спасли невинную душу?
Деревенко искоса глянул на него и криво усмехнулся.
— Чтобы висеть рядом с ним? Толпа хотела представления. И ни за что не отказалась бы от него.
— Да… Идёмте отсюда.
— Пойдёмте. Терентий Иванович! — позвал доктор.
Чемодуров послушно закивал. Они стали осторожно выбираться из толпы.
Когда подошли к краю площади, из переулка, которым легионеры привели несчастного Лукина, выскочила стайка мальчишек. Размахивая руками, они на бегу кричали пронзительно-радостными голосами:
— Ещё ведут! Царского сатрапа ведут! Вешать сатрапа будут!..
Вслед за мальчишками появились трое легионеров — двое солдат под командой сержанта, огромного толстяка. Штыками и прикладами они гнали впереди себя бледного до зелени приземистого широкого человека в мундире, на котором ярко сверкали форменные орлёные пуговицы.
Земля ушла из под ног Волкова. Чешские легионеры вели Пинчукова, избитого в кровь.
За ними мелким шагом следовал высокий худой субъект, в котором доктор Деревенко узнал видного деятеля партии социалистов-революционеров Мормонова. Эсер Мормонов подошёл к виселице и закричал звучно и резко, как на митинге:
— Господа! Граждане! Товарищи! Вот он, подлый служитель прежней преступной власти, царский сатрап, тюремщик! Многие годы он терзал и мучил в тюрьме лучших людей нашего города, лучших людей России, революционеров, которые бестрепетно отдали свою жизнь и свободу ради нашей революции и будущего России! А этот презренный лакей рухнувшего гнилого режима пытался бежать от справедливого возмездия, но был схвачен. Наши братья и освободители чехословаки не спят! Они всегда начеку!
— Да что это… что же это… — бормотал Волков. — Какой же он сатрап… Неправда, я свидетель. — И громче: — Никакой он не сатрап! Гражданин Пинчуков — честный и порядочный человек. Я его знаю! Я сам сидел в тюрьме при большевиках и со всей ответственностью могу заявить…
— А ты замолкни! — гаркнул на Волкова толстяк легионер, и Волков, к своему изумлению, узнал в нём того самого четаржа, который за обручальное кольцо дал ему ненужное разрешение на проезд до Екатеринбурга.
Толстяк толкнул Волкова пухлым большим, как дыня, кулаком в живот:
— Замолкни, смерд. Бо до него, — он указал на виселицу, — тебя приеднаю, du Arschloch!
— Алексей Андреевич! — доктор взял Волкова за локоть — крепко, до боли. И потащил в сторону. — Сейчас же замолчите! — яростно прошипел он. — Ничем вы ему не поможете. И ничего не докажете. Они нас за людей не считают. Из-за вас они нас в сей же час повесят.
— Нет, я так не м-м-могу, — заикаясь, выговорил Волков. Озноб бил его по-прежнему.
— Не надо, Алексей Андреевич, — тихо и грустно проговорил Чемодуров. — Давайте убираться отсюда…
И Волков замолчал, провожая взглядом Пинчукова, страшно похудевшего, так что мундир на нем провис, как на вешалке. Ещё утром он с трудом застёгивал на животе пуговицы.
Пинчуков бессмысленно таращился по сторонам, тряс головой, как паралитик, и заунывно повторял, как нищий на паперти:
— Братцы, пощадите… Ни в чём не виноват… Как перед Богом… Братцы, голубчики, пощадите… Ни виновен — видит Господь…
Но из толпы ему весело кричали:
— А ты узников революции, народных заступников много щадил?
— На куски его порубить и собакам бросить!
Толстый четарж поднял руку:
— Тихо, панове гражданы! Я сильно прошу от вас одну минуту внимания.
— Да хоть час! — крикнули из толпы.
— Не-е, мне час не надо. Так говорите, на гуляш сатрапа порубать? Или на ковбасу?
— На гуляш! Нет, на колбасу! — взревела толпа. — Руби, братец чех!
Четарж обратился к Пинчукову:
— Слышаешь, сатрап и холуй царски? Народ мясника для тебя требует — разумеешь?
Пинчуков продолжал трясти головой и бормотать: «Пощадите, братцы, нет на мне греха». Потом замолчал и только дико озирался.
— Брате солдате, — сказал толстяк одному из своих. — Запусичь мне на минуту твой роскошни винтарь.
Взяв манлихер, четарж попробовал пальцем штык-нож и удовлетворённо кивнул.
— Стойте! — закричал Волков и вырвал локоть из рук доктора Деревенко. — Остановитесь, Бога ради!
И ринулся сквозь толпу напролом к толстяку.
— Пан четарж! — кричал он, на ходу расталкивая тех, кто не пропускал его к виселице.
Пан четарж не обернулся, а Волков больше не мог продвинуться. Толпа плотно сомкнулась вокруг Волкова. Ему что-то кричали в лицо, толкали, кто-то ударил кулаком в спину, рассерженная дама в шляпке с вуалеткой обрушила ему на голову зонтик, а потом принялась мелко колоть им его в живот, приговаривая:
— На требуху, негодяя, на требуху!..
Но Волков ничего не чувствовал, не слышал и тщетно пытался пробиться к виселице.
Тем временем четарж поплевал по-крестьянски, деловито себе на обе ладони, крепко взял винтовку, подошёл к Пинчукову почти вплотную и сделал короткое, едва уловимое движение штыком.
Послышался треск разрываемой ткани — мундир Пинчукова и исподняя сорочка оказались мгновенно, словно бритвой, разрезанными от горла до паха и развернулись в разные стороны. Все увидели отвисший живот, поросший редким седым волосом. Но ни пореза на нем, ни царапины.
Толпа восторженно загалдела, зааплодировали. Толстяк откланялся на четыре стороны, словно зрителям в цирке или балагане.
— Мы ещё краще мόгем, — заявил толстяк и ещё раз повёл штыком перед животом Пинчукова, однако, на этот раз с некоторым усилием.
Опять никакого звука не последовало и, вроде бы, снова ничего не произошло. Только живот Пинчукова раскрылся, словно докторский саквояж. Из саквояжа на булыжник площади выпали кишки — серые, блестящие, скользкие. На них никогда не падал дневной свет, и вот они вывалились под солнечные лучи.
Толпа ахнула. Пинчуков очнулся, умолк и с бесконечным удивлением смотрел, как из его брюха кишки, разматываясь длинной лентой, продолжают вываливаться на землю. Он озабоченно покачал головой и присел. Стал медленно сгребать внутренности обеими ладонями и укладывать их обратно в живот.
— Мерзавец! — закричал Волков, отбрасывая в сторону всех, кто стоял у него на пути.
Подняв кулаки, он уже почти добрался до чехословаков, как толстяк обернулся к нему. Что-то промелькнуло в глазах четаржа. Он сильнее вгляделся в лицо Волкову и взревел:
— Я узнал тебя, свинье! Большевик! Ты воуси стриг, переодетый, хотел бежать от мене! Браты солдаты! Берить йéго!
Волков уже был в шаге от легионера, как что-то в голове у него захлопнулось, будто с размаху закрыли в ней дверь. И стало темно, тихо, главное, спокойно.
Очнулся он от острой боли в заду и в спине. Открыв глаза, увидел почти вплотную к лицу круглый булыжник мостовой. Дальше — разные сапоги, чистые и грязные, женские ботинки на каблуках, крестьянские лапти.
Справа, почти вплотную к щеке, — добротные русские офицерские сапоги. И две пары солдатских ботинок, а над ними ноги в обмотках.
Офицерский сапог больно ткнул носком Волкову в ухо.
— Очухнулся, червений шпи́йон? — услышал он над собой голос четаржа.
— Я не шпион, — вытолкнул из себя отдельными звуками Волков, не поднимая головы и не сводя глаз с сапога около лица. — Я сам сидел в тюрьме у большевиков, потом бежал от них, от расстрела сбежал…
— Брешешь, паскудо! — заявил солдат справа и пнул ботинком Волкова в бок. — То, чтоб за сатрапа не заступался.
— Ну так что, панове революцийни граждане, — снова обратился толстяк к толпе. — Что делаем сатрапову царскому холую и большевистскому шпи́йону? Я його признал очень верно — от сима.
И четарж показал толстым, как немецкая сосиска, пальцем на свои глаза.
— Сими очима я видал шпийона. Под трудового мужика був переодетый и бороду вырастил мужицку. Где борода твоя, шпийон? — крикнул толстяк и снова сапог ударил в ухо Волкову.
Но теперь боли Волков не почувствовал. Его внезапно охватило равнодушное отупение.
Он уже уходил отсюда — от площади, от толпы, от легионеров, о чём никто даже не догадывается. Здесь, на земле, только слегка задержалась часть его, Волкова. И это было немного досадно, потому что какую-то долю телесных мучений ему придётся все-таки перенести. «Совсем немного и ненадолго, — утешил себя Волков. — А потом и весь уйду туда, где никто из них, и я тоже, никогда не был. Глупцы, не догадываются, что я от них уже почти убежал!»
— Увставать, червени Schweinehund!
Снова удар в висок. Волков крепко, до скрипа, сжал зубы. С трудом поднялся и стал, шатаясь из стороны в сторону.
Толпа стояла кругом, но уже не такая плотная. Она таяла и стекала в переулки.
— Так какой ему приговор, панове граждане? — снова обратился к толпе толстяк, несколько раздражённо.
Толпа молча продолжала растекаться.
— Брати солдатики? Что скажешь, Иржи? И ты, Янек?
— У ванну купать, — сказал Иржи.
— У ванну, — подхватил Янек. — У санаторию! У Карловы Вары!
И пнул Волкова прикладом в спину.
Волков вскрикнул, потом неожиданно для самого себя рассмеялся. Нет, не даст он им радости, не покажет боли.
Чехи с удивлением посмотрели на него. Иржи снова ткнул его прикладом в бок, хотя уже не так сильно.
— Ты ещё много раз будешь жалеть, большевицкий пёс, что я тебя не повесил, — заявил толстяк. — Пшёл!
Волков бросил последний взгляд на опустевшую площадь. Раскачивался в петле инвалид Лукин. Сидел на земле, опираясь спиной о столб виселицы, несчастный Пинчуков и глядел вниз, на распоротый живот уже затвердевшими глазами. Он успел затолкать обратно в брюшину только половину кишек, остальные грязными кольцами валялись на земле.
Доктор Деревенко и Чемодуров исчезли. «Бросили… Убежали… Как зайцы, — горько подумал Волков, но тут же спохватился. — Что же им, тоже в петлю? Нет, хорошо, что успели уйти…»
Волков и его конвоиры прошли узким переулком, потом свернули в ещё более узкий и тёмный, который закончился тупиком. Ударами прикладов солдаты направили Волкова через дырку в заборе в грязный, тесный двор, заросший лебедой и татарником.
Дальше пошли сплошь дворами и снова узкими, как норы, переулками.
Спустя час, наверное, Волков понял, что подошли к окраине города.
На одном из поворотов Волков в последний раз оглянулся, и ему показалось, что сзади далеко мелькнул Чемодуров. Мелькнул и снова исчез за углом избушки.
Показалось? Нет, точно, Чемодуров. Волков убедился, когда сворачивали за угол в очередной раз. Чемодуров идёт следом. Старик, который всегда и всего боялся, а в последнее время — собственной тени, идёт за ним. «Зачем? Ведь я уже мертвец. Мои шаги и мысли — всего только вид агонии. Терентий идёт за моими убийцами, не оставляет меня одиноко умереть, а доктора нет. Доктор сбежал. Вот так. Значит, не зря болтали, что доктор — агент красных. Он — агент, а убивать ведут меня, а не его, хоть я никакой не красный, как и старик Лукин, и не контрреволюционер, как несчастный добряк Пинчуков. Как он радовался моему спасению, как слушал внимательно, как переживал за меня, смеялся, огорчался и успокаивал меня… И вспороли ему живот — кто? Те, кого он считал спасителями. И я так считал, а Деревенко их ненавидит, но сам остался живой. За что ему такая награда?»
Дома кончились, теперь шли полем. Чемодуров далеко, не виден почти, — тёмная вертикальная чёрточка у последнего дома, рядом с колодцем.
Прошли ещё немного, и тут Волков ощутил страшную вонь, совершенно невыносимую, так что он едва не задохнулся. Сознание помрачилось, в глазах потемнело.
Отравленный воздух был заполнен ровным и густым гудением. Оно перекатывалось под небом, переливалось невидимыми волнами.
Тысячи, десятки и даже, наверное, сотни тысяч мух — черных, серых и сверкающих синих и зелёных — кружились над огромным выгребным прудом.
Сквозь плотное жужжание, переходящее временами в дрожащий рёв, вдруг прорезался женский пронзительный крик, полный ужаса:
— Не надо! Умоляю! Убейте меня сразу здесь, на месте!.. Только туда не надо!
У берега два легионера загоняли прикладами в выгребной пруд женщину лет двадцати шести, с виду учительницу, в разодранном коричневом платье, с клочками кружевного белого воротника и с полуоторванными кружевными манжетами. Она кричала, потом тонко завыла. Обхватила сапог одного из солдат и стала целовать пыльное голенище, выкрикивая сквозь рыдания:
— Добрые, милые! Убейте сразу, умоляю… У вас ведь есть матери, сёстры, жёны! Ради них пожалейте — убейте здесь, на месте!.. Я же всё для вас делала, всю ночь — сколько хотели… и что хотели… не сопротивлялась и ничего не просила! Пожалейте, расстреляйте на месте… Только не туда! Христом-Богом молю!..
Легионер рванул сапог, но она не выпускала и тоже метнулась вместе с сапогом. Солдат размахнулся винтовкой, как дубинкой, и ударил прикладом женщину по рукам.
Послышался треск перебитых костей, женщина хрипло вскрикнула и оставила сапог. Теперь легионеры с улыбками и смешками легко спихивали её прикладами к жёлтой зловонной жиже. Она пыталась хвататься за землю. Пальцы ничего схватить не могли.
Недалеко от берега уже плавал труп, похоже, женский, только часть спины в таком же коричневом платье поднималась над поверхностью и покачивалась, облепленная огромными черными мухами. Легионеры поддели винтовками, как рычагами, тело умолкнувшей. И, словно бревно, перекатили её в пруд. Женщина утонула сразу и не всплывала.
— Карлсбад! — крикнул прямо в ухо Волкову легионер Иржи. — Курорта! Санатория!
— Нет! — завизжал Волков — так же тонко и резко, как женщина перед ним. — Нет!
— А чому нет? — добродушно удивился толстый четарж. — Правильно говорит тебе брат солдат Иржи: лечебна ванна. Специально для большевиков. Бесплатно, за счёт трудового люда. Больше никогда в жизни болеть не будешь.
— Нет! — крикнул Волков, оседая на землю.
— Встать, встать, добитек! — рявкнул другой солдат и ударил Волкова прикладом по рёбрам — послышался хруст. — Вставай!
Волков не вставал, в глазах у него стало темнеть, ударов он уже не чувствовал.
— Доброе тебе скажу, — склонился к нему Янек. — Прыгай сам. Всё быстро кончится, я в тебя сразу выстрелю, и ты уже в раю. Не надо мне тебя бить, колоть. Две секунды — и ты свободный.
Волков не отвечал и не двигался.
Толстый четарж замахнулся сапогом, но почему-то задержался, не ударил. В воздухе послышались странные звуки — так кричат перелётные гуси. Чехи посмотрели в чистое синее небо, где не было даже облаков. Иржи сказал удивлённо:
— Смотри, брате четарж, wer ist da? Гости…
Снова кряканье, несколько раз.
Со стороны города приближался, подпрыгивая на разбитой грунтовой дороге, автомобиль рено с открытым верхом и непрерывно сигналил. Подъехав, резко затормозил, обдав всех пылью и синим ядовитым дымом. Открылась передняя дверь, на землю выскочил русский поручик.
— Что? Кого взяли? — крикнул он.
Чехи не отвечали, с любопытством рассматривая поручика.
— Отвечать! — крикнул поручик.
Легионеры заулыбались — весело и нагло.
Из автомобиля властно донеслось негромкое:
— Zum Befehl!
В машине позади водителя сидел офицер в мундире австрийского капитана, но с красно-белой ленточкой на рукаве. Он был без фуражки, лицо неподвижное — череп, обтянутый сухой, будто задубевшей на солнце, жёлтой кожей. Глаза закрыты черными круглыми очками. Рядом с капитаном сидели доктор Деревенко и согнутый пополам Чемодуров.
— Не знаете, кто перед вами, ракальи? — рявкнул поручик легионерам.
Волков узнал капитана — два часа назад он проезжал по Вознесенскому проспекту вместе с генералом Гайдой.
Чехи вытянулись во фронт, щёлкнули каблуками, винтовки к ноге.
— Так точно! Перед нами — брате капитан Йозеф Зайчек, начальник военного сыска! — крикнул толстяк. — А с нами — большевик! Красный шпи́йон!
— Шпион? — медленно переспросил на чистом русском капитан Зайчек. — Что же шпиона до военного сыска не довели? Понятно: так вы же сами шпионы! И расправляетесь со своим, потому что он провалился. Теперь заметаете следы. Чтобы вас не схватили!
— То не так, брате капитан! — перепугался толстяк. — То настоящий шпи́йон, но до тюрьмы тащить приказа не было.
— А голова у тебя есть? — бесстрастно поинтересовался капитан.
— Есть голова! — радостно гаркнул толстяк.
— Уже не вижу твоей головы, — прошелестел капитан и многозначительно глянул на поручика.
Тот выхватил из ножен зазвеневшую шашку.
В животе у толстяка ухнуло, булькнуло и даже в спёртом зловонном воздухе распространился запах свежих экскрементов.
— Ладно. Оставим ему голову до другого раза, — медленно произнес капитан, и поручик вернул шашку в ножны.
Доктор вышел из автомобиля, взял Волкова под локоть и повёл к машине.
— Незаконно арестованного русского гражданина капитан Зайчек забирает, — объявил поручик. — Прошу в авто, господин Волков.
Чемодуров подвинулся на диване, и Волков с трудом забрался в автомобиль.
— Владимир Николаевич хорошо — успел… — шепнул ему Чемодуров.
— Владимир Николаевич… капитан… — начал Волков. И не было сил продолжать.
Капитан усмехнулся и слегка кивнул ему. Доктор крепко пожал Волкову руку.
Волков уткнулся лицом в плечо доктора и заплакал — беззвучно. Зато слезы лились свободно и обильно, а вместе с ними вытекали боль, ужас смерти и страх чудовищного, хуже смерти, унижения.
В КОМЕНДАТУРЕ у подполковника Сабельникова Волков долго не мог произнести ни слова застывшими губами. Чемодуров тоже молчал, нахохлившись, как воробей после дождя, и только вертел пугливо головой. Мрачный доктор Деревенко коротко рассказал коменданту, что им довелось увидеть.
Подполковник Сабельников помолчал, нажал на кнопку электрического звонка. В двери показался адъютант, поручик артиллерии.
— Слушаю, Николай Сергеевич!
— Викентий Владимирович, там у нас от господина Шустова осталось что-нибудь?
Поручик чуть кивнул головой с косым пробором, разделяющим блестящие черные волосы, гладко прилизанные густо пахучим американским бриолином.
— Так точно, привет от Шустова у нас ещё имеется.
— Сюда его.
Поручик исчез и через секунду появился — в одной руке бутылка коньяка, в другой — три серебряных, с чернью, стопки кубачинской работы.
— Однако, величайшая редкость, — оценил Деревенко, глядя, как поручик аккуратно разливает коньяк. — Можно сказать, антиквариат.
— Не пить же монопольку от эсеровского правительства, — усмехнулся Сабельников. — Хотя она исправно начала пополнять армейскую казну, и пьяные доходы растут с каждым днём. Между тем, Ленин так и не отменил царский сухой закон. Знаете?
— Пусть ему хуже будет! — заявил Чемодуров.
— Пусть, не возражаю, — согласился Сабельников. — Только это ещё вопрос, кому хуже. Когда видишь, как в бой идут наши пьяные солдаты… Ещё хуже пьяные офицеры. Кому-то рюмка перед боем на пользу. Таких немного. У остальных пьяная храбрость легко переходит в трусость и панику. Что же, господа, прошу вас — антикварного.
— А что же вы? — спросил Деревенко, беря стопку.
— Воздержусь. Может, перед сном. Когда-то бутылку, даже две мог за один раз. Но то были другие времена. И годы другие.
Волков и доктор осушили стопки в момент, Чемодуров сделал крошечный глоток и сказал, смущаясь:
— По-офицерски не научился.
— Господин полковник! — спросил печально Волков. — Неужели нет на них управы?
Сабельников вздохнул и сказал мягко:
— Я не только понимаю вас, Алексей Андреевич. Мало того, сочувствую, переживаю и возмущаюсь, хотя за пять лет войны навидался всякого. Но такого, признаюсь, тоже никогда не видел. И представить не мог.
— Так почему же, комендант, вы тут сидите, вздыхаете и коньяком нас утешаете? — вскочил Волков, едва не опрокинув бутылку — подполковник успел её перехватить. — Арестовать их! Немедленно. И покарать публично, для острастки.
— Кого покарать? — спокойно осведомился Сабельников.
— Как кого? — задохнулся Волков. — Мародёров! Убийц! Душегубов чехословацких!
Сабельников медленно кивнул несколько раз.
— Да, да… Положительно согласен с вами. Но… над чехами у меня власти нет. Обратили внимание, в городе две комендатуры — наша и чешская? Стало быть, две власти. И понятно, какая сильнее. Их власть всяко сильнее моей, хотя среди командиров легиона немало русских офицеров и генералов. Тот же Войцеховский, Дидерикс, барон Будберг, Лебедев…
— На Гайду как-то подействовать? Может, он не знает ничего.
— Ежели вы решили, что я ничего не делаю, то ошибаетесь, — с лёгким упрёком, больше похожим на обиду, сказал Сабельников. — Только за последние два дня я сделал шесть представлений Гайде и Сыровому о бесчинствах легионеров. И что в ответ?
— И что в ответ? — эхом отозвался Волков.
— Ответ один: «То не наши! Но разберёмся». И ни одного расследования, ни одного наказания. Мы для них вроде африканских дикарей. Ничего не понимаем в жизни белого человека. Особенно чехов, о которых их свежеотпечатанный президент Масарик недавно заявил, что чехи — самая передовая, культурная, талантливая и развитая раса на планете. Именно раса, то есть порода, как у собак. Не чета русским. Всем нам следует немного потерпеть. Сейчас у нас нет армии, нет оружия, снаряжения, нет денежных средств, в конце концов! Но скоро это унижение кончится.
— Если я правильно понимаю, главная цель — после захвата Москвы восстановить Восточный фронт и ударить по немцу объединёнными силами, вместе с чехами, — спросил доктор.
— Да, Владимир Николаевич, вы правильно понимаете.
— Следовательно, отправка легиона к французам отменяется?
— Я бы не стал так категорически утверждать заранее, — осторожно сказал подполковник. — Но такой ход событий некоторыми начальниками продумывается.
Деревенко усмехнулся:
— Я заранее прошу прощения, господин полковник, за моё невежество и возможную бестактность — я человек сугубо штатский, многого не знаю в военной науке. Но есть у меня неотступные вопросы, и никуда от них. Спать не дают.
— Что же, — добродушно сказал Сабельников. — Попробую прописать вам снотворное. Спрашивайте.
— Вы, разумеется, помните, полковник, как Лев Толстой в «Войне и мире» объясняет, почему армия Наполеона, едва войдя в Москву, с первых же часов пребывания там перестала существовать как военная сила. Потому что бросились грабить.
— Да, конечно, помню.
— Мне трудно представить себе, что чехословацкий легионер, сгибаясь под тяжестью награбленного, вдруг захотел умирать в России на новом фронте по приказу своих начальников. Зря, получается, грабил? Зачем оно ему, убитому. Или, думаете, чехи двинутся на фронт с тысячью своих поездов? Так ведь они попросту забьют все железные дороги. И не доедут до фронта никогда. Никто не доедет. Или они оставят всё награбленное здесь до конца войны?
— Безусловно, назад, в Россию, легионеры не повернут. И ничего не бросят. Но если все-таки произойдёт чудо и они окажутся на Западном фронте, это для нас тоже хорошо. Какую-то часть сил противника на себя всяко отвлекут. Нам бы поскорее создать Сибирскую армию и совместно с Добровольческой раздавить большевиков, остальное приложится.
— Дай Бог, поскорее. Правда… сейчас я скажу ересь, полковник. Вам не понравится. Но буду благодарен тому, кто укажет, в чём моя ошибка.
— И вы полагаете, доктор, я именно тот, кто вам нужен? — усмехнулся Сабельников. — Я всего лишь военный человек, не политик и, тем более, не философ. Всю жизнь учился достаточно простому делу: уничтожать противника, сохраняя, елико возможно, жизни своих солдат.
— И всё же, — не отступал доктор. — Рискну высказать именно вам, военному, то, что мне кажется очень важным.
— Я весь внимание, — подполковник откинулся на спинку кресла.
— Не лучше ли было бы, Николай Сергеевич, для всех нас и для России в целом, не воевать с большевиками до полного взаимного уничтожения, а… договориться ними?
Сабельников озадаченно посмотрел на доктора:
— Не понимаю вас, признаться. Предлагаете сдаться большевикам без боя?
— Ничего подобного! — горячо возразил Деревенко. — Не сдаться! А остановить войну и попытаться найти компромисс относительно будущего устройства Отечества! Найти, прежде всего, то, что нас объединяет! И ведь очень много объединяющего: земельный вопрос, права и свободы отдельной личности, уничтожение сословий, пересмотр отношений собственности…
— Ещё бы! — ядовито заметил подполковник. — Особенно нас объединяют такие большевицкие теории, как обобществление женщин, уничтожение частной собственности! Полная национализация земли, промышленности и торговли. А главное, «смерть буржуям»!
— Осмелюсь заметить, — сказал Деревенко, — что вы, господин полковник, несколько ошибаетесь. Никакого обобществления женщин большевики не провозглашают. Это анархистов любимая тема. Что касается промышленности, то они, как и кадеты, настаивают только на контроле фабрикантов и торговцев со стороны рабочих комитетов, которые начались ещё при Керенском. Думаю, точек соприкосновения с красными наверняка больше, чем мне сейчас приходит в голову. Нужно только не лениться и их искать!
— Вашими бы устами… — прищурился подполковник.
— Самые трудные и острые проблемы русские должны между собой решать не на поле боя! Не в остервенелом истреблении друг друга, а в цивилизованной дискуссии, призвав на помощь разум, но не пушки и чехословацких легионеров с Антантой! Давайте вместе всё решать, договариваться, а не продолжать взаимную резню. Для начала белым заключить с красными сепаратный мир.
— Красные никогда не согласятся. Или выдвинут невыполнимые условия.
— Значит, надо добиться от них выполнимых, убедить согласиться на мирное восстановление и строительство Отечества! Для этого есть масса бескровных способов. Из которых нами не употреблено ни одного. И попытки не сделано. И никому в голову почему-то не приходит, что хотя бы попробовать следует.
— Вы, доктор, похоже, очень большой идеалист.
— Может быть, и так. Но позвольте заметить: мне очень далеко до ещё большего идеалиста — Иисуса Христа.
Подполковник от души расхохотался.
— Что ж, пожалуй, и мне не помешает глоток антикварного, прежде чем отвечать.
Открыв дверцу стола, подполковник Сабельников извлёк оттуда простую стеклянную стопку, взял бутылку. Но разливать коньяк не спешил.
Поразмыслив, отставил бутылку в сторону.
— Я только что подготовил один документ. Он адресован жителям города — всем: монархистам, эсерам, кадетам, социалистам и националистам… Людям белых взглядов и… красных. Самый первый документ, который я адресовал населению при входе нашем в город назывался, естественно, «Обращение». А этот… этот я назвал несколько необычно для документа, исходящего от власти: «Просьба».
— Как? — удивился Деревенко. — Виноват, не расслышал.
— Всё-то вы расслышали, Владимир Николаевич, — усмехнулся Сабельников. — Только не поверили сразу… Вот, читайте.
И он протянул доктору листок с машинописным текстом.
Деревенко очень медленно, даже шевеля губами, прочёл — сначала про себя, потом вслух, вполголоса.
ПРОСЬБА
Пока не успела ещё остыть братская кровь безвременно погибших жертв последних кровавых дней, пока ещё свежо воспоминание о тяжёлой године, уже пережитой нами, мы обращаемся к вам, граждане, без различия политических и религиозных взглядом, с ПРОСЬБОЙ забыть хотя бы временно все партийные раздоры, как политические, так и национально-религиозные, и вспомнить, что у нас есть прежде всего Родина — Святая многострадальная Русь, и что мы все (без различия религий и наций) прежде всего и раньше всего Русские Граждане.
Поэтому убедительно и настоятельно просим воздерживаться от всякой агитации и пропаганды, усиливающих национально-религиозную и политическую рознь, создающих внутренний раздор и междоусобицу.
Надеюсь, что пережитое недавно послужит полезным уроком и заставит молча и более внимательно прислушиваться к голосу опытных в жизни людей и отодвинет в область давно прошедшего минувшую чёрную годину — как искупительную жертву за ошибки людей, расточавших фейерверки хотя и красивых слов и фраз, по лишённых жизненного значения в то время, когда самому существованию нашей дорогой Родины грозит опасность полного иностранного порабощения.
Комендант г. Екатеринбурга
Подполковник Сабельников
25 июля 1918 года
Потрясённый доктор смотрел то на коменданта, то на листок, то снова на коменданта.
— Значит, правду говорят, что идеи носятся в воздухе? — продолжал улыбаться Сабельников. — И что достаточно быть повнимательнее, чтобы их обнаружить?
— Очевидно, так, — перевёл дух Деревенко.
— Возможно, это первый шаг к вашему недостижимому идеалу.
— Похоже, — согласился бывший лейб-медик.
— А, может быть, и к достижимому.
— Дай-то Бог…
— Вот за хорошее дело давайте и выпьем. Хотя, честно сказать, мы с вами напоминаем человека, который пытается криком остановить снежную лавину… И обрушивает новую.
Комендант наполнил стопки.
Но едва только все трое подняли их, как резко распахнулась дверь и на пороге возник адъютант.
— Простите, господин полковник!..
— Что-то срочное? — недовольно спросил подполковник.
— Весьма. Новости от наших чехословацких… друзей.
Комендант поставил стопку на край стола.
— Говорите.
— Только что чехословаки заняли дом инженера Ипатьева под свой штаб и комендатуру.
Сабельников некоторое время смотрел на адъютанта.
— Вы уверены?
— Абсолютно. Вернулись часовые, которых вы лично изволили назначить для охраны особняка. Чехи их просто изгнали. Угрожая оружием.
— Нет, вы видите? — сказал Сабельников, обращаясь к доктору. — Есть ли границы наглости! Я ставлю охрану к дому, который полон уликами. Приходят какие-то «бессмертные» шельмецы, извините, и отменяют мой приказ! За такое в военное время пуля в лоб. И куда только генерал Гайда смотрит! Соедините меня немедленно по телефону с генералом! — приказал он адъютанту.
Но тот не двинулся с места.
— Вы не расслышали, Викентий Владимирович?
— Расслышал, господин полковник.
— Так что же стоите столбом?
— Дело в том, что захватом ипатьевского особняка командовал лично генерал Гайда. И уже размещает там свой штаб. Ему готовят личные апартаменты.
— Чёрт бы его побрал! — сквозь зубы выговорил Сабельников.
— Ещё не всё, — продолжил адъютант. — Капитан Зайчек в подвале вовсю оборудует пыточную, инструменты налаживает. И первая жертва уже есть: местный судебный следователь Наметкин. Чехами арестован и брошен в подвал.
Сабельников с минуту размышлял.
— Всё равно, дайте связь с Гайдой. Не было печали… А?
6. СЛЕДОВАТЕЛЬ НАМЕТКИН. ЧЕХО-ИСПАНСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

Капитан Йозеф Зайчек, начальник колчаковской инквизиции
без своих знаменитых черных очков — второй справа.
НАКАНУНЕ Алексей Павлович Наметкин, следователь судебной палаты, был на дне Ангела у двоюродной сестры. И засиделся до трёх ночи. Не то, чтобы вечер получился интересным — кроме ещё двух родственников, не было больше никого. Просто не хотелось возвращаться в свой дом, опустевший два года назад.
Все разошлись, а он всё не мог заставить себя встать из-за стола. Сестра бросила материнский взгляд на его физиономию, пунцовую от домашней вишнёвки, на спутанные влажные волосы, на вицмундир, затёртый до блеска на локтях.
— Когда, наконец, женишься, Алексей? Два года прошло, снимай траур.
Наметкин сразу заторопился, быстро опустошил до дна графинчик и поднялся. Сестра оставляла ночевать — опять же комендантский час. Но он всё равно отказался, соврал про неотложные дела с утра.
Комендантский час его не волновал. Чехословаки добросовестно патрулировали лишь в первые сутки после вступления в Екатеринбург. Теперь на ночное патрулирование выходили только добровольцы — грабить случайных прохожих. Под арест отправляли уж совсем безденежных. Или налетали с внезапными проверками на квартиры обывателей, особенно, на те, где имелись юные барышни.
Ни одного патруля Наметкин не встретил на пустых улицах. Пришёл домой быстро, ощущая на ходу, как в желудке плещутся два литра вишнёвки.
Серая летняя ночь уже перетекала в утро. Но уснуть не получалось. Едва Наметкин закрывал глаза, как его, словно на корабле в шторм, качало из стороны в сторону, тошнота, как при морской болезни, подкатывала к горлу.
В конце концов, Наметкин победил себя: медленно и осторожно стал засыпать.
Получаса не прошло, как дом содрогнулся от грохота.
Слетела с петель входная дверь и хлопнулась на пол. По ней в комнату вбежали два чеха с манлихерами наперевес и поручик русской армии с наганом в руке.
— Что? Кто такие? Как посмели?.. — вскрикнул Наметкин.
— Вот он — красный мерзавец, продажная шкура! Большевицкий шпион! — взревел поручик и воткнул ствол револьвера Наметкину в открытый от ужаса рот, раздирая ему язык и нёбо.
— Прощайся с жизнью, ракалья!..
— О… о… о… — только и выжал из себя Наметкин, дико вращая глазами.
— Что?! — прищурился поручик. — Издеваться? — и провернул ствол револьвера.
Кровь судебного следователя потекла струёй изо рта на измятую, влажную от сна исподнюю сорочку.
— Э… э … — Наметкин изо всех сил с мольбой смотрел на чехов.
Но чехи только усмехались от порога.
Поручик вытащил изо рта Наметкина револьвер, сунул в кобуру и застегнул её.
— Так что ты хотел сказать, тварь? Признаться? Признавайся, если жить не надоело.
— Го… господин поручик… Ваше благородие… Христом-Богом… Не большевик я, не шпион! Кто угодно подтвердит. Клянусь!
Отступив на шаг, поручик критически оглядел Наметкина с ног до головы.
— Значит, не желаешь признаваться, — и снова расстегнул кобуру.
— Да я же вас знаю! — закричал Наметкин. — И вы меня тоже знаете!.. Вы поручик Шереметьевский!
— Меня все шпионы знают, — усмехнулся поручик. — И красные, и белые.
— Я судебный следователь Наметкин!.. Мы с вами у коменданта Голицына вчера были. Он подтвердит мою личность.
— Следователь… — неожиданно сбавил тон поручик. — Эдак любой краснопузый назовётся следователем.
Он повернулся к чехам:
— Что, братцы, расстрелять мерзавца на месте? Или в контрразведку?
— В контрразведку! — крикнул Наметкин. — Веди в контрразведку.
— Сам захотел, — отметил поручик. — Пошёл!
Следователь торопливо оделся. Не дожидаясь команды, сцепил руки за спиной, как предписывают правила сопровождения арестованных. Семенящим шагом, иногда вприпрыжку, двинулся вслед за широко шагающим поручиком. Легионеры шагали тоже широко. И время от времени подбадривали Наметкина сзади штык-ножами манлихеров.
Через четверть часа они были на Вознесенской площади у особняка инженера Ипатьева.
Острог, установленный большевиками, когда они держали здесь Романовых, стоял по-прежнему. На вышке у ворот — снова пулемётчик, только чешский, а над пулемётчиком развевается флаг будущей Чехословакии. У проходной двое часовых — рядовой и сержант.
— Арестованный на допрос к капитану Зайчеку, — заявил поручик.
— Как прозвають пана? — вежливо осведомился сержант.
— Поручик Шереметьевский. Со мной арестованный — следователь Наметкин. Бывший. Теперь красный шпион и лазутчик.
Сержант отступил внутрь проходной, снял трубку внутреннего телефона и крутанул ручку. Сказал несколько слов по-чешски, выслушал, бросил испытывающий взгляд на поручика.
— Проходьте. Брат капитан Зайчек приказал.
Первое, что увидел Наметкин в вестибюле, на площадке входной лестницы, — огромное чучело бурого медведя без головы. Косматая голова без ушей и с блестящими черными пуговицами вместо глаз лежала рядом. Проходя мимо чучела, Наметкин на секунду представил, как около медведя по нескольку раз в день ходили Романовы. Где, интересно, была тогда голова? Он даже шаг придержал, но в спину тотчас упёрлось остриё штык-ножа.
— Дале, дале! — прикрикнул легионер.
Поручик Шереметьевский дошёл до другой, внутренней, лестницы во двор и уже спускался вниз.
Они вышли во двор, заросший пучками травы на жёлтой земле, окаменевшей от жары. В запущенном неряшливом саду несколько тополей и дубов шевелили пыльными листьями под лёгким ветром.
— Сюда! — приказал поручик, открывая внутреннюю дверь на первый этаж.
Теперь они попали на тёмную деревянную лестницу в полуподвал. Спускаясь, Наметкин машинально насчитал двадцать три ступеньки.
В полуподвальную комнату свет проникал через два маленьких окна под потолком. По ту сторону толстого мутного стекла мелькали грязные солдатские ботинки, сверкающие офицерские сапоги, щегольские штиблеты с мелкими пуговицами на светлых гамашах, крестьянские лапти, женские боты; прокатились с жестяным звоном колеса ручной тележки.
Стены и даже потолок комнаты оказались в выщербинах, словно от горошин. Особенно густо их было на задней стене и на правой — около боковой двери в чулан. Тут и штукатурка обвалена. В одной выщербине Наметкин без труда разглядел застрявшую пулю.
— Brate kapitán, — сказал сержант. — Svůj rozkaz vykonán. Zadržený převezen.
— Volný, — раздался голос из дальнего угла. — И вы, поручик, тоже свободны.
Наметкин даже головы не повернул на голос. Он оторвать глаз не мог от удивительного деревянного кресла посередине комнаты. Явно старинное, тёмного резного дуба, с высокой готической спинкой. Судя по отполированным подлокотникам, использовалось кресло часто. К каждому подлокотнику с торчащими железными шипами прибиты ручные кандалы. Спинка и сиденье тоже густо утыканы, как сапожная щётка, длинными стальными шипами, окрашенными чем-то черным. Кровь, старая, запёкшаяся, догадался Наметкин.
— Значит, у нас в гостях господин Наметкин… Алексей Павлович… — вполголоса констатировал голос на хорошем русском языке, впрочем, с небольшим иностранным акцентом.
Теперь следователь увидел в углу, за небольшим канцелярским столом капитана в русском мундире, но с красно-белой ленточкой в петлицах Узкое лицо капитана казалось высушенным на солнце пустыни — голый череп, обтянутый темной кожей, сквозь которую, казалось, просвечивались кости. Глаза спрятаны за черными очками. Перед капитаном на столе лежали две стопки — фотографии слева и стеклянные пластинки негативов справа.
— Присаживайтесь, любезный Алексей Павлович. Будьте, как дома, — капитан указал на стул рядом с собой. — Я капитан Йозеф Зайчек. А можно и проще — Йозеф Николаевич. Милости прошу.
Наметкин пробулькал что-то и сел, не отводя взгляда от удивительного кресла.
— Понравилось? Знаете, что за мебель? — поинтересовался капитан.
— Да, — проглотил комок Наметкин. — Пыточное кресло инквизиции.
— Замечательно! В самую точку, — восхитился капитан. — Вы наш первый посетитель, кто ответил правильно. Интересовались темой?
— Приходилось… В университете.
— А вот ещё, взгляните. Вам любопытно будет, — капитан взял фотографию из левой стопки и протянул Наметкину.
На фотокопии старинной гравюры — река, несколько монахов на берегу около сооружения, похожего на античную баллисту. Один конец длинного рычага удерживают двое монахов, к другому концу, зависшему над водой, привязано кресло, и в нём — женщина в цепях.
— Купание ведьмы, — сказал Наметкин. — Жертву следует держать под водой до захлёба. Если выдержит, значит, ведьма. Захлебнётся и помрёт — не виновата, добрая христианка.
— Верно, — шевельнул бровями капитан. — А вот ещё чудесная картинка.
Здесь три жертвы были посажены на колья. Острые концы кольев торчали у каждого казнённого из спины.
— Ничего странного не замечаете?
— Не замечаю, — почти успокоившись, ответил Наметкин. — Обычная отвратительная процедура.
— Обычная, да не совсем, — усмехнулся капитан. — Сажать на кол — чисто азиатский способ казни, точнее, древнекитайский. Оттуда он перешёл к туркам. Но турки испортили дело. Казнили именно так, как нарисовано. А надо несколько иначе… От турок способ переняла католическая инквизиция, и святые отцы турецкую ошибку повторили. Не догадываетесь, какую?
— Никак нет. Не догадываюсь.
— Кол острием должен не через спину выходить, а через горло.
— Зачем же? — внезапно осевшим голосом просипел Наметкин
— Да затем, чтобы жертва мучилась подольше, — с добросердечной улыбкой пояснил Йозеф Николаевич.
Он перетасовал фотографии.
— Удивительно… — в раздумье произнес капитан. — Нет предела человеческой фантазии. Особенно, в способах насилия в отношении ближнего своего. Полюбуйтесь… Знаменитый «Испанский сапог»: такое, понимаете, крепление на ноге с металлической пластинкой. Пластинка постепенно затягивается, чтобы так же медленно ломать человеку кости ног. Для усиления эффекта иногда к работе палачей подключается сам инквизитор, который бьёт молотком по «сапогу». После таких пыток все кости жертвы ниже колена раздроблены, а израненная кожа выглядит, как мешочек для этих костей… А вот милейшая «Дочь дворника»: жертва заковывается в такой позе, что уже через несколько минут мышечный спазм вызывает во всем теле невыносимые боли, особенно, в животе и в анусе… А вот здесь изображена очаровательная «Нюрнбергская дева»: обвиняемого помещают в железный саркофаг, где его тело протыкается острыми пиками так, чтобы ни один из жизненно важных органов не был задет. И тогда агония растягивается надолго.

Сутками может тянуться… А здесь моя любимая обувь — «Железные башмаки». Видите под пяткой острый шип? Если покрутить специальный винт, шип вылезает из пятки башмака вверх. Жертве приходится стоять на цыпочках до истощения всех своих сил. Постойте на носках — сколько вы протянете?
— Душевно вам признателен, Иосиф Николаевич. В другой раз, пожалуй, попробую, — вежливо отказался дрожащий Наметкин.
— Как вам будет угодно, — пожал плечами капитан. — Было бы предложено. Здесь очень удобный в работе крюк «Кошачий коготь». Понятно, что используется не для того, чтобы почесать вам спину. Плоть жертвы разрывается крюком медленно, болезненно; «Кошачьими когтями» вырывают не только куски тела, но и ребра… Ещё гляньте: очень аппетитная «Груша». Вставляется в анус и раскрывается таким образом, чтобы причинить жертве поистине адскую, немыслимую боль. Тут, взгляните, замечательная «Колыбель Иуды». Простенькая деревянная пирамида. Самое безобидное орудие. Не разрывает мышцы, не ломает кости, не протыкает спину или горло. Грешника сажают на острие пирамиды, и он от боли теряет сознание; его обливают водой, приводят в чувство. И процедура начинается сызнова. Вам, конечно, понравилось.
— Просто великолепно, — прохрипел Наметкин. — Я в восторге.
— А на сей шедевр пыточного искусства, Алексей Павлович, обращаю ваше особое внимание. В этой пытке есть что-то философское, — капитан вытащил фотографию из середины пачки. — Вот: «Очищение души». Инквизиторы, особенно, испанские, порой проявляли удивительную гуманность по отношению к обвиняемым. Пытались спасти их души ещё на этом свете, чтобы грешники, не дай Боже, не попали в ад, даже если они упорно не желают отречься от Князя тьмы. Для спасения души жертве вливали в горло кипящую воду. Или запихивали ему туда же горящие угли. Или поили раскалённым свинцом. Результат, как вы понимаете, достигался немедленно. Не знаю, как душа, а тело уж точно отзывалось на такую заботу сразу.
— Очень впечатляет, — признался Наметкин.
— И всё-таки, сколько жестокости! — вздохнул с осуждением капитан. — Куда катится человечество?
Он отобрал у Наметкина фотографии и несколько минут молча изучал лицо следователя. Алексей Павлович постепенно сжался.
— А что вы сказали бы по поводу того, чтобы использовать верные, многократно испытанные способы инквизиции в современной практике добывания истины? В контрразведке, например.
— М… м… м… — с трудом выжал из себя Наметкин.
— Извините, не совсем вас понял, Алексей Павлович. Что вы сказали?
— Я… я лишь хотел отметить, что даже лучшие, испытанные веками пыточные методы могут, кого угодно заставить признаться, в чём угодно.
— Не каждого! — живо возразил капитан. — Попадаются иногда моральные уроды и фанатики. Эти способны перенести любую боль, любую пытку. Те же большевики. И даже радуются своим мукам. Не страха ради иудейска, а во славу своих идей, часто совершенно идиотских. Вот тут — да, тут использовать пытку надо с умом. Понимать, где враньё самолюбца, где самооговор, а где верное признание.
— Полностью с вами согласен. Талант нужен… Особый.
— Итак, любезный Алексей Павлович, вы находитесь… где вы находитесь?
— В контрразведке, разумеется.
— Не совсем так. Здесь контрразведка и инквизиция одновременно. Вы прекрасно понимаете, что ваш арест — не пустячок. Без серьёзных оснований никто вас сюда не притащил бы. А коль скоро попалась птичка, то инквизиция её из клетки не выпустит. Чтоб не ронять свою репутацию. Так было всегда. Так будет. Всегда.

— Тогда, может быть, соблаговолите, милостивый государь, известить, в чём моё преступление?
Капитан Зайчек ласково улыбнулся.
— Да какая разница! Разве вам не всё равно? Главное, вы здесь. И жизнь ваша изменилась. И ещё не ясно, прекратится ли она здесь и сейчас, или продолжится.
Лоб Наметкина заблестел, тёплые ручейки стекали по щекам и падали на пол.
— Да не спешите вы так переживать! — воскликнул добродушно капитан Зайчек. — У нас с вами ещё есть шанс понять друг друга.
— И что же я должен понять? Потрудитесь разъяснить.
— Потружусь… Как же — потружусь! — пообещал капитан. — А вы сами не догадываетесь?
Наметкин отрицательно покачал головой.
— Я бы мог спросить, кто из большевиков вас завербовал, — с внезапной угрозой произнес капитан. — И кого вы завербовали! И, в конце концов, выдавил бы из вас признание. Нужное мне. Но для начала скажите, почему вы манкируете своими служебными обязанностями?
— Ах, вот вы о чем! — перевёл дух Наметкин. — Я понял! Всё как раз наоборот. Именно мои служебные обязанности запрещают нарушать уголовно-процессуальный кодекс и приступать к следствию, которое позже любым официальным учреждением в любое время и в любой стране может быть признано юридически ничтожным. Мне моя деловая репутация ещё дорога.
— Значит, речь всего-навсего о формальной процедуре?
— Так ведь вся юстиция, Иосиф Николаевич, состоит из формальных процедур.
— Слышал, как же: fiat justitia et pereat mundus. «Пусть рухнет мир, но восторжествует юстиция». То есть, правосудие. Справедливость, надо полагать.
— Кому нужна справедливость, если рухнет мир? — с грустью возразил Наметкин. — К тому же мне эта максима известна в несколько другом варианте: fiat justitia, ruat caelum. «Правосудие должно совершиться, даже если рухнут небеса». Луций Кальпурний Пизон, римский консул, 58-й год до Рождества Христова.
— Так-так-так… У нас с вами получается дискуссия, почти академическая. Такое и в застенках испанской инквизиции случалось, да…
Наметкин умоляюще сложил руки.
— Иосиф Николаевич, поверьте, о дискуссиях я не думал, когда говорил, что мне нужно постановление прокурора. И сейчас не думаю. У меня к вам огромная просьба… Можно?
— Разумеется. Для вас готов сделать всё.
Но Наметкин ничего не успел сказать.
Широко отворилась дверь. На пороге стоял сам генерал Гайда — без фуражки, прилизанный, верхние пуговицы кителя расстёгнуты. И улыбался он тоже по-домашнему, тепло, добродушно.
— Brate generál… — привстал капитан.
— Сидите, брат капитан, сидите. А вам, Алексей Павлович, доброго здоровья. Рад вас видеть у меня в гостях.
Наметкин секунду подержал широкую генеральскую ладонь — холодную, словно Гайду только что привезли из морга. И осторожно освободился.
— Вижу, господин судебный следователь, вы уже приступили.
— Вы имеете в виду?.. — искательно заглянул генералу в глаза Наметкин.
Гайда повёл рукой вокруг.
— Предполагаемое место преступления. И вы здесь. Значит, уже начали следствие.
— Но я уже пояснял коменданту Сабельникову… И капитану Зайчеку сейчас, — промямлил Наметкин. — Закон… Процессуальный кодекс… Мне нужно предписание… Постановление прокурора…
— Уже слышали о вашей, если говорить честно, глупой отговорке. Сильно напоминает большевицкий саботаж, — заявил капитан. — Но, товарищ Наметкин, предупреждаю! Прежде чем вы пожелаете объяснять нам ещё что-нибудь, предлагаю как следует подумать: а вдруг ваше объяснение нам не понравится? Может быть, вам будет удобнее принимать решение на этом седалище? — Зайчек кивнул в сторону пыточного кресла.
— Да-да, не стесняйтесь, Алексей Павлович, — подбодрил Гайда. — Капитан всё для вас сделает. Я его попрошу, чтоб ни в чём не давал отказа. А постановление прокурора… Вы его получите. Немедленно. От капитана. Так?
— Уже выдано, — мягко заверил Зайчек.
— Очень хорошо, — порадовался Гайда. — Когда думаете приступить, Алексей Павлович?
— М… м… м… — промычал следователь.
— Всё понятно! Значит, уже завтра. Очень хорошо. У вас, у криминалистов, считается, что лучше всего удаётся расследование по горячим следам. Так?
— Именно так.
— Конечно, горячие следы давно остыли, — сказал Гайда. — Романовых расстреляли именно здесь уже с полмесяца тому. Всех. Семью, детей, слуг, доктора. Убийство царской семьи красными жы́дами — именно и только жы́дами! — нужно расследовать немедленно. У вас максимум неделя. Красное Гадово колено — они же дикари. Хуже: звери, гиены! И даже шакалы. Весь мир должен всё узнать, как можно скорее. Желаю успеха!
И Гайда ушёл.
— Скажите, Алексей Павлович, — снял черные очки Зайчек и показал прищуренные глаза в красной паутине капилляров. — Мне, чеху, всё равно, что вы ответите… Но всё-таки хочу спросить. Вы русский человек? Православный?
Наметкин молча расстегнул воротник рубашки и показал нательный крестик.
— Значит, вы можете действовать с чистой совестью, не оглядываясь на расовые интересы или на предрассудки иудейского интернационала.
— Иосиф Николаевич, мне нужны помощники, — наставление Зайчека Наметкин пропустил мимо ушей.
— Я не могу подбирать вам помощников. Кроме того, уже есть группа. Она вас ждёт. Командует капитан Малиновский. В ней же приказом начальника гарнизона состоит и поручик Шереметьевский, который имел честь с вами сегодня познакомиться.
— Да… — криво усмехнулся Наметкин. — Имел честь, действительно. Ради знакомства поручик не пожалел револьвера. Треснул меня по голове. Такая любезность.
Зайчек расхохотался.
— Поручик, в самом деле, целеустремлённый человек. Зато, когда он будет рядом с вами, я уверен, что смогу рассчитывать на ваше доверие и помощь. Могу? — и он подмигнул в сторону пыточного кресла.
— Безусловно! В пределах моих полномочий, — на всякий случай уточнил Наметкин.
— А вот это… — указал капитан на стопку стеклянных фотопластинок. — Самые настоящие сокровища. Лично для вас старались.
— То есть?
— Обычно фотохудожники, выполнив заказ обывателей, оставляют себе негативы. Мы собрали их по всем фотопавильонам. Вы, конечно, догадываетесь, что может извлечь из них хороший сыщик. Или следователь судебной палаты.
— Персоны. Установление личности.
— Вот-вот! Установление большевиков и их родственников. Достаточно пройтись по списку заказчиков, и рыбки в сачке.
Капитан нажал кнопку звонка. Появился Шереметьевский.
— Господин поручик, не откажите в любезности, проводите нашего почётного гостя. Салют и цветы в другой раз.
Во дворе, час назад пустом, толпились русские солдаты и офицеры. Лопатами и кирками они усердно перекапывали землю.
— Что это, поручик? Что они ищут? — спросил следователь. — Сокровища царские?
Злобно глянув на Наметкина, поручик произнес сквозь зубы:
— Волонтёры. Неравнодушные русские военные люди. Вашу работу работают, между прочим, пока вы хлещете водку.
— В чём же тут моя работа? — водку Наметкин решил не заметить.
— Трупы Романовых искать. И найти!
— А разве большевики их не увезли? Живыми. Или мёртвыми.
— Это я должен у вас спросить, господин дезертир. Почему-то не повешенный.
— Ну, какой же я дезертир! — мягко запротестовал Наметкин. — У каждого своя служба, свой устав и правила свои. У армейских свои, у судейских свои.
— Ты мне дурочку ещё покрути! — с угрозой произнес Шереметьевский и положил ладонь на кобуру. — Война идёт! Какие правила? Тебе военная власть приказывает! За неповиновение — расстрел на месте. Не единственный сыскарь ты здесь. Засажу тебе сейчас пулю в башку при попытке к бегству. А завтра другой следователь придёт и с удовольствием продолжит дело.
— При попытке к бегству? Разве я арестован?
Не отвечая, поручик плюнул Наметкину под ноги.
Наметкин прижал обе руки к груди и заговорил как можно добросердечнее:
— Дорогой Андрей… Андреевич, кажется? И я тоже как человек и как юрист не меньше вашего хочу найти истину. И очень рад работать вместе с вами — с таким решительным и целеустремлённым офицером.
— Хм… Рад он!.. Меня-то за дурака не держи.
— Напрасно вы так, — заверил Наметкин. — Совершенно напрасно.
— У вас приказ чехословацкого командования. И полномочия. Вот — берите волонтёров, командуйте.
— Нет, Андрей Андреевич, — решительно сказал Наметкин. — С вашего позволения, нечего здесь нам делать. Это я точно вам говорю. Но всё равно, пусть копают до конца. Самостоятельно. А потом мы уже с полным обоснованием исключим версию о возможном захоронении возможно расстрелянных Романовых в саду дома инженера Ипатьева.
— Пожалуй… — с неохотой согласился поручик. — Землекопам руководство следователя не нужно.
— Почему-то я уверен, Андрей Андреевич, что мы с вами хорошо сработаемся.
— Куда вы от меня денетесь!.. — усмехнулся поручик.
— Как и вы от меня. Поскольку приказом заняты в следовательской группе. Под моим началом. Официально. В криминальной части, — уточнил Наметкин.
— Да что вы заладили, как попугай, — «официально-неофициально!» Повторяю, если не поняли: война! Решения принимаются быстро, и приговоры исполняются мгновенно.
— Тогда начнём завтра. Встречаемся у начальника гарнизона. Только … — Наметкин многозначительно замолчал, усмехаясь внутренне.
— Что «только»? — не выдержал поручик.
— Скажу вам по секрету, если желаете… Но — между нами. Хорошо?
— И что же?
— Обещаете?
— Смотря что…
Склонившись к уху поручика, Наметкин сказал, чётко выговаривая каждое слово:
— Никто Романовых не расстреливал. До завтра, поручик.
Наутро, ровно в восемь Наметкин был в штабе полковника Голицына. Здесь его уже ждали два офицера и трое штатских.
— Капитан Малиновский Дмитрий Аполлонович, — крепко пожал Наметкину руку седой высокий, очень худой и очень загорелый офицер.
— Дмитрий Аполлонович назначен руководителем, — подал из-за стола голос полковник Голицын. — Это не значит, что капитан будет вам, Алексей Павлович, во всем приказывать. Его задача — обеспечить работу следователя.
К Наметкину подошёл пожилой штатский — чеховская седеющая бородка, пенсне на чёрном шнурке, потёртый сюртук.
— Доктор Деревенко Владимир Николаевич. Лейб-лекарь. Бывший, разумеется.
— Очень рад. Наметкин.
Во втором штатском военного можно было узнать за версту.
— Профессор академии генерального штаба Медведев Александр Иванович, — представился он. — Криминалист. Буду рад оказаться вам полезным.
Наметкин встрепенулся, замигал, заулыбался.
— Профессор… Большая честь! Я читал все ваши работы. Премного благодарен. Мечтать не мог, что буду вот так, рядом с вами, в общем расследовании. Премного… — говорил он, с чувством пожимая руку профессору.
Поручик Шереметьевский сделал вид, что не заметил следователя. Но Наметкин подчёркнуто ему поклонился издалека.
— А это кто? — тихо спросил Наметкин доктора, когда все расселись за столом, и кивнул в сторону высокого и сгорбленного старика с небольшим клином седой бороды. Он не сел за стол, а остался, отвернувшись, в углу — с таким видом, словно попал сюда случайно. Иногда коротко и с раздражением оглядывал кабинет и собравшихся и снова отворачивался.
— А! — сказал Деревенко. И громко старику: — Терентий Иванович! Что же вы там? — а Наметкину шепнул: — Царский камердинер.
— Да-да! — подхватил полковник Голицын. — Пожалуйте, господин Чемодуров. Без вас никак, вы такой же участник расследования.
— Итак, — продолжил полковник. — Познакомились. Вам слово, Алексей Павлович. Да, кстати, господин Наметкин, вот ваш документ, извольте. Я попросил для удобства бумагу сюда доставить.
Наметкин прочёл:
Прокурор екатеринбургского областного суда
г-ну судебному следователю по важнейшим делам Наметкину А. П.
На основании 288 ст. уст. угол. суд., предлагаю Вам незамедлительно приступить к производству предварительного следствия по делу убийства бывшего Государя Императора Николая Второго по признакам преступления, предусмотренного 1453 ст. улож. о наказаниях.
При сем прилагаю протокол допроса Фёдора Никитича Горшкова.
И. д. прокурора Кутузов
Секретарь Богословский
— Это то, что вы ждали? — спросил начальник гарнизона.
— Именно. Но Кутузова, товарища прокурора, кажется, в городе не было?
— И сейчас нет, — ворчливо сказал полковник. — На даче разыскали. Так он, юрист, долго понять не мог, что такое приказы военной власти. Ничего, скоро все привыкнут.
— Позвольте?.. — рассеянно произнес Наметкин и продолжил читать.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.