
Бесплатный фрагмент - Любовь больная
Современный роман в двух книгах

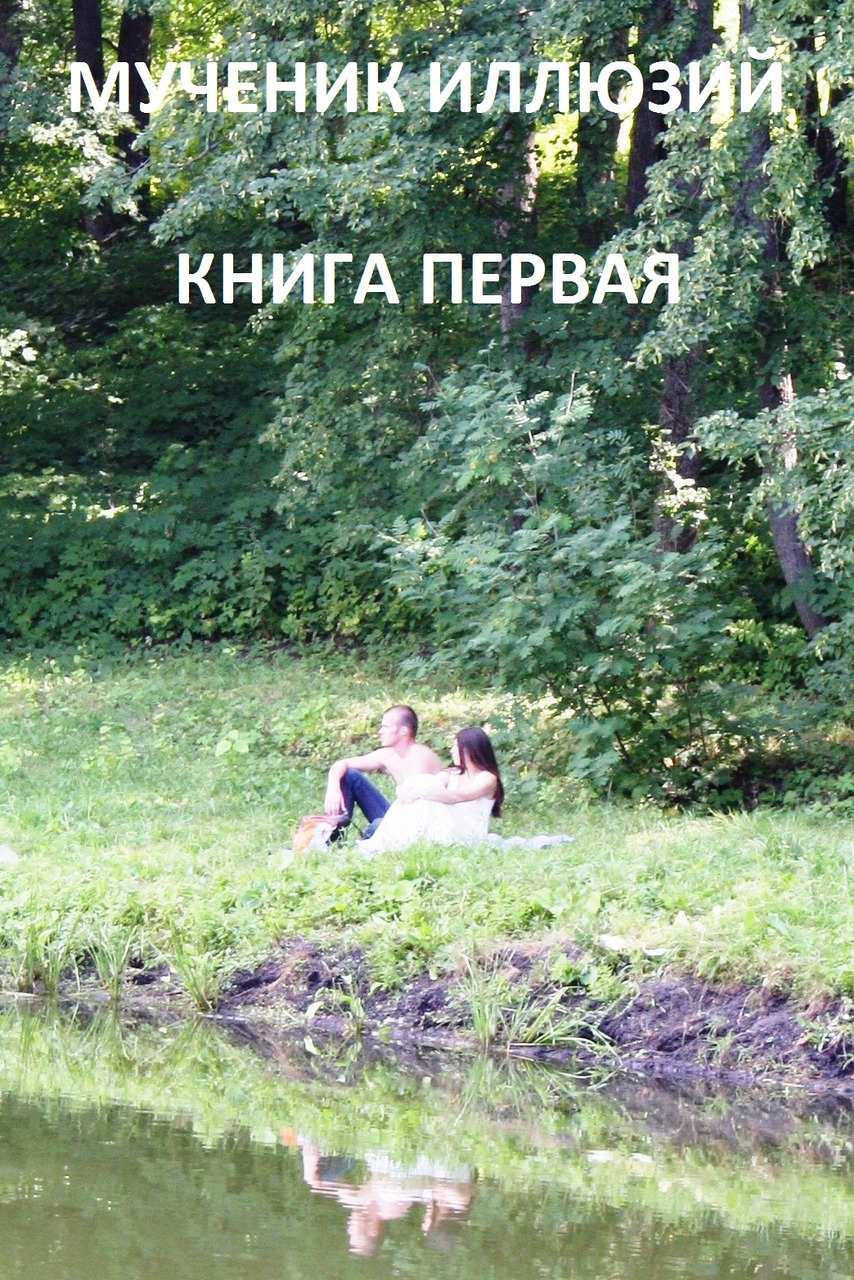
Пролог
Эпистолярный жанр, признаюсь честно, — мне не слишком люб. Скажу больше: сам я писал и пишу письма только в самых крайних случаях. Даже матери. Даже детям. Даже внукам. Это — (упаси Боже!) не попытка самооправдания или мольба о снисхождении, а всего-то констатация факта.
Когда сажусь за стол и берусь за письмо, то сразу возникает так много вопросов: зачем; кому это надо; о чем писать, а о чем не стоит; есть ли у меня новости, достойные моей эпистолы; нельзя ли обойтись вообще без этого равнодушно-формального послания, коли чувства глубоко-глубоко запрятаны и спят мертвецки на дне человеческой души? Поразмыслив хорошенько, обычно откладываю в сторону ручку и забываю об эпистолярной затее надолго, если не навсегда.
Это — что касается меня лично. Но, читатель, я восторженно читаю литераторов, которые смело и умело выбирают для своего произведения эпистолярную форму изложения. Читаю, и, говоря по чести, завидую таким авторам, у которых эта форма дает впечатляющий эффект.
Эпистолы, с которыми хочу познакомить тебя, читатель, попали ко мне случайно. Нет, я их не крал у автора. Нет, я не рылся в чужих сундуках и шкатулках..
…Лет шесть тому назад подал свой голос вечно молчаливо стоящий на столе телефон. Излишне торопливо дотянулся и снял трубку.
— Да… Слушаю…
И услышал в ответ:
— Привет, коллега!
Давно не разговаривал с ним по телефону, но не узнать его невозможно.
— Здравствуйте, Григорий Ильич! — с неприкрытой радостью откликнулся я.
В трубке загремел смех.
— Что случилось, коллега, а?..
— Ничего… Все в порядке…
— Не совсем, судя по тебе, «все в порядке», если вдруг на «вы» и с отчеством. Чужими, хочешь сказать, стали, да?
— Я… без задней мысли, Гриш…
— Так-то, как ни крути, намного лучше — привычнее.
— Я подумал: давно не общаемся и ты… возможно… изменился и моя фамильярность может тебя покоробить.
— Не оправдывайся! Зачем?.. Кстати, тебя не удивил мой звонок?
Я признался:
— Удивил… Столько времени не подавал признаков жизни и тут…
Григорий Ильич вновь рассмеялся.
— Так ведь и ты ничем не лучше: залег в своей берлоге и — ни гу-гу. Стало быть, счет-то равный — ноль-ноль, — он, сделав паузу, продолжил. — Своим звонком не помешал ли? Если что, скажи и я перезвоню позже.
— Глупости! Не можешь ты мне помешать!..
— Чем, дружище, занимаешься на данный конкретный момент?
— Если честно, пустяками, Гриш.
— Тогда… Извини меня, я нагряну к тебе…
Я прервал.
— Извинения неуместны.
— Тут готов поспорить: знаю, как тебе всегда были неприятны непрошенные гости.
— Хочешь спора? Изволь, Гриш: тебе ли не знать, что двери моей «берлоги» для тебя — всегда настежь.
— Были настежь, а сейчас…
— Были, есть и, уверяю, будут.
— Раз так, то сейчас же еду. Да… Вопросец уточняющий, дружище, имеется: ничего, если я с прицепом, а?
— Это ведь, Гриш, смотря потому, что за прицеп…
— Стандартный, очень стандартный.
— Нельзя ли поточнее?
— Например, в виде бутылочки армянского, конфет и хорошей ветчины.
— Прицеп приличный, — я тоже рассмеялся в трубку, — но будет еще лучше, если содержимое этого самого прицепа чуть-чуть поменяешь: вместо армянского, бутылочку нашей, русской.
— Изменение принимается.
Григорий Ильич положил трубку.
Не прошло и получаса, как Маврин уже был у меня. Оглядели друг друга и, похоже, оба остались довольны. Да, постарели и это бросается в глаза: даже на головах, как я люблю выражаться издавна, полторы волосинки в три ряда, причем и даже они белы-белёхоньки.
Выпили по одной рюмочке. Тост был традиционный: «За встречу!»
На правах принимающей стороны, наполнил рюмки снова. Но опрокидывать сразу не стали. На какое-то время, увлёкшись воспоминаниями, о желанном содержимом рюмок забыли. Выражаясь точнее, он говорил, а я слушал. Я понял: Маврину надо выговориться, но более благодарного слушателя, чем я, он подыскать не смог. Вот и…
Григорий Ильич спохватился, что говорит всё о себе да о себе, поэтому решил «перевести стрелки» на хозяина.
— Слышал, что «господин сочинитель» по-прежнему пописывает, а читатели почитывают. Не отходишь от традиций: хлестко пишешь. Видел твою публицистику в областной газете. Дрожь пробирала, когда читал статью «Взрывы, потрясшие мегаполис»…
Я пояснил:
— К двадцатилетию со дня той трагедии написал.
Маврин кивнул.
— Я так и понял… Страшная история, но удивительно правдивая… Как и все, что ты создаешь. Объемная статья… И странно, что опубликовали.
— Наполовину сократили, — сказал я.
— Жаль, но… Все равно звучит убийственно. Да… Кто-то мне говорил, что литературными текстами начал баловаться.
— Есть, Гриш, и такой грех на моей совести.
— Всё скромничаешь, дружище? Насколько мне известно, кое-что даже публикуешь…
— В Интернете, — спешно уточнил я.
— Не скажи, не скажи… Случайно мне попал на глаза недавно сборник рассказов, изданный в Москве, и на открытии твоя вещичка. По нынешним временам — факт, говорящий о многом.
— Случается, что и вытягиваю счастливый билетик… — приняв мяч, я тотчас же постарался вернуть его на половину поля партнера. — А ты, Гриш?..
— Завязал… Туго завязал… Навсегда…
— Напрасно. Заживо хоронить способности — не стоит.
— Увы! Мой творческий костерок потух и угольки, покрывшись пеплом, давно остыли.
— А мог бы еще поддать жару, взбудоражить заиленное нынешнее болотце, затянутое сверху гнилой вязкостной серо-зеленой пленкой.
— Наверное, мог, но не хочу.
— Жаль… Обидно… Такой талант на глазах гибнет.
— А вот тут ты, — Григорий Ильич расхохотался, — явно сморозил нечто, не имеющее никакого отношения ко мне.
Я посмотрел на Григория и, выразив на лице недоумение, пожал плечами.
— А что смешного нашел в моих словах?
— Не смеши, коллега, и смеяться тогда не буду. Где ты откопал «талант»? Покажи и я с удовольствием полюбуюсь. Самому интересно посмотреть на этакую диковинку. Столько лет прожил и не подозревал…
— Извини, Гриш, но ты лжешь… Даже самому себе.
— А смысл?
— И сам не вижу смысла, но факт… Равных тебе не было. Я, Гриш, если честно, завидовал.
— Чему?! Тому, как, вонзив клыки, рвали на куски и те, кто сверху: и те, кто снизу; и те, что слева; и те, что справа? И это, скажешь, предмет для зависти?
— Не спорю: жрали (извини за это слово), точнее — пробовали сожрать, но, не сумев ничего с тобой сделать, подавились.
— Ну да…
— Прошли годы. Ты сидишь передо мной и хохочешь каждые пять минут — живёхонек ведь.
— Слава Богу…
— А их, твоих пожирателей, давно уж нет и память о них стерлась. Пусть земля им будет пухом, — я взял рюмку, — и за это не грех выпить.
Опорожнив, Маврин далеко отставил от себя рюмку.
— Хороша все-таки, сволочь!..
— Если в меру.
— Мера у каждого своя и определить… Не будем об этом, — последовала короткая пауза, после которой Маврин вновь заговорил. — Признаюсь тебе: до таланта не дотянул…
— Это рисовка.
— Позволь, коллега, мне поделиться своим мнением на сей счет. Имею я право хотя бы на собственное мнение?
— Извини… Не вопрос…
— Журналист я — средней руки. Мог бы признать себя и за гения, но это откровенная была бы неправда. С горечью, допустим, вспоминаю тот факт, что все мои попытки овладеть даже жанром фельетона так и не увенчались успехом. Не получилось из меня фельетониста, а я ведь так хотел…
— «Даже»!? — возмущенно переспросил я — Да на Урале пальцев одной руки хватит, чтобы перечесть советских фельетонистов, а нынешних — не знаю ни одного. О чем ты говоришь?
— Говорю о том, коллега, что у меня не получалось, но у других, действительно талантливых… Читал и всякий раз восхищался.
— А я, Гриш, глядя на тебя, тоже восхищался и, прости, завидовал. Был грех, признаюсь.
— Прощаю, охотно прощаю, — произнес с улыбкой Маврин, но улыбка эта вовсе не выглядела радостной или оптимистичной. — Повторяю: журналист я — средних способностей. И подобных мне в советское время было великое множество.
— Согласен: много… бесчестных лизоблюдов, заглядывавших в рот номенклатуре и ждавших очередной команды. Ты к ним не имел никакого касательства. Ты вечно бился…
— …Как тупой баран в наглухо запертые ворота, — съязвил Маврин. Покачав головой, тут же добавил. — Правы были те, кто жили по принципу: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.
Я начал сердиться.
— Не мели! Ну, зачем повторяешь глупости?
— И не глупости. Упрямство — первейший признак ограниченности ума.
Я недовольно хмыкнул.
— Всем бы подобную «ограниченность».
— Спаси и сохрани, — с грустинкой в голосе сказал Маврин.
Я решил в полной мере воспользоваться правами хозяина.
— Ты дашь мне закончить мысль или нет? Кто здесь хозяин, а кто гость?
Маврин, повеселев, кивнул головой.
— Яснее ясного… Говори, дружище, а я какое-то время помолчу.
Григорий Ильич, в самом деле, не стал мешать мне своими язвительными ремарками. И я сказал все, что думал, не умаляя и не преувеличивая его достоинств. Одно из главных — наличие гражданской позиции и твердое следование ей. В отличие от меня, например. Стыдно сегодня признаваться, но, факт, старался-таки я держать нос по ветру и никогда не слыл задирой. Потому что недоставало мне его мужественности и смелости. Нет, не угодничал, по большому счету, и не подличал, однако… А, что там говорить!..
Не преминул напомнить коллеге, насколько уникальным стало его появление в ранге руководителя большого творческого коллектива. Услышав про «уникальность», Маврин вновь попытался фыркнуть, но я не дал ему возможности. Уникальность была уже в том, что карьера строилась не по тем шаблонам, как у других. Было ведь как? А вот так: редко, когда партия назначала на должность руководителя творческого коллектива творческую личность. Обычно над нами стоял профессиональный, стало быть, не слишком умный партработник. Считалось тогда: журналист должен уметь писать, но быть организатором, проводником идей партии не может. И вот конкретный пример, известный Маврину не хуже меня. Кто был много лет главным редактором главной партийной газеты области? Секретарь одного из горкомов КПСС. Мог ли он написать что-нибудь путное? Вряд ли. Но руководил и как руководил!
Маврин же никогда не был партработником и, похоже, никогда не мечтал им стать, потому что журналистика и только она составляла смысл всей его жизни.
И вот случайно стал руководителем творческого коллектива, но совсем не случайно вскоре же все стали замечать (одни с любопытством, а другие с затаенной злобной завистью), что Маврин не лишен не только творческих, а и организаторских способностей. Он, по сути, сразу же стал основным генератором идей, идей не слишком привычных и удобных. Говорили (в след за модным в те времена писателем), что выдавать идеи способна даже дрессированная шимпанзе. Ну, конечно же, это не так: при отсутствии достаточного количества серого вещества можно родить лишь дурь несусветную. Это — с одной стороны, а с другой Маврин не только вырабатывал идею, но и чаще всего лично воплощал в творческую жизнь коллектива. Почему лично? А потому, что коллектив, понимая, насколько новое дело опасно и чревато для него неприятностями, норовил (береженого и Бог бережет) трусливо скрыться в кустах, отсидеться. Маврин выдвигался вперед, взваливая всю ответственность на свои плечи, вызывал весь огонь на себя.
И о коллективе я напомнил Маврину.
— А что коллектив? — пробурчал он себе под нос. — Самый обычный коллектив.
Тоже ведь не правда, точнее — лишь часть правды. Действительно, руководить любым творческим коллективом, где поголовно одни гении, чрезвычайно сложно, но ведь все мы знали, что то место, которое занял Маврин, самое проблемное в области и на нем дольше чем, на год или два, редко кто засиживался: либо сам уходил, либо его уходил коллектив. Склочный, короче говоря, сволочной коллектив. В обкоме партии отлично представляли себе, в какое осиное гнездо внедряют Маврина. И сам Маврин знал. Знал, но согласился. Более того, на удивление всем скептикам через два года Маврин усмирил норов коллектива, поставил каждого на подобающее ему место, доказав, что имеет право считаться лидером не только по формальному признаку, а и фактически, реально. Присмирел народ. Стал удивительно послушным и забыл про кляузничанье. Нет, не скажу, что все (это было бы большой ложью) стали его сторонниками, но, по крайней мере, не стали вставлять палки в колеса.
Маврин слушал и продолжал скептически улыбаться. И, будто итожа мой монолог, сказал:
— А фельетона не осилил.
Я в сердцах воскликнул, наполняя в очередной раз рюмку:
— Дался тебе этот фельетон!
Потом, после выпитой рюмки, чтобы сменить тему, я поинтересовался, как на личном фронте у Григория Ильича. Он на глазах стал мрачнеть и скучнеть.
— Давай, дружище, об этом не будем.
— Почему?
— Не хочу.
— А все же…
— Вот пристал… На моем фронте — без перемен.
— Обидно.
— Не обидно, а логично, — тут же, подпустив яда, добавил, — как и полагается для «таланта».
— Не хочешь говорить…
Маврин прервал.
— Слово, произнесенное, — есть, как сказал один умный человек, ложь.
— А написанное?
— Тут несколько иначе, — он дотянулся до сумки и достал стопку листов. — Кстати, коллега, хочу тебе презентовать, тебе, как «господину сочинителю», которому я всецело доверяю, — он протянул в мою сторону. — Возьми и прочти… на досуге.
Я взял и стал вертеть в руках.
— Что это, Гриш?
— Личные откровения.
Взглянув на титульный лист, спросил:
— Твои письма?
— Что-то вроде этого.
— Но почему они у тебя, а не у того, кому адресованы?
— Трудный вопрос и я не знаю на него ответа. Сначала хотел передать адресату, но… Духу не хватило… Струсил. Сейчас — уже ни к чему. Все-таки прочти.
— А потом?
— Выбрось, как ненужный никому хлам, на помойку.
— Конечно, прочту и не как «господин сочинитель», а как твой друг.
— Спасибо… Не суди меня строго, ладно? Там… Есть и откровенные сцены… Написал, а… теперь сам стыжусь.
— Я — не ханжа и, тем более, не судья тебе.
— О себе могу то же самое сказать, но…
На том и расстались. Уже у лифта, когда вышел проводить, я еще раз спросил:
— Прочту и…
Мысль, возникшую только-только, он нетерпеливо прервал.
— Всё — в твоих руках. Поступай, как хочешь. И прошу лишь об одном: никогда мне не напоминай о письмах. Оба будем считать, что их в природе не было.
— И даже, если?..
— И слушать не хочу ни про какие «если»! Поступай, как знаешь… Как тебе совесть подскажет. Я полностью доверяюсь тебе. Потому что знаю: дурно ты никогда не поступишь.
Прочитал сии эпистолы своего друга. Не сразу, но прочитал. И родилась идея: из писем создать любовный роман. Позвонил Маврину. Я успел лишь заикнуться, как он меня жестко остановил, напомнив мне, что просил никогда не напоминать ему об этих письмах; если есть другая тема для разговора, то, сказал он, милости прошу к моему теперь шалашу.
Что мне оставалось? Сесть и написать роман. А теперь и выставляю на суд читателя. Реакция, предвижу, будет разная.
Впрочем, почему будет? Реакция уже есть. В Интернете. Приведу два комментария. Некая Татьяна Павловская: «Большое Вам спасибо за такое замечательное произведение. Очень тонко Вы прочувствовали женскую душу». Второе, радикально отличающееся от первого. Отец Иоанн выразил свои ощущения просто и ясно: «Тьфу! Изыди, сатана, изыди!»
Вот, собственно, и все, чем хотел бы предварить роман «Мученик иллюзий».
Глава 1
Прелесть моя!
Ужасно и прескверно было у меня на душе, когда я сошел с поезда на глухой станции с загадочным названием — Промежуток. Но уйти от твоего вагона не мог: сил таких не было.
Три с четвертью по полуночи. Вокруг — мертвая тишина. Будто весь мир погрузился в летаргию. И лишь я, только я один на этой затерянной в уральской глуши станции стою между путями, смотрю на твой вагон, блистающий в сказочно-лунном сиянии, и все чего-то жду. Вижу: на выходном светофоре горит «зеленый». Но твой пассажирский стоит. Неужто стоит лишь для того, чтобы дать мне шанс, возможность вновь заскочить в вагон, к тебе?! И, быть может, именно так и поступил бы… Если бы… Если бы ты захотела…
Благодарен судьбе, что она в эту ночь ко мне столь благосклонна и не унесла тебя тотчас же. Я все еще надеюсь на чудо. Я жадно вглядываюсь в вагонное окно, где мы только что с тобой стояли, все пытаюсь уловить хотя бы тень твою. Но там — пусто: ты, скорее всего, давно уже в купе и отдыхаешь на любимой своей нижней (слева) полке.
Я продолжаю надеяться на чудо. Подныриваю под вагон (забыв, что поезд может в любое время тронуться), очутившись на противоположной стороне, отсчитываю четвертое окно, но и там ничего не видно. Шторки твоего окна даже не дрогнули.
Ты уже отдыхаешь. И какое тебе дело до того, что кто-то там, в ночи, в эти секунды, будто сторожевой пес, готов на все и рад даже любому силуэту в окне, готов дорого заплатить лишь за то, чтобы на один-единственный миг вновь увидеть тебя, прочитать в твоих больших карих глазах пусть махонькую, пусть лишь мимолетную искорку надежды. Ведь не зря же великий Вольтер как-то сказал: надежда украшает нам жизнь.
Все, увы, тщетно!
По-прежнему надо мной стоит, замерев, огромный диск луны, подсвечивая сугробы таинственным, бледно-голубоватым светом. На ночном небе — ни единого облачка, однако, сверху, медленно-медленно кружась, опускаются огромные и прозрачные блёстки. По-прежнему стоит мертвая тишина. И мне кажется, что в целом мире, кроме меня, никого нет.
Но вот там, где-то впереди, забасил, кого-то и о чем-то предупреждая, электровоз. Противно заскрежетали автосцепки, передавая эстафету от одного вагона к другому. Твой поезд, твой вагон медленно поплыл в ночь, все дальше и дальше удаляясь от меня. Мелькнули в последний раз хвостовые сигнальные огни и тотчас же скрылись за поворотом: там, где в верхушках хилых осин и берез, обступивших железнодорожную насыпь, с ленцой разгуливал декабрьский ветер.
Поезда уж нет, а я все еще продолжаю очумело, будто пристыл к месту, стоять. Перед моими глазами все еще ты. Ты стоишь именно такой, какой я тебя увидел впервые… Там… И тогда… Помнишь ли?..
Мы стояли с коллегой в фойе Дворца культуры. Ты приблизилась своей слегка неуклюжей, но оттого еще более очаровательной походкой. На тебе было нежно-голубое платье, черный шелковый шарф, небрежно перекинутый через плечо, на плече — огромная сумка. Ты, натянуто улыбнулась нам, поздоровалась, тряхнула головой… И я впервые увидел твои волосы. Они были настолько густы, что образовывали сзади фантастическую темную волну; они были поразительно длинны, достигая твоих ягодиц. Нет, что ни говори, но нынче такие волосы можно лишь увидеть в кино. Колдовские волосы! И от них больше не мог оторвать глаз. «Какая роскошь!» — хотелось воскликнуть мне, но я сдержал себя: рядом — коллега, который, как я догадывался, давно и безуспешно по тебе вздыхает и потому ревниво следит за каждым мужским взглядом, брошенным на тебя.
Как я ни скрывал того, какое впечатление на меня произвела ты, но коллега своим острым, как он выражается, «боковым зрением» уловил все, что надо было. И вечером, когда мы уже лежали на гостиничных кроватях, просматривая местные газеты, коллега попробовал кое-что выведать. Он провел «разведку боем». Он стал расхваливать тебя, пытаясь таким оригинальным образом вывести меня на «чистую воду». Я догадался, что на заброшенном ко мне крючке, — наживка. И «рыболов» лишь ждет, когда я заглочу. Не тут-то было! Я отделывался лишь ничего не значившими фразами. Когда же он стал слишком назойлив, то я вынужден был признать, что ты — великолепна, добавив, что такие экземпляры можно встретить лишь в глубине России. Чтобы у того не оставалось сомнений, сказал: «Она молода и, увы, не для нас. Куда нам до нее, старым перечницам».
Поверил ли мне тогда коллега? Не знаю. Во всяком случае, он вскоре, огорченно вздохнув (наверное, из-за того, что «разведка боем» не увенчалась успехом, и ему не удалось ничего нового выудить из меня), отвернулся к стене и оглушительно захрапел.
Я же долго не мог сомкнуть глаз. Конечно, и из-за нечеловеческих звуков, доносящихся с соседней кровати, — это был храп так храп! Но не только. Мне хотелось, так сказать, по свежим следам осмыслить впечатление, которое ты на меня произвела. Ведь с самим-то собой я мог быть искренним и не притворяться! Да, ты наделена истинно русской красотой: не приторно-слащавой, как звезды Голливуда, а слегка грубовато-угловатой, делающей нашу девушку совершенно неповторимой. Да, ты еще очень молода: всего двадцать два и совсем недавно вышла замуж.
Но в тот вечер, во Дворце ты покоряла мое сердце не только вот этими внешними атрибутами женского влияния на мужчин. Наблюдая за тобой со стороны, заметил, что ты умеешь общаться со всеми людьми, причем, нельзя было не обратить внимание на то, что многие одинаково хорошо к тебе относятся. И, вместе с тем, меня поразила твоя скромность и тактичность, проявившиеся не наигранно, а вполне органично. Знала ли ты заранее, что этим меня окончательно подкупаешь? Во всяком случае, мои коллеги знали, что в людях я ценю больше всего то, что присуще самому, — скромность. Хотя, конечно, среди них находились и такие, которые, ничуть не смущаясь, заявляли: скромность — удел дураков. Подобное утверждение не пытался рассеять: каждый мыслит, как может.
Еще одним для меня элементом поклонения, так сказать, стимулом (ты, понятное дело, помнишь) явился такой случай, всего-то штришок, но для меня существенный.
После завершения официальной части проходившего во Дворце мероприятия, по традиции должен был быть банкетик. Ты подошла к нам и сказала, что нас всех приглашают на него, то есть на тот самый банкетик. Коллегу не стал спрашивать, потому что его отношение к подобным вещам знал хорошо. А тебя спросил (тогда мы еще были на «вы»): «Что думаете?»
Ответ не заставил себя ждать. Ты решительно заявила, что участвовать в банкете было бы с нашей стороны неразумным и в нынешней обстановке ошибочным.
Вот так: после закрытия официальной части мы направились в гостиничный номер, а ты домой, к мужу…
«Эй, гражданин, вы чего там на путях-то? Не положено!»
Это был, как я догадался, крик дежурной по станции, проводившей поезд и все еще стоявшей на перроне с сигнальным фонарем в левой руке, очевидно, наблюдавшей за одиноко стоявшим мужчиной.
От хрипловатого, очевидно, прокуренного, голоса я очнулся и направился к станционному зданию. Надо было оформить билет на обратную дорогу, так как вот-вот должен был прибыть пассажирский поезд, следующий до Свердловска.
Глава 2
Несравненная моя!
Ну, зачем, Господи, зачем вновь и вновь пытаюсь воскресить в твоей памяти то, что для тебя лишь очередной эпизод; то, что никак не тронуло и не могло тронуть твое сердце?! Это же так, да? Согласись, тебе наплевать на все, что хоть как-то связано со мной, а тем более — с моими чувствами; тебе наплевать на все, что касается наших с тобой отношений.
Знаю же, знаю: не помнишь, не можешь помнить ни первой, ни последней нашей встречи! Дубовая дверь твоей души для меня ни разу не приоткрылась. Она всегда (была и есть) наглухо заколочена, к тому же заперта на мощные и многочисленные засовы. Пытаюсь, безумствуя, пробиться к тем дверям, отделяющим намертво тебя от меня, — не получается. В отчаянии цепляюсь за маломальскую возможность. Цепляюсь, как утопающий цепляется за соломинку. В безрассудстве совершаю глуповатые поступки, никак не возвышающие меня в твоих глазах. Скорее, даже наоборот. Но поделать ничего с собой не могу.
А ты то и дело поддразниваешь…
Где мои хваленые твердость, уравновешенность, рассудочность, самоуважение, где тот самый характер и та самая сила воли? Где то самое чувство собственного достоинства, которым так гордился и которое всегда отстаивал?
…Накануне Нового года ты приехала. И оказалась рядом. После работы (так было принято) — «компашка». С твоим, разумеется, участием.
Я — счастлив!
Я вижу и слышу тебя!
Я любуюсь тобой!
Я могу даже, протянув лишь руку, дотронуться до тебя!
Да, могу! Но не буду! Слишком много глаз следит за мной и тобой. Несмотря на большой загул и хмельной угар, наши общие знакомые по-прежнему наблюдательны.
Я почти не пью. Потому что забываю о рюмке. Потому что и без хмельного кружится голова, кружится от еле уловимого, но уже мне знакомого, запаха, исходящего от твоей шеи и груди, выглядывающей из выреза платья; от запаха, который ощущаю всегда, даже во сне.
Ты — веселишься, но также не пьешь. Правда, по другой причине. Ты не можешь себе позволить расслабиться, даже на миг потерять контроль над собой. Экая, право, железная леди!
Пытаюсь отыскать любой предлог, чтобы пораньше покинуть «компашку», остаться наедине с тобой.
Ты же, наоборот, тянешь время, веселишься (искренне ли?), напропалую любезничаешь с коллегами, искоса поглядывая на меня: как, мол, я себя чувствую.
Чувствую себя нормально: игра есть игра. И она мне не опасна.
Неожиданно, как бы невзначай, ты бросаешь взгляд на часы, изумляешься:
«Друзья, мой поезд!»
Притворщица! Все рассчитала: действительно, до отхода поезда остается десять минут, ровно столько, сколько нужно, чтобы рысью добежать до вокзала и заскочить в поезд — ни секунды больше. Ты хватаешь свою обычную огромную сумку-спутницу, накидываешь на плечи шубку и выскакиваешь на улицу.
Я — следом. Предлог: надо, мол, проводить даму. Кто-то загадочно ухмыляется в ответ: мы, мол, также могли бы, однако ж, не кидаемся сломя голову. Они, да, никуда не кидаются, потому что не всё выпито и оставлять этакое добро им совсем не по душе.
Мы, запыхавшиеся, на перроне, у вагона. Дверь тамбура уже закрыта. Горит «зеленый» и поезд вот-вот тронется с места. Я сильно барабаню в дверь. Дверь отворяется. В проеме — злое лицо неопрятной проводницы. Она шлет на нас проклятия. Ты мигом заскакиваешь в тамбур и, несмотря на злобствующую проводницу, оборачиваешься ко мне. Глаза твои (наверное, показалось) приглашают последовать за тобой. Секунда и я также в тамбуре, рядом.
Проводница орет: «Куда?! Билет есть? А, ну, слезай!»
Ты успокаиваешь орущую проводницу: «Есть, у него всё есть».
Ты знаешь, что это именно так. Откуда? С чего? Ты уверена, что на всякий случай, оформляя тебе билет (это входило в мои обязанности), я также оформил и себе.
Поезд, лихорадочно подергиваясь, отходит от перрона…
Утро, 31 декабря. Мы прибыли в твой город. Мороз под тридцать, метет поземка. Ты идешь и поеживаешься на студеном ветру. Ты молчишь. Я иду рядом, гляжу на тебя и с ужасом ловлю себя на мысли: опять, как тот самый дворовый песик, которого нечаянно погладили, плетусь, опустив виновато хвост, за своей хозяйкой, чья верность кажется ей уже занудливой и порядком поднадоевшей.
Ты остаешься верной себе. Ты приглашаешь к себе, домой, в гости, говоришь, что встретим вместе Новый год, что все будет просто здорово. И муж, мол, будет очень рад.
Тебя выдает голос. Он звучит вяло, неуверенно, то есть именно так, когда приглашение делается из вежливости. Ты абсолютно ничего уже не хочешь. Ты получила все, что хотела. Ты захотела, чтобы я по первой твоей прихоти, совершил турне в четыреста километров, слегка поманила — и, пожалуйста. Уловив, что в голосе боязнь, как бы я, в самом деле, не согласился, поблагодарив, отказываюсь. Тогда ты говоришь, что обязательно заглянешь в мой гостиничный номер и найдешь способ поздравить меня с Новым годом. Я не верю и потому вновь отказываюсь.
Ты не можешь скрыть своей радости. И торопишься поскорее устроить меня в гостинице, чтобы отвязаться от меня.
Ты с легким сердцем уходишь. И больше я тебя не увижу. И не услышу.
Телефон в номере молчит.
Ближе к ночи иду на вокзал, оформляю проездные документы на ближайший поезд. И уезжаю. Возвращаюсь домой. Возвращаюсь из ниоткуда! В десятом вагоне — я один. Проводница, как только тронулся поезд, ушла в соседний вагон, к подружкам (очевидно, встречать Новый год) и я увидел ее только утром, когда поезд подходил к перрону Свердловского вокзала.
Дома достаю из портфеля приготовленное «Советское шампанское», редкие по тем временам конфеты «птичье молоко» и тихо сам с собою встречаю еще один год, год, который не будет ни лучше и не хуже предыдущего; год, который по-прежнему будет безжалостен ко мне, прежде всего, в смысле того, что не убавит страданий сердечных, не прибавит с твоей стороны тепла и участия. А так хочется верить, что будет лучше, что наступит перелом, что появятся ответные чувства.
Ну, как тут опять не вспомнить Вольтера: любимым быть — вот счастье мудреца.
Мудреца, скажу я, но не идиота!
Глава 3
Единственная моя!
Кстати, кое-что о дворняжке. Ты, я убежден, знаешь особенности ее поведения; ты прекрасно знаешь повадки беспородного пса. Того самого, которого каждый может пнуть, пнуть, походя, просто так, без злобы, но пнуть сильно и больно. Если любой другой пес, отвечая на любую мелочь, на самую пустяковую обиду, может огрызнуться (чем породистее, тем злобнее), даже на обожаемую хозяйку, то тот, которого дальше порога обиталища владычицы не пускают, лишь виновато посмотрит в глаза обидчице, подожмет хвост, уныло опустив морду, отойдет в сторону и долго-долго издали станет дожидаться благосклонного взгляда повелительницы своей, то есть терпеливо будет мечтать о прощении. Будет мечтать о прощении лишь за то, что ненароком, случайно попался под руку ЕЙ… или под ногу, что, собственно, одно и то же.
Незавидна, согласись, судьба дворняги: кормят — так себе, объедками с хозяйского стола; ласки — не дождешься, а вот тумаки — извольте получать, на каждом шагу.
Но какая верность?! Какая преданность?! Какая надежность?!
Породистый пес за обещанную свежую баранью лодыжку тотчас же будет готов уйти к другой, прильнуть к теплому, мягкому боку новой хозяйки, но не дворовый! Он будет умирать с голода, но не предаст! Он станет хранить верность до конца. Что бы с ним ни делали, как бы с ним ни обращались. Его обида — скоротечна, забывается после первого же ласково брошенного ЕЮ взгляда.
…Недавно, в день своего рождения, заглянул в почтовый ящик. И что же там обнаружил? Среди прочего, там лежала прелюбопытнейшая открытка! По привычке, не разглядывая лицевую сторону, обратил внимание для начала на оборотную. А там — ни слова, ни адреса получателя, ни намека на отправителя.
И лишь дома я вернулся к лицевой стороне открытки. А вот там-то и была разгадка таинственного послания. На рисунке художник изобразил женщину. Точнее — ту часть ее тела, которая ниже поясницы. На прекрасных бедрах покоилась кроваво-красная мини-юбочка. Легкий ветерок вздыбил ее подол и перед взором восхитительные ягодицы. Черные узорчатые колготки уводят глаз туда, в райские кущи. Бордовые туфельки на высоченном каблуке еще более подчеркивают изящество этих длинных ножек. Дураку понятно: не ради вызова эротических чувств появился в моем почтовом ящике этот именинный «подарочек». Значит, смысл в другом. В чем же?
Ответ — у красивых ног. У ног художник поместил неказистого дворового песика, который буквально прилип к бордовым туфелькам своей повелительницы. Морда поднята вверх. Блестящие глаза-бусинки дворняги вожделенно обращены туда, где заканчиваются восхитительные ножки, и начинается самое божественное, чем одарила природа женщину. Из пасти — вывалился розовенький язычок, с кончика которого стекает слюна сладострастия.
Видит око, да зуб неймет! Намек понятен и я его оценил по достоинству.
Согласен: породистый дог или доберман не станет пускать слюну. Он просто и решительно овладеет «вратами рая». Без лишних церемоний. Не унижаясь. Потому что ему все можно!
Дворняжке же остается лишь мечтать. Наяву приходится довольствоваться малым: простираться у ног хозяйки и преданно полизывать пятки любимого существа.
Ну, а если на горизонте объявится тот самый высокий и мускулистый дог, то от преданной дворняжки освободиться легко — одним движением ноги: пинок и нет проблемы. Не задумываясь о причиненных унижении или боли. Ведь «подножный» пёсик никуда не денется. Он будет, поджав хвост, по-прежнему крутиться неподалеку, готовый в любую минуту приползти, припасть к любимым ногам. Достаточно чуть-чуть пальчиком поманить.
Она любима безропотным существом (вид, скажу тебе, довольно жалкий), и потому прекрасно знает: когда ей, то есть хозяйке дворняги, станет страшно тяжело, когда потребуется срочное душевное отдохновение, то достаточно свистнуть — дворняга на брюхе приползет, оближет-обласкает с ног до головы. И не только промолчит о прошлых обидах, но даже будет бесконечно благодарен за то, что по-царски милостиво дозволили сделать приятное.
Вот такие ассоциации вызвал «подарок» ко дню моего рождения. Надеюсь, тебе не надо говорить про авторство столь оригинального и глубокомысленного «поздравления»?
А ведь ты можешь…
На днях в моих руках оказалась другая открытка. Ее автор — известен. Это ты, единственная моя!
Эта открытка мне крайне дорога и все по тем же самым причинам. В ней, пожалуй, впервые за последние десять лет прозвучали человечные нотки. Не знаю, с чего бы это? Очень странно… Может, причиной служит то, что я предпринимаю отчаянные попытки разрубить, запутанный мною же, «гордиев узел» и несколько отдалиться от тебя? Почувствовав это, ты делаешь некий жест, возрождающий в моей душе надежду?
Возможно, и так. Но я правду не хочу знать. Главное — твоей рукой написано то, на что ты ни разу прежде не отважилась. Этого мне уже более чем достаточно.
Хотя… И в этот раз не смогла удержать себя от того, чтобы…
Я вовремя останавливаю себя перед словом, которое было бы самым подходящим. Останавливаю, потому что прозвучит оскорбительно. Другого же, ласкающего твой слух подобрать не удается.
Ты, между прочим, в открытке написала: «Целую!»
А далее (уже в скобках) откровенно издевательски добавила: «Можно?»
Вопрос требует ответа. И я на него отвечу. Правда, серией встречных вопросов.
Неужто был такой случай, когда бы тебе запретил (пусть отдаленным и самым туманным намеком) целовать себя? Когда: десять, пять или год назад? Где: на улице, в парке, сквере, на лесной опушке в окружении буйства луговых цветов, в театре? В каком месте: дома, в постели, в России или за ее пределами? Ты страстно хотела, чтобы я поцеловал тебя, однако я сказал — нет? Не знаю, не знаю. Кто-то из нас сейчас в горячечном бреду.
Прости великодушно, но я спрошу тебя еще об одном: а попытайся-ка припомнить последний случай, когда ты целовала меня? Это сколько же лет прошло?.. Сколько после этого воды утекло?! Вот задал я тебе задачку, не так ли?
Восхитишь, коли сумеешь вспомнить!
…Ты любишь поэзию. А как отнесешься вот к этим строкам Пушкина?
Ах, если мученик любви
Страдает страстью безнадежно,
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить еще возможно.
Глава 4
Дивная моя!
Что ни говори, но не щедра ты на ласки, ой, как не щедра! В том числе или, прежде всего, на поцелуи.
Скупость вполне объяснима: ты берегла и продолжаешь беречь чувства для объекта, который вполне может быть достоин твоей «царственной милости». Возможно, такой объект имеется и ты полностью, без остатка выплескиваешь ласки на него. А на мою долю — ничего, поэтому приходится довольствоваться упавшими крохами с барского пиршества любви. Крохи, скажу честно, довольно зачерствелые, залежалые, другим не пригодные. Я же и им рад безумно.
Как говорится, каждому свое!
Прости за небольшое признание.
…Была у меня женщина. Лет так на пять моложе тебя. Из себя? Так себе… Не красавица, но миловидна. Страстно хотела замуж.
Пожалуй, мне бросился в глаза единственный недостаток: несколько полновата для своих двадцати шести лет. Это — на мой взгляд. Есть, слышал, мужчины, для которых роскошные женские формы (когда всего много) — мечта всей жизни.
Очутились с ней в постели. Занялись тем, чем положено. Довольно-таки банально. Я чувствовал: ей, партнерше, хочется чего-то большего. Ждала, терпела, надеялась долго. И не выдержала. Прижавшись разгоряченным телом ко мне, она страстно прошептала:
«Милый! Желанный! Поласкай груди! Возьми в рот мои соски! Пожалуйста! Прошу!»
И что я? Ничего. Сделал вид, что не расслышал. Но подумал: «Всё туда же… к изыску тянет… Колода».
Конечно, я не прав и меня ничуть не красит, но что сделано, то сделано.
Ничего тут не поделаешь, если даже смотреть противно на гигантские и совершенно бесформенные груди. Такое «богатство» — не по мне. У меня, как ты знаешь, иной вкус.
Как видишь, я ласки дарю, тем более изысканные, не каждой. Тоже скуп. Значит? О, я тебя поэтому очень хорошо понимаю!
Но, согласись, я никогда, ни разу за многие годы ничего от тебя не просил. Думаешь, не хотелось? Просто: не мог унизиться до нищенствующего, стоящего у твоих ног с протянутой рукой, вымаливающего подачки.
Да, в роли получающего подачки был. Тоже унизительно, но не настолько. Нет, не отказывался от подачек, хотя следовало бы. Отказаться — это выше моих сил. Кроме того, твои подачки я сравниваю с милостыней, а от благотворительности грех отказываться. Бог осудит.
Я не прав?
Впрочем, я, кажется, несколько ушел в сторону.
…Вот ты снова приехала. И всё, как всегда. После рабочего дня ты стала «таскать» меня по городу. Закинув язык за плечо, я следовал за тобой. Ты обежала весь центр, потом (явно без видимой цели) рванула своей обычной тяжеловатой походкой по улице Малышева. Я попробовал заговорить о том, что пора и приостановить бега, уединиться, посидеть… до поезда. Ты не возразила. Но путешествие по городу продолжила. Все сошло бы и за экскурсию, но я-то знал, как ты хорошо знаешь все эти места. Ты же делаешь вид, что эти улицы видишь чуть ли не впервые. Ты искоса поглядываешь на меня, и увиденное доставляет тебе гигантское наслаждение.
Я сдаю свой очередной экзамен на выносливость… И на терпимость.
К восьми вечера ты принимаешь мой экзамен, правда, от выставления оценки-балла, как обычно, воздерживаешься. Никакого баловства!
И вот ты у меня дома. На журнальном столике шампанское в бокалах. Кофе. Конфеты. И… приглушенная музыка. Она, кажется, нравится, обоим.
Мы болтаем обо всем. У тебя на редкость хорошее настроение. Не оттого ли, что я выдержал твой «экзамен» на «отлично»?..
Ты отдыхаешь, отвалившись на спинку кресла и зажмурив глаза. Ты не замечаешь (а, может, делаешь вид?), что юбка укоротилась, подол вздернулся слегка вверх, приоткрыв (чуть-чуть полноватую, но от этого и вовсе восхитительную) верхнюю часть ног. Мне безумно нравится. Мои глаза озорничают, они все время пытаются проникнуть еще дальше, за черту видимого.
Мне сладко! Но голова все же занята другим: с ужасом вижу, что стрелки часов все ближе и ближе к роковому часу. Ты вот-вот сорвешься с места и помчишься на поезд.
А вдруг решила остаться? Этот вопрос то и дело мелькает в голове. Но мне страшно даже подумать. Страшно, потому что боюсь вспугнуть ненароком шальную мысль и развеять собственные грезы. Ведь так было не раз… Почти всегда!
За окном — темнеет. Последний луч заходящего солнечного лазоревого диска, напоследок облизнув потолок комнаты, исчез.
Ты замечаешь, что сейчас в любом случае (даже на такси) на поезд не успеть. Ты смотришь на часы, притворно охаешь: «Кошмар! Я опоздала на поезд! И это все из-за тебя… опять!»
Ты хмуришься (я уверяю себя, что притворно) и в уголках пухловатых губ появляется недовольная складка.
Замечаю: ты зорко следишь за моей реакцией. Приняв твои правила игры, я не произношу ни слова, делая вид, что действительно виновен в опоздании на поезд и потому готов нести любое наказание.
Повинную голову даже меч не сечет. Банальщина? Но иное не идет в голову.
Мое смирение, наконец, ты оцениваешь по достоинству. Ты улыбаешься. Недобрая складка у губ постепенно разглаживается.
Я по-прежнему огорчаюсь. Мне нельзя расслабляться: если ты только прочитаешь на моем лице торжество, то, как это не раз бывало, ты улетишь. Нет, не на поезд, а к любой своей знакомой и оставишь меня «на бобах».
Наконец, вижу, что мне можно… пора. Встаю, подхожу к тебе, сидящей в кресле, сзади, окунаю руки в твои роскошные волосы, приникаю губами к ним, купаюсь в них, наслаждаюсь их запахом.
Ты не реагируешь, то есть не препятствуешь. Твои глаза полуприкрыты. На лице — отрешенность.
Я приникаю горячими губами к мочке твоего уха, легонько посасываю, потом нежно прохожу языком за ухом. Кончик языка оказывается в ушной раковине. Тебе нравится — это я чувствую.
Еще и еще…
Ты молчишь. Ты сидишь, прикрыв глаза.
Я поворачиваю слегка твою голову. Я обхожусь без какого-либо насилия: Боже упаси, позволить себе…
Не сопротивляешься.
Я начинаю осторожно ласкать твои глаза: то пробегаю кончиком языка, то приникаю влажными губами.
Тут-то и поджидает меня чудо… Одно из самых редких.
Ты (совершенно неожиданно для меня) обхватываешь мою голову, притягиваешь к себе и сильно-сильно впиваешься в мои губы.
Я задыхаюсь от счастья. Сердце пытается вырваться наружу. Удары сердца настолько гулки, что я боюсь, что могут вспугнуть тебя.
Поцелуй длителен и упоителен: то ты захватываешь одну из моих губ, медленно и с наслаждением всасывая ее, то проникаешь глубоко в рот, твой язык играет с моим, приникая к нёбу, проникая под мой язык. Ты и тут борешься…
Поцелуй длится и длится. Для меня кажется, что время остановилось.
Мои руки не бездействуют. Руки в работе. Они начинают ласкать (пока через кофточку) твои милые и аккуратные холмики, потом, смелея, пробираются под кофточку, преодолевают еще одно препятствие — бюстгальтер. Соски твои напрягаются и твердеют.
Ты начинаешь дышать тяжело, тело вздрагивает, ты выгибаешься.
Одна моя рука остается под кофточкой, лаская груди, другая выскальзывает оттуда и ложится на колено, замирает и начинает потом медленно продвигаться вверх, под подол юбки. Достигнув очередного препятствия, трусиков, где все пышет жаром, правая рука на секунду замирает, затем пальцы проникают туда, ладонь поглаживает уже влажные «врата рая», а затем, найдя, начинает поглаживать набухший бугорок.
Ты еще больше выгибаешься, начинаешь тихо постанывать и тут…
Не отрываясь от моих губ, ты одной рукой продолжаешь сжимать мою шею, а другая рука медленно поползла по мне вниз, остановилась на несколько секунд там, где ее больше всего ждали, а потом решительно дернула замок-молнию на брюках и…
О, это стоит многого!
Глава 5
Радость моя!
Ну, вот, снова написал-таки слово «МОЯ». И опять-таки вздрогнул, испытав противоречивые чувства. С одной стороны, упоение от того, что могу так говорить, и, несмотря ни на что, пишу. С другой же стороны, всякий раз грызет душу одна и та же мысль: «А моя ли?»
Да, чушь собачья! Разумеется, нет! Ты не была моею в полном смысле этого слова. Да, конечно, иногда принадлежала, но лишь телом, а не душой.
Принимая этот вывод за аксиому, становится до одури обидно, жутко, страшно. Страшно, поскольку всплывает другой вопрос: каким словом определить наши отношения на протяжении десяти лет? Заметь: не десяти дней или даже десяти месяцев, а десяти лет!
Неужели?.. Нет-нет, даже произносить не хочу.
Козьма Прутков говаривал: «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь».
Последую-ка и я этому мудрому и весьма своевременному совету.
Женщина — это потребитель, прежде всего. И потому в каждом новом знакомом (кстати, им может быть не обязательно мужчина) ищет потребительские свойства, присущие любой вещи и являющейся товаром. Значит, человек — это всего лишь вещь. Но вещи бывают всякие: на один день или на длительный период, полезные или совсем ненужные, красивые или абсолютно невзрачные, интересные или так себе.
Женщина встречает на своем пути мужчину. Случайно или намеренно, но знакомится. И с первого же мгновения пытается выставить ему реальную цену.
Красив? Хорошо, не помешает. Высок, строен, мускулист? Превосходно.
Однако она понимает: вещь может быть настолько прекрасной, что глаз не оторвешь, но это всего лишь яркая обертка. А что там, внутри? И в дело вступают и становятся для женщины решающими иные потребительские свойства товара. Прежде всего, насколько полезен может быть новый знакомый, какую прибыль, возможно, даже и сверхприбыль, принесет? Не эфемерную, понятно, прибыль, а самую реальную, ту, которую можно пощупать, то есть не духовного свойства, а сугубо материального.
Оценив вещь, назначив товару его цену, определив его реальные потребительские свойства, женщина начинает соответственно строить свои дальнейшие отношения: либо ограничится «шапочным» знакомством, либо пойдет дальше, до того барьера, который сама себе определила, исходя, конечно, из реальной стоимости вещи.
Они, эти самые стоимостные вещи, по правде говоря, со временем либо изнашиваются, либо утрачивают первоначальную полезность, стареют, выходят из моды, а то и еще проще — надоедают. Интерес к ним падает и, наконец, вовсе исчезает. Для начала о них забывают. Но если они по-прежнему своим присутствием мозолят глаза, то их женщина выкидывает на помойку: с глаз — долой и из сердца — вон! Мужчина, например, перестает существовать. Как будто его и не было, как, впрочем, и всего того, что с ним связано.
Дурно это выглядит? Да, нет — это нормальное, естественное поведение женщины.
Предвижу возражение: не все, мол, женщины такие. Возможно. Но женщину иного плана пока не встретил — ни в среде близких, ни в кругу многочисленных знакомых. Так что, извините: чего не знаю, того не знаю, следовательно, о том не мне судить.
Давно размышляю на эту тему. Благо для этого ты мне отводишь премного времени. И… пищи. Сами по себе факты (в момент их явления на свет, когда они разрозненны) мало что мне могут сказать. Они выглядят случайными и для анализа не годятся. Проходят же годы и, соединяя разрозненные звенья в единую цепь, начинаю понимать жесткую логику наших отношений.
Только не хочу, чтобы ты подумала, что начинаю выступать в качестве обвинителя. Нет-нет! Бог мой, как могу?! Какое право имею?! Мне ли не понимать: вещь, предназначенная для вытирания ног, не вправе претендовать на роль смокинга. Смокинг — это смокинг, половик же в прихожей — это всего лишь половик. И если в умелых женских руках смокинг в одночасье может превратиться в половик, то половик смокингом не будет уж никогда.
Нет-нет, это не вина твоя, а беда моя, которую изначально обязан был предвидеть. Безрассудство не прибавляет мужчине очков. Скорее, наоборот!
…Ты зашла в мое купе (как странно, что многое в наших отношениях связано именно с вагонами и поездами), поговорив о том, о сём, ты подала мне свежий номер популярного московского журнала.
«Прочти», — ткнув пальцем в опубликованный роман, сказала ты.
«Что-то стоящее?» — спросил я.
Ты улыбнулась, но ничего не сказала.
Ты, помнишь, тогда еще мы были просто коллегами.
Впереди — длинный и скучный вечер. Я — один в отдельном купе. Я — «фигура», по статусу… Устраиваюсь поудобнее. Под мерный перестук колес на стыках, углубляюсь в чтение. От этого чтива — не в восторге. Теперь уж и не помню ни названия того романа, ни автора. Весь роман гений Чехова бы уместил в одну страничку.
Итак, глава одного московского учреждения по долгу службы едет в провинцию, где знакомится с молодой, милой и чрезвычайно находчивой особой. У них — роман. За началом — следует продолжение.
Шеф сталкивается с проблемой: его и молодую любовницу разделяют тысячи километров — не наездишься. Тогда… Он переводит Её на работу в свой столичный офис, то есть под собственное крылышко. Это и есть Её интерес. Потому что мечта сбылась: Она — в столице. Более того, вскоре получает благоустроенную квартиру и переезжает всей семьей.
Сделка двух людей состоялась: с Его стороны — льготы и привилегии, а с Её стороны — постельные утехи. Эти утехи, замечу, она предоставляет шефу охотно и даже с некоторым удовольствием.
У них все нормально. В этом «служебном романе» для героев нет неясностей. Между ними нет любви, а есть лишь здоровый секс, который организму нужен, особенно уже стареющему.
Сразу-то и не понял, для чего ты мне рекомендовала прочитать роман. Спустя лишь полгода до меня, так сказать, дошло: это был прозрачный намек, что между нами возможно нечто подобное. Ведь исходные данные аналогичны: я — в возрасте, ты — молода и хороша собой; я — руководитель из уральского центра, правда, областного, ты — коллега из той же фирмы, представляющая ее интересы в провинциальном небольшом городке; ты — мечтаешь перебраться в областной центр, получить хорошее жилье, но не знаешь, как это поскорее сделать, я — знаю, как и, главное, могу эту проблему решить.
Ты предложила мне сделку: я получаю твои телесные утехи, а взамен — обеспечиваю тебе перевод и квартиру.
Не сообразил сразу-то, чего от меня хочешь. Ума не хватило, чтобы догадаться. И потому дальнейшие события стали развиваться не по логике романа: не столь просто и не так легко… для меня. Потому что для тебя все произошло даже лучше, чем ты могла предполагать.
Влюбился я! Влюбился до умопомрачения! И это позволило тебе играть не на равных, как в романе, где обе стороны хорошо знали, чего хотят друг от друга.
Подобный поворот событий тебе оказался на руку, так как облегчал путь к цели, давал шанс достичь желаемого «малой кровью». И рыбку, так сказать, съесть, и…
Все бы ничего, но моя слепая, а посему больная любовь тебя стала тяготить. И об этом ты дала знать сразу, как только убедилась, что я действительно влип по уши. Ты одним махом попыталась остудить мои разгоряченные мозги, выплеснув на голову ушат ледяной воды, чтобы охладить и избавить от бредовых идей.
Ты растоптала в одночасье мою любовь, отвергла жестоко и властно, не оставив и капли надежды. Отвергла без объяснения причин, без попытки хотя бы сгладить эффект, уменьшить силу удара. Ну, что, право, за церемонии, ведь так?!
Палачи, отсекающие головы своим жертвам, наверное, менее жестокосердны.
Хотя… Чего было ждать? Ты мне предложила одни правила игры, я же выбрал иные. Для меня это и не игра. Я прыгнул в омут любви, окунулся с головой. Омут оказался столь глубок, содержимое его столь густое и вязкое, что выплыть не смог, не по силам оказалось. Даже с твоей активной помощью. Был человек — и нету! Вправе ли я тебя тут осуждать?
Всё терпел. Сносил любые твои выходки. Пробовал быть тебе не в тягость, стараясь реже видеться с тобой, пробуя забыться в постельных утехах с другими женщинами.
Тяжело давалось это, поэтому срывался. Ты же всякий раз указывала на подобающее мне место, осаживала меня, во время остужала распаленные чувства. Старалась ударить побольнее, чтобы подольше помнил, не забывал, что мое место и роль — роль вещи, половика в прихожей.
Сколько раз себе приказывал: «Образумься! Не ребенок же и не дурак!» Бесполезно!
Потрясающе! Я, верно, выгляжу в твоих глазах круглым идиотом. И, возможно, являю собой посмешище для твоих мужчин, объект для шуток, когда ты с ними отдыхаешь душой и телом. Какое унижение! Я это понял, но поздно, когда изменить уже ничего нельзя.
И все же… И все же, радость моя, как мне дороги и желанны те редкие милостыни, которые достаются мне. Нет ничего прекраснее, нежели с любимой провести день, час или даже минуту…
Ну, вот… Я снова утрачиваю контроль над собой и перешагиваю порог дозволенного. Прости! Не казни в присущей тебе манере. Дай, государыня, слово молвить… А?
Глава 6
Божественная моя!
…И был май: его завершающая стадия. Угрюмые взгорья Северного Урала повеселели, расцвели, заблагоухали ароматами цветущей черемухи. Особенно вдоль речушки, протекающей по дальней окраине твоего города.
Я приехал. Я хотел приехать. Я сгорал от нетерпения увидеть тебя, погладить твои шершавые от домашней работы ладони, прикоснуться к копне волос, зарыться в них и вдыхать, вдыхать, вдыхать бесконечно их необыкновенный аромат.
Но приехать с бухты-барахты не мог себе позволить: боялся получить от тебя по носу.
Я должен был, я обязан был набраться нечеловеческого терпения и ждать, ждать, ждать своего часа, не зная наверняка, наступит ли он.
Накануне, когда последний на этой неделе рабочий день уже закончился, но я все еще находился у себя; когда никого и уже ничего не ждал, — зазвонил телефон.
«Черт, — выругался я, — кому понадобилось звонить в такой час? Ну, знают же, что звонят не по поре».
Неохотно дотянулся до телефонного аппарата, стоявшего на тумбочке, снял трубку. «Слушаю», — равнодушно произнес я. И услышал: «Приветик».
Сказала ты, и по этому лишь одному слову понял, что тебе грустно, одиноко; что ты жаждешь общения… с любым (или любой), кто в эту минуту подвернется под руку; что причиной плохого настроения, как я посмел предположить, является твой драгоценнейший муженек, явившийся домой под хмельком — это то, единственное, что дает тебе моральное право обижаться на мужа и безжалостно срывать на нем все свое зло. Потому что муж твой — это ангел, позволяющий тебе все, и другого такого безропотного и на все согласного мужика, не претендующего ни на что, вряд ли еще ты сможешь когда-либо встретить.
Не люблю твоего мужа, а, порой, даже люто ненавижу, но это не основание быть к нему необъективным. Твой Максим, или Максик, как ты любишь его называть, бесконечно в тебя влюблен, влюблен давно, еще со школьной скамьи. Он — реалист, а потому совсем не питал себя иллюзиями, что когда-то сможет стать твоим законным спутником жизни. Он лишь тяжело вздыхал, глядя на тебя издалека, и с грустью и тоской отводил взгляд, когда рядом с тобой появлялся реальный претендент на твою руку и сердце.
А их, претендентов, было немало — вагон и маленькая тележка, и у тебя был богатый выбор: на любой вкус, цвет и запах.
Ты знала и про этого твоего воздыхателя. Ты догадывалась (наверное, по нежному постоянному блеску его карих глаз), что твой одноклассник Максим питает к тебе безответные чувства. Но тебя это ничуть не тревожило.
Кто он? Среднего росточка и чуть-чуть полноват (потом, правда, ты его раскормишь, и он сильно раздастся вширь), круглое лицо с природной бородавкой на правой щеке и с правым же слегка косящим глазом (будто бы, родовая травма). Иначе говоря, обычный парнишка — серенький и невзрачненький. Да, Максим, собственно, лучше всех из класса понимал в математике и физике, в чем ты была изначально не сильна, а потому нещадно сдирала его контрольные работы. Он не противился. Наоборот, он был на седьмом небе, когда ты снисходила до него, и просила его об этом. А как он сиял, когда, отправляясь в туристический поход, нес на своем горбу двойную поклажу — за себя и за ту девушку, то есть за тебя. Ты же, видя, как Максим обливается потом и тяжело дышит, лишь подтрунивала над ним, издевательски усмехаясь: «Держись, Максик! Терпи, казак: атаманом станешь».
Он и терпел: с радостью нес свою ношу, а своя ноша, как известно, — плеч не тянет. Правда, спустя много лет, случится в вашей семье все как-то так, что все тяжести — сумки и баулы — станут твоей долей, и без них твой образ будет уже невозможно представить.
Ты тщательно и толково рылась в претендентах. Рылась долго, и не спеша. Очевидно, искала свой идеал. Какой он? Я не могу сказать. Скорее всего, твои мечты рисовали традиционный образ, умещающийся в хорошенькую девичью головку, — образ рыцаря на белом коне.
Рыцарь так и не прискакал — ни на белом, ни на рыжем, ни на вороном или караковом коне. А годы неумолимы. И ты это стала понимать, взрослея и набираясь житейской мудрости.
И пред тобой возник реальный образ — образ старой девы. Увидев свою перспективу, ты ужаснулась. Ужаснувшись, начала решительные действия.
Как особа сугубо практичная, ты решила: лучше синица в руках, чем журавль в небе: с лица, мол, не воду пить. Красавцев вон сколько вертится, один другого статнее и краше, но они такие непредсказуемые, от них никогда не знаешь, чего ждать. Не надежные они.
Тут-то и вспомнила своего еще школьного «рыцаря печального образа», который (и ты это отлично знала, поскольку далеко из вида не отпускала) все еще не женился, хотя все его сверстники уже детишек своих нянчили.
Вспомнила и поманила слегка пальчиком. А Максик? Тотчас же, не мешкая ни секунды (он-то отлично знал твой характер и понимал, что тебе передумать ничего не стоит) оказался у твоих ног.
Потом была свадьба. Потом родился сын Сашенька, свет очей твоих, единственная радость и гордость.
Мужа ты никогда не любила. Более того, не уважала, а потому ему цену в грош давала, причем, исключительно в базарный день. Этого ты не скрывала от мужа. Он ни на что другое и не претендовал. Он изначально, понимая, почему столь неожиданно и именно на него пал твой выбор, даже не претендовал полностью, как мужчина-собственник, и на твое тело. Да, он ревновал, но так, что ни ты, ни кто-либо еще не знал. Явных сцен ревности, когда видел, как ты напропалую флиртуешь с очередным «объектом твоего пристального внимания», не закатывал.
Тебе, сильной, вольной и гордой женщине, с мужем, ну, явно же крупно повезло. И муж есть, причем, безумно любящий, и сын, составлявший яркий луч света в твоем «темном царстве», и полная свобода твоих действий, то есть абсолютная независимость (во всем, что касается твоей души и сердца) от главы семьи.
Какой глубокий ум и какая невероятная женская дальновидность?! Счастливая женщина. Не так, скажешь?..
«Здравствуй, божественная моя», — тихо, с придыханием, боясь, очевидно, вспугнуть прилетевшую столь нежданно-негаданно птицу счастья завтрашнего дня, произнес я в трубку.
«О-о-о! Даже так? — услышал я в ответ. — Красиво. И чертовски, признаюсь тебе, приятно. Из уст не каждого, далеко не каждого мужчины услышишь подобные слова».
«Пожалуйста, не ёрничай», — попросил я.
«Вовсе не ёрничаю: я серьезно и искренне, дорогой…»
Я прицепился к слову. «Дорогой, но не желанный».
«Давай не будем, а?
Я поспешил со своим согласием: «Не будем, так не будем».
«Как дела?»
«Какие интересуют — дела трудовые или дела сердечные?»
«Трудовые, конечно… — потом осторожно ты добавила. — В первую очередь».
«И ради этого позвонила?! — неприкрыто обидевшись, спросил я. — Стоило ли? Эти дела, которые ты имеешь в виду, за неделю настолько остое… — вовремя спохватился и поправился, — осточертели, что ни глядеть, ни слушать, ни говорить, тем более с тобой, совсем не хочется».
Ты в трубку хихикнула. «А первый-то вариант слова намного ярче».
Ну, зараза, подумал я, ведь уловила все-таки, хоть и разница-то всего в одну букву. Сделал вид, что не понял, о чем это она, и вслух сухо сказал: «На работе — все в порядке».
«Значит, по-прежнему цветешь и пахнешь?» — снова, ерничая, спросила ты.
«Это — о чем?» — я сделал вид, что не заметил твоего откровенного ёрничанья.
«Всё купаешься в лучах славы?» — спросила ты и хохотнула.
«Купаюсь», — ответил я.
«Ну-ну! — она, как мне показалось, не почувствовала моего сарказма. — Будь осторожен: нет ничего ядовитее, беспощадно разъедающего душу, чем слава. Особенно, когда ее так много.
«Врагу не пожелаю такой „славы“, какая преследует меня».
«Ладно, не прибедняйся. Вчера раскрываю московскую газету и вижу на второй странице, чердаком, статью о тебе…
Спешу уточняюще прервать: «И не обо мне, а…»
«Есть, скажешь, разница?»
«Разница существенная… Однако все равно приятно, — признаю я.
«Поздравляю! — слышу неожиданно ласково заворковавший в трубке твой голосок, всегда вселяющий в меня надежду. Ты делаешь маленькую паузу и добавляешь. — Целую!»
«Если бы, — я шумно вздыхаю, — это было так…»
«Какой, надо же, отчаянный скептик, — в трубке слышу твой смешок, и потом ты подтверждаешь (ты отлично знаешь, что я поставил под сомнение). — Это именно так! Это только так!»
«Если… — боюсь произнести вслух, — то какие проблемы?»
«И ты не знаешь?»
«Нет, не знаю», — искренне отвечаю я.
«Четыреста километров — ничто?»
«Для любящего — ничто! Для ледяного же — непреодолимая пропасть. Любящее сердце не знает ни преград, ни расстояний, ни высоких гор, ни океанов».
«Красиво… но всегда у мужчин только на словах, — ты вздохнула. Но меня-то тебе не обмануть: вздох твой притворный. Ты-то уже прекрасно знаешь, что у меня от слов до дела — всего лишь шаг. И могла убедиться. Играешь, кошечка, играешь со своей жертвой, перекатывая своими лапками, в которых сейчас глубоко спрятаны коготки, нечто мягкое и пушистое. — Увы, все мужчины…»
И эти слова слышал не раз. Понимая, делаю вид, что не понимаю твоих правил игры, навязываемых мне сейчас.
«Хочешь проверить?» — в лоб спрашиваю я.
«Почему бы и нет?» — отвечаешь ты вопросом на вопрос.
«Тогда — жди».
И в ответ — растерянно: «Это… правда? Ты не шутишь?»
«Такими вещами, — солидно, с налетом пафоса говорю я, — не шутят.
«Если… если… То буду ждать… А когда?» — догадалась спросить ты.
«Завтра. По утру. Последним поездом».
Ты тихо непривычно умиротворённо сказала в трубку: «Жду. Буду дома. Я буду рада. И Сашка-то как будет тебе рад?! — ты помолчала и спросила. — Но как? Ведь уже поздно и…»
Я, как мне помнится, самоуверенно заявил: «Это мои проблемы».
«Слово не мужика, а мужчины, — ты засмеялась. — Жду. Буду дома».
И тут я, осмелев, стал ставить свои условия. Точнее — одно условие, но очень для меня важное.
«Будет лучше, если не у тебя дома…»
«А где?»
«Решай, голубушка, сама».
«Жаль, что мой Сашка не встретится с тобой, но… Хорошо. Встречаемся в десять утра. Возле гостиницы. Идет?»
«Идет».
«И там обсудим детали».
«Обсудим», — согласился я.
«До встречи! — и ты положила трубку.
Посмотрел на часы: без четверти восемь местного. Вот-вот и уйдет предпоследний поезд, идущий через твой город. На него уже опоздал. Последний поезд — через два с половиной часа и он прибывает, как ты знаешь, в восемь утра завтра.
Два с половиной часа — это очень мало. Я не готовился к поездке, поэтому у меня нет ничего. Нет (и эта проблема самая сложная, так как пятница и в кассах вокзала рассчитывать на купейное, или любое другое место в этом поезде нет никакого смысла) даже проездных документов.
Но острейшее желание видеть тебя принуждают делать меня даже невозможное.
Быстренько вынимаю из шкафа походную сумку, открываю нижнюю ячейку сейфа, где у меня всегда хранится «НЗ», достаю две бутылки венгерского сухого вина, которого в свободной продаже днем с огнем не сыскать, коробку конфет нашей фабрики «Птичье молоко» (и это также можно достать лишь по великому блату), хрустальные фужеры, бумажные салфетки, штопор, складной нож, и этим загружаю сумку.
Выхожу на улицу. С минуту размышляю, глядя на проезжающие и страшно грохочущие трамваи.
Есть еще одна проблема, которую мне, кажется, не разрешить: время позднее и все рынки уже не работают, а без живых цветов я появиться у тебя никак не могу. Такого не было. И быть не должно!
Тяжело вздохнув, понимая, что эту проблему уж я точно не разрешу (если бы было времени побольше, то, на самый крайний случай, сгонял бы в совхозную оранжерею, находящуюся далеко за городом, и там бы выпросил у сторожа), иду на трамвайную остановку. Жду трамвая, а их, как назло, нет. Будто в один миг вымерли.
Стою. Нервничаю. Так как мне обязательно надо появиться на перроне, когда пассажирский состав только-только подадут под посадку. В этот момент у меня больше шансов. Потому что мне нужен начальник поезда: он и только он мой спаситель и благодетель. Начальник поезда, если захочет (ты об этом знаешь) одно-то свободное место всегда отыщет.
Вывернул-таки из-за угла трамвай. Приехал. Бегом пробежал подземным переходом, а потом по привокзальной площади; ныряю в вокзал, пробегаю тоннелями. И я на нужном мне перроне. Состав, гляжу, еще не подали: это хорошо.
Появился маневровый тепловоз, возвестивший зычными свистками, что подает состав.
Состав остановился. Бегу к восьмому (под этим номером обычно значится штабной вагон) стучу в закрытую еще дверь тамбура (посадка-то еще не объявлена), дверь приоткрывается и является миру злющее лицо проводницы.
«Чего стучишь? Не знаешь, что посадки не было?» — грубо бросает она в мой адрес.
Знаю, что мне не резон злить проводницу, поэтому мягко говорю: «Мне бы начальника поезда увидеть».
«Зачем?» — все также злобно сверкая глазами, спрашивает проводница и неприязненно меряет меня колючим взглядом с ног до головы.
«Мне очень нужно. Позовите, пожалуйста, начальника поезда».
Проводница отворачивается и кричит в глубь вагона: «Александра Ивановна, тут какой-то мужик вас спрашивает».
Проводница спускается вниз и начинает тряпкой протирать поручни.
Появляется Александра Ивановна. И, о чудо, мы, оказывается, знакомы…
Остальное, как ты сама понимаешь…
Поезд прибыл на твою станцию точно по расписанию. Выскочил первым. Тороплюсь. Потому что я должен все-таки предпринять еще одну попытку обзавестись живыми цветами. Тем более, что до назначенной встречи еще два часа.
Не питаю никаких иллюзий. Знаю, что живые цветы в вашем городе — это еще большая редкость, чем в столице Среднего Урала.
Тем не менее, бегу в припрыжку к рынку (знаю, где он находится), и там в этот ранний час мечтаю купить цветы.
Прибежал. Огляделся. Заметался от прилавка к прилавку, чем, видимо, и привлек внимание жителей провинциального города, в котором таких «чудес», как безумный поиск по утру цветов, не случается. Позднее узнаю, что увидела меня и твоя знакомая, которая и нарисует эту удивительную картину поиска мужчиной… Нет, не бутылки водки, а живых цветов.
Осмотрел, всё, что было. Увы… Были какие-то бледно-розовые тюльпаны с черными ободками (от старости) по краям лепестков, с поникшими вниз бутонами. Не мог я подарить любимой такие цветы!
И тут произошло чудо: на рынке появилась старенькая женщина с ведром в руках. Из ведра с водой выглядывал большой пучок свежих ромашек. Нет, это были не луговые ромашки, а оранжерейные, поэтому огромные и яркие.
Букет был у меня. И уже, торжественно неся в руке цветы, важно отправился на место встречи. Худо-бедно, но программу-минимум я выполнил.
Мы встретились. И уединились почти на весь этот майский день в излучине речушки, под буйно цветущими черемухами.
Я был бесконечно счастлив. Ты ничем не испортила моего настроения — ни словом, ни действием. Конечно, я хотел тебя. Потеряв голову, даже настаивал: мне казалось, что здесь, в этом крохотном райском уголке, среди весеннего природного буйства мы одни на всем свете.
Ты не потеряла благоразумия: как-никак день ведь и город рядом; могли случайно увидеть.
Я нет, не обиделся. Я всё правильно понял, хотя и кружилась голова от нестерпимого желания обладать тобой, обладать на природе.
Это был божественный день, божественная моя!
Восемь часов пролетели как один миг. Восемь часов блаженства — полного и искреннего.
И поздним вечером я уехал назад, домой. Позади оставлял миг счастья, впереди — не было ничего. Пустота. Мрачность. Тоска по любимому человеку. Хотя все это было так глубоко внутри, что заметить мог лишь слишком проницательный человек. А таких в моем окружении тогда не было.
Уехал бесконечно счастливым человеком. Восемь часов пути проспал мертвецким сном. Сном ангела или… великого грешника.
Глава 7
Чудненькая моя!
Что было вчера? О, это был чудный вечер с чудненькой молодой женщиной, по которой изнывает мое сердце. И, между прочим, уже не меньше года.
Надеюсь, догадываешься, о ком это я?..
Ты приехала утром.
Заглянув на пару часов к нам, поболтав с коллегами, обсудив с ними новости (те новости, которые обычно могут интересовать лишь женщину, в которую безумно влюблен шеф), ты исчезла, не сказав мне ни слова. Вольность, конечно. Ведь как ни крути, а день-то рабочий. Для всех. А ты, значит, исключение из правил, да?
Остался в тревожном ожидании. Был в неведении? Это не совсем так. Потому что это твоя обычная практика: нахлынуть, как океанская волна, и отступить, раствориться в безбрежье, оставляя после себя лишь хлопья пены, песок, ракушки и легкий бриз, легкий бриз в виде наших кумушек, оставленных тобой с богатой пищей для пересудов, гадающих что бы это значило? Это?! Твое столь неожиданное появление в наших краях.
Мимо их остренького глаза не прошло то обстоятельство, что в последнее время, несмотря на крохотного малыша, оставляемого тобой на попечение мужа и постоянно болеющей матери, ты зачастила в Свердловск.
«Не иначе, — судачили наши кумушки, подмечая необычный блеск твоих карих глаз-миндалинок, влюбилась. Интересно, по ком вздыхает? Из коллектива? Ну, нет! Где-то на стороне. Верно, глядя на пышущую жизненной энергией молодую женщину, наделенную истинно русской красотой, наши котяры тоже облизываются и жмурят масляные глазки, однако… — они недоверчиво качают головами, — не может быть… Не по Сеньке шапка… Эта, если и влюбится, то в объект значительно достойнее, нежели наши мартовские коты… Мелковаты, да, мелковаты».
Я-то знал, куда ты обычно исчезаешь. Точнее — догадывался.
Исчезая, ты рыскала по магазинам областного центра, запасаясь, набивая покупками огромный баул. У нас не больно-то разживешься, но у вас…
У нас, облазив все магазины крупного города, в конце концов можно где-то и натолкнуться, например, на выброс в продажу апельсинов или мандаринов, где моментально вырастает огромная, на километр, очередь, а у вас… Вообще — дохлое занятие.
У нас, верно, дефицит. Но ваш тамошний, провинциальный — из дефицитов дефицит.
Также знал, что ты объявишься у нас с тяжеленным баулом на физически крепком своем плече. Объявишься через какое-то время.
Ты мне оставляла возможность гадать, когда именно объявишься? Через два часа? К концу рабочего дня? Или возникнешь, когда до отхода твоего поезда останется несколько минут, и мы рысью помчимся на вокзал, а, примчавшись, как загнанные лошади, услышим, что поезду дают уже отправление? И мы снова, как это было не раз, не поговорив, не обменявшись и несколькими фразами (кроме тех, что на бегу) расстанемся и расстанемся надолго? И ты опять под лязганье автосцепки и злобный лай проводницы в последние секунды заскочишь в вагон и примешь из моих рук свою ношу — баул, набитый до верху фруктами; помашешь мне рукой через окно двери, с остервенением предупредительно захлопнутой проводницей?
М-да… Перспектива в любом случае не из заманчивых, мало что сулящих мне. А все-таки я молю Всевышнего, взываю к нему, чтобы тебе на этот раз повезло, и ты бы в результате вернулась хотя бы к концу рабочего дня. По крайней мере, у нас будет несколько часов для общения. Пусть не в той обстановке, в какой бы я хотел, а всего лишь в кабинете, но все равно ведь общение, которое ценю, которым дорожу, от которого получаю огромное удовольствие.
А ты?! Получаешь ли ты удовольствие от нашего общения? Думаю, что нет. Верный признак этого, когда ты не оставляешь времени вообще. Распоряжаешься своим временем ты и только ты. Ты и только ты, если будет такое желание, в силах выкроить часок, другой для нас. Обычно ты не «выкраиваешь». Я, надувшись, провожаю. Ты, видя мое недовольное лицо, а по нему ты научилась читать, укоризненно говоришь: «Сам видишь, — я действительно вижу. — Что я могу? — ты действительно ничего не можешь. Ты, ласково улыбаясь (ласковость притворная), сокрушенно добавляешь. — Какие все-таки мужики — эгоисты! — ты абсолютно права: мужики — эгоисты и я в их числе, чудненькая моя.
Но вчера…
Ты вихрем ворвалась в мой кабинет — раскрасневшаяся и запыхавшаяся. Бросила баул. Упала своим довольно массивным и плотным телом на один из стульев. Стул под тобой жалобно застонал.
Было без четверти семь. Вечера, конечно.
Ты посмотрела на стоящий неподалеку самовар.
«Кофе, надеюсь, хотя бы будет здесь для несчастной женщины?»
Я наблюдаю за тобой. И вижу, что у тебя прекрасное настроение, ты ласково улыбаешься (совсем не притворно). И вселяешь в меня надежду. Призрачную, но все-таки ведь надежду! Призрачную, потому что передо мной на столе лежат твои проездные документы на поезд, отправляющийся через пару часов.
Скоро, совсем скоро пташка, так весело и беспрестанно чирикающая сейчас, упорхнет. Упорхнет к себе. Да, упорхнет, но это случится лишь через два часа и не раньше. А два часа, знаешь, что это такое для меня? Нет, ты не знаешь! Знать не можешь! Два часа — это два часа величайшего моего блаженства. Эти часы редки, все наперечет, поэтому отложились навсегда в моей памяти.
Ты тянешься рукой к моей голове, взъерошиваешь мою жесткую, а потому всегда непокорную, шевелюру. Ты говоришь, по-прежнему, непривычно ласково: «Скучал, мой мужичок?»
Небольшой горьковатый осадок от долгого ожидания моментально исчезает. Я — на седьмом небе. Но держу себя в рамках. Изо всех сил стараюсь не показывать, до какой степени я сейчас, в эту именно минуту счастлив. Счастлив всего лишь от двух тобою произнесенных слов — «МОЙ МУЖИЧОК».
Я, отчаянно напрягая память, пробую вспомнить, когда еще слышал это местоимение «МОЙ»? Если и слышал, то, увы, очень давно. Это было… Это было…
Прочь столь далекие воспоминания! Сейчас — не время для них.
Продолжаю наблюдать. И не могу не заметить, что в тебе нет обычной нервозности, которой сопровождаются твои последние часы перед отъездом домой. Пытаюсь отгадать и спрашиваю самого себя: отчего бы это? Ответа не нахожу. Нет, появляется одна мыслишка, оттуда, из-под сознания, но я её гоню прочь.
А ты говоришь: «Встретила случайно, — случайно… так тебе и поверил, — приятельницу, однокурсницу… Век, кажется, не видела, — ну, да, век: два месяца назад. — Заболталась. И не заметила, как время-то… — да, не заметила; говори кому-нибудь другому; специально тянула время, чтобы его, времени, совсем не оставить для меня. — Ух, ты! Оказывается, бежит… — а ты что думала: бежит и как еще бежит-скачет от нас время. С тобой и не заметишь, как в ожиданиях вечных очутишься… там, где старость и где уже нет настоящего и будущего, зато, прошлого — хоть отбавляй.
Скептически хмыкаю. Ты догадываешься, что со мной твой номер с навешиванием на уши развесистой лапшички, не проходит. Ты чуть-чуть огорчена от этого обстоятельства, хмуришься слегка, тебе совсем не нравится, когда твой «мужичок» способен читать и между строк, видит сразу второй, истинный смысл. Все-таки, считаешь ты, с умным мужиком — вечные проблемы: просто так по-бабьи с ним языком не почешешь.
Ты, улыбаясь, спрашиваешь: «Так, мне — кофе, или пошла на…»
Ты имеешь в виду анекдот, который очень мне нравится и который я тебе недавно сам рассказал.
Приезжает Леонид Ильич Брежнев в Нью-Йорк. Селят в президентский номер лучшего отеля. Утром Брежнев просыпается, а перед ним стоит горничная, очаровательная такая американка, и на ломаном русском языке спрашивает: «Вам, сударь, кофэ в постэ-лю или пошь-ля на х…й?».
Удивился Брежнев. Поручил своим помощникам, чтобы те разузнали, в чем дело? Помощники, конечно, разузнали. Доложили Леониду Ильичу. И диалог:
«Товарищ Леонид Ильич, недавно приезжали советские хоккеисты…»
«Ну, и что?»
«Они размещались в этом же номере…»
«Ну, и что?»
«Две недели хоккеисты жили… Горничная привыкла…»
«К чему привыкла?»
«К этому… Ну… Горничная каждое утро входила в номер и спрашивала: «Вам, господа, кофе в постель?»
«Она правильно спрашивала».
«Да, правильно… Как положено по инструкции… Но в ответ от советских хоккеистов каждое утро слышала одно и тоже…»
«Что именно?»
«Пошла на х…й… Ну, девушка подумала, что это так принято у советских людей… Вроде, вежливого отказа от чашки утреннего кофе, вроде, того, что спасибо, дескать, не надо».
Вспомнив анекдот, я улыбнулся. Встал, подошел к самовару, включил вилку в сеть, достал фарфоровые миниатюрные чашечки с блюдцами, припасенные мною специально для таких случаев, крохотные ложечки, сахарницу, банку с индийским растворимым кофе (индийский — ничего, а цейлонский, тем более, бразильский — чепуха), поставил на стол.
Охотно ухаживал за гостьей. Ты охотно принимала подобные ухаживания. Это были, как мне представлялось, те ухаживания, которых дома от двух имеющихся мужчин дождаться было невозможно. Особенно от старшего мужчины, который раздавался вширь прямо на глазах. Откормила. Избаловала. Приучила. И теперь ловишь кайф в те редкие минуты, когда дозволяешь мне поухаживать за тобой. Тем более, что не надо ни просить по несколько раз, ни, тем более, чего-то требовать. Здесь все твои желания угадывались и исполнялись тотчас же.
Не могу, сказать, что в ответ на такие ухаживания ты меня засыпала комплиментами. Ну, может, сначала… Потом ты привыкла и стала воспринимать как должное.
Отпив из чашечки чуть-чуть, ты закрыла глаза, отвалилась на спинку стула, и стул вновь стал жаловаться на тяготы своего существования.
«Чертовски приятно, — сказала ты, — когда есть место, где можешь почувствовать себя человеком, женщиной, — ты сделала паузу и добавила, — а не вьючным животным».
Я подумал: «В чем же дело? Ты можешь в любой момент перестать быть „вьючным животным“. Тебе сделано предложение, но ты…»
Вслух же не произнес ни слова. Хотя наружу рвалось много чего. Приучила. Теперь боюсь сказать лишнее. Боюсь огорчить. Боюсь быть не так понятым. Боюсь вспугнуть мою чудненькую пташечку.
Ты по-прежнему не проявляешь признаков нетерпения. Ты продолжаешь пить маленькими глоточками горячий кофе. Ты не спешишь? И нервно не поглядываешь на часы? Странно, очень странно…
Скосил глаз на электронные часы, подмигивающие мне зеленым глазков ежесекундно: половина девятого. У нас — всего лишь полчаса. Времени достаточно, чтобы спокойно, без привычной спешки добраться до вокзала. Но… Ты по-прежнему сидишь, полуприкрыв глаза.
И я, набравшись храбрости, отчаянной наглости, неожиданно говорю: «Может, останешься?.. А?..»
Ты молчишь. Даже полуприкрытые длинные твои веки не дрогнули.
Жду. Жду, затаив дыхание.
Наконец, ты распахиваешь настежь свои большие глаза, смотришь пристально на меня и иронично (в уголках твоих пухленьких и таких сладеньких губ появляется еле приметная ухмылка) спрашиваешь: «Приглашаешь?»
«Естественно!» — восклицаю я.
«Э, — ты обреченно машешь рукой, будто решаешься на нечто губительное для тебя; не надо, милочка, не надо этого актерства; ты давно продумала весь сценарий нынешней встречи, продумала до мелочей, до каждой фразы и междометия; впрочем, и этого я не отрицаю, ты способна в несколько секунд поломать этот сценарий; так было; я смог убедиться, что если что-то тебе вдруг во мне или в моем поведении (скажем, почувствуешь самоуверенность) не понравится, то у тебя предусмотрен для аварийной посадки запасной аэродром; ты и не уедешь, поскольку поезд ушел, но и у меня не останешься, а сбежишь к подружке, сбежишь в самый последний момент, оставив меня с носом. И вот ты обреченно бросаешь. — Была не была».
Торжествую, но не смею показывать этого.
«Значит? — встаю и беру в руки твои проездные документы. Ты молчишь. — Одну минуту. Извини.
Открываю дверь кабинета. Ты знаешь, куда намерен пойти и зачем, поэтому слышу вяло произнесенный вопрос: «Но ты не знаешь, на какой день?»
Оборачиваюсь.
«Ясно: на послезавтра».
Ты улыбчиво глядишь на меня и, благосклонно на этот раз относясь к моему наглому заявлению, говоришь в ответ: «У, тю-тю-тю… разошелся… Умерь-ка аппетиты, дружочек, — потом меняешь тон и жестко добавляешь, не оставляя никаких возможностей для иного толкования или торга. — На завтра! И на этот же поезд!»
Развожу руками и ухожу. Возвращаюсь с новыми проездными документами. Снимаю с телефонного аппарата трубку, набираю номер диспетчера, заказываю такси.
Машина приходит необычно быстро.
И мы едем.
Ах, какой это был вечер! И какое было у тебя замечательное настроение! Мне казалось, что ты была готова на всё.
Предчувствие меня не обмануло.
Ты щедро дарила ласки, я — вдвойне, потому что не привык оставаться в долгу.
Мы пили твои (мои — тоже) любимые напитки, разговаривали. Разговаривали обо всем. А потом (как-то само собой получилось) я раздел тебя (пожалуй, это занятие для меня одно из самых приятных).
Я припал к тебе!
Мы оказались в постели. И в моем безраздельном владении и распоряжении (по крайней мере, на несколько ближайших часов) оказались твои пухленькие губки, твои аккуратные ушки, твои миндалевидные глазки, твои небольшие розоватые грудки, твои волосы -–длинные и пышные, твои руки, могущие быть такими добрыми и ласковыми, твои мускулистые ноги — от пятки и до… и, конечно же, пышущие жаром и желанием получить меня, твои уже покрытые влагой врата рая.
Господи, какое блаженство!
Я был ненасытен. И вскоре мы оказались на полу: для нас — просторнее и удобнее, для соседей снизу — спокойнее.
На полу наши игры получили новый импульс. Ты визжала и стонала от получаемого удовольствия. Вспомни, ведь было именно так? Нет, не преувеличиваю?
Во всяком случае, я очень старался. Ты? На сей раз — тоже!
Это была именно та самая ночь пьянящей и необузданной страсти, когда ты позволила себе… позволила взять в рот… Делала ты это неуверенно и не слишком умело (зубки тебе все время мешали), но все равно — восхитительно.
На утро вся моя грудь была искусана тобой — последствия бурного экстаза. А это означало, что сделал для тебя все, что было в моих силах.
Ты уснула первой. Прямо на полу, на ковре, подложив под голову кулачок. Упругое твое тело обмякло и ровно вздымалось при мерном дыхании.
Я осторожно отодвинулся, встал, принес подушку, осторожно приподняв голову, подложил. Сходил и принес одеяло, прикрыв тебя.
Ты что-то пробормотала во сне, потом повернулась на другой бок, открыв слегка рот, легонько захрапела. Твой сон был спокойный и размеренный.
Я же так и не сомкнул глаз.
Сидел рядом. Все еще был под впечатлением бури эмоций, которые изливались из нас несколько часов назад. Не хотел спать. Не мог спать. Потому что здесь, рядом была ты — самое чудненькое существо во всем мире.
Я, сидя рядом, смотрел на твое умиротворенное лицо, осторожно касался руками разметавшихся по подушке волос, гладил их, приникал к ним и вдыхал их аромат — аромат любви и страсти.
Сидел рядом и думал. О чем? Думал возле тебя, спящей столь безмятежно, о многом. Например, о том, что мы созданы друг для друга, однако судьба разбросала по уральской земле и никак не хочет соединить.
Между нами, согласись, много общего. Ты — умна (возможно, даже слишком для женщины; ум-то и мешает принять правильное решение), я — тоже… смею надеяться.
Мы заняты одним и тем же делом, любимым для нас обоих делом, успешным делом: у тебя и у меня (согласись и с этим) неплохо получается. А, объединив усилия двух успешных людей, мы же горы свернем! По крайней мере, я это чувствую. Мой творческий потенциал безграничен. Я — Мастер и ты это знаешь. Но несчастье этого Мастера, в отличие от булгаковского, заключается в том, что он так и не обрел свою Маргариту. Этой Маргаритой ты вполне бы могла стать, но…
Что тебя сдерживает? Что (или кто) останавливает? Муж? Не может быть! Ты его не только не любишь, но даже и не уважаешь — это же яснее ясного!
Тебя останавливает возраст? Правда, разница на семнадцать лет, но это не может служить препятствием. У нас могут быть дети. И какие дети! Дети талантливые, потому что они родятся от двух талантливых людей. К тому же… Тебе не следует забывать, что именно от таких мужей в возрасте рождаются обычно самые одаренные дети. Примеров в истории тому — множество. Значит? Разница в возрасте — не аргумент, чтобы…
Склоняюсь к твоей груди и осторожно прикасаюсь губами к соску. Ты спишь, но сосок мгновенно реагирует — напружинивается и розовеет. От этого у меня вновь возникает желание обладать тобой. Но… Я сдерживаю свою страсть. Мне жаль будить тебя, такую сейчас беззащитную и, одновременно, такую желанную!
Конечно, продолжаю думать, легонько беря пряди волос на ладонь и разглаживая, характер у меня, как все говорят, — далеко не сахар. Жесткий у меня характер — это правда.
Бескомпромиссный. Я, во всяком случае, не позволю тебе спать с другим мужчиной. Это позволяет твой Максик, но я — нет, никогда! Я — собственник, страшный ревнивец. Что мое, то мое и ничье больше. Тобой делиться с кем-то и зная об этом почти наверняка? Ну, знаете ли… Это извращение.
У меня сильный характер. У тебя — тоже. Я скор на принятие решений, любых решений, даже таких решений, которые мне не выгодны. И я никогда не сожалею о принятом решении и вспять не возвращаюсь. Ты, как я уже понял, тоже.
Невероятно упрям. Меня очень трудно переубедить. Особенно, если в чем-то убежден. Тут никаких компромиссов быть не может. Ни с кем и никогда.
Ты упряма не меньше моего.
Может, именно мой сильный и властный характер тебя и страшит? Ты опасаешься потерять независимость и подпасть под мое влияние?
Понимаю: легко жить с тем, кто управляем, и в твоих руках в качестве пушистой безмозглой игрушки. Такого куда захочешь, туда и повернешь; что ему скажешь, то он и сделает. Ну, может, не сразу, а лишь с третьего напоминания, как твой Максик, но все-таки сделает!
На улице светло. Где-то прокричал петух: очевидно, чудаки на балконе держат голосистую птицу.
Ты потянулась — медленно и с наслаждением. Открыла глаза. Глаза невероятно добрые. Такие глаза я не часто вижу у тебя.
Ты лежишь, смотришь на меня и молчишь. Я взял твою руку и поцеловал ладонь.
Ты усмехнулась. Протянула руку к моей голове, взъерошила мои упрямые волосы.
«Ты — классный мужик… Даже не верится… Нет-нет, ты не мужик…»
«А кто же?» — иронично спрашиваю тебя.
Ты продолжаешь улыбаться и смотреть на меня.
«Нет-нет, ты не мужик… Ты — мужчина, настоящий мужчина… Ты сильный мужчина… Ты такой мужчина, перед которым не устоит ни одна баба».
Спешу с намёком: «Но ты же…»
Ты лениво потягиваешься и зеваешь: «Обо мне не будем… Не будем… Потому что даже я перед тобой, как школьница… Ты говоришь „а“… Я же тотчас ложусь… В этом что-то есть нездоровое. Как ты считаешь?»
«Ничего не считаю», — обиженно говорю я.
«Но-но! Только не дуться!»
«Хорошо, — встаю на ноги и с удовольствием потягиваюсь тоже. — Тогда — иди в ванную. Ждет тебя».
«Неужели, — ты притворяешься удивленной, и глаза от этого становятся еще больше, — и водички налил?»
«А как иначе?!»
«Наверняка, остыла… Ты же не мог знать, когда проснусь».
«Только-только налил… Неоднократно менял».
«Господи, есть ли в мире еще один столь заботливый мужчина!»
Ты лениво продолжаешь потягиваться. Тебе явно не хочется принимать вертикальное положение. Наконец, встаешь, с тебя спадает одеяло и…
Я уже опять готов!
Ты направляешься в сторону ванной. Я тебе в след: «Может, чудненькая моя, вместе?..»
«Но-но! Ишь раскатал губёшки-то! Меру надо знать — во всем… В сексе — тем более. Пресытишься и бросишь. И не вспомнишь ведь».
«Какой секс?! — притворно восклицаю в ответ. — Я лишь предложил вместе поплескаться».
Ты хохочешь: «Знаю я тебя и твои „плескания“. Не совращай молодую и слабую бабу. Не хорошо!»
Ты скрываешься в ванной, и оттуда слышится твой голос: «Эй, ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спешить…»
Глава 8
Ненаглядная моя!
Любить — легко. Труднее стать любимым,
Когда безумно щедр и жертвуешь собой.
М-да… Что-то к стихоплетству потянуло. К чему бы сей знак? Не скажешь? А?.. Я?.. А откуда мне знать-то, ненаглядная моя! Ведать бы всё наперёд, то… А! Снова могу уйти в умствование, потому и сдерживаю себя.
Тормознуть всегда не вредно
Коль видишь бруствер пред лицом.
Вот! Снова…
Ты появилась — разгоряченная, полная эмоций и страстей, розовощекая и улыбчивая, с распущенными волосами, в которых я так обожаю купаться, — без предупреждения. Поистине: как снег на голову.
Экспромт то был? Твоя минутная слабость и ты поддалась зову сердца иль души?
В тот момент мне так и показалось. Но ныне, по прошествии большого отрезка времени, уже так не думаю.
Ты, ясно, ничего не знала, и знать не могла, хотя с тобой разговаривал по телефону вчера, в середине дня, и не обмолвился ни словом. Намека не было.
Ты, видимо, по вибрации моего голоса, хотя разговаривал внешне совершенно спокойно и даже с напускным равнодушием, почувствовала неладное. Встревожило тебя что-то…
Тревога гонит в путь далекий,
Источник где сокрыт её.
Ты шумно, как ураган, ввалилась в мой кабинет. Ты плюхнулась на один из стульев и уставилась своим проницательно-требовательным взглядом в меня. С минуту смотрела, не отрывая глаз. На твоем лице читалась какая-то растерянность, будто ты вот-вот потеряешь что-то для тебя крайне важное. Ты осторожно, опасаясь услышать нечто, представляющее серьезнейшую опасность для себя, спросила: «Случилось?.. — видя тревогу в твоих широко распахнутых глазах, я отрицательно помотал головой. — Значит, должно что-то случиться — поверь уж мне», — убежденно произнесла ты.
Решил отшутиться:
«Предсказательница злая
Колдует что-то там в углу».
«Господи, ты… стихами заговорил?!»
«Не надо недооценивать своего любовника», — назидательно произнес в ответ.
Ты по-прежнему не сводила с меня глаз, следя за каждым движением лицевых нервов. И вновь последовал требовательный вопрос:
«Не влюбился ли?.. Скажи, кто?! Пойду и шары выцарапаю… Не она ли? — я знал, о ком ты сейчас, — о молодой красавице-сотруднице с великокняжеской фамилией, вокруг которой увивался и, кажется, небезуспешно, один из шустреньких коллег, не пропускавших ни одной приличной юбчонки, короче, волокита еще тот. Понимая мое молчание, как некое подтверждение твоих тревожных ожиданий, ты встала со стула. — Я ведь не посмотрю, что… Пойду и прямо сейчас патлы-то повыдираю».
В шутку укорил: «А еще филолог».
Ты возмутилась; «Думаешь, филологи — не бабы?»
Не верил, что все это всерьез, то есть ревность твоя, а все-таки приятно. Шумно вздохнул и отрицательно покачал головой.
«Если бы…» — с нескрываемым сожалением произнес я.
«Что это значит? Если бы влюбился? Если бы это была она? Ясно: это не она, но тебя это огорчает, — очевидно».
С грустью усмехнулся.
«Если бы мне влюбиться… Сколько бы проблем, стоящих пред тобою, в одночасье разрешилось, и ты бы с облегчением вздохнула».
Ты решительно взмахнула рукой.
«Не переводи стрелки на меня!»
«Где уж мне», — говорю я и шумно вздыхаю.
«Ты о чем? Это еще что за смысловые шарады?!»
«Не притворяйся. Ты все замечательно поняла».
И добавил:
«Жизнь — не игра. Ужель не ясно,
Ты — ненаглядная моя!»
«Спасибо, но, — ты вернулась на стул, — может, все-таки приоткроешь завесу таинственности. Не терзай бабье сердце: оно и без того вконец измочалено.
«Кем же, если не секрет?» — с долей язвительности спросил я и ухмыльнулся.
«Мужиками, — сердясь, бросила ты. — Сволочи вы все… Ни на кого положиться нельзя: спите с одной, а на другую тут же косите свой блядский глаз».
«Сильно сказано, — заметил я, — но не про меня».
Ты презрительно хмыкнула.
«Ангел? Да? Другой, что ли, масти?»
«Другой», — убежденно ответил я.
«Да, ладно… Замнем для ясности, закроем эту тему».
«И это мудро», — опять съязвил я.
И продолжил:
«Уж если нечего сказать,
То лучше, ясно, помолчать».
Скосил глаз на электронное табло: мерцающие и постоянно подмигивающие зеленоватые цифры прозрачно намекали, что пора.
Встал: «Извини, но…»
Ты тоже встала. Мы оказались лицом к лицу. В такие моменты особенно ясно осознавал, свое ничтожество. Ты знаешь, о чем я. Ты часто язвительно шутишь, называя французской парой. Почему французской? Мне не совсем ясно. Неужели во Франции приветствуется, когда партнер ниже ростом своей партнерши? Мне бы туда, избавился бы хоть от одного комплекса.
Ты спросила: «Уходишь? Куда, если не секрет?»
«Нет, не секрет: мне свидание назначено на десять».
«Свидание? В столь ранний час? Когда другая баба к тебе приехала? Ты бежишь куда-то… к той? В рабочее время?»
«Увы, — я развел руками, — надо, ненаглядная моя! Мужик по природе своей — создание полигамное; ему чем больше, тем лучше».
«А выдюжишь? На всех-то силенок хватит? Если оконфузишься, то могут и побить. Бабы — они злюки и мужские конфузы не прощают».
«Ничего… Как-нибудь…»
«Ну-ну… Не говори потом, что не предупреждала».
«Не буду».
«А серьезно?..»
Я правильно понял твой вопрос.
«В обком вызывают. Вчера позвонили».
— «После нашего разговора?» — уточнила ты. Для тебя, видимо, это уточнение было крайне важным.
«Это так».
«То-то у меня на душе стало щемить… Собрала сумку — и сюда… Что-то серьезное?»
«Увы, не знаю».
«То есть? Вызывают, а зачем, ты не знаешь, что ли?»
«Не знаю. Там… у них… обычная практика…»
«Ты хоть поинтересовался?»
«Естественно».
«И… что?»
«Их обычная фраза: всё — на месте».
«Может, есть предположения?»
«Одно… Как обычно… Воспитывать станут».
«За что?»
«Странный вопрос».
«Что странного?»
«Они там, — я указал пальцем вверх, — всегда найдут тему для воспитания».
«Тогда — иди: нельзя опаздывать».
«Благодарю за соизволение, ненаглядная моя!»
«Ладно, не ёрничай: не время. Еще неизвестно, чем этот вызов кончится».
«Ты?.. Беспокоишься?»
«Почему бы нет?»
Снова съязвил: «За себя? Или за меня?»
Ты строго взглянула на меня, повернулась и вышла из кабинета, оставив вопросы без ответа.
Через два часа вернулся к себе. Потом было министерское селекторное совещание. Потом, приоткрыв слегка дверь, ты заглядывала, но у меня постоянно кто-нибудь был. По этой причине не входила. И не могла удовлетворить свое любопытство.
Время, правда, не теряла. Тебе казалось: все знают то, что ты не знаешь. Поэтому дипломатично подкатывала то к одному коллеге, то к другому, но все лишь пожимали плечами, давая ясно понять: они совершенно не в курсе, чем был вызван срочный визит в обком КПСС их шефа. Да и, честно говоря, их это мало беспокоило, точнее — совсем не беспокоило. Потому что в их судьбе ничто не могло измениться, что бы там, в обкоме, ни происходило с их шефом. Не исключаю, что некоторые (ты их знаешь) были бы рады, если бы я получил сильный пинок под зад: как-никак, но открылась бы вакансия. Рады-то рады, но мало в это верили: позиции мои были слишком сильны и кресло подо мной, это они видели, совершенно устойчиво. Ну, если зашатается, то… Они будут тут как тут: непременно подтолкнут и помогут упасть своему шефу. Такова природа советского человека. Такова, каковою воспитала система.
Вечер. Коридоры стали пустеть. Мои сотрудники один за другим покидали стены заведения. И мы остались, наконец, одни.
Ты сразу оказалась у меня. Тревожный твой взгляд ждал новостей. Видел это, но с разговором не спешил. А куда? У нас есть время, ведь твой поезд уходит лишь через три часа. А три часа — это почти вечность… Для меня, разумеется. С одной стороны, вечность, поскольку таким запасом времени я обычно не наделен. С другой стороны, это миг, мгновение, которое так быстро пролетает, что заметить не успеваешь.
Достал расписной поднос, поставил на него бокалы, бутылку полусладкого французского шампанского и конфеты. Открыл бутылку, налил тебе и себе.
«Выпьем, ненаглядная моя!»
Ты фыркнула.
«Заладил одно и тоже. Что с тобой? Издеваешься, да? Отыгрываешься?»
«Со мной — ничего, а с тобой… — я взял в руку свой бокал, за самую нижнюю часть его основания, поднял. — Тебе, вижу, не слишком нравится…»
Ты поспешила с опровержением: «Нет, очень нравится, но…»
«Тогда — чокнемся».
«А в честь чего пьем?» — твой тревожный взгляд вновь впился в меня.
«За встречу, разумеется!»
«И только-то?!»
«Тебе этого мало?!»
«Не цепляйся к словам… Я не это хотела сказать… За встречу так за встречу…»
Звон бокалов нарушил тишину кабинета. Ты немного отпила, поставила бокал, взяла из коробки конфету, стала медленно разворачивать.
«Не расскажешь?
«О чем?» — я притворился, что не понимаю вопроса.
«Не придуривайся. Что-что, а клоун из тебя никудышный».
Ты права. Я посерьезнел. И тоже взял конфету.
«Я, собственно, не ожидал…»
Ты нетерпеливо прервала.
«Чего «не ожидал»? Если очередной, как сам ты выражаешься, вздрючки, то — неправда. Ты к ним — всегда готов… Как юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей… И получаешь, как правило, несчастненький мой, — ты дотянулась до моей головы и взъерошила мои непокорные волосы. Ты знаешь, как я обожаю, а потому всегда фиксирую этот твой жест.
«Благодарю за сочувствие и солидарность».
«Не надо… Я же серьезно…»
«Если серьезно, то, как ты выразилась, вздрючки на этот раз не было».
«А что было? Зачем вызывали? Зачем-то ведь вызывали!»
«Работу предложили…»
«Но ты не безработный. По твоей должности в Свердловске многие вздыхают».
«Другую работу».
Сразу уловил, как ты после этих слов подобралась и напружинилась (будто тигрица, почуявшая некую опасность для себя и своих детенышей), а взгляд стал еще тревожнее.
«Вы-го-ня-ют? — спросила ты по слогам. — И так спокоен?»
«Не совсем…»
«Что значит „не совсем“? Не совсем спокоен, что ли?»
«И не совсем спокоен, и не совсем выгоняют».
Ты недовольно закрутила головой, отчего пряди длинных распущенных волос волной полетели из стороны в сторону.
«Что это значит?»
«Обком предлагает новую должность, — я назвал тебе должность, а потом добавил, — не совсем по профилю, но все же близка, поскольку все равно придется иметь дело с коллегами, значит, с людьми творческими».
Ты скривила губы.
«Подумаешь, — разочарованно произнесла ты. — Здесь ты — фигура, личность, с которой все считаются, даже те, в обкоме. Там же…»
Решительно возразил: «Личностью человека делает не должность, а то дело, которым он занимается».
«Фразерство!»
«Ты, вижу, недовольна?»
«Естественно, — ты на глазах стала грустнеть, потому что дальнейшее тебе было понятно».
«Почему „естественно“? Я-то думал, что ты обрадуешься».
«Чему, позволь узнать, я должна была обрадоваться?! — резко произнесла ты. — Тому, что ты уйдешь и оставишь меня здесь одну?»
Еле сдерживал ухмылку.
«Не одну, а с коллективом, с которым, между прочим, ты породнилась на два года раньше моего; с коллективом, который, тоже важно, к тебе очень хорошо относится, — я сделал паузу и добавил. — А иные члены коллектива, — во мне вновь заговорила ревность, — даже слишком хорошо».
«Не преувеличивай, ревнивец мой».
«Говорю то, что есть, — упрямо повторил я.
Ты заметила ухмылку и обиделась. Глаза твои повлажнели и из них вот-вот (а ведь такая сильная женщина!) брызнут слезы.
«Что ты ухмыляешься? Тебе весело, да? А мне, вот, — нисколько! Ну, да, что тебе я? Какое тебе дело до меня? Попользовался и будет! Хватит! С глаз — долой и из сердца — вон! Какие все-таки мужики подонки!
«Но ты спешишь с выводами…»
«Да, — ты резко схватила бутылку, налила бокал до краев и почти на одном дыхании опорожнила его, — пошел ты…»
Рассмеялся и очень громко.
«Если посылаешь туда, куда я мечтаю, то с удовольствием… Хоть сейчас… Хоть прямо на этом столе. А что? Было бы замечательно, не считаешь?»
«Не считаю!» — выкрикнула ты, и увидел, как по щекам потекли настоящие слезинки.
Слезы ребенка и слезы женщины — это то, чего мне невозможно вытерпеть, перед чем мне не устоять.
Нестерпимо стало жаль тебя. Увидел, что ты искренне переживаешь, правда, повода серьезного для этого тогда не видел. Потом мне будет ясно, но сейчас…
Встал, подошел, нежно взял твою голову и стал поцелуями осушать твои глаза и щеки. Ты уткнулась мне в грудь и громко зарыдала. Я успокаивал… Как мог. Похоже, не слишком умело, не очень-то уверенно
«Перестань… Ну, будет разводить мокроту… Ну, что ты, в самом деле? Нет повода…»
Ты подняла глаза на меня. И я увидел твои злые глаза, в которых полыхали искры ненависти. Я опешил. Это было невероятное превращение. Это была львица, готовая растерзать своего самца.
«Нет повода!?» — взвизгнула ты.
«Конечно, нет».
«Еще бы! Идешь на повышение! Как же! Номенклатура обкома — не баран чихнул. Карьерист! Сволочь! Мерзавец! А ты подумал, что со мной будет?»
Ну, не видел я повода для столь бурных твоих эмоций, не понимал их природы, поэтому поспешил искренне успокоить: «Ничего с тобой не будет».
«Тварь! Безмозглая тварь! Эгоист! Себялюбец! Подонок, идущий к вершине по трупам! Бесчувственное животное! Я знала! Я еще вчера почувствовала, что случится неладное. Так и есть! Сердце правду подсказало, что от тебя надо ждать беды. Сердце не ошиблось!»
«Что ты такое говоришь? Какая беда? С чего ты взяла? Где эта беда?»
Ты достала платок и стала вытирать глаза. Размазав тушь на ресницах, зло бросила платок на стол, полезла в сумку, достала косметичку и стала подкрашивать, глядясь в небольшое зеркальце.
«Для тебя, да, беда — не беда».
«Для тебя — тем более».
«Ну, давай, выкладывай, как ты с радостью принял предложение обкома, как ты горд и счастлив. Ну, давай, что молчишь? Добивай. Испытай еще одно наслаждение».
«Не принял предложение», — тихо и безрадостно сказал я.
Ты услышала. И встрепенулась. Но ты не поверила тому, что донеслось до твоего уха.
«Как это „не принял“?»
Поспешил поправиться: «Ну… Не совсем не принял… Принял, конечно, но…
«Так и говори, а чего финтить и бабе пудрить мозги?»
«Не злись. Наберись терпения и выслушай».
«Я только тем и занимаюсь, что слушаю мужиков и терплю», — все также зло бросила ты в мою сторону.
«Понимаешь, от предложения обкома просто так никто не отказывается. Не принято в тех кругах. Парни из обкома не любят, когда кто-то перед ними начинает кочевряжиться. Можно и по харе схлопотать, фигурально говоря, конечно. К тому же не поймут: как это можно отказаться от столь лестного предложения?»
«О, да! Нет, нельзя… никак нельзя… О, я тебя понимаю!»
«Не язви, пожалуйста. Мне ведь тоже было нелегко отказаться. Я ведь прекрасно понимал, что своим отказом я ставлю жирный крест на своей дальнейшей карьере. Точнее — не я ставлю крест, а они на мне ставят его. Ставят навсегда. Как клеймо, от которого не избавиться».
Ты смотрела на меня, и, я видел, ничего не понимала.
«То говоришь, что принял предложение, то потом говоришь, что отказался. Выбери что-нибудь одно, а?»
Оставил твои слова без ответа и продолжал:
«Итак, с одной стороны, не могу отказаться от предложения; с другой стороны, не могу принять его… Потому что… Ну, есть два обстоятельства. Одно обстоятельство личного свойства, второе связано с нынешней работой: через полгода юбилей, золотой юбилей нашей с тобой фирмы, а такую дату, я уверен, вы без меня провести должным образом не сумеете».
«Зазнайка», — бросила ты.
И вновь не прореагировал.
«Поэтому, — продолжил я, — нашел третий путь и считаю его гениальным».
«Ну, вот, еще одним гением на земле русской стало больше».
Опять же пропустил обидную твою реплику мимо ушей.
«Решил принять предложение. Но, чтобы сильно не дразнить тамошних гусей, обставил рядом условий. Все, конечно, по мелочи, для отвода глаз и усыпления бдительности партийного начальства, но одно условие было такое, которое они никогда не смогут выполнить…»
Ты впервые улыбнулась, и в твоих глазах проснулась надежда.
«Это значит…»
«Это значит, что, не выполнив мое условие, предложение утрачивает силу и я свободен».
В твоих глазах засветился неподдельный интерес. Может, и ошибаюсь, но мне почудилась даже, что ты загордилась мной.
«Но что же это за условие такое, которое обком КПСС не может выполнить? Что ты придумал?»
«А все, как говорят философы, — я усмехнулся, — гениальное — просто».
«То есть? Они ведь там тоже не дураки… Не раскусили?»
«Нет, ненаглядная моя! Они не заметили моей хитроумной уловки. Они не догадались, что выдвинутое условие — блеф, формальный повод отказаться от предложения».
«Слушаю, но понять не могу».
«Условие мое такое: если, мол, обком КПСС сможет поднять должностной оклад по новому месту работы хотя бы на пятьдесят рублей, то есть на тридцать процентов выше нынешнего, то — я с большой охотой приму предложение. Я сказал: престиж престижем, но человек не только им питается».
«Ну, и что? Почему ты решил, что обком не сможет установить тот оклад, который тебе нужен? Возьмет и установит. Что тогда?»
Рассмеялся.
«Не возьмет и не установит!»
«Откуда у тебя такая уверенность?»
«Должность (по списку) подчиняется Москве, хотя и является номенклатурой Свердловского обкома. Иначе говоря, размер должностного оклада никак не зависит от позиции обкома. Повторяю: единственное, что не в силах решить обком, — это увеличить размер оклада, увеличить ни на десять, ни на пятьдесят рублей».
«Не убеждает. Обком обратится в Москву и…»
«Ерунда! Посуди сама: такие должности есть в каждой области и в каждой республике Советского Союза. С какой стати Москва мне увеличит оклад на тридцать процентов, а другим? Нет, что ли? Чем те хуже свердловчан, а? Порядок в стране такой: если зарплата повышается, то сразу и по всей стране, а не одному отдельно взятому региону или одной какой-то „выдающейся“ личности».
«Короче, ты вывернулся из их рук, как уж».
«Да, выскользнул», — подтвердил охотно в ответ.
Ты польстила: «Мудрый как змей-искуситель».
«Да, благополучно похоронил их предложение. С одной стороны, грустно. С другой стороны, я счастлив. Грустно, что не получилось карьеры…»
«Еще не вечер», — успокаивая, сказала ты.
«Но и не утро, — добавил я. — К тому же обком КПСС одному и тому же человеку дважды предложений не делает».
«Что, сказали?!»
«Я и без них хорошо знаю порядки в среде партноменклатуры».
«Отлично! — воскликнула с энтузиазмом ты.
Не понял твоего энтузиазма. Тогда не понял, поэтому спокойно сказал: «Так что мы еще поработаем… И юбилей справим, как следует: на радость друзьям и на зло врагам».
Остаток времени, оставшийся до отхода твоего поезда, мы провели превосходно. Ты была бесподобна. Может быть, как никогда.
Твоя щедрость лилась через край. Ты забыла об условностях (мы же в служебном кабинете?! Ну, как можно!?), ты оставила позади все горести, ты забыла и все слова, которыми совсем еще недавно так обильно посыпала мою голову.
Сейчас были иные слова.
Глава 9
Волшебная моя!
Скажи, наконец, ну, скажи ты мне, почему мы не вместе, почему не рядом, не бок о бок идем по жизни; почему идем каждый своей дорогой? Что мешает соединить две тропинки-пути в одну и широкую, надеюсь, счастливую, путь-дорогу дальнюю? Что за препятствие мешает? Да и есть ли оно на самом деле?
Сын твой, Сашка, Александр Максимович? Тебя пугает, что ему будет хуже с отчимом, чем с родным отцом? Ты полагаешь, что мы с Сашкой не найдем общего языка? Или ты считаешь, что я своим поведением стану дурно на него влиять?
Ерунда! Ты отлично знаешь, что это не так. Тебе ли не знать, какие между твоим сыном и мной сложились (уже сложились!) отношения? Вспомни, ну, вспомни! Не хочешь вспоминать? Тогда — за тебя это сделаю я.
Впервые мы с ним близко познакомились, когда Александру было всего полтора года. Уже тогда обратил внимание, что парень отличается повышенной эмоциональной возбудимостью (весь в тебя, впрочем, в нем от отца нет абсолютно ничего — ни во внешности, ни в характере). Только начал ходить, а уже — непоседа-егоза. Совсем недавно начал говорить, а уже лепечет без умолку. Хотя… Лепечет — не то слово. Он как-то сразу начал довольно чисто и внятно выговаривать даже самые трудные буквы.
Мы сидим за столом. Мы — это ты, волшебная моя, твой Максик и я, замыкающий естественный треугольник, оказавшийся в твоих краях по случаю командировки. Четвертый, худенький и бледный, с редкими белокурыми волосенками на голове, но невероятный живчик, — вертится неподалеку.
Участвую в застольном разговоре, но краем глаза все время слежу за этим самым живчиком, перемещающимся по комнате (помнишь, кстати, что тогда еще вы жили в однокомнатной квартире?) с необыкновенной быстротой.
И тут кроха исчез с горизонта. Видимо, убежал на кухоньку или в маленькую прихожую. Через минуту мы услышали какой-то грохот.
«Сашок, милый, что ты там делаешь?» — ласково спросила ты, глядя в сторону кухни светящимися нежностью и материнской любовью глазами.
«Ничего», — послышалось оттуда. Удивительно, кстати, и другое: ребенок, как мне помнится уже тогда не «чёкал», а выговаривал это слово правильно, что не всегда свойственно даже взрослым людям.
Но грохот и скрежет продолжался. Ты встала и хотела пойти, проверить, но он раньше показался в проеме комнаты. Он волок за собой венский стул.
«Зачем тебе стул? — спросила ты. — Милый, ты покушал и скоро спать».
Он не удостоил ответом, а продолжал с тем же упорством (тоже ведь в тебя, не так ли?) тащить стул.
Ты сказала: «Хочешь с нами посидеть? Дай, я помогу».
«Нет, — твердо произнес он и добавил. — Я — сам, потому что ты, мама, женщина, а я — мужчина».
С трудом сдерживал смех. Я прятал улыбку. Потому что смех иногда оскорбляет маленького человечка, особенно, если он, как сейчас, занят каким-то крайне серьезным и важным для него делом.
Ты вернулась за стол и, кажется, перестала обращать внимание на копошащегося сына. А он? Кажется, этому только рад.
Малыш подтянул стул к книжному шкафу. Залез на него. Достал оттуда какую-то книжку. Издали мне не разобрать, но, кажется, это томик Пушкина. Кладет книгу на стул, сам, придерживаясь за бока стула, спускается на пол, подтаскивает стул ближе к столу, но к той стороне, где я нахожусь; забирается на стул, встает на ноги, вспомнив, что забыл взять книгу, наклоняется поднимает, раскрывает томик. И… Боже мой! У меня округляются глаза. Но этого не может быть! Ребенку-то сколько? Полтора годика. Говорить-то начал пару месяцев назад. А тут?! Он сосредоточенно смотрит в книгу и громко, специально для меня, произносит:
«Александр Сергеевич Пушкин, — он делает выразительную паузу, смотрит на меня, получив, очевидно, удовольствие от произведенного эффекта, снова устремляет взгляд в книгу и сообщает. — Стихи!»
Выразительно смотрю на тебя. Глазами спрашиваю: он, что, будет читать?! Ты, улыбаясь, прикладываешь палец к губам: молчи, мол, и слушай.
Сын же, вновь оторвавшись от книги, посмотрел на меня и вернулся назад. Он уже чувствовал, что произвел на меня неизгладимое впечатление и теперь готовился того больше удивить.
Он торжественно начал:
«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче… погляди в окно…»
Он остановился и посмотрел в окно комнаты. Я, подыгрывая мальчишке, сделал тоже самое. Он вновь устремил взгляд в томик Пушкина и продолжил:
«Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет
И речка подо льдом блестит».
Закончив декламацию, он положил книжку на стул, картинно, как артист, поклонился в мою сторону и сказал:
«Спасибо за внимание, дядя Гриша!»
Гляди: он особо подчеркнул, что читает не для мамы, тем более, не для папы, а для меня, для человека, которого тогда еще видел впервые.
Это было настолько забавно, что с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться во всю мочь.
«Браво! — воскликнул я и громко зааплодировал исполнителю, сохраняя при этом серьезность. Парнишка раскраснелся. Он почувствовал: когда благодарят и громко хлопают в ладоши, то это ему приятно. — Александр Максимович, а не могли бы вы слезть со стула и подойти ко мне?»
Он слез, подошел. Я обнял кроху, прижал к себе и на ушко, чтобы никто не слышал, прошептал: «Ты отличный парнишка!»
Он самодовольно кивнул: понял, мол, и отошел, занявшись игрушками.
Через час ты его уложила спать. Он долго ворочался и капризничал, но все-таки уснул. Уснул в ореоле славы.
И только тут позволил себе спросить:
«Он… что… в самом деле?..»
Ты поняла и расхохоталась.
«Нет, конечно».
«Но он же прочитал!» — воскликнул я.
«Мы с ним выучили наизусть».
«Но как он находит? Я посмотрел: он раскрыл томик именно на той странице, где это, именно это стихотворение Пушкина?»
«Там рисунок есть. По нему и находит».
«Мальчишка не без способностей», — убежденно сказал и увидел, что тебе это очень понравилось.
С того дня я стал его поклонником. И оставался… Точнее — остаюсь до сих пор. Хотя… Впрочем, не буду о грустном.
Потом, это видели и ты и я, он в больших и шумных твоих кампаниях всегда выделял меня, то есть окружал особым своим вниманием и заботой. Как это ни покажется странным, но он даже чувствовал, в каком настроении, распознавал, что у меня на самом деле в душе — грусть или радость. Понимая, что мне плохо, изливал на меня повышенную дозу детской теплоты. Кроха, но кроха с потрясающе чутким сердцем! Не в пример многим взрослым.
Короче говоря, мы стали друзьями. Друзьями до такой степени, что всегда расставались со слезами. Не хотел он, чтобы я уходил.
Вспомни, какой скандал Сашка закатил однажды на улице? Он кричал, бился руками и ногами, вырывался из материнских объятий. И все почему? Мы в очередной раз расставались.
«Хочу к дяде Грише! — верещал он на всю улицу. — Пойду к дяде Грише! Не пойду с тобой! Не хочу домой!»
Понимаю, что это был всего лишь детский каприз. Понимаю, а все равно приятно. К тому же у него в данный момент был выбор: он ведь расставался не только с дядей Гришей, а и с дядей Вовой, который стоял рядом. Почему рвался он не к дяде Вове, а к дяде Грише? Скажи, если знаешь, почему на детских устах было одно имя, мое?!
Кстати, напомню: ему в тот момент было уже три с половиной года. И прошло после первого близкого знакомства два года. И еще напомню одно немаловажное обстоятельство: он видит меня не каждый день, и не каждую неделю, и даже не каждый месяц, а помнит! Знает! Чувствует родственную душу, душу одинаково чувствительную и легко ранимую!
Для меня-то как раз нет ничего удивительного в том, что твой сын привязался ко мне. Меня дети любят. Любят до тех пор, пока в эти чувства не вмешаются взрослые, то есть родители. Увидев, что их ребенок относится к чужому человеку лучше, чем к ним, ревнивцы-родители начинают воздействовать на психику ребенка. Ну, ясно: чаще всего своей цели достигают. Силы борцов за влияние не равные…
И вновь в командировке. И вечером — в твоей семье. Ты так хочешь. А противиться?.. Ну, как можно!
Ты где-то на кухне возишься (у тебя, обрати внимание, уже не однокомнатная, а сразу трехкомнатная квартира и в новом доме). Я сижу в гостиной, листаю журнал. Александр Максимович летает от тебя ко мне и обратно. Почувствовав, что мне грустно тут сидеть одному, чтобы скрасить одиночество, он лезет в буфет, берет из вазы конфетку, подходит ко мне и протягивает. Как не взять? Беру: подарок ребенка же.
Он мчится к тебе и я слышу, как он говорит: «Мам, а я дядю Гришу конфеткой угостил».
«Ты очень правильно сделал», — говоришь ты.
«Мам, а мам, а мне можно тоже угоститься?»
«Нельзя», — строго говоришь ты.
«Мам, но почему дядю Гришу угостить правильно, а мне угоститься неправильно?»
«Потому что… Ты знаешь, что тебе много есть конфет нельзя. Разве я тебе не говорила?»
«Говорила, — я слышу, как он шумно вздыхает. — Но ведь так, мам, хочется».
«Мне, сынок, тоже много чего хочется, но я же держусь».
«А хочешь, я тебя угощу конфеткой?»
«Потом-потом. Не мешай».
«Если прогоняешь, и уйду… К дяде Грише уйду… насовсем уйду… Вот так! Плакать будешь, а я не вернусь. У дяди Гриши хорошо… Дядя Гриша добрый».
«Отец, что, не добрый?» — спрашиваешь ты сына.
«Добрый… Но дядя Гриша добрее доброго».
Слышится шлепок.
«Ну, и иди к нему, если он добрее доброго. Разве можно гостя оставлять одного?»
«Иду. Мам, а ты скоро нас будешь угощать?»
«Что, проголодался?»
«Не я… Дядя Гриша».
Знаю, что ты не даешь парнишке баловаться сладостями. И мне строго-настрого запретила приносить с собой конфеты. Ослушаться тебя не могу. И тогда нахожу выход: побаловать все-таки ребенка хочется. Мы начинаем с Сашкой игру.
В один из моих приходов, видя, как парень ходит возле буфета и, глядя на вазу с конфетами, тяжело вздыхает, говорю ему шепотом, чтобы мама его не слышала:
«Александр Максимович, а мне говорили, что мышки иногда послушным мальчикам приносят конфеты…»
«Мама мне про это ничего не говорила».
«Тише, — шепчу я, — а то мышка услышит, убежит и унесет с собой конфеты».
Мальчуган переходит на шепот: «Да? Дядя Гриша, а вы не знаете, где может прятать мышка конфеты? Я никогда не видел».
«Давай, поищем вместе?» — предлагаю ему.
Он взвизгивает от переполняющих его эмоций.
«Давайте!»
Вдвоем ползаем на коленках в поисках мышиного подарка. Исследуем каждый угол, каждый метр. Ты, увидев нас, ползающих на коленках, интересуешься: «Что вы ищете? Может, я знаю?»
Сашка опережает меня.
«Не мешай, мам».
Ты уходишь, а мы продолжаем поиски. Наконец, в одном укромном местечке натыкаемся на что-то подозрительное.
«Интересно, что бы это могло быть? — я чешу затылок. — Уж не мышкин ли подарок?»
Сашка с визгом хватает упаковку, разворачивает и кричит на всю квартиру:
«Ура, нашли! Нашли подарок!»
Ты выходишь из кухни. Сын подлетает к тебе.
«Мам, посмотри, что мне мышка принесла!»
«Мышка? — переспрашиваешь ты и грозишь кому-то пальцем. — Я этой мышке лапки-то пообрываю».
Сын взвизгивает. Подлетает ко мне, а рот уже набит конфетами, и с большим трудом говорит:
«Дядя Гриша, мама не на вас сердится, а на мышку. Не обижайтесь на нее, ладно?
Тяжело вздыхаю: «Но мышку-то все равно жалко. Она подарок принесла, а ей лапки грозятся пообрывать».
Сын громко хохочет: «Ничего она не сделает!»
«Это еще почему, Александр Максимович?»
Парнишка наклоняется и в ухо жарко шепчет: «Мама, знаете, как мышей боится? Больше меня боится!»
«Значит, вы, Александр Максимович, тоже мышей боитесь, а?»
Сашка кивает: «Боюсь. Мама говорит, что мышка может куснуть».
«Ну, знаете ли, мышки ведь не все кусачие».
«Все равно страшно… Мама, такая большая-пребольшая, а тоже…»
Эта игра стала повторяться из раза в раз. Ты ворчала, но не зло. Наверное, потому, что сыну твоему такая игра сильно нравилась.
Как-то раз, поиграв и найдя очередной мышкин подарок, он подошел ко мне, облокотился о мое колено и рассудительно сказал: «Вчера, дядя Гриша, я так искал, так искал!..»
«Что именно ты искал? — спросил, будто не понимаю, куда клонит парень.
«Подарок… от мышки. Позавчера искал и тоже не нашел. Позапозавчера искал и тоже не нашел».
Я задумался. Вижу, как мальчуган напряженно смотрит на меня, следит за моим лицом.
«Не нашел? Так… Что могло случиться, а?.. Дай подумать, молодой человек, дай подумать. Да! — я хлопаю себя по лбу. — Ну, ясно! Мышка обиделась».
«На кого, дядя Гриша?»
«Она на тебя обиделась».
«На меня?! Но я ей ничего не сделал».
«Ей? Может быть. А другим?»
«И другим ничего не сделал. Я… Я даже Димку из садика вчера ни разу не пнул».
«Пинаться не надо, — говорю я, — никогда не надо: ни вчера, ни завтра. А маму, между прочим, вчера ты слушался?»
«Слушался, — совсем неуверенно отвечает малыш и краснеет.
«А ты все-таки походи и повспоминай. Мог же и забыть».
Твой сын ходит по комнате и, наморщив лоб, долго вспоминает. Потом подходит ко мне.
«Дядя Гриша, а я не слушался».
«Ну, вот!» — восклицаю я.
«Мама мне сказала, чтобы я перед сном игрушки собрал в ящик, а я отказался и стал хныкать, капризничать. Дядя Гриша, неужели мышка…»
«Александр Максимович, мышка все видит, все слышит и все знает. Так что её не обманешь».
«Я больше не буду её обманывать. А она… мышка меня простит?»
«Простит, обязательно простит. Она уже простила».
«Да?!» — взвизгивает твой Сашка.
«Ну, конечно! А с чего бы она принесла тебе сегодня подарок? Сам подумай».
«Я подумаю, дядя Гриша. Но можно потом подумать?».
«Можно и потом», — тотчас же соглашаюсь я.
А ты? Всегда ли готова, кстати, идти на уступки своему ребенку? Нет, не потакать его сиюминутным капризам, а именно уступать?.. Увы, божественная моя, увы!
Вот типичная картинка с натуры, наблюдаемая мною неоднократно. Сыну пора в постель. Сын куксится: он считает, что ему рано «баиньки». Ты имеешь на сей счет обратное мнение и готова стоять на своем. Того хуже, находишь предлог еще и придраться к ребенку, усугубить положение. Да, ты хочешь, чтобы твой сынулька с младых, так сказать, ногтей приучался к порядку. Похвально, но посмотри, как ты к этому приучаешь, каким педагогическим методом при этом пользуешься? А традиционным и самым простым — командно-распорядительным! Ты, повысив тон, хотя для этого нет ровным счетом никаких оснований, требуешь: «Собери игрушки и тотчас же — марш в постель!» У тебя и мысли не возникает, чтобы сделать шажок назад. Потому что ты считаешь: родитель не должен потакать капризам ребенка, идти у него на поводу, а посему обязана навязывать ему свою родительскую волю, чтобы сохранить в глазах маленького человечка свой родительский авторитет.
Опять-таки благое желание, но на самом-то деле, чего ты, настаивая на своем, достигаешь? Да обратного! Ты насилуешь психику сына, не оставляя ему никакой возможности для принятия самостоятельного и, главное, добровольного решения. Даже маленький человечек изначально наделен природным чувством свободы и ее готов отстаивать, а его мать это чувство грубо подавляет.
И вот Санька ударяется в рёв. Он-то знает (успел усвоить), что на мамино насилие он может ответить своим насилием, то есть трижды умноженным капризом. Я вижу море детских слёз, мною совершенно непереносимых, но также я вижу то, как мать бросается к сыну и, сюсюкая, начинает его облизывать. Итог драматической сцены: Санька, настояв на своем, то есть так и не убрав на место разбросанные по полу игрушки, через полчаса оказывается в постели.
Тебе, оставаясь с глазу на глаз, не раз советовал исключить из обращения с дитём своим приказы и распоряжения, непримиримость и нетерпимость к мнению ребенка. Говорил, что можно добиться гораздо большего результата, если действовать через советы и непритязательные рекомендации, которые не несут обязательности, но оставляют шанс ребенку подумать и прийти самостоятельно к собственному решению, желанному им, а не навязанному кем-то, пусть даже матерью. Ты, советовал я, попробуй решить эту же вечную проблему с разбросанными игрушками как-то иначе. Ты, говорил, скажи то же самое, то же по смыслу, но иным тоном. Например: «Не пора ли, сынок, в постель, а?» Санька, само собой, что можно предвидеть заранее, ответит: «Нет». «Хорошо, — скажи ты, отвечая на упрямство, — сегодня ляжешь спать позднее». Парнишка, я уверен, спросит: «А когда, мам?» «Ну, — покажи ребенку, что ты раздумываешь, — минут через десять». Санька еще мал и ему не очень понятно, много у него свободного времени или мало, поэтому непременно обрадуется. Вот тут-то и добавь, будто только-только вспомнила: «А не кажется ли тебе сынок, прежде чем отправиться в постель, надо прибрать игрушки?» Опять-таки почти уверен в ответ услышишь: «Не хочу». Тогда совершенно спокойно спроси: «Значит, ты, сынок, — напомни тут его любимый мультик, — хочешь всю жизнь быть „Великим нехочухой“, так, да?» Он, уверен, ответит отрицательно. «Но, — спроси его, — как быть, когда не хочешь наводить порядок и убирать игрушки на место, одновременно, не хочешь так же походить на „Нехочуху“? Подумай сам, сынок, подумай». Малыш подумает и обязательно примет то решение, которое надо.
И что же слышал от тебя? А вот: «Уступишь раз, уступишь два, а он сядет на шею и ноги свесит».
Заметила ли ты, каков мой уровень общения с ребенком? Если заметила, то не могла не обратить внимание, что нет ни капли приторного сюсюканья, что разговариваю я по-взрослому и совершенно серьезно, то есть как равный с равным. И, как ни странно, мой взрослый язык мальчуган понимает и, более того, легко усваивает своим еще несформированным до конца детским сознанием.
Прости, божественная моя, но еще один эпизод напомню.
Твоему сыну — семь и осенью пойдет в школу. В конце августа вы, то есть ты и Санька, пришли ко мне. Стояла прекрасная солнечная погода. И без ветра. Я предложил: «А что, если мы возьмем лодку и покатаемся по пруду, а?»
Тебе предложение понравилось. Но надо было видеть, в какой восторг пришел Санька. «Уррра! — закричал он. — Мы идем на пруд!»
Я взвалил на себя рюкзак с лодкой, а сыну твоему поручил нести весла.
Приехали на пруд. Распаковали лодку, я стал накачивать, но тут неожиданно подул резкий ветер и пошла довольно крупная волна.
В нерешительности остановился.
«Придется отложить до следующего раза. Лодка хоть и двухместная, но нас трое и… волна поднялась. Может, не станем рисковать?»
Ты готова была согласиться. В отличие от сына. Он насупился, отошел в сторону, отвернулся и, похоже, готов был, несмотря на всю свою уже взрослость, расплакаться. Для него это явилось величайшим огорчением. Я подошел к нему, притянул к себе.
«Мы же, Александр Максимович, не отказываемся… Мы же лишь откладываем».
Он поднял на меня глаза и в них я увидел то, что для меня всегда было страшно увидеть, — слёзы. Смотря с величайшей надеждой на меня, Санька чуть слышно произнес: «Прокатимся… а?»
Не достало сил, чтобы отказать, хотя отчетливо понимал, какой риск и какую ответственность беру на себя. Я вернулся и продолжил качать воздух.
Лодка готова. Я отнес ее на воду. Все расселись: ты — на корму, сын — на нос, я — за весла. И мы поплыли. Сын сиял от счастья. Он, брызгая меня и маму, хохотал от переполняющих его чувств. Часа три плавали. Доплыли даже до противоположного берега, а это не один километр. Там перекусили. Потом поплыли обратно. Волна стала еще круче, но я, соблюдая предельную осторожность, греб так, чтобы водяные гребни ударяли под углом в сорок пять градусов и, скользя вдоль правого борта, ослабляли силу удара.
Оставалось уже не больше тридцати метров. Здесь, я точно знал, никакой опасности нет, поскольку берег этот пологий и воды по пояс взрослому человеку.
У меня — отлегло от сердца, ибо опасность миновала, а у вас — отличное настроение. И тут, сидя на носу, бороздя ладонью водную гладь, парень неожиданно огорошил меня просьбой.
«Дядя Гриша, станьте моим вторым папой? — я опешил. Как-никак, но вопрос задает уже взрослый мужчина, а не кроха в полтора годика. Увидев, что я растерян (впрочем, ты была не меньше меня в шоке), Санька обратился к тебе. — Мам, ты не против, а?»
Ты промолчала. Да и что ты могла сказать своему ребенку?
Придя в себя, решил отшутиться. Я сказал: «Вторым, говоришь? Нет, я против.
«Но почему?!» — буквально вскричал твой сын.
«Не привык быть вторым, Сашок. Привык быть первым!»
«Хорошо, будете первым», — сын не понял шутки и все принял очень серьезно.
«Но у тебя, Санька, есть уже отец».
«Он… — парень чуть-чуть растерялся и посмотрел на молчавшую мать. — Он будет моим вторым папой… Я… попрошу его, хорошо-хорошо попрошу и он…»
Наконец-то, и ты нашла-таки, что сказать: «Два папы? Не слишком ли жирно будет для тебя одного?»
Сашка твердо ответил: «Мам, хорошо будет!»
«Мне от одного-то… — осеклась ты, не досказала мысль. После паузы закончила, но совсем другим. — Надо подумать над твоим предложением, сынок».
«А чего тут думать, мам?»
«Ну, сынок, такие дела просто так, без обдумывания не решаются
Ты загадочно ухмыльнулась и замолчала надолго. Сын тоже замолчал. Видимо, тоже обдумывал свою же собственную идею, возникшую в его голове столь неожиданно. Ну, да! Чья-чья, но его-то мысль, как мне показалось, им вынашивалась давно. В семь лет этот маленький мужчина с проницательным взглядом и глубоким умом прекрасно во всем разобрался. Он видел, как я отношусь к тебе, к нему, соответственно; сколько чувств обуревают всякий раз, как только оказываюсь у вас; сердцем понимал, как страдает его дядя Гриша, расставаясь всякий раз с его матерью. Кого-кого, а ребенка обмануть нельзя. Мы не ребенка обманываем, точнее — не только его. Мы обманываем самих себя. Пряча голову в песок, опасности не избежишь, поэтому, рано или поздно, но что-то нам в образовавшемся треугольнике придется решать. Как мы решим проблему? Что мы решим и решим ли?..
Закончить это свое письмо хочу строчками из стихотворения всё того же Пушкина Александра Сергеевича…
Еще полна
Душа желанья
И ловит сна
Воспоминанья.
Любовь, любовь,
Внемли моленья:
Пошли мне вновь
Свои виденья,
И поутру,
Вновь упоенный,
Пускай умру
Непробужденный.
Глава 10
Драгоценная моя!
Этот не ограненный, сформировавшийся в естественной природе гор и долин Северного Урала и сохранившийся там в первозданном виде, прекрасный алмаз, слепящий мне глаза, пьянящий душу, тревожно волнующий сердце, потерять мне очень и очень трудно. Потерять нечаянно — то можно, хотя и станет нестерпимо больно. Но потерять так, чтобы я сам, по своей воле отказался, — нет, никогда!
«В любви к тебе я нахожу отраду.
В ней, только в ней спасение мое!
Любовь вселяет и несет надежду.
Утратив же, я превращусь в ничто».
Потому-то вновь и вновь возвращаю тебя к одной мысли. Я не слишком назойлив, нет? Или ты уже устала? Тебе наскучила эта тема, волнующая меня, но, судя по всему, оставляющая равнодушной тебя?
Мне так не кажется. Но что думаешь ты, я не знаю. Свои мысли ты тщательно скрываешь. И лишь изредка прорываются… Эти «прорывы» ловлю на лету, фиксирую в памяти, запоминаю, чтобы в час уединенья, собрав воедино, поразмыслить.
Однажды ты в сердцах (видимо, чтобы отмахнуться от жужжащей под ухом мухи), бросила: «Ну, что тебе еще-то надо?!»
Промолчал. Но про себя подумал: мне надо не «еще», а всё, вся ты — от макушки и до кончиков пальцев ног.
Не дождавшись реакции с моей стороны, ты заметила: «Ты имеешь молодую любовницу. И не безобразную».
Промолчал. Но подумал: это правда — ты молода и не безобразна, но стоит ли все время тыкать мне в нос свои лета младые и тем самым напоминать мне, что моя осень наступила и грядет пора быстрого увядания?
Мое молчание на тебя действует благотворно, и ты продолжаешь развивать свою мысль: «Ты обладаешь, когда захочешь…»
Не говорю, но думаю: ну, это явное преувеличение, потому что никем и ничем не «обладаю», в полном, конечно, смысле этого слова. Уж тем более не обладаю, когда захочу. Больно ты падка на преувеличения, сильно увлекшись своими фантазиями, пробуешь и меня в них убедить.
Слушаю, не мешая, твой монолог: «Для тебя, должно быть, так удобно: сбежались, потрахались, встали, отряхнулись и разбежались по своим „колониям“. Ну, и, давай, как говорят, политики, сохраним статус-кво».
Продолжаю свою молчаливую полемику. Удобно, говоришь? Для меня? По-моему, ты ошиблась с адресатом. Ты проговорилась. Изящно, но выдала одну из тайн своей души. Если и «удобно» кому, драгоценная моя, то тебе, только тебе и никому более. Впрочем, говори, что там еще у тебя в запасе любопытненького?
«Ты вечно недоволен, но чем?! Мужик, одним словом…»
А совсем недавно, отмечаю про себя, сама же говорила, что я не мужик, а мужчина. Кстати, с некоторой долей гордости говорила. Когда же была ты сама собой — тогда или сейчас?
«Захватив часть плацдарма…»
Надо же, отмечаю я, в ход пущена воинская терминология!
«Ты, закрепившись на нём, попытаешься завладеть всем… Собственник! Завладев, чего доброго, всей отвоеванной территорией, вознамеришься еще и высоченным бетонным забором ее окружить, на входе поставить бронированные ворота и с пудовым замком. А там, глядишь, поверху и сетку натянешь, ток пропустишь. И все! Птичка в клетке?!»
Красиво говоришь, вновь отмечаю про себя, драгоценная моя, но только всё это ко мне не имеет никакого отношения. Повторяю: ни-ка-ко-го! Может, рисуя сии образы, ты вовсе и не меня имеешь в виду? Может, ты сейчас споришь с кем-то третьим? Кто он? Кто тот, который предпринимает попытки засадить певчую и свободолюбивую птичку в клетку? Хоть краем глаза увидеть бы своего более удачливого соперника. Если и не порадоваться, но позавидовать ему.
«Ты имеешь то, о чем мечтают, только мечтают многие…»
Знаю: мечтают многие, но не всем удается отломить хоть кусочек от сего вкусненького, румяненького и свеженького пирожка.
Ты продолжаешь: «И каждый из них был бы счастлив, если бы…»
Опять же согласен. Но прими одно уточнение: они — не я. Я — не побирушка, чтобы довольствоваться брошенным кусочком, который удается схватить на лету. Они — неприхотливы. Они живут по своей программе. Они говорят: всякую шваль — на х…й пяль, Бог увидит — еще подкинет.
«Если бы кто-то из них узнал, чем ты владеешь на самом деле, то от зависти бы подохли».
Спешу все также лишь мысленно добавить: туда им и дорога!
Не встречая сопротивления, продолжаешь откровенничать: «Это про таких, как ты, говорится: аппетит приходит во время еды. Не умерь твой аппетит, и ты тотчас же проглотишь. Не моргнув глазом, лишь облизнувшись, проглотишь. Утратишь бдительность и про опасения, что от такого крупного и столь лакомого куска могут возникнуть у тебя проблемы…»
Про себя хмыкаю: умерять-то аппетиты ты умеешь, справляешься с этим на все «пять». Где всему этому обучилась? Кто твой учитель и наставник?.. Да… О каких «проблемах» речь? На что намекаешь?
Как будто прочитав мои мысли, спешишь с ответом: «Во-первых, можешь ведь подавиться. И задохнешься…»
Пусть! Если и задохнусь, то задохнусь от счастья. Тебе-то какая печаль?!
«Во-вторых, если и удастся проглотить…»
Удастся, хихикаю я про себя, еще как удастся!
«…то желудок не сможет переварить. И покинешь сей бренный мир от несварения. Фи! Какая перспектива…»
А перспектива, скажу тебе, замечательная!
«Умереть от обладанья
Такою дивной красотой?
Боже мой, пошли же счастья,
Что б упокоиться с тобой!»
Тут ты спохватилась: «Позволь-ка, милейший, а почему ты молчишь? Сейчас только заметила, что говорю я одна. Постой… Но мне все время казалось, что я веду диалог с тобой».
Так тебе и поверил: если и вела ты сейчас диалог, да не со мной, нет, никак не со мной. С кем? Удастся ли когда-либо узнать? Свербит внутри. Ревность гложет.
«Чего ж ты молчишь? Ну!»
Не запрягла еще, я про себя хмыкаю, а уже понукаешь.
«Скажи хоть что-нибудь».
«Что ты хочешь услышать?» — наконец подаю я свой голос.
«Все!»
«Все, — возражаю я, — значит, ничто».
«Ну, пошло-поехало: начались умствования! — ты недовольно скривила губы.
«Как тебе угодить, а? Молчу и слушаю тебя — плохо; начинаю говорить — тоже не нравится. Несносная женщина».
«Я?! Несносная?! Да другая давным-давно дала бы тебе, как выражается дед Щукарь из „Поднятой целины“, полный отлуп».
«Может, и дала… Может, и нет», — загадочно ухмыляясь, отражаю я подобный выпад.
«А ты к тому же самонадеян».
«Ты — тоже, — парирую я. — Ты почему-то решила, что облагодетельствовала меня своим вниманием, своей милостью, и думаешь, что другие женщины на это уже не способны».
Я заронил в твою душу червь сомнения.
«Значит, способны? Ты их знаешь? Кто они? Назови сейчас же!»
«Бегу и падаю».
«Не хочешь? Недавно завел?»
Обиженно надуваю губы.
«Жизнь прожил…»
Ты за меня закончила: «…И ни одной дуры так и не нашел».
«Не надо недооценивать партнера, драгоценная моя».
Мрачно фыркнул и продолжил уже стихами:
«Встречал я женщин и немало.
Средь них бывали также те,
Что замуж выйти, ой, желали,
Да не пришлись мне по душе».
Ты покачала головой, устраиваясь поудобнее, значит, с ногами (любимая твоя поза) в мягком кресле. Это означало, что ты готова к большому и длинному разговору.
«Что так?»
Притворился, что вопроса не понял: «Ты о чем?
В твоих глазах промелькнул огонек обычного бабского любопытства. Вам ведь что? Дай только пищи, и вы станете часами языки чесать.
«Почему не пришлись по душе?»
«Зачем тебе?»
«Знаешь ли… Хочу знать, что ищешь, — сказала ты и рассмеялась. — Вдруг я не подхожу под твои стандарты».
«Мой стандарт один — взаимная любовь».
«О-го-го! — воскликнула ты. — Один, но какой?! И всей жизни, нескольких жизней не хватит, чтобы…»
«Думаешь, не понимаю? Но иначе не хочу».
«Выходит, так: тебя любили, а ты нет, и по этой причине дал отставку, не стал связывать себя узами брака?»
«Для начала: я связывал себя „узами брака“, даже дважды и об этом тебе хорошо известно».
Поморщившись, заметила: «Я — не о тех… Я — о других».
«Других — я не любил».
«Прежде женился и, не любя. Теперь что случилось?»
«Ничего не случилось. Повзрослел. Поумнел. Тогда, вступая в брак, был неопытен, полон иллюзий, почерпнутых из литературы. Я принимал за любовь простое плотское вожделение. Тянет к девушке, хочу ее, считал я, — значит, влюбился. Секса без любви, искренне думал я, не бывает. Секс без любви — это разврат. Глубоко заблуждался, понятно. Чтобы осознать это, понадобились годы. Хотя… И у великих иногда встречал странные мысли. Меня до глубины души поразила мысль Оноре де Бальзака. Колосс! И он так отзывается о брачно-семейных отношениях?!»
«А именно?»
«Он написал однажды (где? Не помню), что брак в наши дни — это узаконенная проституция».
«Великие тоже могут ошибаться».
«Могут: не спорю… Поначалу и я подобное высказывание не принял, но потом, подумав, кое с чем вынужден был согласиться».
«Например??
«Что такое проституция? — спрашиваю, усмехаясь, и тут же сам отвечаю, потому что ответ у меня уже на языке. — Это — любовь, выставленная на торги: кто больше даст, тот и обладатель».
«Причем тут брак и семья?»
«Но разве в браке нет этого же самого, то есть торга, причем, постоянного и изнурительного торга. Особенно, когда люди сошлись не по любви, а из интереса. Интерес может быть разный: высокий общественный статус одного из супругов, высокий и стабильный заработок (это, кстати, является главенствующим для большинства женщин).
Последнее мое замечание явно и больно задело тебя.
Спешно пробуешь оправдаться: «Меня-то это уж точно не касается. У моего, когда поженились, ни статуса не было, ни денег. Впрочем, нет ни того, ни другого и сейчас».
То, как были сказаны тобой последние слова, твоя интонация, говорили о многом. О том, что этими обстоятельствами ты недовольна, и скрыть не смогла. Язык наш — враг наш. Я не показал вида, что кое о чем догадываюсь.
«Речь не о тебе. К тому же в своих рассуждениях я опираюсь на правило, а не на исключения из него… Люди женятся чаще всего по расчету. Расчет не обязательно бывает материальным. Но разве есть разница, за что продается один из супругов или сразу оба? Продажа-то все равно состоялась. Ты видела такую женщину, которая бы ради любви согласилась на рай в шалаше, в буквальном, конечно, смысле?»
«Ну… — ты замялась. — Я, например…»
Возмутился: «Что ты все время себя пристёгиваешь к любой ситуации?»
«Не дура! Думаешь, не догадываюсь, в кого мечешь ядовитые стрелы?»
«Напоминаю тем, у кого коротка память — я взял себе за принцип: о присутствующих — ни одного дурного слова».
«А об отсутствующих?»
«Тем более. Хотя… Ты сама завела речь о себе, поэтому имею моральное право продолжить, то есть уточнить. Ты — не показатель».
«Почему? Чем я хуже других?»
«Я ведь спрашивал о любимых, живущих в шалаше».
«И я об этом.
«Нет, ты совсем не об этом. Во-первых, ты вышла замуж не по любви…»
Ты сердито прервала, потому что я наступил на твою больную мозоль: «Откуда тебе знать-то?»
«И не отрицай. Потому что правда: он, да, тебя любит и, кажется, ради тебя готов на все, но ты, нет, не любишь. Более того, ты даже не уважаешь своего мужа».
«Почему ты так решил?» — спросила, и в глазах засверкали твои обычные злые искорки.
«Почему? А не скажу».
«Не скажешь! — зло бросила ты. — Потому что не знаешь ничего».
«Пусть будет так, — миролюбиво сказал я, не желая углубляться в тему. — Заметь, кстати: конфликт затеян не мной, после минутной паузы добавил. — Твой пример не подходит еще и потому, что вы не жили в шалаше ни одного дня. Худо-бедно, но у вас была отдельная комната в благоустроенном общежитии. Короче говоря, — подытожил я, — ни разу не встретил, когда бы милые чувствовали себя в шалаше, как в раю. Красивая поговорка, но она больше подходит для литературы, чем для жизни».
Ты неожиданно сказала: «Я бы… если бы… то…»
Тебя мгновенно понял. Поэтому твою мысль подхватил.
«Возможно… Но пока, увы… Поживем и, возможно, удастся что-то увидеть. Тогда и поговорим. Поделишься личным опытом».
Мы замолчали на какое-то время. О чем думала ты в те минуты? О несбывшейся мечте жить с любимым в шалаше? Или о чем-то в этом роде?
Минут через пять ты спросила: «Итак, основной твой показатель, который вынудит тебя вступить вновь в брак, — взаимная любовь».
«Именно так», — подтвердил я и еще раз убедился, что ты умеешь держать все нити разговора в руках и в любой момент устранить обрыв.
«Предположим на минуту, что я буду согласна… Ну, ты понимаешь, о чем я?»
Кивнул. И не преминул съязвить: «Не только «понимаю», а и в силах «предположить на минуту».
«И что?» — спросила ты, глядя мне в глаза.
Понял даже то, что ты не досказала. А не досказала ты очень важную вещь, а именно: ты не только не любишь меня, но и не веришь, что это когда-либо может случиться.
Опять же, притворившись простачком, не подал никакого вида, хотя в этот момент почувствовал себя очень и очень скверно: тяжело расставаться с иллюзиями.
Ответил. Но осторожно, тщательно подбирая слова: мне не хотелось совсем рвать нити, хоть как-то связывающие нас.
«Что касается нас, то тут нужна не теория, а практика. Мы — живые люди и на нас научные эксперименты, как на мышах, не поставишь…»
Ты прервала:
«Не понимаю. Уходишь от конкретного ответа?»
«Не ухожу. Мне некуда уходить. Я весь тут, как на ладони: хочешь — так рассматривай, хочешь — через микроскоп… Когда речь заходит о нас, то я не люблю абстракций. К конкретному разговору готов. К рассмотрению любых вариантов готов. И к тому же, — я замялся, но потом решил досказать мысль до конца, — ты отлично знаешь заранее, что я решу, если даже… что-то… где-то… как-то… забрезжит на горизонте лучик надежды. Я говорил, говорю и не устану говорить, как я к тебе отношусь… И какие чувства испытываю к тебе… До какой степени они сильны… Ты видишь мое безрассудство. Мало?!»
Ты улыбнулась на это. Ты испытала еще раз приятное наслаждение от того, как мне тяжело говорить на эту тему. Не только тяжело, а и унизительно.
«И все же ушел… так и не произнес ни разу заветное слово.
«Ты все еще не веришь? Тебе нужны еще какие-то доказательства?»
«Нет-нет! Я пошутила».
«Что-что, а шутить со мной ты любишь. Шутишь много. Шутишь по поводу и без него».
Глава 11
Очаровательная моя!
Раз за разом спрашиваю себя: ну, что я делаю не так и что должен сделать такое, чтобы ты была, на самом деле, моей — не в мечтах, а наяву? Спрашиваю, перебирая в памяти все, что было между нами, и не нахожу ответа, поддающегося хоть маломальской логике.
Нет, не знаю ответа! Но надо искать. Должно быть разумное объяснение. Оно где-то совсем рядом, но я не вижу, слепец!
«Взор влюбленного не различает
Даже того, что видит мир.
В ослеплении-таки блуждает…
В ушах его лишь звуки лир».
Загадочная женская душа… Так ли уж она таинственна и неясна, как об этом говорят на каждом шагу?
Говорят: большое — видится на расстоянии. А малое и низменное, только вблизи, что ли?
«Непостижимо, как влюбленный
Наивен, глуп и одинок!»
Признаюсь: у меня всегда с женщинами что-то не так… Не как у людей, меня окружающих… Не как в книгах, где все возвышенно и одухотворенно.
Может, потому и не получается, что я идеализирую ту, которая рядом? Создаю мифический образ, который совсем не тождественен реальному? Может, не стоит витать все время в облаках? Может, почаще спускаться на земную твердь и воспринимать окружающую действительность такою, какова она на самом деле?
На тему — Я И ЖЕНЩИНА — заговорил с приятелем, Володькой. Да-да, с тем самым, который однажды (помнишь?) с остервенением набросился на коллегу лишь из-за того, что тот, сидя рядом с тобой, позволил себе погладить твою ручку.
М-да… Если стану обращать такое же внимание на всякое поглаживание твоих ручек, то озверею и полезу в бешенстве на стенку. Его на мое место: то-то была бы потеха. От этого Отелло никакой бы Яго не уцелел…
Ну, вот… Заговорил (ты знаешь, что мы довольно близки). Выслушав мой монолог, Володька, скривив губы в язвительной и, как мне показалось, злобной ухмылочке, неожиданно огорошил меня.
«Такого, как ты, женщина не может любить».
«Но почему?!» — вырвалось из меня.
«Поищи причины в себе».
«Я только тем и занимаюсь, что вечно ворошу душу в поисках тех самых причин. Я, вроде все делаю так…»
Он не дослушал. Он с той же злобой (прорывается она у мужика иногда, хотя представляется этаким большим и благодушным увальнем — мягким и пушистым) бросил: «Так, да не так…»
Потом произнес длинный монолог. Я выслушал с обидой. Потому что не считал себя ущербным, тем более, не хотел признаваться, что он, Володька, свой женский вопрос решает удачнее меня. Это — сгоряча. Потому что, после того как эмоции улеглись, я не мог не признать — он удачливее меня. Такова объективная данность.
Возьмем его жену, Марину. Она, по сути, — нянька этого огромного дитяти, нянька на протяжении всей их совместной жизни. Но ведь живет и нянчится! Да, в сердцах поворчит на него, но и только. Что их связывает? Любовь? Нет. И сам Володька не скрывает. Но, поди ж ты: уживаются столько лет.
Володька добытчик и опора семьи? Тоже нет. В этом смысле, то есть материальном, от него мало проку. Ну, что там говорить!? Трутень он в семье. Даже жилищную проблему он не решал никогда, не думал решать. Уже две девочки было, а семья продолжала ютиться в той же самой крохотной однокомнатной квартире, которую выхлопотала она же, Марина, но не он, не Володька.
Хорошо, не добытчик. Но, может, жутко домовит и в хозяйстве незаменим? Делает, не спорю, кое-что. Однако чего это стоит жене, Марине? Чтобы повесить на кухне полочку, она неделю пилит мужа, а на вторую неделю, может, Володька растрясется, соберется и сделает.
Ладно, не добытчик и не домовит. В конце концов, человеческие взаимоотношения, в том числе, семейные, гораздо богаче и разнообразнее по структуре.
Например, верность жене, преданность семье. Будто бы, женщины жутко ценят в мужьях сии качества и могут ради них простить многое.
Проблема только в том, что и этими качествами Володька не обременен. О том знаем мы. О том прекрасно знает и жена. На другом конце города живет его любовница, у которой от него растет сын.
Он, ты знаешь, любит разглагольствовать о возвышенном и прекрасном, о светлом и чистом, а жену обманывает всякий раз, как только подвернется случай, случай в образе молодой и смазливенькой бабенки. Ни за что не пропустит, не пройдет мимо. Хотя утверждает, что предательство — есть наибольшее зло из всех зол, существующих на земле.
Наконец, возможно, он красавец? Тоже нет. Впрочем, тут я не знаток. Одно лишь могу сказать: красивый мужчина — это самовлюбленная фарфоровая статуэточка, это обычно нравственный урод, шагающий по судьбам людей, не оглядываясь и не раздумывая особо о том, что оставляет после себя. Таких справедливо принято величать «нарциссами».
Сей образ нам известен,
Но любят женщины его!
Но не того, кто честен,
Иль верность в ком важней всего.
Удивительно! Любят низость, но игнорируют преданность. Мирятся с трутнем, а проходят мимо истинного труженика.
Я так и не понял, что имел в виду Володька, говоря, что такого, как я, женщины любить не могут. То, что не любят, — факт. Но почему не могут? Что им надо? Кого им надо? Такого, как он, Володька?
Но я таким, в самом деле, никогда не стану. Потому что антипод. Противоположность буквально во всем, что можно отнести к вечным ценностям человеческого бытия.
Я тебе говорил, что моя жена никогда даже не задумывалась, чтобы пойти куда-то, и начать хлопоты по поводу жилья — это всегда было на мне; моя жена даже в голове не держала, что её забота — достать денег, чтобы ребенку купить школьную форму или себе какую-то безделушку. Проблема денег — всегда была моей проблемой. Всегда в мои обязанности входило по утрам отвести детей в садик или в школу и вечером забрать. Я всегда знал, что регулярно дарить жене цветы — мое святое дело, о котором, кстати, Володька и не помышляет. Подарки дарить — тоже. Чтобы ни случилось, где бы я ни был, откуда бы ни возвращался домой, но сувенир либо полезную вещицу — пожалуйста. На последние деньги, но куплю.
О предательстве… Ну, об этом у меня и язык не поворачивается, хотя, тебе я говорил, жену я не любил и моральное право, если только есть такое право, я имел, чтобы совершить поход налево.
Да, подарки… Вот уж не думал, что и они могут стать проблемой во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
Учился, ты знаешь, всю свою жизнь. Причем, заочно. И были частые выезды на экзаменационные сессии. Так получилось, что сосед по лестничной площадке, заведующий отделом райкома КПСС, учился на том же курсе и в том же учебном заведении, что и я. Уезжали мы вместе, соответственно, приезжали тоже. Жили во время сессий в одной и той же гостинице, питались в одной и той же столовой.
Приехали мы однажды из Свердловска (тогда еще я жил и работал, ты это знаешь, в маленьком райцентре) и вечером слышу, что у соседей разгорается серьезный семейный конфликт: крики, шум, грохот.
Говорю жене: «Ссорятся. Неужели не соскучились друг по другу за три недели? Что они не поделили?»
Замечу: это была милейшая семейная пара. Во всяком случае, супруги это всегда демонстрировали на людях. Идут по улице. Глянешь на них — ну, чисто голубь с голубкой. Смотрят люди и вздыхают: вот это любовь так любовь! Но я, как сосед, видел и другое. Придя после важного партийного мероприятия в сильном подпитии, сосед начинал обычно драку, и однажды выкинул босую жену на лестничную площадку, а было это в зимнюю стужу. Моя выглянула, позвала несчастную, и она спала до утра у нас.
Вот и сейчас…
Услышав мои слова, супруга хихикнула.
«На этот раз, кажется, тут моя вина», — сказала она и виновато отвела взгляд в сторону.
Насторожился. Потому что знал её болтливость, а еще и безудержную хвастливость.
«Что ты еще сморозила? — не слишком-то вежливо (каюсь!) спросил я жену. — Сколько раз говорил, чтобы язык не распускала, в том числе и с соседями».
Она стала объяснять.
«Неделю назад мы столкнулись на лестничной площадке. Стали болтать. Зашла речь и о вас, то есть о мужьях. Слово за слово… Ну… Не знаю и к чему, но я стала хвастаться…»
«Это еще чем?
«Ну, — жена замялась, — я сказала, что мой муж всегда, возвращаясь с сессии, привозит подарок. В прошлый раз, сказала, импортный зонтик подарил».
«И что дальше?» — я спросил, хотя стал уже догадываться, в чем дело.
«Соседка сразу насторожилась. Она спросила: а сколько он берет денег с собой, что может себе позволить купить подарок? Я ответила честно: обычно девяносто рублей. Соседка, округлив глаза, переспросила: девяносто?! Я подтвердила. А мой, после минутной паузы сказала она, взял сто шестьдесят; неделю назад позвонил и попросил, чтобы я еще ему выслала семьдесят; я, как обычно, выслала; приезжает-то без подарков… Я поняла, что сказала лишнее, но было уже поздно. Теперь ссорятся. Видимо, супруга выясняет, куда муж девает столько денег?»
Знал ответ на этот вопрос: деньги шли на пьянство и, соответственно, на блядство. Но жену оставил в неведении на сей счет. Потому что знаю — разболтает. А мне это совсем ни к чему.
Ну, и женщины… Та же жена… Поначалу она мне очень нравилась: небольшого росточка (чисто дюймовочка!), густые каштановые волосы средней длины, осиная талия (тридцать два сантиметра), груди (третий номер лифчика!), шикарные бедра и крохотные (тридцать четвертый размер!) стройные ножки. Я хотел, очень хотел стать ей хорошим мужем. Чутким, добрым и внимательным! Иначе говоря, таким, каким и должен быть муж, если и не любящий, то уважающий.
Прожили год. Меня вызвали в Москву. Знаешь, на что я потратил там всё свое свободное время? Думаешь, на кабаки и женщин? Вовсе нет. Обегав все известные мне магазины, я натолкнулся-таки на кое-что: я купил жене замечательное (естественно, французское) нижнее белье — это её голубая мечта.
Приехал. Подарил. Развернула и ахнула от изумления. Мало того, что дорого (денег-то было, как всегда, в обрез), но до чего роскошный подарок. Жена была на седьмом небе. И, конечно, растрезвонила всем подружкам.
Минет несколько лет. Подарки будут продолжаться. Но жена к ним уже привыкнет, и будет воспринимать как должное, как приятный, но обязательный атрибут.
Эмоции с каждым разом угасали.
И вот снова в Москве. И снова рыскаю по столичным магазинам. И снова, после долгих и утомительных поисков, в Пассаже, что на Красной площади, натыкаюсь на огромную очередь из женщин. Говорят: вот-вот должны выбросить дефицит, импортные сапожки. Занимаю очередь. Терпеливо жду. Выстоял в очереди четыре с половиной часа! Но не беда: купил я сапожки жене! Сапожки австрийского производства, а не из Чехии, как обычно.
Прихожу в гостиницу, а жил я тогда на двадцать втором этаже гостиницы «Украина», поднимаюсь на скоростном лифте с коробкой под мышкой. Увидев меня, дежурная по этажу (видимо, коробка привлекла ее внимание) спросила:
«Подарок купили?
«Да!» — не без гордости сказал и предложил посмотреть, поскольку только москвичка в состоянии будет по достоинству оценить мой подвиг.
Женщина развернула и в изумлении взяла сапожки в руки.
«Боже мой! — воскликнула она. — Какие чудные сапожки! Где вы такую прелесть купили? — рассказал. Рассказал и о том, чего это мне стоило. Она покачала головой. — Видимо, сильно любите жену, — промолчал, хотя должен был сказать, что вовсе не люблю, а отношусь так, потому что она моя жена и этим все сказано. Дежурная по этажу добавила. — Представляю, как вас встретит жена, — она вздохнула. — Есть еще на свете мужчины».
Москвичка не могла представить, как меня встретит жена. Она встретила спокойно. И к подарку отнеслась более чем спокойно. Да, сапожки ей понравились, и она сразу примерила, прошлась по квартире: сидят, как влитые. Она представила, как будет в этом чуде щеголять по городку, как все женщины будут оглядываться на нее и тихо вздыхать. Но эмоций, адресованных мужу, не последовало. Было лишь сухое слово благодарности.
Это была жесточайшая обида. Ее не только запомнил, но так стараться больше не стал. Стал отделываться какими-то безделушками, попавшими случайно на глаза.
Обида родила равнодушие. Но теперь — с моей уже стороны.
Самое обидное, что именно этот же сценарий разыгрывался и с другими женщинами: сначала — бурный восторг, затем — горячие слова признательности, и, наконец, — полное спокойствие. Любой подарок для моей женщины становился обыденным делом.
Извини, что вспоминаю, но и ты, очаровательная моя, точь-в-точь проиграла именно этот сценарий.
Помнишь, как ты радовалась, радовалась как малое дитя, когда я тебе привез из Болгарии сущий пустяк — крохотный декоративный флакончик с розовым маслом? Вспомнила? Ну? Что? Ведь, правда, ты была рада?
Пройдут годы. И ты уже не будешь так радоваться, эмоции не станут выплескиваться через край. Ты останешься равнодушной даже к французским редким в то время духам «Шанель №5», за которыми, чтобы купить, я также выстаивал огромные очереди в Москве. Впрочем, такое же отношение потом станет и к другим моим подаркам. Более того, ты станешь (будто бы в шутку) даже укорять: «Мог бы и что-нибудь более стоящее подарить».
Были и «более стоящие» подарки, но от того ты не изменила себе.
Нет, мне не жаль — ни времени, ни денег. Нет, я не сожалею о том, что было. Но мне обидно, безумно обидно, что все женщины воспринимают меня совершенно одинаково, — будь то жены, будь то любовницы.
Какая общность натур! Какое единство мыслей и поступков!
Гениален, до какой степени прозорлив был Александр Сергеевич Пушкин?! Скажешь: причем тут он? Нет, очаровательная моя, поэт имеет к предмету разговора самое непосредственное отношение.
Вспомни его великую сказку. С какой глубиной и совершенством он показал психологию поведения женщины в разных ситуациях. Имея разбитое корыто, старуха мечтает о новом и тиранит старика. Получив новое корыто, старуха теперь уже требует новую избу… Ну, и так далее. Финал известен: старуха, потеряв всякий здравый смысл и совесть, вновь оказывается у разбитого корыта. И поделом!
Мораль: нельзя тиранить вечно, даже любящего тебя мужика. Может плохо кончиться.
Извини покорнейше, но, решившись на откровенный разговор, должен выложить все, что накопилось на душе.
Глава 12
Бесценная моя!
И снова был май. Весна в этот год сильно подзадержалась. В начале марта природа подарила два теплых денька. И синоптики заговорили о ранней весне. Синоптики ошиблись. Как всегда. Урал тем и интересен, что здесь ничего нельзя предугадать, тем более, строить долгосрочные прогнозы на основе двух теплых дней. Да и раненько заговорили о том, что половодье нынче будет умеренным, а потому неопасным для населения: зима-то, мол, малоснежная. Им ли, синоптикам, если они действительно ведут наблюдения за погодой и анализируют, не знать, что всё еще впереди, все еще впереди?!
Март и апрель выдались снежными и холодными. Бураны перемежались небольшими оттепелями, после которых следовали по-настоящему зимние морозы (по ночам — до двадцати пяти столбик термометра опускался), создавая на улицах страшенный гололед.
А первого мая и вовсе сдурела погода. В первой половине дня — солнечно и сухо. Демонстрация трудящихся прошла нормально, а к шести вечера небо затянули свинцовые тучи, все вокруг померкло, и на город обрушился невиданной силы снегопад. Уже через два часа, выглянув в окно, я увидел сплошное снежное покрывало, а вдалеке на трамвайных путях замерли вагоны.
Снежный шквал продолжался до конца следующего дня. Как говорили специалисты, за сутки выпала годовая норма осадков.
Жизнь в городе замерла. Транспорт не ходил. Даже автобусы.
Третьего мая — рабочий день.
Вышел на улицу и остановился: кругом лежал слой снега толщиной в шестьдесят-семьдесят сантиметров. И не таял. Вышел в туфлях. Что же делать? Вернуться и надеть сапоги? Бесполезно: в сапоги того больше набьется снега.
На работу идти надо. И я пошлепал. Один из многих, тянувшихся узенькой цепочкой по всему городу. Люди вынуждены были идти след в след.
Думал, что, оказавшись ближе к центру, станет сноснее; что там-то хотя бы чуть-чуть разгребут сугробы. Мои надежды не оправдались.
Идти далеко: километров десять. Иду уже два с половиной часа. Иду весь мокрый: сверху мокрый, потому что пот градом с меня льет и рубашка прилипла к спине; снизу мокрый, так как снег, подтаивая от теплых ног, оседал в туфлях, в складках брюк и в носках корками льда.
Пришел на работу не к девяти, как мне полагалось, а лишь в одиннадцать тридцать. Я, ты знаешь, не люблю опаздывать, но в этот раз…
На работе лишь познакомился с ситуацией. А она была удивительна: оказалось, что снежная буря обрушилась лишь на Свердловск, а все окружающие города (уже в двадцати километрах от нас) совсем не задела, и там по-прежнему сухо и солнечно.
Во второй половине дня выглянуло солнце, подул южный ветер, стало тепло, даже жарко. И началось интенсивное таяние снега, отчего город поплыл в сплошных потоках воды. Ливневая канализация не справлялась. Впрочем, ее не чистили с прошлой осени, так что она была забита. Водные потоки с улиц огромного города ринулись в речки и пруды. Они моментально вышли из берегов, затопив дома.
Короче говоря, настоящее наводнение, стихийное бедствие, которого синоптики не предсказывали, о нем они не предполагали.
Ты приехала через два дня.
Снег сошел, и остались лишь возле домов сугробы, наваленные выше окон первых этажей при расчистке тротуаров.
Ты приехала, потому что был наш профессиональный праздник, и ты изъявила страстное желание отпраздновать в кругу своих коллег, а потом встретиться с приятелями-однокурсниками, естественно, побывать на торжественном городском собрании, посвященном очередной дате.
К шести вечера всё закончилось. Ты неожиданно засобиралась на вокзал, хотя до отхода твоего поезда оставалось еще три часа.
Попробовал напомнить: «Могли бы сходить в кафе работников искусств…»
Ты резко и зло оборвала: «Не хочу!»
Я все-таки продолжил: «Но именно там могла бы встретить своих однокурсников…»
«Уже передумала!»
«Но…»
«Если хочешь, иди. Не держу… Я — не хочу!»
Голову сверлили вопросы. Что случилось? Почему столь резкое погодное изменение и понижение температуры настроения? Может, я что-то не то сказал? Не знаю. Ничего не заметил. Все, кажется, было как обычно: я смотрел на обожаемую мною женщину, как смотрит раб на свою царственную повелительницу; смотрел и не мог оторвать глаз.
Неужели тебе наскучило мое обожание, бесценная моя?
Пес дворовый, пес противный,
Виляя хвостиком, скуля,
Вечно кружится, несчастный…
Уж не иначе ждет пинка!
Итак, ты зла. На что? Кто тебе так подпортил настроение?
Впрочем, кажется, начинаю догадываться: ты встретила свою любовь юности, то есть его, Гаврилова (он из ваших мест, но сейчас в Свердловске, женат, у него двое детей — дочь и сын и, по слухам, счастлив). Всплыли твои воспоминания, поэтому и занервничала.
Я боковым зрением видел, как в перерыве торжественного собрания ты подошла к нему, стоявшему в группе мужчин, оживленно разговаривавшему и громко то и дело хохотавшему (есть, знаете ли, такая привычка у вчерашних провинциалов); ты что-то сказала Гаврилову; он взял твою руку (тоже одна из манер вчерашних провинциалов: непременно показать свою интеллигентность) и поцеловал, но после этого демонстративно отвернулся и продолжил разговор с коллегами; постояв несколько секунд, ты отошла.
Женщина, которую прилюдно так-то вот отвергают и демонстрируют по отношению к ней полное равнодушие (И кто?! Любимый! Да, в прошлом, но это ничего не значит для женщины), звереет и непременно сорвет на ком-нибудь свою злость. И объект будет найден — не сомневайтесь. Ярость, бурлящую в ней, выплеснет на того, кто рядом, кто предан, кто оголен и потому особенно раним.
Мне кажется, что это именно тот самый случай.
Я понурился. Грустно вздохнул. Ты услышала и совсем не весело заметила:
«Не вздыхай тяжело: не отдадим далеко».
Побоялся предложить еще что-либо, так как отлично знал, что, находясь в этом настроении, к тебе лучше не приближаться, а то ведь можно и схлопотать.
Помнишь, тот случай? Мы приехали на твое очередное новоселье (третье, между прочим, за несколько лет работы). Ты с семьей только что (это был канун Нового года) перебралась в новую трехкомнатную квартиру.
По нашей традиции мы настряпали великое множество пельменей (тут настоящий ас Володька Попов: несмотря на огромные ручищи, лепит пельмени не только аккуратно, а еще и с невероятной скоростью, причем, занятие это ему здорово нравится), а ты, своими умелыми ручками, тем временем, наделала закусок, в том числе, было и твое коронное блюдо — «селедка под шубой».
Начался пир на весь мир. У тебя было отличное настроение. Тебе нравилось, что на новоселье и издалёка приехал к тебе почти весь коллектив, даже машинистка. Надеюсь, понимаешь, кто организовал?
Ничто не предвещало проблем. Пили, закусывали. И пели. Мой тезка, Григорий, привез с собой гитару. Развлекал, короче. Он был большим знатоком бардовской песни, которая только-только начала входить в моду.
У тебя были с ним натянутые отношения, и я знал об этом. Но не думал, что может дойти до такого.
Молодежь, в центре которой был Григорий с гитарой, устроилась на полу одной из комнат. Сидеть, как ты помнишь, тогда еще не на чем было.
Меня там не было. Я появился лишь тогда, когда все произошло. Я услышал шум и поспешил туда, но всё уже было сделано.
А сделано (извини, что напоминаю) было вот что. С твоих слов, Григорий, выпив к тому времени изрядно, расслабился, потерял контроль над собой и, будто бы, сделал грязный намек в твой адрес. Ты, ни секунды не раздумывая, схватила стоявшую на полу пустую бутылку из-под пива и сильно запустила в своего обидчика, после чего гордо встала и удалилась.
Слава Богу, бутылка задела Григория лишь вскользь, пролетела дальше, ударилась в стену и разбилась на мелкие кусочки.
Застал Григория побледневшим: он был явно напуган таким поворотом событий. Чего-чего, а этого он от хозяйки (знакомы-то вы давно) не ожидал. Я, честно говоря, — тоже. Я бы и не поверил, но стеклянные осколки — налицо.
Григорий стал мне жаловаться и утверждать, что он ничего оскорбительного не сказал; ну, может, пошутил неосторожно, однако, по его словам, это еще не повод, чтобы швыряться бутылками.
Согласился с ним. Но встревать в конфликт не стал, полагая, что дыма без огня не бывает. Сделал все, чтобы веселье возобновилось: как-никак, но коллектив был вполне мною управляем.
На следующий день мы также организованно уехали. И ты с нами, что показалось для всех странным.
Приехали все с хорошим настроением и уехали не менее веселыми. Инцидент с бутылкой был забыт.
Я и сейчас вспомнил лишь для того, чтобы показать: под твою горячую руку лучше не попадать. Виноват ты или нет, но получить можешь сполна. А потом разбирайся, за что?..
…Мы сели в автобус и поехали на вокзал.
До отхода поезда оставалось два с половиной часа.
Походив по привокзальной площади, постояв с минуту возле памятника танкистам-уральцам, героически воевавшим в составе Уральского добровольческого танкового корпуса, мы прошли (тебе не стоялось на месте) за жилые дома, где был сквер и скамейки. Деревья и кусты были еще голыми. Но нас это не волновало.
Мы присели на одну из скамеек.
И тут ты начала тяжелый (разумеется, для меня) разговор. Ты впервые за все прошедшее время заговорила откровенно и прямо. Мне показалось, что была готова к этому разговору, что он не был неким спонтанным всплеском твоих эмоций. Ты говорила спокойно, рассудительно, можно сказать, отстраненно, будто говорила не о нас, а о ком-то другом, о тех, кого нет здесь.
Слушать было больно. Больно, повторяю, хотя этот разговор для меня был неизбежен и я знал, что рано или поздно, но он обязательно состоится. Знал также, что не я буду инициатором.
Ты сказала главное: ты не любишь меня и никогда не полюбишь, поэтому я не должен тешить себя иллюзиями насчет светлого совместного будущего. Его, то есть будущего, в наших отношениях, сказала ты, нет и быть не может. Так вот прямо в лоб. А что церемониться? Ты уже давно поняла, что, выражаясь словами уральского писателя Маканина, с мужиком надо вести себя так: чем жестче, тем лучше… Мордой его об стол, мордой!
Все-таки попытался возразить: «Но ты же с мужем живешь… Не любя живешь… И ничего…»
Ты отрезала: «Муж — это муж; ты — это ты!»
«Но… чем я хуже?»
«Ты — не хуже и не лучше; ты — другой».
«Не по Сеньке шапка?»
«Вроде того».
Еще одна моя попытка.
«Стоит попробовать. Вдруг получится?»
«Один раз попробовала — больше не хочу, потому что сыта… сыта по горло».
«Значит, ты… лишаешь меня последней надежды?»
Ты зло сверкнула глазами и отвернулась, разглядывая невдалеке играющих детишек.
«Разве я когда-то давала основания для надежд? Ну, вспомни!»
Ты, как всегда, тысячу раз права. Надежд не было, и быть не могло. Я эти надежды придумал в своей дурной башке. И поверил в них.
Я съёжился, лицо побледнело, плечи обвисли, глаза застлал туман, сердце, заколотившись часто-часто, приготовилось выпрыгнуть из груди.
Первая реакция — встать и уйти. Уйти, не говоря ни слова, так как все слова уже были сказаны и добавить — ни тебе, ни мне — нечего. Мы оба были пусты. Я — особенно.
Вот, сейчас… Встану и уйду…
Ну?! Что сидишь?! Вставай же! Будь мужчиной! Имей хоть каплю гордости! Сделай хоть что-то, поддерживающее твое достоинство! Не падай еще ниже! Не позволяй себя совсем-то втаптывать в грязь!
Ноги не слушаются. На скамейке рядом с тобой совершенно безвольный человек — тряпка, дерьмо, вещь, об которую в очередной раз вытерли ноги.
Ты искоса наблюдаешь за мной и ухмыляешься. Тебе доставляет удовольствие, что так больно ударила человека, чья вина лишь в том, что любит тебя, любит до самозабвения.
И в голове всплывают слова Чехова:
«Поэтизируя любовь, мы предполагаем в тех, кого любим, достоинства, каких у них часто не бывает, ну, а это служит для нас источником постоянных ошибок и постоянных страданий».
Продолжаю сидеть, хотя должен был быть уже далеко отсюда. Перевернута страница. История закончена. Занавес опускается. Театр пустеет.
А я по-прежнему сижу. Еще более одинок, чем еще час назад. От унижения, что настолько безволен, хотя этого за собой раньше не наблюдал, готов провалиться в тартарары. Не проваливаюсь почему-то.
Сижу. И ты сидишь. Оба молчим. Давно молчим. И возникает мысль: в самом деле, нам нечего больше сказать друг другу. Мы — чужие. Странно, что этого не почувствовал раньше. Хотя… Нет, я все еще лгу сам себе: чувствовал и не раз. Только вот признаться в этом нет никаких сил. Хочется казаться лучше, чем есть на самом деле.
Лезу рукой в карман, достаю твои проездные документы на поезд, протягиваю тебе. Ты деловито берешь, кладешь в сумочку, заодно, достаешь зеркальце и начинаешь прихорашиваться. Прихорашиваешься долго и кропотливо. Понятно: есть время.
А я что здесь делаю?!
Встаю. Ноги плохо держат: одеревенели. Пробую размять.
Ты спрашиваешь, будто и не было тяжелого объяснения: «Уходишь?»
«Да», — с трудом выдавил из себя.
«Уже?» — притворившись наивненькой девочкой, спрашиваешь ты.
«А что мне делать?» — следует мой встречный вопрос.
У тебя поднимается настроение. Ты получила порцию адреналина, побив нещадно пса, и теперь готова и чуть-чуть приласкать обиженную дворнягу. Ты улыбаешься, уже чуть нежно взглядывая в мою сторону.
«Ну, как же! — притворно восклицаешь ты. И добавляешь. — Не дождешься поезда?»
— Не маленькая… К тому же сегодня обычных тяжелых баулов нет… Носильщик не требуется».
В моем голосе сквозит обида и досада. Ты это чувствуешь. Ты даже рада, что причиняешь мне боль. Садистка какая-то!
Ты, все также улыбаясь, говоришь: «Но интеллигентные люди так не поступают».
«А объясни-ка, любезная, как поступают „интеллигентные люди“?» — зло спрашиваю и не смотрю в твою сторону.
Ты продолжаешь издеваться: «Даму полагается проводить, посадить в поезд, ручкой на прощанье помахать».
Ты откровенно ёрничаешь и продолжаешь доставлять себе удовольствие. Ты прекрасно понимаешь, что, несмотря на злость в голосе, я по-прежнему твой. Выдрессирован до такой степени, что по первой же твоей команде сделаю стойку, и буду служить, преданно заглядывая в глаза повелевающей хозяйки. Понимаешь и наслаждаешься.
«Намахался», — говорю и продолжаю топтаться на месте.
«Уже?» — притворно удивившись, спрашиваешь ты. И добавляешь. — А еще говоришь, что вечно готов служить у моих ног. Говорите вы, мужичье, всегда красиво, но забываете слишком быстро».
Прекрасно понимаю, что со мной играют. Но ничего с собой поделать не могу. Охотно бы оборвал эту явно затянувшуюся игру, но… По-прежнему пугаюсь порвать последние ниточки, еще как-то соединяющие нас.
Опять в голове слова Чехова:
«Когда дьяволу приходит охота учинить какую-нибудь пакость или каверзу, то он всегда норовит действовать через женщину».
Вот и пришло время. Ты встаешь. Набрасываешь на плечо сумочку и своей привычной по-мужски тяжелой и широкой походкой, ни слова не говоря, направляешься в сторону вокзала.
Ты не оглядываешься, но ты точно знаешь, что твой верный пес плетется где-то сзади. Твой пес выполнит и на этот раз свой долг до конца. В самом деле, оставлять женщину одну, если даже и зол на нее, неприлично. Утешение, но слабое.
Состав уже стоял на четвертой платформе. И посадка была объявлена. Ты показала билеты мрачной проводнице, поднялась в тамбур, обернулась, помахала рукой. Я не ответил. Тогда ты сказала:
«Не обижайся, ладно? Так надо. Ты это сам поймешь: если не сегодня, то завтра. Счастливо».
Ты скрылась в вагоне. Я знал твое купе. Знал, что окно выходит сюда, на платформу, но я не пошел к окну. Я повернулся, спустился в тоннель. Прошел на троллейбусное кольцо, сел в троллейбус.
Поехал в центр. Решил присоединиться к гуляющим коллегам. Поздно, конечно, но… Мне ничего другого не оставалось. Домой ехать совсем не хотелось.
На крыльце кафе встретил знакомых, которые сказали, что мои коллеги только что ушли в ресторан «Космос», видимо, намереваясь там продолжить гульбище.
Пошел туда. И вовремя пришел. Один из сотрудников только что подрался с прапорщиком (тот самый тезка, Григорий), другой (Игорь, значит, ты знаешь что он без приключений жить не может), будучи сильно навеселе, разбил стекло в дверях, так как швейцар категорически отказался его пропустить. Обоих, ясно, отправили в отдел милиции, где, составив административный протокол, под мое поручительство отпустили.
Мы вернулись назад. Швейцар по-прежнему отказывался пропускать Игоря. Пришлось сунуть ему червонец, после чего старик помягчел изрядно. Мы присоединились к другим коллегам.
Гуляли до глубокой ночи. Потом до утра бродили (общественный транспорт уже не ходил) по городу, горланя патриотические песни.
Напился в ту ночь, я тебе прямо скажу, до посинения. Сама знаешь, что такого со мной не бывает.
Приплелся домой под утро. Устал, мутило, голова кружилась. Зато, чувствовал даже сквозь хмель, что боль душевная от нанесенных тобою ран чуть-чуть отпустила.
И мне уже снова хотелось жить. И жизнь мне уже не казалось столь уж мрачной, как еще несколько часов назад.
И вспомнил, поднимаясь к себе (лифт не работал), о тебе. Взглянул на наручные часы и пьяно хмыкнул.
«Через полчаса прибудешь в свои края, бесценная моя. А я… Я уже… прибыл… Да… Прибыл… Я уже дома… Почти дома… Осталось только подняться… еще чуть-чуть подняться… Тебя ждут… — бормотал я, поднимаясь по ступенькам, — Максик… Да… Муженек… Сашка-озорник… Меня?.. Никто не ждет… Ну, и ладно… Пусть… пусть никто не ждет, а… я все равно иду домой… И я дома… У меня есть свой дом… Дома хорошо… Сам себе хозяин… Да… И никто не будет лаяться, что чуть-чуть сегодня задержался и… чуть-чуть выпил с друзьями… имею право!.. Праздник у нас… Не человек, что ли? И выпить нельзя?.. Шиш тебе!.. Выпил и… выпью еще… Если захочу… Никто мне не указ… Никто!.. Сам себе голова — и Бог, и царь, и воинский начальник…»
Вот и в квартире. Сбросив брюки и пиджак, я прошел в ванную, умылся, вымыл голову холодной водой, вытерся полотенцем, прошел в спальную. Не расправляя кровати, упал и… Провалился в небытие.
Мне снились сны. Хорошие сны. Оптимистичные. Ты не снилась.
Зато снилась девушка, которую я не знаю, и никогда не встречался. Ей не больше семнадцати. Белокура, голубые глаза, хохотунья, глупышка. Но мне с ней было хорошо. Я был на седьмом небе. Я был счастлив (хотя бы во сне), что я кому-то еще нужен, кому-то, хотя бы этой юной блондиночке, по-настоящему интересен.
И я встал (было уже девять утра) посвежевшим и, кажется, даже помолодевшим. Во всяком случае, почувствовал прилив новых жизненных сил. Жизнь, подумал я, продолжается. Будем жить!
Глава 13
Милая моя!
Долгое время я не брался за свой монолог. Не писал. Не хотелось. Было сильное желание покончить с глупыми и никому ненужными «сердечными» признаниями.
В порыве эмоциональных чувств (не иначе, как от обиды на тебя и досады на себя!) сгреб в охапку прежние письма, и весь этот беспорядочный ворох бумаг закинул на антресоли — с глаз долой и из сердца вон.
Проходит несколько месяцев. Я не нахожу себе места. Я пытаюсь забыться в пьяном угаре, в беззаботных и шальных молодых компаниях. И, разумеется, работаю, работаю, работаю. Работаю как вол. Работаю за троих.
Окружение видит, что я не в себе, но не догадывается о подлинных причинах. Окружение ухмыляется и делает таинственное лицо, будто что-то знает, будто «раскусило» мои сердечные страдания.
Чепуха! Никто и ничего не знает. Не так-то просто кому-либо «расколоть» меня на откровенность, тем более в подобных делах, касающихся исключительно меня и никого более на всем белом свете. Я бываю простодушен и непосредственен, но только не в том, что касается самых потаенных уголков моей души.
Знал, чего мне недостает: недостает мне общения с тобой. Мне надо выговориться, а некому: нет благодарного слушателя, который бы мог понять и разделить мои чувства.
Такого слушателя не было и раньше. Но тогда… Я мог хотя бы выплеснуть кое-что на бумагу, которая все стерпит. Бумага, ясно, стерпит и все примет на себя. Примет молча и равнодушно, но примет! Примет без срывов, злобных тирад и обидных эпитетов-намеков. Это уже кое-что!
Пару раз заглядывал на антресоли. Рука тянулась к бумажному хламу. Тянулась под предлогом того, что надо кой-какой порядок навести. Отдергивал руку в последний момент, ужалившись, как о крапиву.
Выдержки не хватило. Однажды достал ворох бумаг, покрывшихся уже пылью, стал разбирать, то есть приводить в порядок. Глаза (помимо моей воли) скользили по тексту. Увлекся, перечитал всё написанное. Сердце сдавило от воспоминаний.
«Соберу, — ворчал вслух, хотя рядом никого не было, — и выброшу на помойку. Выброшу как устаревший и никому не нужный хлам».
Собрал письма в стопку, упаковал в полиэтилен, перевязал шнурком… Но не выбросил, а вернул стопку на прежнее место. Это что? Отсутствие всякой логики.
Непоследовательность, двойственность в мыслях и поступках — это не мое. Верно, не мое, однако ж…
…И вот я вновь за столом. Вновь передо мной листы чистой бумаги, перед глазами видения, а в голове… Чего только нет в этой голове! Как говорится, дурная голова ногам покоя не дает. В данном случае, правда, не ногам, а рукам и мыслям. Но это все равно.
Чтобы забыться и оторваться от мучившей меня действительности, я решил уехать на какое-то время. Уехать так, чтобы это не выглядело в твоих глазах, милая моя, как позорное бегство с поля боя.
Помогло начальство. Оно приняло решение направить меня на три недели за границу, в Чехословакию.
Отличный для меня выход из ситуации: заграница мне поможет. Возможно (это было бы огромным облегчением для нас с тобой), удастся мне порвать с прошлым. Ты, конечно, легко и давно порвала. А я… Не по-мужски, нет, не по-мужски! Как тот самый старый половик, который ни на что непригоден, как всем, кому ни попади, лишь вытирать об него ноги.
Стал готовиться к поездке. Хлопот, как известно, предостаточно.
И неожиданно появляешься ты. Я так понимаю, что новость до тебя дошла от коллег, не так ли?
Ворвавшись шумно в кабинет (как всегда), ты, поздоровавшись и плюхнувшись на стул, нарочито бодро сказала:
«Едешь, значит? И мне ни слова?!»
Хмуро и сухо, хотя душа уже трепетала во мне, ответил: «Еду».
Ты, окинув внимательным взглядом мою фигуру, оставшись недовольна полученным впечатлением, спросила: «Все еще сердишься?»
«На что мне сердиться?» — почти зло вырвалось из меня.
Ты, недовольно скривив свои пухленькие губки, сказала:
«А ты злопамятный, — я оставил эти слова без последствий. Ты продолжила. — Нельзя к женским словам относиться так серьезно. У бабы, как известно, семь пятниц на неделе. Баба переменчива, как и наша уральская погода: с утра — солнце и жарко, а к вечеру — пасмурно, хмуро и леденящий ураган».
Съязвил: «А нельзя наоборот?»
«А именно?» — переспросила ты.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
