
Бесплатный фрагмент - Листая Путь

Листая Путь
Предисловие автора публикации
Однажды, разгребая чердачный хлам доставшегося мне по наследству дома, среди прадедовских вещей я случайно наткнулся на потертую книжицу в самодельном ручном переплете. Вся она исписана была убористым четким почерком, разбита на отдельные рассказы и посвящена путевым заметкам безымянного автора.
Почерк был не дедов и не прадедов, хотя не менее красив и изящен — прадед-то одно время служил полковым писарем, а дед — сельским учителем. Чужой был почерк, но и то не главное. Более примечательно, что несколько первых страниц в рукописи отсутствовало, а на обложке обозначалось только название…
Прочтя записки, я нашел их занимательными. Некоторые же эпизоды или новеллы целиком настолько запали мне в душу, что я решился, не сочтя за труд, дать этой книжице жизнь общественную — проще — напечатать.
Особо доискиваться имени подлинного ее автора было мне не досуг, спросить — не у кого, да и не слишком желательно. Ни строчки в ней я сам не поменял и редакторам не позволил, хоть и написана она довольно старомодно.
Так что, кроме этого предисловия, ничего в ней мне не принадлежит, тем не менее, на корешке ее значится мое имя — чье-то ведь должно значиться?!
Прошу меня простить, но — чтоб не искушать судьбу — ни слова более…
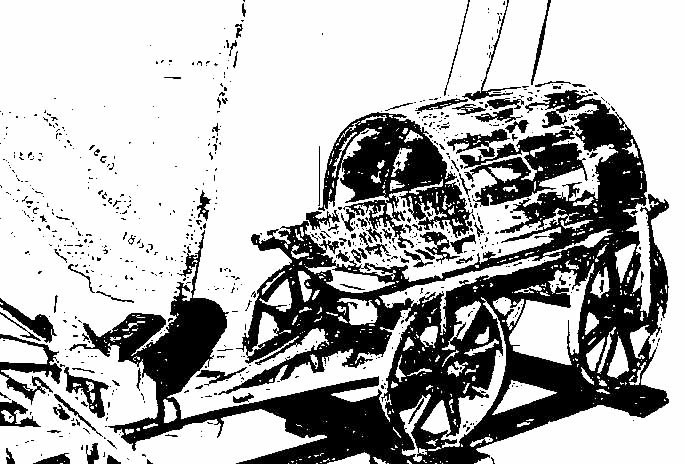
Шляпка с вуалью
И не расстаться, даже если смерть…
В силу нелепейшего душевного склада мне всегда было трудно познакомиться и даже, уже познакомившись, сблизиться с женщиной, какою бы доступной она ни была или ни казалась.
С раннего детства я предпочитал болезненное, полное безответности и неопределенности страдание ухаживаниям, пылким выспренным признаниям и, как сообщают статистики, — в большинстве случаев — дальнейшему страданию вдвоем. Страданию от утраты присущей началу романа пылкости, от состоявшейся и потому переставшей быть желанной разделенности всего, что можно было разделить.
Оговорюсь еще раз, что предпочитал и предпочитаю до сей поры свое одиночество не из боязни быть отвергнутым и, что называется, «разбить свое сердце» — матушка природа не обделила меня ни внешностью, ни умом, — именно в силу нелепейшего душевного склада.
***
Все мы зачастую и готовы, и рады полюбоваться кружевом паутинки где-нибудь в поле, в лесу, на летящем осеннем листе, но… Стоит нам заметить это же «кружево» в собственном доме — мы сердимся и хватаемся сами за мокрую тряпку. Иль требуем от окружающих немедленно навести чистоту.
И любовь — та же самая паутинка. Я имею в виду любовь «плотскую», о которой столько всего переговорено, но не сказано почти ничего — разве что — поэтами. Она, рожденная не меркантильными интересами, а неизбывной взаимной нежностью, много тоньше невинного знака природы.
Мы восторгаемся ею, пока она окрашена в идиллические тона, пока видим на ней с каждым новым рассветом все новые и новые жемчужины росинок, отражающих небо и восходящее солнце… И все это время — мгновенье в сравнении с оскоминой быта и гнетом печалей — мы упиваемся и наивно готовы поверить, что это-то — вечно…
А налетит злобный ветер судьбы с терпким запахом дыма, затянет потускневшее небо серыми тучами повседневности, несущими непрестанный болотистый мелкий дождь неминуемых разочарований и… Мы тотчас спешим за пресловутой мокрой тряпкой, чтобы скорей порвать, стереть, забыть наверняка…
Имея под рукою предостаточно примеров, я понял это очень рано — слишком рано, чтоб сохранить бесшабашную веселость и непосредственность юности в общении с противоположным полом и невинно надеяться стать счастливым в любви.
Отсюда и такой душевный склад…
***
Вы не подумайте — женщин я люблю, некоторых — боготворю и обожаю.
А еще обожаю дорогу, как бы длинна она не была. Эту извечную кокетку — дорогу, которая меняется ежесекундно, оставаясь, тем не менее, неизменной.
Я ехал зачем-то в небольшой городок, что, казалось, лукаво подмигивал мне из-за бессчетных степей, полей, лесов, станций и полустанков.
И август, и один из его дней подходили к концу. Жара давно спала, но я не закрывал окошко, подле которого стоял уже битый час. Природа-чаровница не отпускала меня.
Над полями поднимался пар, и где-то в нем жило едва различимое стрекотание сверчков, старательно, но тщетно заглушаемое перестуком колес. Реденькие лесопосадки лениво помахивали шелестящими ветвями. В небе собиралась одна из последних буйных гроз, но меж ее сгущающимися тучами озорно мерцали готовые разгореться в любой момент звезды.
Ветер врывался в узкий коридор, теребил занавески и волосы. И уносил в конец вагона, в еще одно открытое окно, крепкий дым моей папиросы. Идти куда-то, открывать скрипучие двери в продымленный тамбур, где начинаются кашель и дурное настроение, не хотелось; поэтому я и курил у окна, одновременно нарушая общепринятые правила и предписания врачей.
Вообще-то, я стараюсь соблюдать и то, и другое, будучи невеждою и собственным врагом лишь отчасти, но отказать себе в удовольствии выкурить папироску-другую на свежем воздухе — где только и бывает волшебна и сладка табачная гарь — не могу.
В перерывах меж папиросами я с мальчишеским упоением наслаждался окружающими запахами. То всеми вместе, то — разделяя и восторженно распознавая каждый. Особенно — редчайший дух парящего покоя.
Его не почувствовать в городах — огромных, шумных, грязных, суматошных… Нет, он неотделим для меня от усталой природы, от близкой деревни, вальяжно раскинувшейся на берегу медлительной реки, от только что выпеченного хлеба и только что сдоенного сладкого молока…
***
— Я тоже люблю вечера в конце лета… поезд и ветер в окно… — послышалось рядом, и я обернулся.
Хрупкая, словно принесенная ветром из сказочной выси… Ее легко можно было принять за девушку-курсистку, пожалуй, даже — за девочку… Но я, к сожалению, разучился ошибаться в определении возраста женщин.
Серьезные и грустные глаза, полные горького опыта, именуемого жизнью, безжалостно выдавали печалящую женщин тайну: она не многим меня моложе…
Крупная вуаль удаляла от взора, обволакивала дымкою ее миловидное лицо, делая его еще более утонченным…
Не улыбнуться ей было выше моих сил. Даже если бы она не улыбалась.
— А как Вы догадались, что я все это люблю?
— Очень просто, — она заговорщицки, как и я, рассмеялась, — я наблюдаю за Вами уже полчаса… И еще догадалась, что Вы — поэт… Даже если стихов не пишете!.. У Вас есть еще папироса?
Я укоризненно покачал головой, но протянул раскрытый портсигар. Она сняла шляпку, и чудесные волосы разлились по плечам.
Теперь она совсем похожа на озорную девочку двенадцати-тринадцати лет, — подумалось мне, — и это впечатление усилилось, когда, заметив в моем взгляде любование и одобрение, она слегка покачала головой из стороны в сторону, чтобы прическа лучше улеглась.
Проделано это было грациозно и по-девичьи обольстительно. Я подмечал подобное у девочек, которым окружающие часто говорят, что они — прекраснейшее создание природы, которые сами в это отчасти верят и убеждаются в том постоянно, но боятся поверить полностью, как им кажется, раньше времени…
Ни в чем не преступая грани надуманной взрослой «скромности», она вела себя непосредственно, видимо, искренне не стесняясь меня, не чувствуя малейшей неловкости. А мне — такому вдруг помолодевшему — было легко и весело стоять рядом с нею и уголком насмешливого глаза подглядывать, как это милое существо неумело, но очень старательно вдыхает и выдыхает удушливый дым… Чуть не кашляя и чуть не плача.
***
— Бросьте сейчас же! И никогда больше не курите! — я говорил не слишком повелительно, но она отчего-то послушалась сразу же, и огонек папиросы мелькнул светлячком за окном… — Если бы Вы могли только представить себе, как ужасно выглядит эта гадость на фоне Ваших прекрасных, созданных совсем для иного губ!
Я запнулся, заметив, как она наклонила голову — кажется, немного покраснев — и почти тут же подняла ее, подставляя мне губы… Лицо ее светилось нежностью и ожиданием, какое обмануть было нельзя, ресницы опущенных век едва заметно дрожали…
Случившееся само собою соприкосновенье наших губ было больше похоже на ласку легкого ветра с цветком, чем на поцелуй мужчины и женщины. Но именно он, подобный безоблачному небу на рассвете, заставил мир во мне перевернуться…
***
Появившийся в коридоре минутою позже пожилой толстяк застал беспечного меня, курящего в окно, да светскую даму в шляпке с вуалью, сосредоточенно смотрящую в соседнее.
«Курить полагается в тамбуре, милостивый государь! Хоть бы дамы постеснялись!» — пробурчал он, исчезая в купе.
Мы переглянулись, рассмеялись и, не сговариваясь, отправились исполнять его учтивое пожелание, сразу же о нем позабыв…
Там, в полутемном тамбуре, мы ошалело целовались, как давнишние любовники, уже не стыдящиеся откровенных объятий, уже не произносящие кучу столь неуместных слов…
Ни одну женщину в жизни я так не целовал, и ни одна мне так не отвечала. У времени и пространства безудержно закружились головы, они постыдно бежали прочь, пока не исчезли навеки из нашего заново сотворенного мира…
***
Дверь неожиданно открылась…
Отпрянуть на приличествующее расстояние мы каким-то чудом успели, но спрятать счастливые одурманенные страстью лица и раскаленные близостью губы нам было некуда…
Покашливая и виновато глядя куда-то в сторону, на пороге медленно появился кондуктор.
«Вам, сударь, через пять минут выходить!» — произнес и ушел, не выслушав моего оторопелого «Благодарю». И, если признаться, смертный приговор в то мгновенье был бы для меня предпочтительнее, чем прозвучавшая фраза…
***
— Милая!… — я лепетал и сбивался, — Вы… я совсем не знаю, но люблю Вас безумно… Вы чудеснейшая из женщин… Вы любовь! Нет — прекрасней!… я забыл обо всем… Боже мой, как нелепо!… но, быть может…?
Закусив губу, чтобы сдержать то ли слезы, толь стон, она отрицательно покачала головой и, сорвав перчатку, показала мне пальчик с обручальным кольцом…
Потом прильнула ко мне, обняла и, тоже сбивчиво, зашептала:
— Милый! И я люблю Вас… тебя люблю! Я так счастлива, что встретила такого человека, что обрела свою любовь… Ты ведь святой, правда?.. и мне так горько потерять тебя… так нежданно… Любимый, ты не забудешь меня?… Тебе со мною было радостно, ведь, правда?… мой милый, ласковый мой, чуткий, добрый, нежный… ведь ты не можешь быть плохим, злым человеком, и ты не будешь надо мной — такой бесстыдной — потешаться?…
— Нет, что Вы, что ты, ненаглядная, — счастье мое негаданное!
Она вдруг отстранилась, как бы задумалась о чем-то на мгновенье… Потом привстала и, трижды перекрестив, поцеловала меня в лоб. И я, в свою очередь, коснулся пересохшими губами ее горячего лба.
— Иди, любимый, поезд уже останавливается. Тебе пора. Будь счастлив, милый, ты не должен быть несчастлив! Прощай, и спасибо тебе, что ты был! Помяни меня, когда станешь молиться… А теперь — беги! Беги!!!
Проговорив это, она закрыла лицо руками и шляпкой… А я действительно побежал, чувствуя, что вот-вот сам расплачусь, что — еще немного — и никакие силы в мире не заставят меня с нею расстаться…
Вырвав свой чемодан из рук поджидавшего меня на ступеньке кондуктора и, не глядя, сунув ему чаевые, я соскочил с подножки. Поезд тотчас отправился, словно дожидался только меня, и унес долгожданное счастье…
Она махала мне рукой в то самое полуоткрытое окошко и что-то шептала. А я не мог ни крикнуть, ни пошевельнуться. Только смотрел вслед уходящему, не различая ничего, кроме прекрасного лица под темной шляпкой с вуалью…
***
Городишко был неприкрыто захудалый, но безумно зеленый. Гостиница в нем, правда, оказалась на редкость уютной и даже опрятной.
Ввалившись в снятый номер и бросив чемодан у самой двери, я распахнул окно. Меня душило.
И даже оно, царящее там, над шелестящими темными кронами, густое предгрозовое небо, казалось, признавало невосполнимость невозвратного. Я тоже вынужден был все это признать. Но принять это, свыкнуться…
Я знал, что просто так не усну, потому заказал три бутылки вина и, какую придется, закуску… Так и не сумев скрыть порицание во взгляде, горничная вскоре принесла мой нехитрый заказ и, накрыв на стол, уходя, многозначительно спросила:
— Больше Вам ничего не нужно?!
— Нет. Благодарю… — был мой ответ после раздумья.
— Спокойной ночи, сударь…
Она ушла. Я тут же откупорил бутылку, уселся на подоконник и, не думая буквально ни о чем, начал машинально поглощать рюмку за рюмкой, медленно погружаясь в состояние безумного спокойствия убитого на войне…
***
Была глубокая ночь с жутким ливнем, когда раздался робкий стук. Я не ответил, не обернулся, равнодушно вливая в себя очередную порцию. Было не заперто. Дверь скрипнула и закрылась, впустив кого-то осторожного в комнату. Ни до чего на свете мне, горестному, дела не было, но чье-то молчаливое присутствие обязывало повернуться…
На пороге стояла она… Промокшая… Озябшая… И счастливая…
Я рванулся к ней, упал перед ней на колени и, бормоча бессмысленные фразы, стал беспорядочно целовать мокрые руки, складки платья, туфельки…
Она опустилась ко мне…
Коленопреклоненные друг перед другом, мы целовались, пока я не поднял ее на руки. И только тогда ощутив ее мокрое платье, с которого стекала вода, я попросил ее переодеться и выпить со мною немного вина, чтоб избежать неотвратимой простуды.
Она рассмеялась моему безыскусному лукавству, сказала, что все вещи остались на станции и переодеваться решительно не во что… Спокойно и неоспоримо велела мне погасить светильник и принести вина в постель…
Лишь несколько дней спустя меня осенило: от следующей станции, до которой версты три, она наверняка добиралась пешком! Одна, под ливнем, по ночным проселкам, совершенно ей незнакомым! На встречу со мной…
А наша ночь, подобная которой невозможна!..
***
Позавтракав, она начала собираться. Я умолял ее остаться, что-то внушал, ссылаясь на связи и деньги. Обещал, что нам помогут получить развод у ее окаянного мужа и обвенчаться…
— Нет, милый! — был мне спокойный ответ, — Мы испытали с тобой счастье, какое никому не дано испытать дважды. Это неповторимо, а мы стали бы невольно требовать именно этого и вскоре бы разлюбили друг друга. А так… Мы будем любить вечно и встретимся на небесах, где счастью не бывает предела… Не провожай меня, милый, и не разыскивай. Я молю тебя!… Прощай! Теперь уже навсегда… Нет, лишь до будущей высшей жизни…
Она в последний раз улыбнулась и, словно на приеме, чинно протянула мне руку. Сквозь узоры перчатки — черной, как разлука — проглядывали голубые нити вен под тонкой кожей… Я поцеловал одну ниточку, выпрямился… И, убедившись по ее глазам, что все действительно так решено, поклонился еще раз:
— Прощайте, сударыня. Да благословит Вас Господь…
Она надела шляпку, отвернулась, подняла небольшой саквояж и ушла, не сказав больше ни слова. Я долго следил за ее отдалявшейся фигуркой, все нетерпеливей надеясь: вот сейчас обернется, помашет, вернется!..
Я обманулся…
***
Через несколько лет невзрачный почтовый рассыльный принес в мой дом запечатанную картонку. Там лежала шляпка с вуалью… и коротенькая записка: «Я жду тебя, милый…».

Природа пламени
Моей Свечи негромкое дыханье…
Сосновские в этом городе были живой легендою. Их загородное имение и небольшая фабрика приносили стабильный солидный доход, который позволял Сосновским содержать большой дом в тихом центре и быть одними из столпов общества.
Георгий — полный сил тридцатипятилетний блондин — вел дела, несколько лет назад отстроил этот дом по собственному проекту, состоял во многих клубах и обществах, любил охоту, лошадей и не чуждался изящной словесности. Мария раз в два года рожала ему неугомонных детишек, неустанно занималась благотворительностью и являлась центром духовной жизни для горожан.
О доме нужно сказать особо. Двухэтажный, с высокими потолками, изящной лепниной снаружи и изнутри, прекрасными парадной и задней лестницами, в самом сердце своем он имел огромный зал с совершенно обнаженными стенами, увешанными картинами исключительно местных художников. Экспозиция обновлялась раз в два-три месяца, и из желающих выставиться в этой своеобразной галерее всегда выстраивалась немалая очередь.
Была у Сосновских и своя небольшая коллекция весьма приличных полотен, но, за исключением редких пополнений, она оставалась неизменной и украшала спальни, кабинеты, детские, широкие коридоры дома. Они ее редко кому демонстрировали, но я однажды был удостоен такой чести и поразился изумительному вкусу и чутью Сосновских — многие авторы были малоизвестны, но их полотна жили и дышали, наполняя жизнь их владельцев то предвечерним, то рассветным сиянием. А выбирали картины для коллекции они исключительно вместе.
В самом центре зала располагался огромный овальный стол, способный вместить человек тридцать, если не более. За ним-то по пятницам и собирались участники литературно-художественных и философских вечеров «у Сосновских», попасть на которые хоть однажды означало войти в число «избранных» и «посвященных».
И еще одно странное обстоятельство: люди за этим столом собирались достаточно разные по возрасту, взглядам, убеждениям, социальному статусу, споры зачастую разгорались нешуточные, но никто и никогда не мог повысить голоса дальше приличной нормы. Никто попросту не задумывался о подобной возможности и физически не способен был ее осуществить…
***
Ввел меня в дом Сосновских, где-то спустя полгода после моего прибытия в город, один мой хороший знакомец, который пописывал искренне-наивные, но, на мой взгляд, не оригинальные стихи и слишком высоко оценивал мои собственные литературные потуги. В первый же вечер я прочел одну из любимых своих новелл и был принят в эту святая святых на праве постоянного гостя.
С тех пор меня неоднократно и настойчиво просили почитать что-либо еще (мой дебют большинством присутствующих был воспринят более чем благосклонно), но я мастерски уклонялся от этого, ссылаясь на работу над большой вещью, которую никак не могу окончить из-за загрузки по службе.
Зато я очень быстро разобрался, от кого и чего можно ждать в этом разноликом духовном обществе: одних выслушивал с удовольствием или не без интереса, других — едва подавляя зевоту. Стихи, рассказы, отрывки пьес и романов, трактатов, журнальные статьи, претендующие пережить день их выхода, музыкальные опусы — все это звучало за столом у Сосновских, не позволяя мне позабыть о величии Творчества, даже — его попыток.
А после очередного «вечера» или в его перерыве мне очень нравилось выйти по «черной» лестнице в милый садик Сосновских, поздороваться с тремя кустами замечательно душистой сирени (этот ритуал я неуклонно соблюдал даже тогда, когда она не цвела), полюбоваться на засыпающее разноцветие клумб, выкурить папиросу-другую под чашечку крепкого кофе…
***
Анна Радова влетела к Сосновским, как порыв нежданного сильного ветра среди покоя, умиротворенности и безветрия. Конечно, это мое сугубо личное впечатление: она спокойно и тихо вошла вместе со своею подругой — завсегдатаем наших вечеров, — к которой приехала погостить из столицы. Миловидная, невысокая, очень изящная, но нарочито небрежно одетая.
Большую часть вечера она просидела как бы безучастно, отстраненно ото всех и задумчиво. Но, когда ее попросили почитать немного своих стихов, она внутренне и внешне полностью переменилась: осанка, фигура, одежда, мимика, жесты и прочее отошли на какой-то очень далекий план — остались лишь звуки, произносимые очаровательно низким с хрипотцою голосом да безудержно пылающие глаза…
Она читала о любви. Больше — о несчастной, утраченной, не обретенной. Совсем чуть-чуть — о счастливой и безмятежной. Читала, как песню, живя в этих стихах и заставляя жить ими сердца присутствующих. Даже ветер и птицы за окнами, как мне показалось, умолкли, чтобы выслушать эти изумительно зрелые, красивые и искренние стихи…
Когда она закончила, еще с минуту в ее глазах горел все тот же нездешний всепоглощающий огонь, потом он также внезапно, как загорелся, сошел на нет. Она спокойно и почти равнодушно выслушала искренние комплименты, раскланялась и вновь погрузилась в себя. Несколько вопросов биографического плана и о книгах, о планах получили вежливые, но безучастные пояснения. Затем она совсем ушла в себя; окружающие заметили это и перестали ее беспокоить.
***
После такого — не побоюсь сказать — откровения мне трудно было оставаться в зале. Тем более что следующий выступающий был мне очень хорошо известен, и слушать его после Анны было примерно то же, что запивать хороший коньяк уксусом. Я вежливо поклонился, достал портсигар, вышел в сад перекурить и привести свои чувства в порядок. Такие вольности в нашем обществе не приветствовались, но допускались.
Терпкий дым закружил и унес мою голову в какой-то неведомый уголок блаженства. Поэтому я не сразу воспринял обращенную ко мне просьбу угостить ее папиросой — все тем же низким с хрипотцою голосом. Слова «прошу Вас» и «благодарю» для нас обоих ничего не значили — мы жили и горели каждый своим.
***
Вернувшись в зал, я вызвался почитать (честно сказать, рукописи самых любимых новелл были у меня всегда при себе). Это было редким явлением, поэтому мое предложение восприняли с энтузиазмом, хотя уже пора была расходиться. Хозяйка мило улыбнулась и сказала, что давно ждала этой минуты…
Я читал о любви — утраченной, как казалось, навеки, но внезапно вновь обретенной и навеки же поселившейся в двух сердцах. Читал без театральных эффектов, почти без пауз, взлетов и падений тона. Не монотонно, но довольно ровно и практически бесстрастно, как наблюдатель, нежданно подглядевший таинство и опасающийся раскрыть свою посвященность.
Читая, я никогда не поднимал глаз на окружающих, не пытался оценить их реакцию или уловить «атмосферу», что постоянно делал в своем обычном состоянии. Напротив, я погружался в себя и в сотворенный мною крохотный мир, сам становился тускл и незаметен, чтобы ничуть не заслонить образы от знакомящихся с ними людей. Я отдавался волшебству слова, но отказывался признавать самого себя для других «волшебником» или еще как-то причастным к священнодействию лицом…
Когда я окончил, чувство улеглось. Я мило раскланивался и выслушивал комплименты, немного кокетничая, занижал степень моего участия в создании рассказа и, за малым, не краснел. Есть за мною эта нелепая черта — люблю, когда меня хвалят, тем более — заслуженно. Ничего не могу и уже не стараюсь с этим поделать…
***
Поблагодарив Сосновских за прекрасный вечер и попрощавшись со всеми остальными, я, окрыленный, вылетел на парадную лестницу, остановился подле одной из колонн террасы и с наслаждением закурил. Вечер действительно прошел выше всяких похвал…
И снова — волшебство — тот же голос попросил у меня папиросу. Я едва не спросил, понравился ли Анне мой рассказ, но нечто неизъяснимое меня удержало. И она заговорила сама:
— Какие мы с Вами разные. Вы живете, искрясь, но Ваш огонь прячется внутрь, в самое сокровенное, когда звучит Ваше творчество. А я живу в сокровенном и вспыхиваю только тогда, когда делюсь им с другими… У Вас есть вино?
— Только дома… Дело в том, что Сосновские не скупятся на чай, кофе, квас, горячие или холодные закуски, но никогда не ставят на стол спиртного. Не хотят опошлять праздник духа чьими-то пьяными выходками. А, возможно, даже не держат спиртного в доме: я от знакомых слышал, будто оба они — выходцы из семей старообрядцев…
— Вот в чем дело… Но, неважно. Вы угостите меня хорошим вином и душевной беседой?
Я несколько смешался — настолько неожиданным было предложение, но тут же сбивчиво и радостно согласился — нам явно было чем поделиться с этой изумительно неординарной женщиной.
***
До флигеля, который я арендовал у очаровательно нетребовательной пожилой хозяйки, было минут пятнадцать неспешного хода. Я предложил Анне руку, но она — безо всякого кокетства — отказалась ее принять. Вместо этого сорвала какую-то ароматно цветущую ветку и несла ее прямо перед собою, как будто священник фимиам. Мы шли медленно и с большими паузами разговаривали, более четко «присматриваясь» друг к другу…
— Как Вам наши вечера? — я невольно усмехнулся, и она это заметила.
— Компания приятная, провинциально милая — в лучшем смысле этих слов. Имеющая свой стиль и свою правоту. А чему Вы так улыбались?
— Да, тому, как легко у меня выскочило это слово — «наши». Я, видимо, настолько сроднился с этими посиделками у Сосновских, что уже запросто считаю их в равной мере «своими». А ведь я такой же обыкновенный гость, как и все остальные. Через время все лица этих вечеров сменятся и растают, а Сосновские останутся, как и их замечательный дом…
— Не напрашивайтесь на комплимент, не лукавьте, Вы же взрослый мужчина! Не к лицу это. Вы — необыкновенный гость, и все прекрасно это понимают. Вы в этом доме на особом положении, что ни для кого не является секретом. Эмилия (так звали подругу Анны, к которой та и приехала) мне все уши прожужжала про Вас и Ваше творчество. И мне стало так любопытно, что я пошла, хотя сначала ни за что не соглашалась. Более того, поняв, что Вы сегодня выступать не намерены, я постаралась Вас «разбудить» и услышать.
— И Вам понравилось? Я оправдал авансы Эмили?
— Вы же сами произносите это не столько с вопросительной, сколько с утвердительной интонацией… Кроме того, я иду рядом с Вами. Иду к Вам домой пить вино и беседовать. Этого подтверждения Вам недостаточно? Или я, по Вашему, столь легкомысленна, чтобы напроситься ночью на застолье к едва знакомому мужчине не оттого, что мне с ним интересно пообщаться?..
***
Я смутился, мне стало неловко оттого, что мое искреннее желание узнать ее мнение вызвало совершенно неожиданный отклик — едва ли не отповедь. Какое-то время мы шли, молча и даже не глядя друг на друга (так мне казалось, потому что я, устыженный, глотал обиду и смотрел себе под ноги)…
…И вскоре я услышал ее негромкий, но потрясающе искренний смех. А, поднял глаза — отсвет фонаря как раз «выхватил» из вечера ее лицо — глаза Анны также безраздельно хохотали, но не обидно, а как будто от хорошей свежей шутки… Очевидно, физиономия моя выглядела настолько ошеломленно, что она не сочла за труд объясниться:
— Вы обижаетесь и совершенно зря. На самом деле, я Вас похвалила. Немного жестко, но без жесткости с мужчинами нельзя — это мое глубокое убеждение. В противном случае, вы возноситесь на вершины самомнения или, наоборот, «раскисаете», становитесь «мямлями». Но, в обоих вариантах, перестаете воспринимать нас ровнею, такими же мыслящими, чувствующими, понимающими, а порою и знающими гораздо более вас…
Я не нашелся, что ей ответить. Тем паче, мы пришли, и я призывно отворил калитку.
***
У меня в «погребе» имелось литра четыре отменного церковного «кагора», раздобытого по случаю у знакомого священника, и примерно столько же легкого домашнего винца без названия из смеси «изабеллы» да «армянского винограда», в приготовлении коего я даже лично поучаствовал. После оглашения этой незамысловатой «винной карты» с пояснениями, Анна выбрала на пробу второе, хотя «кагор» я тоже прихватил. На всякий случай.
На закуску хозяин-гарсон предложил все съестное, что было в наличии в холостяцкой квартире — нарезанные яблоки, сыр, колечко домашней «краковской», чай, баранки и пряники. Ее это, кажется, вполне устроило — голода мы как-то оба совершенно не ощущали.
Быстро сервировав стол и расставив на ней все три подсвечника — на семь свечей в целом, я, наконец, уселся напротив нее и приготовился слушать… Анна вновь обманула мои ожидания:
— У Вас, наверняка, имеется какая-то собственная теория относительно природы творчества… Не отнекивайтесь, пишете Вы, судя по всему, довольно давно. При этом постоянно экспериментируете, ищете нечто особое в слове, в звуке и в их сочетании… Кроме того, я подметила у Вас довольно странную особенность — Вы пишете так же, как разговариваете, иными словами — по закону устной речи. Это — очень любопытный подход. В нем и смысл, и ритмика, и фонетика имеют примерно равные права… Вот я и хочу услышать из первоисточника Вашу теорию, а потом — деваться некуда — расскажу Вам свою…
***
— Хорошо, — я немного задумался, отхлебнул вина и сладостно затянулся неизбывной табачной печалью; о том, что будем курить, не спрашивая друг у друга разрешения, мы условились сразу же, — Я действительно много думал о творчестве, о его «природе» и волшебстве. И остановился на том, что проще всего его объяснить через «природу» огня.
Есть «неистовый огонь» — это лесной или степной пожар, от которого нет спасения, после которого жизнь надолго становится невозможной. Поэты, писатели, музыканты и все остальные «художники» этого дара — какими бы выразительными средствами они в своем творчестве ни пользовались, — обычно живут недолго и несчастливо, проносятся, словно яркая комета, и исчезают в необозримой выси. К примеру, Моцарт, Лермонтов, Рембо, который в несколько лет яростно выплеснул весь свой талант, прожил потом еще полтора десятка лет никому не интересным коммерсантом и только после смерти был причислен к «сонму» поэтов.
Да, их могилы — постоянно в цветах. Но эти запоздалые цветы — печальное кострище оголтело сожженной жизни. Да, их творчество, когда с ним столкнешься впервые, не забывается уже никогда. При этом их можно любить или не любить, но забыть нереально. Да, их биографии — сплошной укор им самим и нашему извечно мелочному миру, не ценящему талант при жизни и не желающему ценить…
Есть также неугасимый «огонь жертвенника или алтаря». Он не слепит, но от него невозможно отвести взгляда. Он достаточно мощен и полон магии. И его божественный свет обрывается обыкновенно трагически. У Бетховена — глухота, у Пушкина — нелепая травля, результатом которой стала еще более нелепая дуэль… Самое страшное, что другого исхода она иметь не могла…
Таких художников обычно боготворят долго и непоколебимо, их творчество впитывают в себя постоянно, в различных возрастах находя в нем все новые и новые истины, открытые, кажется, именно для тебя или только тобою… Их посмертная слава переживает века, но их потомки зачастую соответствуют данному кем-то определению: «На детях гениев природа отдыхает»…
Для этих творческих людей «жизнь обычного человека» второстепенна. Они живут творчеством, ему поклоняются, его жаром дышат. И, как только пытаются послужить еще какому-то «богу», тут же получают от судьбы жестокую «черную метку». Мне кажется, что тот же Пушкин был «наказан» за слишком великое дерзновение — попытку быть счастливым и в творчестве, и в семье…
Есть, конечно, «огонь домашнего очага». Художники этого склада, чаще всего, живут долго и нередко счастливо. Они пишут тонко, красиво, осмысленно, их огонь поддерживается загодя заготовленными «дровами» — богатым материалом из собственной жизни или из практики их знакомцев. Они умело обрисовывают быт. Характеры их героев настолько узнаваемы, будто списаны с твоего соседа. Они — мастера деталей, прописанных тщательно, я бы сказал, ювелирно.
Ими восторгаются люди степенные, зрелые. Их не очень-то жалуют критики, считая талантами «второго порядка». Они и сами, отчасти, признают это собственной жизнью, занимаясь творчеством только «во вторую очередь». В первой у них — служба, семья, неотложные хлопоты… К примеру, Гончаров иль тот же Филдинг… А «лавры», «признание» — все это приятно их душе, но не жизненно необходимо. Скорее — это дополнительные признаки общественного согласия с тем фактом, что их жизнь прошла не зря, что она состоялась…
Есть «певцы костра» в какой-нибудь забытой Богом глуши. Не обязательно по тематике, но обязательно по настрою, по «антуражу» их творчества. Есть «огонь спички», мелькнувшей во тьме, для зажжения одной — может быть — единственной папиросы. Есть «всполох молнии» — могучий, но не развившийся в нечто стабильное, постоянное, подлежащее описанию и классификации…
Есть, пожалуй, еще одно творческое «сословие» — «поэты свечи». Они выделяются изо всех выше названных групп своей глубокой осознанной уединенностью. По большому счету, для них нет почти никакого дела до окружающего мира с его проблемами и невзгодами, радостями и утратами. Им не обязательно «вдохновение» — в нем, медлительном, неглубоком они, как правило, проводят большую часть своей жизни…
Таким людям, видимо, не очень-то требуется направлять свой огонь на собственно художественное творчество. И большая часть их огня уходит на обыденность — теплую, уютную, чем-то тобою лично согретую. Им тоже может выпасть счастье написать несколько по-настоящему достойных строк, либо песен, либо картин, но они не стремятся ни к подлинному мастерству, ни к высокому совершенству. «Я сделал этот день немного краше» — вот их настоящий девиз. И не важно, произносится он вслух или тщательно скрывается в подсознании… Эти люди «интимны» и в жизни, и в песне. И не скрывают этого ни от окружающих, ни от себя…
— И Вы себя относите именно к «поэтам свечи». Мне понятно. Спасибо за откровенность… — Анна попросила наполнить ее опустевший за время моего монолога бокал и потянулась за огнем, чтобы затеплить новую папиросу. Едва пригубив, она поднялась, подошла к окну, за которым царило звездное великолепие, и продолжала:
— Я попрошу не перебивать меня, как бы Вам не захотелось поспорить. И попрошу не обижаться, что я стою к Вам спиной, в то время как Вы исповедовались мне, глядя в глаза. Но мне, действительно, так будет проще, а нам обоим — так лучше…
***
— Ваша теория мне действительно приглянулась. Самое важное в ней — она удобна для Вас. Вы, скорее всего, никому ее так подробно не излагали, хотя сформулировали не сегодня. Но обаяние и уязвимость ее, на мой взгляд, состоят в одном и том же: Вы брали готовое творчество и «подгоняли» его под какой-либо символ огня, а не наоборот. И, если символа Вам не хватало, с легкостью отыскивался новый, ранее ни с кем до этого не сопоставленный…
Кстати, меня весьма удивило то, что Вы на протяжении своего «доклада» неоднократно демонстрировали мне еще один красивый огненный символ, но даже не назвали его…
У Вас же сейчас в руках есть горящая папироса? Подержите ее в одном месте, чтобы дым потянулся туда, куда гонит его дуновение ветра. А потом резко сдвиньте огонь в ту же сторону. Что получится? Не надолго, но весьма запоминаемо останется перед глазами картинка: источник дыма уже совсем в другом месте, а сама струйка белого разреженного воздуха все еще тянется из места, где мгновенье назад был огонь… Извините…
Моя же теория — в чем-то схожая с Вашей, даже при всем ее внешнем отличии, — на самом деле, различается лишь в одном: я нашла приемлемую классификацию, а потом отстраненно смотрела, кто под какой критерий подходит больше. В основе моего построения — извечная философская категория — четыре неизменных стихии.
«Поэты воздуха» легки, неуловимы, непостоянны. Сегодня они здесь, а завтра — в миллионе верст. Не угнаться. И смерть для них — попытка «приземления». Да, я согласна, Пушкин был наказан роковым, но неминуемым стечением обстоятельств, которые — так иль иначе — привели бы его на погост. И именно за попытку насладиться элементарным семейным счастьем, за рвение «приземлиться», заматереть, распутаться от долгов…
«Поэт земли» всегда стоит на ней твердо. Он не идет на авантюры, не стремится к легкой удаче. Он не поставит на кон последнюю рубашку. И дело даже не в том, что именно «последней» у него с собою нет — она или их множество — надежно спрятаны в домашних сундуках! Да, он описывает то, чем сам живет, что чувствует, что видит у соседей и знакомых. Ему «порывы» ветра чужды и враждебны. Их «слог» — в любом жанре искусства, — на первый взгляд, тяжеловесен и массивен, но есть в них трепетная, непоколебимая жажда жизни и достоверное знание этой жизни.
«Поэт огня» неукротим и ярок. Он не жилец на этом свете и его мечта — сгореть, оставив сколько можно больше света, радости, тепла. Во всех своих чудачествах он неукротим и не терпит каких-либо «рамок». Бунтарь, шалопай, у которого строчки секут по щекам, по душе…
А «поэты воды» — это тихая вечная мудрость, кусочек которой они благосклонно дают окружающим в дар. Почти столь же неуловимы, как ангелы ветра, они увлекают в пучину, обволакивают собою и успокаивают даже поклоняющихся огню…
Вы подумайте над этой теорией. Возможно, она Вам покажется неприемлемой, но в защиту ее я обязана привести лишь еще один окончательный аргумент: они таковы и в творчестве, и в любви!.. Покажите мне, что вы знаете о нежности ветра!..
…А теперь — полыхает огонь!..
…Удержи меня здесь, на земле, своей силой и статью, не дай мне сгореть, улететь…
…Нас с тобой поглотил Океан…
***
Ушла она на рассвете, сказав, что повторения этой ночи не будет уже никогда, даже если нам выпадет встретиться вновь. И приговор ее был прост: мол, все, что может быть между мужчиною и женщиною, мы прошли и пережили, а повторений она не терпит… А еще она велела мне попробовать догадаться, какой же я служу стихии в жизни, в творчестве, в любви…
***
На следующем вечере у Сосновских я с улыбкою подошел к Эмилии — симпатичной толстушке, которая неоправданно часто напрягает свой ум потугами творчества. Подошел с искреннею улыбкою осведомиться, уехала ли Анна — мне так хотелось снова ее увидеть…
— Вы — негодяй! Я так рассчитывала, что мы с Вами составим прекрасную утонченную пару, понимающую и в жизни, и в творчестве! Но теперь, разумеется, об этом не может быть и речи! Я вздыхала по нему целых полгода, а он увлекся мимолетным мотыльком!.. Да, уехала! Как я могла ее держать в своем доме после такого коварства?!
Я не нашелся, что ответить, нервно распрощался с Сосновскими и больше никогда не появлялся у них… Наверное, зря — из-за какой то дурехи…
***
Несколько лет спустя в одной из центральных газет мне попался некролог, посвященный безвременной и трагической кончине от чахотки поэтессы Анны Радовой…
Я искренне плакал и не стыдился этих слез.

Иришка
Как ни влюбиться в чудное дитя?
Скитания, даже кажущиеся бессмысленными и бездарными, приносят иногда неоценимую пользу, непредвиденные впечатления, из которых впоследствии строятся замки грусти удивительной красоты…
Август был горяч, и степи никли. Облака изредка появлялись на небе, такие же прозрачные, как и оно само, виновато улыбались раскаленной земле и уносились в иные края нетерпеливым сухим ветром, так и не успев наполниться и пролиться…
***
Хотелось прохлады и чего-то невообразимого.
Чтобы заехать к дальним родственникам, о которых я вспомнил совершенно случайно, мне нужно было лишь чуть-чуть отклониться от самому себе назначенного пути. А спешить мне было совершенно некуда…
Село встретило меня душным полуднем и закрытыми ставнями. По дороге вилась пыль. Тишина и безлюдье. Только редкие куры искали невесть что под деревьями, да одинокий теленок с видом безнадежной усталости и покорности приник к земле на самом солнцепеке, где в землю был вбит колышек для привязи…
***
Не виделись мы очень давно, поэтому старики признали меня не сразу… Тихий спокойный уклад, заведенный в крестьянстве испокон веку, практически не изменил их внешности, лишь что-то неуловимое в медлительных движениях, да развившаяся глухота деда выдавали их глубокую старость.
Из вежливости я расспросил их о житьи-бытьи, прекрасно понимая, что последние серьезные новости у них были задолго до моего рождения. Порассказал о себе, о том, чем занимался в последние годы…
«Мы недавно отобедали, — извинилась старушка, — так что обожди уж, пока щи сварю. А ты, дед, пошел бы прилег! Кваску тебе, аль молочка?»
Я ответил, что совершенно не голоден, но ледяного квасу, принесенного из погреба, выпил с удовольствием. Потом, чтобы не сидеть, сложа руки, пошел побродить по забытым местам.
Село было небольшим, но зажиточным. Имелась в нем даже книжная лавка, с которой я связывал тайные надежды; перечитывать в несчетный раз книги из чемодана охоты не было.
На удивление, лавка оказалась открытой. С интересом и удовольствием я рассматривал запыленные полки и расставленные на них безо всякого разбора книгами. От долгого стояния корешки некоторых потеряли изначальный цвет. По отпечатавшимся на других обложках пальцам было видно, что их когда-то брали в руки.
Выбрав с дюжину наиболее приятных и интересных мне томиков, я подошел к продавщице. Во взгляде ее смешались удивление и неприязнь. Во-первых, таких книг здесь никто не покупал. Во-вторых, я не спросил ее рекомендаций, как это делали другие.
Чтобы хоть как-то скрасить невольно причиненную ей мною обиду, я сказал, что я нездешний, что я городской…
«То-то я и смотрю!… С Вас…»
Еще с полчаса побродив по селу, я вернулся.
***
День был будний, и такого сюрприза я не ожидал: к старикам приехала старшая дочь — моя нелюбимая тетка с мужем и дочерью, которых я видел впервые. И сама тетка, и ее лысоватый супруг были, как и я городскими, «образованными», чем старики страшно гордились.
За столом мы вновь обменивались сведениями о прошлом и планами на будущее, но без особого интереса. Потом тетка отправилась спать, а мы с героем ее позднего романа и малышкой пошли купаться на реку. Ни имени, ни рода занятий этого господина я, к стыду своему, не запомнил: он мне не нравился. Кажется, обоюдно.
Речка была неглубокой, хотя довольно широкой, с почти неуловимым мерным течением, но неожиданно холодной и мутной водой.
Вместе с верхней одеждой я, наверное, стряхнул с себя немало лет. Вспомнилось, что я когда-то тоже был мальчишкой, и что тогда, ввиду слабого здоровья и постоянной угрозы простуд, мне почти не разрешали купаться.
Бросившись в воду с палящего солнца, я на мгновение «обжегся» и ошалел, но это быстро прошло. С девчушкой мы шалили и плескались на мелком месте. Не умеющую плавать, я катал ее на себе и кружил. Полуобнаженный «мэтр» сидел на берегу и сосредоточенно швырял мимо нас камни. В том, что я не утоплю его дочь, он уже успел убедиться.
Потом мы долго обсыхали и тоже бросали камни, стараясь добиться, чтобы они скакали по воде…
Домой вернулись почти на закате.
***
Вспомнив, что я старый любитель рыбалки, дед дал мне удочки. С ломтем домашнего хлеба и быстро накопанными червями я отправился за огород, в камыши, где даже было прилажено несколько мостков. Иришка побежала следом, неся облезлый дырявый бидон для улова.
Ловить мы начали сосредоточенно и важно, хотя клев был ленивый.
Красное — к завтрашнему ветру — солнце опускалось где-то за бесчисленными полями и лесами, окрашивая воду в бурый цвет, а воздух делая как будто осязаемым. Кое-где поднимался пар, и всплескивались мелкие рыбешки…
За всей этой прелестью я наблюдал гораздо более, нежели за поплавками, но выудить нескольких окуньков и одного неплохого карпика мне все же удалось. Иришка несказанно радовалась каждой удаче и очень огорчалась, когда рыбка срывалась, сетовала и долго не могла успокоиться…
***
В деревнях ложатся рано, поэтому на ногах мы застали только бабушку. «Ну что, рыболовы, чегось поймали? — спросила она без особой надежды, — Ладно, будет вам уха поутру. А сейчас пейте молоко, да быстро по постелям».
Я попросил ее пораньше меня разбудить, чтобы снова пойти порыбалить.
Комнату мне отвели проходную, но обижаться было не на что. Растянувшись на старинной тяжеленной перине, я засыпал. Казалось, долго, все вспоминая чудесный закат. На самом же деле уснул я едва ли не сразу — крепко, легко, сладко.
Будить меня непросто, особенно рано. Я сержусь и ворчу. А потом, после долгих «вылеживаний», как это называла мама, и мук, поднимаюсь с больной на весь день головой. Это доставляет массу неудобств как мне самому, так и близким, вынужденным меня будить. Но изменить что-либо я не в силах. И виной всему — мой «неправильный и жуткий» совиный режим…
***
Разбудила меня Иришка, причем, совершенно иначе, чем это делали другие: тихо, терпеливо, ласково гладила малюсенькой ручонкой по лицу и волосам. Встал я почти мгновенно — здоровым и бодрым. И впервые в жизни с такой обостренной горечью подумал: как жаль, что у меня нет дочки…
На сборы у нас ушло минут десять, за которые стало окончательно светло. Неподалеку кричал петух, и вовсю распевали лягушки. Было еще прохладно и сыро от росы, поэтому я велел Иришке накинуть что-нибудь на простенькое тоненькое платьице. Она послушалась, заскочила в дом и вернулась с бабушкиным платком на плечах. Ни дать, ни взять — барышня! А было-то ей лет девять-десять…
Тогда, в ту минуту первого восхищения, я еще не знал, что эта девочка будет поражать меня беспрестанно…
Над рекой было гораздо прохладнее, чем я ожидал. Иришка озябла сидеть на холодных досках мостков, вскочила, немного потопталась, но согреться так и не смогла. Тогда, взобравшись на мои колючие колени, она прижалась ко мне маленьким теплым тельцем…
Освоилась, повеселела… Поминутно поглядывая то на меня, то на поплавки, она без умолку щебетала, и на многие ее вопросы ответов я не находил.
Мне было необъяснимо радостно и… больно… До безумия хотелось поцеловать эту тонкую бледную шейку, эти голубые близкие глаза и полуоткрытый капризный ротик…
Безумие… Конечно, безумие…
***
Дописываю я эти странички путевых заметок спустя несколько лет. Бежали дни и недели, мелькали города и лица, менялся мир, лишь я остался прежним. И ни одно из дорогих воспоминаний меня не покинуло…
Иришку я вспоминал очень часто. Особенно, когда бывало тяжело и грустно, когда женщины предавали, становились злыми и жестокими.
Я так и не разгадал до конца, с какими чувствами тогда эта маленькая девочка каждый вечер укладывала и каждое утро будила меня толи как нежная мать, толи как младшая сестренка, толи как любящая женщина… Видимо, все вместе…
До встречи с нею я не верил, что девочки могут серьезно и сильно влюбляться. И это при том, что сам впервые надолго и крепко полюбил лет в семь. Не понимал я и взрослых солидных людей, влюблявшихся в девочек до неистовства, до сумасшествия… Благодаря ей, понял и поверил…
Знала ли, понимала ли она, что со мною делает? Возможно…
Где бы я ни был, что бы ни делал, она неотступно была со мною.
Стоило мне за столом оторвать взгляд от тарелки, я встречался с ее нежными глазами, проникающими во все мои тайны, — нас, как назло, все время сажали друг против друга…
Она ловила каждое мое слово, каждый мой вопрос, угадывала малейшие мои желания и перемены настроения. Куда мне от нее деваться, я не знал.
Едва я укладывался днем поваляться, она присаживалась рядом на кровать, внимательно смотрела на меня, улыбалась и спрашивала о каких-то пустяках. Я дрожал, моля небеса, чтобы она не заметила и не поняла эту дрожь — у некоторых женщин встречается потрясающая интуиция… Но однажды она села слишком близко…
«Ты замерз?! Я сейчас принесу одеяло…» — принесла и укрыла… в тридцатиградусную жару…
Дрожал я не от страсти — настолько низко, чтоб возжелать этого ребенка, еще не пал! Дрожал от переполняющей дикой нежности к этому маленькому, ставшему вдруг настолько родным существу; нежности, которую я никоим образом не имел права выразить…
Порою, глядя на нее, я видел перед собою красивую, восхитительную, страстную женщину, какой она должна была стать впоследствии, немного кокетливую и капризную, но оттого еще более обольстительную.
Она и тогда уже в совершенстве владела всеми приемами тонкого женского мастерства. Она принадлежала к редчайшей породе женщин, каким с рождения дается Великая Женственность, не оставляющая мужчинам шанса уберечь свое сердце, научиться которой практически невозможно.
***
Боясь подпускать ее слишком близко, я отменил наши рыбалки под предлогом плохого клева. Но удалить ее мне удавалось лишь на несколько минут, услав куда-нибудь подальше за какой-либо мелочью. И она, как будто понимая, бегала ровно столько, чтобы я успел покурить втайне от всех: стариков, знавших о моей болезни, лишний раз волновать не хотелось.
С родителями Иришка практически не общалась, но беспокойства они не выражали. Наоборот, радовались ее внезапному послушанию буквально во всем, не замечая, что слушается она только меня…
***
Я не выдержал тогда этой пытки. Не вынес испытания, предложенного Иришкой, — я почти не отвечал за себя…
Уехал я утром четвертого дня, сославшись на обострение болезни, чем удивил и стариков, и тетку. Иришка, я случайно заметил, вытерла слезинку быстрым движением руки. Прощание не затянулось. Пригласили заезжать еще и пожелали мне доброй дороги. Иришка побежала провожать, отмахнувшись от запрета матери…
Никогда уже я не увижу ее, теперь повзрослевшую… А та, тогдашняя, осталась со мной…
***
Недавно, устав от одиночества, я собирался жениться. Уже пошел было делать предложение, но вдруг явилось мне Иришкино лицо, и голосок ее мне тихо прошептал: «Не то, не надо!»…
Я тут же раздумал и оказался прав…
Вот когда Иришка скажет мне, — «Эта женщина та! Прощай, милый!» — я поступлю так, как подскажет мне мой ангел…

Садовый «концерт»
Кто увидел Россию такую,
Все поймет…
Игоря Кнутова даже в огромной толпе праздничного шествия разглядеть всегда можно было в самом буквальном смысле слова «за версту»: очень высокий и очень худой, с изможденным, как у монаха-схимника, но очень умным лицом, он не мог быть незаметным, даже если пытался так выглядеть из-за скромности и скрытности натуры.
И еще мне подумалось, что тот его прародитель, который носил прозвище «Кнут» и стал родоначальником фамилии, наверняка, был очень похож на своего потомка — моего современника…
Разговаривал Игорь тягуче-медлительно, если речь шла о каких-то житейских мелочах, несколько оживляясь при разговоре о духовном. И полностью замыкался, заслышав вопросы о семейных делах или о чем-либо не менее интимном.
Я неоднократно видел его возле уютного, но не слишком вместительного местного храма во время различных «больших» праздников (сам автор этих строк и их-то посещал нечасто, а в будние дни к службе практически не ходил). В приходе Игоря хорошо знали, но мне познакомиться с ним как-то долго не представлялось случая, хотя человек этот меня необъяснимо интриговал.
***
Все решил, как это очень нередко бывает, случай. На один из весенних Престольных Праздников я явился с заданием от уездной газеты описать Крестный ход и, по возможности, самостоятельно проиллюстрировать свою корреспонденцию.
Для этого у моего наставника по фотографическому мастерству были арендованы его «походные» тренога и аппарат, а начинающий фотокорреспондент в моем лице загодя занял удобную позицию, откуда хорошо были видны и храм, и купола, и простор перед ними. Надеялся я, безусловно, и на то, что непосредственные участники шествия будут запечатлены мною удачно.
Я настолько сосредоточился на выставлении экспозиции и настройке сложной техники, что отчасти утратил способность замечать происходящее вокруг. В этот-то момент и подошел ко мне Игорь Кнутов. Он вежливо поздоровался и представился, я сделал то же в ответ.
Его, что было не удивительно, заинтересовала моя аппаратура, и ваш покорный слуга с «важным видом знатока» ответил на различные вопросы, касающиеся фотоискусства, достоинств и недостатков отечественных и заграничных аппаратов и материалов.
Потом началось шествие, каждый из нас занялся своим делом, и вновь мы столкнулись уже по окончании Крестного хода там же, у церковной ограды. Игорь выразил живейшее желание посмотреть и оценить результаты моей сегодняшней съемки после проявки и печати снимков. Я, в принципе, не видел никаких оснований отказывать в этой невинной просьбе и назвал ему адрес студии, где происходило «священнодействие» фотографической печати, а также дни и время, когда меня там можно застать.
***
Игорю снимки чрезвычайно понравились. Особенно — четкостью деталей и очень солидной «глубиною резкости». Мне этот термин профессиональных фотохудожников пришелся по душе сразу же, как я его услышал впервые. А означает он примерно следующее: чем выше эта самая «глубина резкости», тем большее количество различно удаленных от снимающего объектов получится на снимке выпукло и четко…
Как оказалось, Игорь интересовался всем этим не только из обыкновенной человеческой любознательности. После нескольких наших встреч, от которых у меня оставалось явственное ощущение некой «недосказанности главного», он, наконец, решился и пригласил меня в гости, чтобы показать свою уникальную коллекцию. «И, если можно, захватите фотоаппарат, чтобы запечатлеть ее», — добавил он смущенно.
Идти нужно было почти на окраину города, но погода стояла на удивление «прогулочная»: обычная августовская жара к концу месяца спала — было даже существенно прохладнее, чем обычно.
Природа никак не хотела одеваться в золото и багрянец, по горизонту — над далекими и манящими заснеженными шапками гор — пробегали легкомысленные облака, что буквально через день-два могут вылиться либо в бурную грозу Предгорий, либо в утомительно-нудную капель на несколько суток к ряду. Поглядев на все это, я хотел было не брать извозчика, а совершить приятный моцион, но покосился на свою творческую «поклажу» и поехал на лихаче…
По пути я любовался широкими улочками предместий, где каждый двор утопал в зелени и плодах, а также пытался догадаться, что же за коллекцию предъявит мне этот загадочный человек? Сам он ни за что не соглашался «пересказать» свой секрет, да мне и допытываться было недосуг. В конце концов, я же уже обещался приехать…
***
Домик Кнутовых отыскался с трудом, хотя и был описан так же детально и педантично, как и дорога к нему. Он был очень небольшим — стандартная деревенская «мазанка», но с необычайно высоким потолком (очевидно, без чердака, — осведомился я у хозяина, и получил утвердительный ответ).
Стены были выбелены чисто и сравнительно недавно, мебели — самый минимум, и, несмотря на явственную бедность хозяев, в домике царил настоящий уют, созданный руками и душою Нины — молодой и миловидной супруги хозяина.
Дорогого гостя встречали чаем с баранками и абрикосовым вареньем, появление которого вызвало многозначительные взгляды хозяев и вполне обыкновенный мой. Наверное, они подумали, что я варенье могу позволить себе каждый день и, потому, не ценю всей праздничности постановки данного лакомства на торжественный стол, подумалось мне. Так или иначе, комментарии не последовали.
За чаем разговор особенно не клеился. Хозяин явно нервничал и смущался. Отвечала мне, большей частью, Нина. Она, как выяснилось, учила детишек недалекого соседнего села в начальной школе, куда ежедневно отправлялась пешком и практически на весь день. Игорь столярничал, резал по дереву, но постоянной работы не имел, зато в его распоряжении была уйма свободного времени…
По выходным Кнутовы помогали при храме и в приходской школе (чем и объяснялось, что я всегда встречал Игоря именно там), своих детей пока не имели, равно как и прочих родственников, и отдавали все душевное тепло чужим детишкам да друг другу…
***
Вполне обычная семья захолустья, — мелькнула неприятная мысль. В душе нарастал ком прогорклого ощущения «обманутости» и впустую потраченного времени. Я совершенно терялся в догадках, что же такое «особенное» намерен показать мне хозяин, чего вообще они от меня хотят…
— А теперь пойдемте в сад, — внезапно проговорил Игорь, приняв горделивый вид и распрямив сутулую спину, — самое время показать Вам коллекцию!
— Ваша коллекция находится под открытым небом?
— Да, именно. Там — все мои коллекции.
— Что ж, пойдемте. Фотоаппарат я пока брать не стану… Г-м, нужно оценить освещение и определить точки съемки…
Сад у Кнутовых оказался не слишком обширным: «соток» шесть, если считать вместе с домом. И на этой земле необходимо было вырастить все возможное, чтобы прокормить молодую семью…
Я разглядел «опытным взглядом» в компостной яме картофельную ботву и полуистлевшие листья толи свеклы, толи репы; подметил аккуратный виноградник вдоль забора с дальней стороны двора, несколько помидорных кустов и «плетенку», усеянную огурцами. Все же остальное пространство занимал действительно сад, но такой, какого я прежде не видывал!
***
Самое высокое плодоносящее деревце было здесь едва выше меня. По компактности каждое из них занимало полтора-два квадратных метра, поэтому насажены они были очень густо. Но самым удивительным было даже не это.
Во-первых, я прекрасно знал, что несколько севернее, но в степной зоне абрикосы, жердела и персики растут привольно, и половину плодов местные жители даже не собирают — «девать фрукту некуда», как объяснили мне однажды.
Здесь же, в Предгорье, все это в диковинку — климат не позволяет вызревать капризным южным плодам: внезапные весенние заморозки губят урожай в период цветения, почвы глинисты и водянисты, перепады температур колоссальны. А у Игоря только персиков было более 40 сортов, как он сам мне поведал с гордостью!
Во-вторых, почти каждое деревце представляло собою гибрид: на одной ветке — яблоки, на другой — смотришь — груши, на третьей — сливы, на четвертой — алыча. Все ухоженное и наливное, хотя часть плодов уже собрана. Любой фрукт издает свой едва уловимый тончайший аромат, и «голос» каждого сливается в неповторимый садовый «концерт», сольные партии в котором исполняют трудолюбивые пчелы…
Долго мы ходили по саду, уже с фотоаппаратом, запечатлевая зрелые плоды крупным планом. Игорь совершенно преобразился, стал кудесником, вдохновенно повествующим о каждом своем «детище». От него я узнал, что здесь есть армянские, казахские, испанские, французские, американские сорта, даже «лысые» персики и абрикосы, внешне напоминающие сливу, но имеющие свой уникальный вкус…
***
По окончании ознакомления с «коллекцией» Игорь вновь отвел меня в дом и показал особые тетрадочки — каталоги, где описывал каждый сорт, для чего, оказывается, ему и нужны были фотографии. Перелистывая эти «труды» из вежливости, я наткнулся на любопытное название «Сентябренок».
— Никогда не слышал о подобном сорте… — промолвил я удивленно.
— Совершенно естественно. Дело в том, что я скрещиваю различные сорта, вырабатываю у плодов ранее не известные качества. А, чтобы занести такой сорт в каталог, нужно дать ему какое-то имя. — Игорь замешкался, смутился, откашлялся, но затем продолжал, — Денег на различные научные журналы или переписку с такими же энтузиастами, как я, у меня практически нет. И утверждать, что разновидность того или иного сорта открыл именно я, смелости мне недостает. Поэтому и даю такие «промежуточные» названия, например, по времени выспевания плода…
— А про мое деревце расскажи! — вмешалась в наш разговор Нина.
— Да, есть у нас одно деревце — совершенно уникальный сорт, в создании которого своими руками я совершенно не сомневаюсь. На нем нету и никогда не будет прививок. И оно принадлежит исключительно моей супруге, а сам сорт я назвал ее именем! Я за деревцем только ухаживаю, а все плоды — ее!
— Вы даже не представляете, какой он страшный собственник! — полушутя-полусерьезно надула губки Нина, — как только в саду появляются первые плоды, он перестает меня туда выпускать, чтобы я не нанесла урон урожаю… Дело в том, что я ужасная сладкоежка, и фрукты обожаю. Любые… А ему для полноты экспериментов нужно, чтобы каждый плод набрал полную силу, цвет, спелость. Только тогда, когда все измерит, взвесит, запишет и зарисует, он позволяет мне покушать персиков или сварить варенье из чего-нибудь «менее благородного»…
— Это правда, она у нас в семье — главный «дегустатор», — нехотя, и одновременно довольно признался Игорь, — Хотя я зачастую упрекаю ее в двух вещах. Первый ее недостаток — она всегда дает оценку «отлично» каждому новому выведенному мною сорту. Конструктивной критики я от нее не слышу, а без этого расти над собою сложно. А второй — она «пробует» и наслаждается вкусом слишком быстро, нетерпеливо. Не как коллекционным экспонатом, а будто с базарного ряда или богатого стола…
***
Во время прощального чаепития я еще многое узнал об этих очень бедных и очень счастливых людях. Например, что у них много соседей и друзей. И лучший гостинчик детям при походе в гости — несколько плодов из замечательного сада, плодоносящего все лето и практически до зимы.
Кроме того, все многочисленные воспроизведенные или созданный им сорта Игорь физически не может разместить в своем не слишком обширном саду. Поэтому многие черенки и саженцы перекочевывают в сады соседей, а Игорь сам их выращивает, к каждому дает подробнейшую инструкцию по поливу, уходу, сбору урожая.
Единственное его условие — дать ему возможность описать плоды… И делает это отнюдь не за деньги — «из любви к искусству», благодаря которой и создаются все самые прекрасные коллекции в этом мире!
***
Уходя от Кнутовых пешком (моего извозчика, которому авансом было заплачено за час ожидания, а мы в ходе беседы его посвистов не услышали и проговорили более четырех, след давно простыл), я ничуть не жалел о своем новом знакомстве. Как и о времени, и обо всем остальном. Мне совершенно близко и понятно подлинное творчество, в чем бы именно оно не выражалось…
И, конечно, я не возьму с Игоря никаких денег за фотографии, когда он за ними зайдет. Пусть потратит свои полушки и двугривенные на радости для Нины, для окрестных ребятишек, для своего садового «оркестра». Пускай тот «звучит» сколь угодно Всевышнему долго!

Зимний сюжет
Куда ни глянь — такая красота!
Преподавал я в те поры в одном из институтов российского захолустья. Как водится у нас, квалифицированных специалистов не хватало, отчего и вел я — «молодой и перспективный» — смешной мне теперь выводок самых разнообразных дисциплин. Последнему обстоятельству обязан был знакомством с большей частью всех студентов — добротным знакомством.
Прекрасно помня о совсем еще недавнем собственном безалаберном студенчестве, я на экзаменах не зверствовал, и только круглый идиот или лентяй мог довести меня до жестких мер, каким был в то время «неуд». Даже в аудитории я старался быть просто «старшим товарищем» и другом своим подопечным, безусловно, более опытным и знающим, чем они.
А вне занятий с большинством своих студиозусов безбожно нарушал субординацию, переходил на «ты», как бы открещиваясь от старящего меня отчества. Любили ли меня студенты, я не знаю — никогда не задавался подобным вопросом, меня вполне устраивало доброе товарищество…
***
Стояла зима. Богатая, искристая, словно сошедшая со сказочных картин. С румяными девичьими щеками, с шалящей разудалой ребятней, с роскошным скрипом снега под ногами…
Нарочно медлительно я брел по зимним улицам на теплую работу и с завистью смотрел на перезревшие сосульки. Да, что греха таить, не будь под мышкою солидного портфеля, я пошвырял бы в них снежками, прокатился бы по скользким тротуарам и, поскользнувшись, завалился б в добрый снег, чтоб разорвать свое оцепененье отстраненности от зимы…
Я понял не сразу, что обращаются именно ко мне — так несуразно прозвучали имя с отчеством в мальчишеских мечтах — я был недоволен и даже немного обижен на их разрушенье… Остановился и сурово обернулся.
Меня нагоняла, трогательно скользя, но все же сохраняя равновесие, одна из самых замечательных студенток всех времен. Не только красота и обаяние, и даже острый для женщины ум, но и прекрасное владение всем арсеналом неотразимых изначально женских чар, удивительная тончайшая способность заворожить любого крепко и надолго, не прилагая никаких усилий…
Все это досталось ей в дар от природы. Она выделялась на курсе, она выделялась везде, где появлялась, и список добровольных ее рыцарей был непомерен, но бесславен. Она никого в нем не выделяла…
И вот королева сердец, окруженная чудом зимы, устремлялась ко мне с затаенным вопросом… Я тут же «оттаял» и даже слегка улыбнулся.
«Здравствуй! На факультет? — спросил я с тихою усмешкой, — Тогда нам по пути. Прошу!» — и предложил ей руку.
Она на мгновенье замешкалась, как будто сомневаясь в искренности моего предложения иль в собственном желании его принять — как прекрасна была нерешительность на этом всегда уверенном личике… потом продела… не могу сказать «руку» — так была она легка… скажу — рукав шубки в мой полусогнутый локоть… и улыбнулась. Царственно молчащие, мы шествовали по заснеженным улицам, вызывая завистливые взгляды прохожих…
Перед самым факультетом она замедлила шаг, и я вынужден был остановиться. Обернувшись, я увидел нечто совсем невообразимое на ее лице — она не шуточно была смущена…
— Дело в том, что… я хотела Вам сказать… в общем, у меня сегодня день рождения…
Я рассыпался в поздравлениях…
— Спасибо, но не это главное, а то, что я хочу Вас пригласить…
На какую-то минуту я задумался. Дел у меня вечером не намечалось, иных каких бы то ни было причин для отказа не существовало, да и мольба в ее глазах была куда сильней меня.
— Во сколько и куда мне следует прийти?
Она, откровенно обрадованная, назвала время и адрес и тут же сбивчиво начала объяснять, как туда добираться. Я успокоил ее, сказав, что прекрасно ориентируюсь в том районе.
— Так Вы придете?
— Ну, конечно же, приду!
Мы разошлись…
***
Я отчитал положенные мне часы, успел побриться и, уже по дороге к ней, пробежаться по закрывающимся магазинам. Приятный сувенир, хорошие цветы — банально, но что еще мог предложить не слишком хорошо изученной женщине человек моего положения?
Приблизившись к входной двери, я удивился тишине за нею. Подумал даже, что ошибся домом, но позвонил. Открыла мне она — прекрасная, с очаровательной улыбкой: «Я жду Вас, проходите!»
Как школьник конфузливо вручил я свои дары, пролепетав какое-то подобие поздравленья. Я словно находился под гипнозом и был неловок, даже неуклюж. В конце концов, она негромко рассмеялась: «Не нервничайте так, я Вас не съем».
Освободившись от верхней одежды, я проследовал за милою хозяйкой в зал, обставленный со вкусом, и уселся за нарядный стол, сервированный на… две персоны…
Поймав мой удивленный взгляд, она сказала: «Да, Вы — единственный гость. И это так, как я хотела. Если бы Вы по каким-то причинам не пришли, я провела бы этот вечер одна…»
Мы помолчали, выпили вина с заздравным тостом. Потом еще. Я оказался жутко скучным собеседником и никудышным ухажером, тем более — для столь очаровательной юной леди. Я просто не был к этому готов: обыкновенно на дни рождения таких красавиц и умниц собирается столько народу, что в смехе и шутках не можешь и слова сказать, что теряешься в людях и в шуме…
***
Она включила музыку. Мы стали танцевать. Танцу она отдавала всю душу, и я заразился безумным круженьем вдвоем — никогда больше в жизни я не танцевал столько времени с одною женщиной — восхитительной женщиной и партнершей… А напрочь позабытые часы летели, мчались…
Внезапно, посредине танца она остановилась, посмотрела мне в глаза и медленно, но нервно зашептала:
«Я не спрашиваю Вас, как Вы ко мне относитесь, о Ваших чувствах ко мне, ни о чем Вас не спрашиваю… Я говорю Вам сама, что люблю Вас и давно, и безнадежно… Но сегодня — мой день, моя ночь, и я хочу провести эту ночь с любимым мужчиной! Только тогда будет праздник, только это — настоящий подарок!… Подождите, молчите!… Этот любимый мужчина — Вы, и я, ничем Вас не связывая, ничего больше не требуя от Вас ни сейчас, ни потом, прошу Вас подарить мне мой долгожданный подарок… Я даже не требую от Вас словесного ответа… Если Вы согласны, если Вам это не в тягость, Вы просто останетесь. Если ж нет — дверь открыта! Решайте! Я пойду ставить чай…»
***
Я был ошеломлен. Я сомневался и не знал, как поступить. Но… остался… приблизился к столу, налил себе полстакана коньяку и выпил залпом.
«Какой ты милый и какой смешной, — сказала она, подкравшись сзади, — но почему-то именно таким я тебя и представляла… А в одиночку пить нехорошо, налей и мне…»
Мы пили, целовались, танцевали. Все оказалось проще и волшебней, чем могло быть в этом мире… Не помню ночи — помню счастье и блаженство, и рожденную любовь…
Когда рассвет вступил во власть над миром, она приподнялась и, глядя мне в глаза, ероша рукою мою шевелюру, заговорила, ничуть не стесняясь великолепной наготы:
«Иди, тебе пора. Спасибо, милый… Все оказалось прекраснее, чем я могла ожидать, но все в этом мире кончается… Ты не вернешься — это мне известно — я на тебя гадала… И не возвращайся просто так, потому, что я понравилась тебе, или из жалости. Не надо. Я переживу. Я получила все от этой жизни и справлюсь теперь со всем… Ты можешь, конечно, вернуться — однажды и навсегда, но так не случится. Мы больше не встретимся, милый… Спасибо… и уходи…»
И я ушел по колючему свежему снегу…
***
Две недели в волнениях и сомнениях я мерил шагами свой дом, взяв отгулы, пока действительно не влюбился, пока безумно не захотел вернуться… но безумство-то меня и останавливало…
Окончательно вознамерившись вернуться и навеки связать с нею жизнь, я случайно узнал, что она забрала документы и покинула город, никому не оставив обратного адреса…
Я долго тосковал. Но закружили бесконечные дела… А затем наступила весна…
***
Прошло лет двадцать — холостяцких горьких зим, наверно, больше — не считал… А прошлой, по первому снегу зашел ко мне на кафедру симпатичный молодой человек, ужасно напоминающий молодого меня, поздоровался и сказал:
«Мама умерла год назад. Привет и наилучшие пожелания Вам передавала. Всегда говорила, что ни о чем не жалеет… Да, и я вот посмотрел на отца… Прощайте»
И ушел… Я пытался догнать — не успел — только полы пальто вдалеке развевались от ветра.
Я прочитал ее последнее письмо, оставленное сыном на столе, такое доброе прощальное письмо, в котором рассказала мне она про все, что было…
Она так и не вышла замуж — любила меня одного, а в сыне сумела воспитать ко мне, как ни странно, почтение и уважение… Мне все простилось, все прощалось…
Я знаю, сын придет на те похороны, что так недолго ждать осталось. И будет на них хоть одно дорогое, родное лицо…
И словно приближая этот час, богатая зима — одна к одной — ложится наземь крупным добрым снегом…

Азбука скольжения
Алене
Из блистающей глади льда
Шлю отчаянное: «Поверьте»…
Любая встреча с Алексеем Михайловичем была для меня и радостью, и любопытным уроком отношения к жизни и к миру, к людям и их поступкам. Мы виделись с ним обычно в клубе для журналистов. Не столь часто, как мне хотелось бы, но и не столь редко, как могло бы быть, если учесть «непоседливость» нашей профессии и наших характеров.
И в этот раз он побаловал мою любознательность, мой неподдельный интерес к мотивам, которые подвигают человека либо на высокое и пронзительно чистое, либо на какую-то непостижимую низость…
Он, очевидно, «собирал» подобные истории, умел их находить и отчетливо различать. А иногда мне даже казалось, что его пристрастия к столь сложному жизненному материалу сами по себе притягивают к нему все новые и новые «экспонаты» его «коллекции»…
***
— Вы ведь помните, как пару лет назад на всю страну гремело имя замечательной фигуристки N? — спросил он меня, едва мы приступили к обеду и выпили за встречу, от души обрадовавшись ей.
— Да, конечно. Я даже видел ее завораживающее катание, но познакомиться лично мне, к несчастью, не удалось…
— А мне такая честь выпала… После очередного ее головокружительного успеха я оставил в гостинице, где она поселилась, свою визитную карточку с просьбой о встрече и об интервью. Надежд не было вовсе — она же презрительно относится к нашему брату — журналисту… Но… — он выдержал драматичную паузу, — меня пригласили, и провели прямо в номер. Она сидела уставшая и расслабленная, куталась в огромную цыганскую шаль и загадочно улыбалась…
Алексей Михайлович закурил, в глазах его появилась мечтательность, в то же время, лицо его — и без того аристократичное, по заслугам горделивое, еще более приосанилось, воспарило, как у молящегося человека…
***
По словам Алексея Михайловича, после обстоятельного и разностороннего интервью, в ходе которого он продемонстрировал свою неумолимую дотошность, а она — обворожительную снисходительность к утомительным расспросам и недюжинный интеллект, N попросила уделить ей еще немного времени. Для чего? — оказалось, что для давным-давно задуманного разговора, какой, она всегда была в том совершенно уверена, обязательно должен был состояться…
И коллега с удовольствием и мастерством пересказал мне ее длительный монолог, изредка перемежая его своими ремарками.
— Вы знаете, — сказала она взволнованно и, как мне показалось, смущенно, — Я хочу рассказать Вам одну историю из собственной жизни, о которой не знает больше ни один человек на свете. Это — история моего успеха… или — моего пути к этому довольно большому и шумному успеху…
Почему-то принято считать, будто всего положительного и замечательного человек в жизни добивается исключительно сам. Некоторые, правда, ссылаются на «Божью помощь» при этом; другие же сами себя считают «везунчиками», либо их таковыми числят многочисленные окружающие.
Я уважаю оба эти мнения, но совершенно убеждена: мне повезло встретить человека, а точнее — двух человек, до сих пор не подозревающих о том, что именно им я обязана всем, что имею, что меня окружает. Успех, благополучие, почитание, перспективы, поклонники и подлинная любовь — ничего этого не было бы у меня в таком количестве, если бы не своевременная встреча с ними…
Много лет тому — более пятнадцати — я была совершенно обыкновенной девчонкой, ленивицей и капризулькою, ни к чему, кроме сладостей да родительской безмерной любви, привязанностей особенных не имеющей. Надо сказать, что я росла в благополучной семье: родители неподдельно любили друг друга и меня; мама больше не могла иметь детей и, поэтому, единственную дочурку нещадно баловали…
***
Она ненадолго замолчала, совмещая в своем сознании картинки того далекого теплого прошлого и сегодняшнюю действительность. Отпила глоток совсем остывшего чая. Поправила непослушный локон. Справилась у меня, не прискучил ли мне столь подобный рассказ? И, лишь получив ответ, что я заинтригован, а слушать людей — мои профессия и призвание, наконец, продолжала:
— Своеобразным «делом жизни» катание стало для меня совершенно случайно и в относительно позднем возрасте. Не помню, кто и почему сказал моим родителям, что коньки будут весьма полезны для меня во всех отношениях — здоровье, стройность, грация и так далее…
Возможно, это сделал наш семейный доктор, которого приглашали ко мне едва ли не каждую неделю — настолько я была хрупка, подвержена простудам и прочим хворям в возрасте 7—8 лет… Я, правда, никогда об этом не спрашивала, но родители за эту идею ухватились, словно за нить Ариадны — как видно — не зря.
С тех самых пор каток стал для меня полноправным «вторым домом». То отец в одиночестве, когда маму одолевали немочи или неотложные дела, а то и оба они вместе ежедневно приводили меня на лед и сдавали с рук на руки тренеру. Сами же до конца занятия стояли в сторонке и восторженно наблюдали за моими «успехами». Честно говоря, я уже вскоре осознавала, а потом убедилась доподлинно, что собственно новых «успехов» после примерно двух лет обучения у меня уже не было…
***
— Не в обиду моему первому тренеру, Василию Ивановичу, он был прекраснейшим и добродушнейшим человеком, глубоко и взаимно влюбленным в коньки, безусловно способным внушить столь же благоговейную страсть к этому занятию даже вовсе не спортивному человеку. Но воспитывать чемпионов он абсолютно не умел и не старался.
Да, Василий Иванович охотно брался обучать детей из обеспеченных семей на сколь угодно длительный срок. Только основу его средств к существованию составляли отнюдь не эти редкие и относительно быстротечные контракты, а случайные «первые уроки» скольжения совершенно случайным людям, в первый или во второй раз в жизни пришедшим на лед. Подобных «часовых» уроков он давал по 5—6 в день, и именно это позволяло ему «сводить концы с концами».
Отсюда выработался и его «уникальный» подход к воспитанникам: условно говоря, главное — поставить на коньки, научить скользить вперед, назад, делать повороты и тормозить. То есть, тому, без чего катание, конечно, невозможно, но что составляет только жалкий «скелет» искусства фигурного катания.
Эту техническую «азбуку» скольжения я освоила довольно быстро и легко, а какой бы то ни было «поэзии» на льду в уроках Василия Ивановича не было вовсе. Кроме того, если какой-то элемент не получался, даже совсем не получался, мой первый тренер никогда не настаивал на непременном его исполнении «здесь и сейчас».
Напротив, он хвалил за то, что удавалось и ранее. Да еще и утешал, мол, «это получится в следующий раз». Так, ни преодолению трудностей, ни стремлению к успеху, ни воле к победе ни за что не научиться! Поэтому я и говорю, что воспитывать чемпионов — лучших среди равных — Василий Иванович даже не помышлял…
Меня уже перестало устраивать такое положение дел, хотя сформулировать это в идею или претензию, даже просто в связное, аргументированное недовольство я тогда была не способна и для себя самой.
Мне просто «не нравилось» дальше так заниматься, а что именно — оставалось неразрешимым… Я начала скучать на катке и часто глазеть по сторонам — на других катающихся, на зрителей, стоявших поодаль от моих восторженных мамы и папы — ножки-то мои в это время сами делали все, что нужно…
***
Она опять перевела дух, сделала еще глоток из миниатюрной чашечки и посмотрела на меня очень хитро:
— Курите, если очень хочется; я спокойно переношу запах дыма, — проговорила N, подметив, что я машинально извлек портсигар, из него — папиросу, и тщательно разминаю ее… сказывалась идиотская привычка покурить хотя бы раз в час… — Вы заслужили это маленькое удовольствие, терпеливо выслушав мою ничем особенно не примечательную предысторию. Которая, к слову, завершена. Теперь начинаю о главном…
Почти сразу же после начала моих «наблюдений» за завсегдатаями и новичками льда я неожиданно для себя выделила одну пару. Оба они были заметно взрослее моих родителей, но тоже очень красивые: он — высокий брюнет с почти правильными чертами лица и высоким лбом; она — огненно-золотая, стремительная, с эдаким «бесенком» в зеленых глазах.
Они приходили часто, но, странное дело, он практически не катался. Стройный и подвижный, он мог сделать несколько кругов в одиночку и — обязательно — рука в руке с нею, но больше ничему не учился, а предпочитал наблюдать.
Она же занималась коньками явно не с детства. Мне даже кажется, будто я помню их первый приход, когда он научился скользить сам и повел ее за собою. Но потом она постепенно осваивала все премудрости нашего мастерства и от раза к разу каталась все лучше и утонченнее, стремясь не только исполнять движение, но и «сыграть» его, словно на сцене. Д
ля меня это было «откровением» и началом Пути, как говорят на Востоке, и я отчего-то убеждена, что эти люди принадлежали к сонму «небожителей», то есть, представляли творческие профессии…
Я страстно наблюдала, как эта взрослая женщина, умеющая на льду гораздо меньше меня — пигалицы, творит и привлекает к себе больше внимания, чем весь мой богатый «арсенал» технических приемов. И не передать никогда неимоверный восторг того мига, когда она, узнававшая меня в толпе других катающихся, однажды спросила совета, как правильно выполнить один мудреный элемент — ей, по ее словам, никак не удавалось его «почувствовать»…
Я с радостью поделилась своими знаниями и потом неотрывно любовалась, как моя старшая «ученица» с каждой новой попыткой все больше «вживается» в это движение, перебарывает себя, стремится достичь совершенства…
И это при том, что для спорта она уже была слишком взрослой! Эта женщина старалась для себя и своего постоянного верного зрителя — толи мужа, толи любимого мужчины…
***
— Вот эта пара и перевернула мой мир. Они показали мне, как надо «вдыхать жизнь» в катание, какими любящими глазами нужно смотреть на него со стороны, с какой душой только и следует скользить по этой безудержной ледяной глади!
Вы представляете, перемена в стиле моего катания произошла столь стремительно, что Василий Иванович не стал дожидаться, когда я откажусь от его услуг. Он сам пришел к моим родителям, посетовал, что я слишком быстро «выросла» из его питомиц, и мне необходим настоящий профессиональный тренер, который может помочь мне достичь невообразимых вершин. Он даже сказал им, что я уже — Царевна-Лебедь среди остальных Гадких Утят…
Я перестала посещать тот каток, потому что мой новый тренер занимался в другом месте. Но незадолго до расставания я упросила папу, увлекавшегося фотографией, сделать мне памятные снимки этой замечательной пары или, хотя бы, моей «крестной матери» в фигурном катании…
Папе это замечательно удалось, он сделал два хороших снимка, которые всегда находятся подле меня, и я не выхожу на лед, не пообщавшись со своими «талисманами»…
Никто до Вас не знал об истинной ценности этих фотокарточек и не допытывался, что это за люди на них запечатлелись, чем они мне так дороги, как родные. Вам я рассказала о них и даже готова показать их лица, столь бесценные для меня. На всю жизнь.
Да, несмотря на то, что я завтра венчаюсь, оставляю карьеру, отправляюсь в свадебное путешествие и навсегда покидаю страну. Эти люди — всегда в моем сердце, это им я обязана всем! Думаю, они Вам знакомы…
***
Алексей Михайлович закашлялся, закурил новую сигарету и спросил у меня, не хочу ли я взглянуть на подаренные ему N фотокарточки?
— Так она их Вам подарила?
— Конечно, так и было задумано с самого начала.
— Потому, что бросила выступать и они ей стали не нужны?
— Нет. По другой причине. Взгляните.
Он протянул мне два довольно больших снимка в рамочках. Лицо женщины, парящей надо льдом, на первом из них было одухотворенно и показалось мне смутно знакомым. А на все вопросы ответил второй снимок, где рядом беззаботно катились лет двадцать назад супруга Алексея Михайловича и он сам…
— Теперь-то понимаете, почему я опубликовал только обыкновенное, хоть и уникальное интервью. Без этой пикантной истории? — заговорщицки спросил Алексей Михайлович. — Мне все равно бы никто не поверил, да и зачем кому-то знать подробности из частной жизни газетчика? А Вам ее с удовольствием рассказал, чтобы потешить самолюбие и проследить за реакцией. Опять же, приятно, что не зря прожил жизнь!..

Так не бывает
А я стоял, не зная, как молчать…
О, это безумное, это волшебное слово, таящее в себе, наверное, не меньше смыслов, чем слово «Бог», — «Женщина»!
Какими только устами, в том числе и моими, и с какими только интонациями — от восхищения до гнева и проклятий — не произносилось, не произносится и не произнесется впредь бессчетное количество раз это слово, но никогда не станет простым, легко объяснимым и всеми однозначно понимаемым. Всегда в нем — недосказанность и тайна, всегда одно — лишь смутный силуэт иль зеркало времен и многих лиц: для каждого — своих, ни для кого — одно… И такова его извечная природа…
***
Я отдыхал… Звучит, увы, смешно, но так оно и было… Тревожили меня лишь ветер да раздумья. В моей естественной беседке, созданной тесно сплетенными отяжелевшими ветвями близко посаженных яблонь, погода стояла чудесная, но за ее пределами некуда было укрыться от высокого жгучего солнца.
Лето, вначале пасмурное и дождливое, старательно расплачивалось с долгами, разбрасывая прежде сбереженное тепло. Август готовился к коронации и все последние дни пропадал на пляже, как говорят, не вылезая из воды… Я тоже обожаю эту горную речушку, своенравную и быструю, как жизнь, как…
События последних грустных лет упрямо не хотели умирать, болезненно цепляясь за непрочные опоры прежних снов, за тени с именами и судьбами, скрестившимися с моей шпагами разлуки…
***
Порою как фатальный неудачник, винящий всех Богов в своих грехах, порою как счастливчик, одаренный высшей благодатью и возносящий за это хвалу небесам, а, порой, как обычный, простой и беспечный, живущий не в тягость себе и другим человек, я множество раз вызывал этот призрак — ласковый и неумолимый, святой и бесстыжий, какой угодно еще, но пожизненно неотделимый от моего существованья.
Он был всегда так добр, что не требовал для этого ни мудреных мистических заклинаний, ни даже долгих сложных действ. Стоило выкрикнуть призывно или грозно, прошептать, лаская губами слова, пролепетать, волнуясь и таясь, назвать спокойно или отстраненно, даже просто случайно вспомнить ее имя — единственное имя — и она приходила, меняя маски и одежду.
Я пользовался этим сотни раз, не думая, что может быть иначе…
***
Жара спадала, но хотелось пить. Я отправился в дом, где не был с раннего утра, и напился холодного сока. Случайный взгляд на захламленный стол… Скользнув, он удивленно задержался…
Вчера, в полубессонной скуке, я доставал свой старенький альбом. Листал, вынимая памятные фотографии. Большинство клал обратно, отчаявшись хоть как-то оживить, а несколько оставил на столе. Лениво перебрал, вздохнул и лег… Теперь они ожили и дышали… И жизнь кругами полетела вспять…
***
Я думал совершенно о другом, а видеть не хотелось даже близких. Но призраки — у них свои законы. Впервые я не знал, что скоро встреча…
Мы не виделись несколько лет, за которые… наши жизни изменились, словно русла беспокойных бурных рек, а мы, наверное, такие же, стояли теперь, не решаясь протянуть друг другу руки, чего хотели больше, чем любви, о чем мечтали с сотворенья мира. Мы молчали, не веря глазам, и во взглядах читалась вина…
Но такая далекая, такая прощенная…
***
— Извини, что я незваной гостьей. Но только я так больше не могу…
— Милая, ну, что ты, что Вы, что ты… Это я один всему…, во всем… Я люблю тебя… а, может, умираю?…
— Нет, любимый, мы с тобой в другом, неподвластном смерти измереньи. Здесь лишь мы, и больше никого. Как Адам и Ева… А ты правда меня не забыл? Я так рада…
Она заплакала и улыбнулась, а я бросился к ней, чтобы вытереть слезы губами…
***
Ничего этого быть не могло. Никогда. Не мог я говорить такие нежные слова — никому их не говорил и не скажу… Не могла она любить меня, даже вопреки всем правилам рассудка.
Не в ее это было силах: уйти от того, кому отдано столько всего — и души, и тепла. Уйти к тому, кто не брал ничего, не хотел ничего, но был щедр на обиды, разочарования, горечь; от того, кто любим, к тому, кто постоянно старался внушить к себе только ненависть. Не в ее это было власти…
И прийти ко мне — нежданной, не званной… Такого никогда не было и не может быть. Я не верю. Это — больше, чем сказка, выше невозможного, фантастичней, чем сон! Но я же не спал! Клянусь вам, я не спал…
Она успокоилась, и я поцеловал подставленный мне лоб.
«А у тебя так тихо, так спокойно… — прошептала она, — Мне нравится твой дом и твой уют. Все именно таким мне и представлялось. И даже ты — такой, какой лишь ты! Волшебник мой, мой рыцарь, мой поэт! Как мы могли тогда расстаться, милый?»
***
А я стоял, не зная, как молчать. О чем молчать? Что глупость беспредельна? В особенности — моя… Что я всегда боялся и боюсь всепоглощающего чувства и самой простой, но всесильной всепоглощающей любви? Что бежал и бегу от нее, не ведая и не ища пути; противлюсь ей, словно невинный, осужденный на жертвенное заклание?
Что постоянными муками приучил некогда гордое и нежное сердце расцветать и дарить себя без остатка лишь призракам, живущим и умирающим в не по своей вине болезненной душе, не существующим ни в одной из сотен миллиардов реальностей?
Что сам меж тем почти не смел заговорить ни с одной понравившейся мне живою женщиной… тем более — о главном? Что я вообще — преступник перед женским родом, причем, не только нынешним, но — всех времен и стран?…
Или о том, о чем нам можно вместе помолчать? — о природе, что создала нас друг для друга и свела, будто волны или ветра, в одном из чудеснейших своих мест? О, теперь я, наконец, понимаю, почему, попадая в «райские уголки» и оставаясь там наедине с самим собой, я неизбежно вспоминал ее и размышлял о ней… Как получилось и сегодня…
Иль о другом? О той глупейшей отговорке для малышей, еще не пивших вина поцелуя, что нашей близости поставлен изначальный предел?… Неоднократно то испуганная, то больная, она спала на моем плече, но даже просто поцеловать ее было для меня в те времена за «тем пределом»…
И обо всем об этом я молчал. Она внимательно слушала и понимала слепое молчание — каждое его слово, каждую слезинку, всю непомерность боли…
***
А потом я предложил ей прогуляться…
Да, в ту самую беседку, что постоянно рисовалась в снах, где мы были рядом. В беседку, чтобы даже стенам не удалось подслушать то таинственное и великое, что я собирался сказать (я же, наивный, не знал, что ей — женщине, давным-давно все известно)…
Словно чужие, бросившие дом, мы шли с оглядкой, отстраненно, глуповато… О всем, что мог сказать, я промолчал, и все вернулось скомканным молчаньем. Вернулись страхи и желание бежать — куда угодно, только от нее!…
Но мы уже пришли. Я усадил ее в единственное кресло, а сам на корточках пристроился напротив.
Я вспомнил те слова, что говорил, вспомнил ее неземные слезы, ее прохладный влажный лоб — какой-то неестественно воздушный… И понял призрачность явившейся мечты — отчаянье бывает беспредельно… Хотелось зарыдать и умереть, но в этот миг она заговорила:
— Я поняла, о чем ты промолчал. Мой милый мальчик, милый мой безумец. Но неужели ты не понял, что прощен, что все тебе отпущено, а я пришла, чтобы сказать тебе об этом?
— Но ты холодная, ты призрак!…
— Нет, любимый! — сказала, протянула руки…
Я целовал их и сходил с ума…

На Покрова
Я спал, когда Тебя не стало,
Спал, словно Ангел на посту…
Та осень была особенно пронзительной и бездождливой. Лес полыхал охрой, золотом, ржавой кровью и зеленью неподвластных временам года сосен. Воздух — такого ни увидеть, если не был в уголках планеты, где человек еще не выполнил свою «миссию» умерщвления окружающего мира…
В большой Праздник, на Покрова, я искренне не собирался ничего делать. Во-первых, в этом не было никакой насущной необходимости. Во-вторых, хотелось и ждалось ощущения праздника — такого, как в детстве, чтобы он занимал все твое существо…
Я зашел в небольшой кабачок, где был желанным и частым посетителем, заказал бокал вина и стал пускать кольца дыма из трубки к закопченному потолку, полностью предавшись своим мыслям…
Валерий Иванович, коего в узком кругу я называл просто «Валеркой» и откровенно недолюбливал, подсел ко мне совершенно нежданно, но, как выяснилось впоследствии, с продолжительным разговором…
***
С Танюшкой снова они познакомились, когда ему был «возраст Христа», а ей — двумя годами меньше. Познакомились, как водится, совершенно о том не заботясь: стоя посреди центрального бульвара, он объяснял одной их общей знакомице — местной «светской львице», как ей упрочить свое положение в «обществе», — Татьяна стояла рядом и «внимала» заезжему интересному и значительному человеку…
Надо сказать, что Танюшка к тому дню добилась несказанно трудного разрешения на развенчание в ее первом браке… Валерий Иванович знал об этом все от той же «львицы», но его сия тема не волновала нисколько — он жил карьерой, зарабатыванием денег и положения, прочими столь «необходимыми», на первый взгляд, мелочами…
В общем, дискуссия, в которой Татьяна практически не принимала участия, свелась к какой-то милой болтовне, суть коей сегодня уже никто из ее участников воспроизвести не сможет…
Валерий Иванович, спустя какое-то время, у самой же Танюшки выяснил, что десятью годами ранее он — блестящий студент — приезжал в родной город «посверкать обмундированием» и она — тогда недавно прибывшая сюда насовсем откуда-то из Сибири — долгим и томным взглядом провожала его фигуру…
***
Потом была заурядная постановка народного театра в их захудалом местном клубе. Там — немыслимым стечением обстоятельств — Танюшке и Валерке в одном из эпизодов выпало играть главные роли. Они явились, благодаря его «неспешной» натуре, всего за несколько минут до выхода на сцену…
Танюшка жутко нервничала, едва не схлопотала инфаркт, но сыграла блистательно. Он также отыграл, как говорят, «самого себя» — на удивление хорошо.
Потом были овации, букеты, шампанское. Его пили уже у нее дома. И только там Валерия охватила «страшная догадка»: она готова быть моею женщиной!
Он бежал… Постыдно, скоро, без причин. Потом ходил, мучался, не зная, чего своим уходом больше приобрел или потерял.
Потом они много раз встречались, обмениваясь ни к чему не обязывающими «реверансами». До самого Покрова…
***
Должен отметить, что именно не нравилось мне в Валерии Ивановиче. Первая черта, которую для меня всегда трудно было принять, — он спивался. Этот человек в свое время подавал очень немалые надежды, был обходителен, интересен, достаточно умен и остроумен, вполне сметлив. При этом природа не обделила его весьма аристократичной внешностью.
Иными словами, он мог попытать счастья в крупных городах, что и делал, но без успеха. И, уж, тем более, у него было в наличии все, что необходимо для постоянного хорошего успеха в провинции… Но он и это не сумел удержать.
Второе неприятное качество заключалось в следующем. Он, очевидно, в юности увлекся «игрой в Печорина» (в самом по себе подобном увлечении по младости лет я ничего предосудительного не вижу — и я грешил в прошлом), в эдакую «демоническую личность», которая всем несет несчастье и — в первую очередь — себе самому.
Заигрался «в Печорина», а доигрался до пародии на Грушницкого… И в этом, наверное, крылась причина всех его «неудач», «провалов», «несправедливого» к нему отношения со стороны окружающих…
Он тратил себя не на дело, а на «эффекты», и этим был мне очень неприятен. Вот и сейчас, рассказывая, он пытался показаться передо мною эдаким «молодцом», «покорителем сердец», «романтическим героем», который не может быть счастлив на этой земле — по определению…
***
Как рассказал мне Валерий, на Покрова он успешно завершил и изрядно «вспрыснул» отличную сделку и, на радостях, завернул в скромную редакцию уездной газеты, где был частым гостем. Там и трудилась Танюшка, ведая колонкой духовной жизни и образования.
В те поры она, расстроенная крайне неудачным замужеством и абсолютно не уверенная в своих семейных и творческих способностях, держала себя эдакой «серой мышкой». За более острые и доходные темы не бралась, и в редакции об нее все те, кто понахальнее (а таковых среди журналистской братии встречается немалое количество), пытались едва ли не ноги вытирать.
Она иногда «взрывалась» и отвечала резкостями, но ей самой же от этого становилось только хуже. Поэтому чаще Татьяна молчала и, даже если не прощала в глубине души, то внешне никоим образом не выказывала обиды…
И вот, в тот день Валерию промеж делом сообщили, что Татьяна сильно заболела и лежит дома с температурою. Никто из коллег пойти ее проведать почему-то не пожелал…
Тогда в Валерке взыграло столь редко проявляющееся качество, за которое знающие о нем все-таки уважали моего «героя»: он с благодарностью вспомнил, что эта женщина имела неосторожность искренне пожелать быть с ним рядом и еще большую смелость — дать понять ему об этом совершенно недвусмысленно…
Он понял, что больной и одинокой Танюшке будет очень приятно увидеть на своем пороге, пусть и не разделено, но любимого человека… Он купил небольшие гостинцы, бутылку хорошего вина, несколько южных фруктов, которые столь изобильны витаминами и — потому — так полезны при хворобе… И зашагал в гости к Танюшке, благо дело, идти было рядышком…
***
Она действительно несказанно удивилась и обрадовалась, увидев его. Он вручил свои дары, и они уселись в крохотной, но довольно уютной кухоньке пить чай и вино, закрывшись от строгой и властной матери Татьяны.
О чем шла беседа, Валерка не помнил, но знал, что в какой-то момент его переполнила безумная нежность к этому удивительно интересному, но глубоко несчастному человечку. И он зацеловал ее едва не насмерть, легко преодолев не слишком сильное сопротивление…
Ушел он, не добившись от нее ничего большего, да, к чести Валерки сказать, он к «большему» и не стремился. Зато, стремясь до конца отыграть самому себе назначенную роль «благородного рыцаря», он вызвался прийти через день со знакомым мастером и помочь ей отремонтировать чадящую печь, а также придумать что-нибудь с вечно ломающимся водопроводом…
Он выполнил оба своих обещания. Кроме того, появлялся у нее практически каждый день и посвящал ей много своего времени и внимания. Нет ничего удивительного, что вскоре они стали любовниками, несмотря на молчаливые, а иногда и весьма громогласные протесты Танюшкиной матери.
И тут его захватило еще одно неожиданное, но неодолимое желание: он представлял себе Танюшку изумительно красивым ирисом, на котором созрело огромное количество «бутонов», но ни одному из них она или обстоятельства не давали раскрыться и заблистать…
К примеру, несмотря на многолетнее замужество, она была неопытна в любви, как неоперившаяся девушка. И он обучил ее всем «премудростям» этого дела так, чтобы оно стало для нее приятным и радостным событием, а не утомительной и болезненной обязанностью по исполнению неуемных желаний мужчины.
Она стеснялась высказать свою позицию гораздо чаще, чем высказывала ее, предполагая, что ее собеседники обладают несоизмеримо большими знаниями и опытом; она бледнела и «пасовала» перед «сильными мира сего», облеченными властью, деньгами, положением.
Он излечил ее и от этого: зная все местные сплетни и пересуды, он жестоко высмеивал «уважаемых» и «почитаемых», в то же время, воздавая должные хвалы людям, на первый взгляд, скромным и незаметным, но, на самом деле, очень достойным.
В силу названных уже причин и неуверенности в себе она не бралась за «серьезную» журналистику, за имеющие общественную значимость критические материалы. Валерий пристрастил ее и к этому, читая и обсуждая каждый ее материал, как до его появления в редакции, так и после публикации.
А толк в грамотном использовании печатного слова он, надо отдать ему должное, знал неплохо. И, удивительное дело, Танюшкины писания вскоре практически перестали править в редакции. Саму же ее теперь опасались «задвигать» и «шпынять», у нее появился «вес» в коллективе и определенный статус в «обществе»…
Иными словами, сам того не заметив, Валерка глубоко и сильно влюбился в свою Галатею, чему оказался безмерно рад. И он на самом деле привнес в ее жизнь какое-то совершенно новое качество — «бутоны» стали раскрываться один за другим, поражая ее и окружающих красотой и богатством…
***
Сам же Валерка все и испортил. Она его боготворила, и напиваться не запрещала — только смотрела с укором и уговаривала не позорить себя… Дело шло уже к свадьбе, когда в очередном пьяном загуле он «потерялся» на двое суток, и уже отчаявшаяся застать его в живых Танюшка разыскала его в местном притоне…
Они не разговаривали три недели. Точнее, Валерка всячески стремился «замолить грехи», но цветы его, «не распечатанными», летели в мусорное ведро, а «стояние на коленях» не вызывали никаких эмоций… Он клял себя за глупость и хотел все вернуть — искренне, до глубины души хотел, до самой истовой мольбы к Всевышнему…
И Танюшка вернулась к нему. Только «трещинка» появилась и затаилась меж ними, продолжая разрастаться и отдалять их друг от друга. Валерка первое время радовался своей «победе» и даже полагал, что у нее просто выхода иного не было — он же такой замечательный! Но не заметить стремительно расширяющуюся «бездну» он, конечно же, не сумел…
***
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
