
Бесплатный фрагмент - Кухни 10-20
Сборник рассказов
Слово Майи Кучерской
Эта книга сложилась усилиями и талантом людей, объединенных любовью к слову и рассказыванию историй. Однажды они записались на наш литературный онлайн-кружок и подружились. Общались, переписывались в форуме, пока продолжалась учеба, а потом не смогли расстаться. Не расставаться особенно легко, когда есть общее дело, и этим делом, вполне ожидаемо, стала литература, творчество, а потом и составление сборника. Этот сборник, «Кухни», перед вами.
Кухня — центр человеческой вселенной, в России особенно. Через эту точку и проходят сюжетные траектории большинства рассказов. Реалистических, фантастических, абсурдистских, всегда горячих, жгучих, часто вышибающих слезы — кухня! Тихо поднимающийся в воздух дом, мандариновое дерево, растущее сквозь все семейные беды, хомяк, ставший скрипачом, всесильные русские женщины, которые сколотили плоты, чтобы приплыть на последнее свидание к своим мужьям-новобранцам… Здесь много запоминающихся историй.
Недавно меня спросили, похожа ли литература на религию? Если учесть, что религия — от слова «связывать», безусловно. Эта книга — еще одно длинное письмо, написанное на кухне, — о человеческих связях и их нерасторжимости. Как же нерасторжимости, если одни герои давно умерли, другие погибли, третьих жизнь разнесла по разным концам земли? Вот для этого и пишутся книги, чтобы всем подарить бессмертие и соединить друг с другом уже навсегда.
Майя Кучерская, писатель, руководитель CWS
Предисловие
Мы живём не то что в разных уголках нашей страны — в разных уголках планеты. От Новосибирска до Мексики через Стамбул, Воронеж и подмосковную Малаховку. Нас объединил первый уникальный онлайн-курс в школе литературного мастерства Майи Кучерской Creative Writing School, после которого мы почти год как не расстаёмся.
Конечно, это была смелая идея — выпустить сборник, но дорогу осилит идущий, мы пошли, и вот, надеемся, всё получилось. Поначалу задумали писать про кухни. Благо без них не обходится ни одна человеческая жизнь, да и смыслов у этого слова предостаточно: место приготовления пищи, совокупность блюд и кулинарных приёмов, набор мебели, гарнитур, кухня полевая и политическая. Так и было. Но постепенно в писательской нашей кухне заварился такой крутой бульон, что в дело пошли все возможные и невозможные, мыслимые и немыслимые аналогии и ассоциации. Тому немало способствовал историко-культурный контекст.
Ведь все мы — наследники той страны, где кухня считалась местом сакральным. На кухне говорили о судьбах всего человечества и каждого отдельного гражданина, пели песни под гитару и провозглашали демократические свободы. Плевали в суп соседям по коммуналке и делились последним куском. Готовили еду, учили уроки, писали диссертации, романы, спали, жили. Созывали семейные советы. Втихаря рассказывали политические анекдоты. Признавались в любви, играли свадьбы. Бережно передавали «слепые» перепечатанные под копирку экземпляры самиздата.
Всё течёт, всё меняется. На место самиздата пришёл вездесущий интернет, с ноутбуками и планшетами мы перемещаемся по всей квартире и… вновь оказываемся на кухне. За чашкой кофе и сигаретой просматриваем новости и ведём переписку. И по-прежнему сидим там с друзьями, пьём вино и спорим до хрипоты.
Вот и мы спорили. Да так, что чуть не рассорились, хотя «обставлять» нам приходилось не тесную коммунальную кухню, а просторную творческую. Но потом, слава богу, помирились и договорились, что на нашей кухне есть место всему. Ангелам небесным и демонам войны, будничному женскому героизму и детям, диетам, собакам, хомякам, одержимым учёным и суровым бородатым полярникам.
Мы вписали в наш сборник рецепты старинного дорсетского яблочного пирога, возможно, современника Марии Стюарт, свиных рёбер из ресторана «Ночной дозор» и женского счастья от профессионального коуча. Бережно сохранённая мандариновая косточка, даже после переезда, обязательно прорастёт деревом, вместе с которым сохранятся семейные истории в слоях памяти, как в слоёном десерте. Истории про консервы, предания про шашлык из осетрины с песком, тончайший фарфор и любимого дедушку. Мы разрешили нашим героям не только готовить, печь торты и есть, но и писать письма, выяснять отношения, играть на скрипке и встречать Новый год в разных полушариях.
В общем, задумывали одно — писали, писали и дописались до другого. О кухнях во всех их «проявлениях» и не только. Десять авторов — двадцать рассказов.
Ольга Фатеева,

Елена Сазыкина
Наталия Валева
Наталия Валева живет в Западной Европе. Род занятий: проектный менеджмент. Изданное: несколько учебников по специальности. Хобби: путешествия. Начала писать на курсах CWS год назад.
Рассказ — это обман читателя: только познакомишься, устроишься было поудобней, приготовишься приятно скоротать вечер за умной беседой, а вот уже и герои убегают, быстренько скомкав прощальные слова, забыв зонтик или плащ в прихожей.
Католиков в Англии не любят, и понятно почему: самый шумный осенний праздник, с треском фейерверков и яблоками в карамели, возник из-за неудачной попытки католиков взорвать английский парламент. Вечером 5 ноября у городского парка припарковаться невозможно, машины стоят плотными рядами — надев непромокаемые сапоги и тёплые куртки, люди направляются к озеру смотреть салют. Уже темно, дорогу указывает лента светодиодных огоньков вдоль тропинки. Все молчаливы и сосредоточены. Мы идём по светящейся дорожке в страну фей.
Никто не помнит, когда феи поселились в Англии. Ясно только, что очень давно. Неподалёку от городка, где мы сейчас живём, в деревушке Кроуборо (перевод названия — Воронья Слободка — мне нравится больше), в последние годы своей жизни бродил по полям в поисках таинственного народца Конан Дойль. А ещё чуть дальше, на следующем пригорке, видны макушки деревьев Зачарованного леса; там можно найти мостик, с которого бросали палочки Кристофер Робин и Винни Пух. По крайней мере, так уверяют владельцы и берут с туристов за вход такие деньги, что невольно хочется верить — это Тот Самый Лес.
Думаю, феи здесь где-то рядом — нашёптывают слова сказок и старых легенд, любопытные глаза заглядывают в окна нашего домика на краю поля, особенно в долгие зимние, по-английски дождливые вечера, когда только и хочется, что следить за пляской языков огня в камине.
Рецепт кружевного фарфора
Манечка поморщилась.
— Ну можно я выключу уже этого Шуберта? Громко, — она потянулась убавить звук.
Светланин «мини купер», красный с белой крышей, ворчал, толкаясь в пробке на Московском проспекте из Пулково — неудачное время для прилёта, утренний час-пик.
Перестраиваясь в левый ряд, Светлана поймала в лобовом стекле блик яркого, цвета весенней зелени, Манечкиного плаща и тихонько вздохнула. Плащ бросал вызов петербургской мороси и пасмурному общему настрою. Почему так всё не поровну раздали на небесах? У Манечки широко расставленные глаза разного цвета, один серый, другой зелёный, кожа как фарфор, на щеках тёмные жилки просвечивают, ходит она чуть вразвалочку, к тому же пухленькая — говорит, дедушка в детстве перекармливал конфетами, — а энергии её хватило бы на трёх таких, как Светлана.
В школе они дружили, после восьмого класса их разнесла жизнь, потом Манечка вынырнула, не изменившись фигурой и лицом, моментально очаровывая всех окружающих мужчин, перескакивая из одного бурного романа в другой, и опять потащила Светлану за собой, как деловитый муравей.
На момент второго появления Манечки Светлана пыталась развестись с мужем. Делёж имущества неожиданно затянул и увлёк обе стороны. Машину Светлане удалось отвоевать, но грозил переезд к маме в коммуналку. У Манечки как нельзя кстати оказалась свободная квартира на Васильевском, окнами в тёмный двор, зато просторная и с высокими потолками. Как-то естественно было решено, что Светлана может временно здесь пожить. Тем более Манечка бывала в Петербурге даже не каждый месяц и то кратко, наездами. Светлана преподавала сольфеджио в музыкальной школе, по местным меркам недалеко, на Приморской. Любила она только классическую музыку.
Расплачиваться приходилось встречами Манечки в аэропорту — та специально старалась подгадывать так, чтобы у Светланы был свободный день. Обычно из аэропорта надо было заехать в пару-тройку мест, что-то забрать, посмотреть, с кем-то встретиться. Вечера тоже, считай, были потеряны — клуб, ресторан, театр, Манечкины друзья или общие школьные. «Культурная столица — значит, и культурная программа!» — Светлана роптала про себя, но до открытого бунта или манифеста не доходило, ей нравилась квартира и какой-то особый воздух в ней: Манечка увлекалась антиквариатом и искала старую мебель, книги и безделушки в каждый свой приезд. У неё образовались связи в антикварных магазинчиках на Невском и Миллионной, знакомства среди завсегдатаев блошиного рынка на Удельной, у рельсов. Мебельные находки передавались проверенному реставратору. Стульями, приставными кофейными столиками, консолями, витринками постепенно заполнились комната, прихожая и кухня. В квартире теперь пахло лаком, древним деревом, библиотекой и политурой.
Место для парковки нашлось близко к парадной. Манечка достала из багажника объёмистую коробку. От неискренне предложенной Светланой помощи она отмахнулась.
— Лёгкая. И там хрупкое. В самолёте в багаж хотели забрать — я защитила. Лучше сама уроню и разобью, чем буду тебя потом ругать.
Светлана сразу же пошла готовить кофе, по много лет назад придуманному рецепту: достать зерна из морозилки — пожужжать кофемолкой — три с горкой ложки — щепотка сахара — пара крупинок соли — залить холодной водой — поставить старую медную джезву на маленький огонь — следить за пенкой, одновременно подставив две толстостенные чашки под кран, под струю горячей воды, потому что кофе хорош только в тёплой чашке — держать наготове кубик льда — добавить в джезву, когда будет закипать, чтобы осадить пенку — снова дать закипеть — снять с огня. В вазочке отдельно — миндальные пирожные. Светлана старалась их печь к каждому приезду подруги. Манечка в это время, не сняв плащ и туфли, шуршала упаковкой, разворачивала и сбрасывала на пол слои папиросной бумаги.
— Вот, — распрямилась она. — Не красота ли? Я себе на день рождения заказала, давно таких искала. И — смотри!
Две крохотные фарфоровые девочки в пышных розовых коротких платьицах, одна сидит на качелях — доске, перекинутой через пенёк, вторая старательно усаживает на другую половину качелей чёрного лохматого щенка. Всё в цветочках, зелени. Яркие краски, кружева. Румянец на пухленьких щёчках. Тонкие пальчики. Тёмные локоны.
Манечка открыла ключом одну из витринок в простенке кухни, сложила руки и залюбовалась.
— Куда бы их? Вот эти малыши, переставлю-ка я их вот на эту полку, подальше, пониже — уж слишком барочны, как из театра. Но всё равно не удержалась тогда, купила на Итальянской, в том подвальчике, помнишь? У мальчика паричок пудреный. Смотри, какой он важный! И роза в руке. И его подружка — девочка в капоре таком высоком — не представляю, как можно было носить, голова заболит же! Это Энс, довоенный — видишь, зелёное клеймо, подглазурное, расписаны воздушно, как будто акварелью. А после тридцатых-сороковых годов у них клеймили синей мельницей. Хотя, конечно, у этой, мельничной, мануфактуры мне попугаи больше нравятся. У Энса вообще птицы великолепные, как думаешь? А детишки лучше дрезденские, кружевные, как вот девочки. Идите сюда, мои хорошие. Тут вам будет уютно, в компании.
— Торт хочешь? У меня, кажется, остался с позавчерашнего, — Светлана боком протиснулась к холодильнику, по дороге случайно задев открытую дверцу витринки, и задумчиво посмотрела на остатки торта. — Ой, тут на двоих не хватит. Наверное.
— Нет, спасибо, я не хочу, я плюшку в самолёте съела. Сейчас кофе… Подожди. А вот таких кружевниц в пятидесятые годы американцы вывозили из Германии чемоданами, в подарок родне. Сейчас на интернет-аукционах продают наследство, поколение сменилось, у кого-то под новый интерьер не подходит. Но скоро эта красота закончится, будет вообще раритет. Жаль — кружево быстро старится. Если неправильно хранить, оно темнеет, сереет, грустит. Знаешь, его ведь делали из настоящих кружев, из ткани. Рецепт в дрезденских мануфактурах впервые придумали, держали в тайне. Кружевное полотно пропитывают фарфоровой массой, укладывают в форме юбочки, манжет. Потом ткань в печке сгорает, а белая красота остаётся. Разумеется, одно неловкое движение… и половины юбки нету…
Фарфоровые детишки на четырёх полках витрины с гнутыми ножками и обитой красным бархатом задней стенкой занимались своими делами. Девчонка-пупсик присела, испугалась цыплёнка. Малышка с красным бантиком на макушке протянула руку — срывает ландыш. Три маленькие танцовщицы в реверансе. Ещё одна малютка держит письмо, спрятав за спину, — застеснялась.
Манечка не торопясь закрыла дверцу, повернула резной ключ, присела к столику, потянулась за кофе. Сказала:
— Знаешь, у сестры моей бабушки были две девочки, дочки-двойняшки. В сороковом году родились. Бабушка на фронт ушла, добровольцем, медсестрой, в семнадцать лет. Жили все они где-то тут, на Васильевском, восемнадцатая линия, а номер дома не знаю. В блокаду сгинули… все, и сестра, и маленькие. Эвакуировать их наверняка не успели. Бабушка про них не говорила ничего. Мне мама рассказала. После того уже, как бабушки не стало. И вот я представляю иногда, что они, эти девочки, выросли, состарились, а я к ним приезжаю сюда. Или мы в кофейню, в «Идеальную чашку», с ними ходим, напротив Казанского. А они — такие две чудные старушки, друг на друга похожи, обе в костюмах таких старомодных, в шляпках с цветами.
Она взглянула еще раз на витрину со статуэтками, отодвинула чашку, поднялась.
— Ну пошли, Светик. Благодарю за кофе. Мне к двум часам на совещание, подбросишь? А вечером — в Fish Fabrique сходим, ладно? Там сегодня «Серебряная Свадьба» выступает — Петька звонил, отчитался, что билеты достал.
Поварята
— Здрасьте, а вы не скажете, в какой аудитории сейчас будет группа И-213В? А то я в расписании не нашла.
Валентина Борисовна пробурчала, стуча по клавишам:
— Там на стенде разве нет?
Она посмотрела поверх монитора. Пигалица, очочки в несерьёзной какой-то оправе, сарафанчик колокольчиком, цвета хаки, с широким поясом, в руках папка коричневой кожи с застёжками и оранжевой наклейкой.
— А ты новенькая? На второй курс, говоришь? Как фамилия?
— Вообще-то я преподаватель. Английского.
— Ой, это тебя на второй курс прислали? — новость совсем не обрадовала Валентину Борисовну. — Что ж они, постарше кого не нашли? Знают ведь, это наши повара… Там ребята сложные, не справишься.
Девочка поднялась на носочки и прижала руку ко рту.
— Звать-то тебя как?
— Алина… Петровна…
— Триста двенадцатая аудитория. Давай, с богом, уже через минуту пара начинается. Вот Соня тебя проводит. Софья Михална, быстренько проводи девочку в триста двенадцатую, а то заблудится.
Соня, второй секретарь, покладисто кивнула, встала и придержала Алине дверь.
— Ты недавно тут?
— Я кандидатскую пишу, здесь на полставки, научный руководитель попросил.
— Да, приколист твой научный руководитель. Эта группа такая. Все знают. Надежда русской кухни. Шеф-повара, одно слово. Талантливые, все говорят, но упёртые. В прошлом году у них с вашим завкафедрой с иняза, он у них вёл, конфликт был — они его выжили! К ректору ходили. Петиции писали. Они и уйти могут с пары всем табором, если опоздаешь. Ты им зачёты обещай, и письменные работы давай, они изводить не будут тогда. Может быть.
— Спасибо. Хорошо. Это вот здесь, эта дверь, да?
***
Иванов сидел на подоконнике вполоборота к двери. Он зацепился ногами за спинку стула и излагал всем, кто желал слушать, как он провёл лето. Лето выдалось на редкость бурным. При этом он гипнотизировал взглядом двух однокурсниц на задней парте — Инну и Марину, единственных девочек в группе. Рассказывал он увлечённо, девочки хихикали, остальные ребята разбрелись по классу, поэтому Алину Петровну сначала никто в аудитории не заметил. Та процокала каблуками к учительскому столу, аккуратно положила папочку на край, сосредоточенно поправила ее — чтобы ровнее. Иванов повернулся и с грохотом спустился с подоконника, осев на стул и ссутулившись. Остальные тоже расселись по местам. Алина Петровна продолжала стоять: смирно, расправив плечи и глядя на ребят.
— Ой, а вы кто? — спросил наконец Борисов.
— Здравствуйте. Меня зовут Алина Петровна, я ваш новый преподаватель английского языка. Это у вас заключительный год, английского потом больше не будет, поэтому работать придётся много, в конце семестра зачёт, по результатам года экзамен, — протараторила учительница. — Сейчас, сегодня, мы должны будем с вами познакомиться и провести аттестацию, какой у вас уровень знаний, и, уже исходя из этого, я построю учебную программу, потому что та, по которой предлагается работать, просто ни в какие ворота…
Алексеев, местный балагур, качаясь на стуле, пропел:
— Ааа-лина Петровна, давайте знакомиться, мы готовы. А вот насчёт учебной программы… Ну её. Мы же повара будущие. На фига нам учебная программа, мы про ложки-поварёшки и без вашего английского.
— Хм. Не могли бы вы представиться? И не раскачиваться на стуле? Дурная привычка. А то был у нас в институте, на первом курсе, один случай. Профессор языкознания на стуле качался, когда зачёт принимал, и упал! Вот мы все затаились — то ли бежать на помощь, то ли смеяться, то ли нет. А он из-под стола вылез, отряхнулся и говорит: «Что вы не смеётесь, ведь смешно же!»
Алексеев сильно покачнулся на стуле и рухнул под стол. Все засмеялись. Вылезая, он бурчал: «Это вы специально, сглазили».
— Хм. Ещё у кого-то есть какие-то вопросы или предложения по учебному процессу?
— А про личную жизнь можно? — растягивая слова, спросил Иванов.
— Можно, почему нет.
— Тогда рассказывайте.
Инна подтолкнула Марину локтем.
Алина Петровна подняла бровь.
— Вот, например, вы замужем? — продолжал Иванов.
— Нет, не замужем.
— А жених у вас есть?
Инна нагнулась под парту и заикала от смеха. Марина стала хлопать её по спине, приговаривая: «Ну тише, тише!»
— Не нравится мне это слово — жених, — поправляя очки, сказала Алина Петровна.
— Ну как это у вас, по-английски, бойфренд? Есть? — не сдавался Иванов.
— Ну что ты пристал к человеку, — возмутился вдруг Борисов. — Не смущай её.
— Молодой человек есть, — отчеканила Алина Петровна. — Зовут Анатолий. Мы планируем пожениться летом. Ещё личные вопросы?
— А чем вы увлекаетесь? — не сдавался Иванов. — Музыку любите?
— Да, музыку люблю.
— И что слушаете? — заинтересовался Алексеев.
— Разное. The Doors, Deep Purple, Pink Floyd. Классику, в общем.
— Хм, Пинк флойд, — повторил Иванов. — А вы помните, может быть, у них есть песня такая? We do not need no education.
— Ну да, знаю. Думаю, вам там больше всего нравятся строчки: Teachers, leave us, kids, alone. Но, к сожалению, не могу оставить вас в покое. У нас с вами большие планы на этот год.
— Бросьте, зачем поварам английский? — пропищала Инна.
— Ребят, я уже поняла, да и мне в деканате рассказали, что вы — творческие, талантливые люди. У вас всех большое будущее. Сейчас шеф-повара нарасхват. Если на стажировку пригласят? Или работать? Или устроитесь в ресторан, а шеф — иностранец? Вы должны, просто-таки обязаны по своей специальности всю терминологию знать, блюда, ингредиенты, инструменты, ложки-поварёшки, как вы сказали сейчас, чтобы от зубов отскакивало. Грамматику — необязательно, дело наживное, а вот лексику… Слова… На английском, а в идеале — еще и на французском, итальянском — ну он простой, немецком…
— Ингредиенты… На немецком… Ну вы, простите, загнули, — удивился Борисов.
— Да-да, обязательно! А то будете посуду мыть. Много лет. Или в столовке работать. В институтской. Вот. — Она достала из папки толстую книжку в яркой обложке. — Список мишленовских ресторанов Франции. Мы с Толей были вот здесь и здесь. Этим летом. Тут закладки. Вот здесь, в Марселе, — она перелистала книжку, нашла карту, показала, где Марсель, — здесь лучший в мире буйабес.
— Рыбный суп, — подсказала Инна.
— Да, рыбный. Вкусный — просто невозможно. Кстати, знаете, откуда название?
— Откуда? — в один голос спросили девочки.
— Boil, — Алина Петровна взмахнула руками, — кипятить — вначале он должен сильно кипеть, а потом — baisse — уменьшаете огонь, так! И вот, марсельские повара свой рецепт держат в секрете много поколений. И ещё там, рядом, прекрасные moules.
— Что-что? — спросил Иванов.
— Moules, мидии, — подсказала Марина. — Я их ела. Вкусно.
— Точно, мидии. В соусе с вином. Французы на набережной в очередь выстраиваются, номерки на руках пишут. На зависть соседним заведениям. В чём секрет? Интересно?
Ребята слушали.
— Вот ещё меню, мне Толя привез, из Англии, из ресторана «The Fat Duck». Молекулярная кухня. Кто скажет, что это такое?
— Ну это просто…
— Ну да, по названию просто. Мороженое из свёклы. А на вкус…
— Можно меню? — спросил Борисов и сам заулыбался, как это у него получилось. Меню передавали друг другу, вертели, разбирали слова и даже пробовали понюхать.
— А вы много по ресторанам ходите? — завистливо спросила Марина.
— Нет, не много. Мой, как вы сказали, бойфренд увлекается. Он химик по профессии. А увлечение у него — кухни Европы, в том числе молекулярная гастрономия. А я так, меню из ресторанов коллекционирую. Или вот, «Никола-Ленивец», знаете? Там у нас приятель, шеф-повар, в гастрокэмпе мастер-класс устраивал этим летом. Если интересно, потом расскажу. Ну что, будем работать?
— Ещё бы! — сказал вдруг не подававший раньше голоса Белов. Все обернулись, посмотреть на него, потом согласно закивали.
— Отлично. На следующий урок вам задание — найти в интернете рестораны, вот список, распечатать меню, перевести и постараться понять, чем же там кормят. И будем смотреть, из чего складывается успех. Состав блюд, подача. На всякий случай, если что-то непонятно или посоветоваться захотите, вот моя электронная почта. И всё-таки, давайте теперь я услышу, наконец, как вас всех зовут…
***
На студенческом капустнике перед Новым годом группа И-213В, играя на кастрюльках, сковородках, гитаре (Алексеев) и саксофоне (Борисов), исполнила старинную английскую песню про сову и кошку — в нескольких аранжировках: вначале в стиле рок, потом кантри, потом джаз. Алина Петровна со своим женихом сидела в первом ряду и аплодировала громче всех.
А в ночь после Нового года Иванову приснилось, что он печёт четырёхъярусный торт Алине Петровне на свадьбу. Проснулся он, улыбаясь. С трудом вспомнил, что именно его развеселило — во сне марципановому жениху он приклеивал вампирскую вставную челюсть.
Скрипач
— И что мне с ним?
— Это тебе не конь! Корми, там полпачки осталось, меняй опилки, когда пахнуть начнут.
— Уже! Уже пахнет!
— Так меняй каждый день. И мыть — его мыть нельзя, они от этого дохнут. Он кусается, хватай под пузо, когда вытаскиваешь. Всё, мне некогда, такси у подъезда, самолёт ждать не станет. Пока! Будь умницей, брателло. Береги Гошу.
— Чёрт! — Василий, ещё в пижаме, прошлёпал по давно немытому линолеуму на кухню и уставился на круглый аквариум на полу. Хомяк тянул мордочку к свежему воздуху и подпрыгивал на задних лапах вдоль стенки.
— Го-ша… Ну и вонь, — Василий сморщил нос, зевнул, закинул хомяку половину увядшей морковки из холодильника и ушёл в комнату. Скоро оттуда донеслись звуки скрипки. Хомяк прекратил прыжки, присмирел и как будто прислушался.
***
— Да хорошо всё с ним, спит, чешется, норы строит, в них что-то прячет — офшоры у него, наверное, — а я разоряю, когда опилки меняю. Знаешь, он, кажется, больше стал. Они ведь должны расти, да? Ну давай. Постой, ты когда вернёшься? Нет, не надоел, с ним веселей. Что Марина? С Мариной всё. Вот так. Ну всё. Закрыли тему. Вот сама ей скажи. Всё. Мне репетировать надо. Давай. Концерт. Да. Давай.
Василий бросил телефон на кухонный стол рядом с картонной коробкой из пиццерии.
— Вот так и бывает, Гоша, — неопределённо пробормотал он. — Бабы!
Хомяк прислушивался, склонив голову, — Василию показалось, сочувственно. Василий принёс скрипку на кухню, закрыл окно — не хватало ещё проблем с соседями — и устроившись поудобнее, начал наигрывать что-то лёгкое, прозрачное, теряющееся в невесомых осенних московских сумерках и оборвавшееся высокой печальной нотой.
***
Через месяц Гоша уже с трудом помещался в аквариуме. Пока хозяина не было, он осваивал пространство кухни — научился, подтягиваясь, вылезать из своей тюрьмы. Иногда высовывал нос за дверь, но сначала за порог не выходил. С удовольствием разглядывал свои лапы — они вытягивались и распрямлялись. Заслышав лифт, он с невероятной скоростью, царапаясь об острую кромку и скользя коготками по гладким выпуклым стенкам, забирался обратно в аквариум. Василий в те дни приходил с репетиций задумчивый, почти не замечая перемен в питомце. Сестра не появлялась, а тащить к ней животное через полгорода сил не было. Играть на скрипке для хомяка по вечерам вошло в привычку.
***
Звонок в дверь был отчаянным, резким и протяжным. Позвонили второй раз, потом кому-то на лестничной площадке стало плохо. Хомяк, заметавшийся было по квартире, принюхался, вздохнул и поковылял открывать. Василий стоял, привалившись к косяку, поэтому грузно упал на Гошу — тот еле успел увернуться и постарался подхватить.
— Я тут звоню… звоню, надеюсь, она откроет… Ой, ггггном… Белка, ты? Допился… Т…. Вы… ты кто?
— Здравствуйте, Василий. Я ваш хомяк, — Гоша говорил на правильном русском языке, но тихо и неуверенно, прислушиваясь, пробуя на вкус и взвешивая на языке тягучие бесформенные звуки, из которых лепились слова. — Я вам потом всё объясню. Заходите скорей, соседи могут выйти и расстроиться.
Он принялся хлопотать, что-то приговаривая успокоительно, расстелил постель, вышел с ведром и тряпкой за дверь, а когда вернулся, Василий уже спал, сидя, ниточка слюны свисала с уголка рта. Хомяк покачал головой, как мог уложил его, укрыл одеялом, поставил тазик. Потом вернулся на кухню, свил себе гнездо на диванчике из старенького пледа и пары подушек, включил канал «Культура» и приготовился коротать ночь, прислушиваясь к звукам из комнаты. Пачку корма с надписью «Для мелких грызунов» он поставил на стол поблизости, аквариум осторожно задвинул ногой в угол.
***
— Вы кто? Ты…
— Василий, доброе утро. Прошу прощения ещё раз. Я напугал вас. Я вчера вам объяснял. Вы не помните, наверное. Я Гоша, ваш хомяк, ну то есть, временно ваш, неважно. Вот вода, в кувшине. Я сейчас приготовлю чай. Горячий. С лимоном. Я видел, в холодильнике есть. Только не волнуйтесь.
Он приблизился к кровати, ловко поправил подушку, исчез на кухне. Оттуда послышалось бурчание чайника на плите, возня и хлопанье дверцами, вскоре Гоша притащил две табуретки, поставил рядом с кроватью, придирчиво убедился, что они не шатаются, потом вернулся с жостовским подносом — чай был сервирован изящно, с лимоном на блюдечке, салфеткой и сахарницей.
— Пейте, пожалуйста. У вас упадок сил. Надо пить. Я слышал по телевизору — я его часто включаю и слушаю, пока вас нет дома… простите такую вольность… Еще парацетамол или алкозельцер. Вы разрешите поискать в аптечке?
Василий кивнул, чувствуя, как ужас отступает. Как у него в квартире оказалось это существо, было совершенно непонятно, но оно, кажется, не опасно. Чай был вкусным — Гоша объяснил, что вскрыл подарочную упаковку.
— Теперь бы вам хорошо ещё поспать.
— Погоди, — слабо отмахнулся Василий. — Ничего, что на ты?
— Мне так привычней.
— Что это, блин, такое?
Гоша развёл руки в стороны. Получилось это у него несколько механически, как у заводной куклы.
— Я могу вам изложить сейчас только свою теорию. С ней можно соглашаться или нет. Разумеется, у меня мало знаний. Я так понимаю, это влияние музыки, ну, которую вы сочиняете и наигрываете мне иногда. Вот эта: таааа-тата… — Василий поморщился. — Но это долго объяснять. Вы уверены, что вам не помешает дополнительное волнение?
— Нет, блин. Только налей себе чаю, что ли.
— Если разрешите, я морковку возьму.
***
В квартире стало значительно чище. Гоша к тому же полюбил готовить — из книги вегетарианских рецептов итальянской кухни — и стряпал что-то вкусное к ужину: спагетти альо олио, равиоли со шпинатом, ризотто, морковный салат. По вечерам Василий играл, Гоша слушал. Василий сам предложил Гоше взять скрипку, нашёл свою первую, ещё из музыкальной школы, на антресолях — и с тех пор Гоша с ней не расставался.
***
На столе разбросаны листы с нотами, записанными от руки, наспех.
— Но тут же бемоль, я же играл бемоль, где твои уши?! — восклицал Василий.
— Тут бемоль и есть! — оправдывался Гоша. — Я слышал. Вот. После этого скерцо, да.
— Ну и почерк у тебя, пишешь как…
— Как хомяк лапой? — Гоша улыбнулся.
Почерк у него и правда хромал, зато слух был абсолютным, что оказалось очень кстати. Василий с детства сочинял музыку, а записывать всё было лень и недосуг. Хомяк же оказался прекрасным секретарём.
В дверь позвонили. Гоша, как это бывало обычно, когда заходили соседи, побежал прятаться в ванной.
— Привет, брат, сколько уже у тебя не была. Ой, а у тебя кто-то? Ты не один? — Сестра прислушалась к шуму воды в ванной. — Познакомишь? Нет? Стесняется? Ну да. А что у тебя тут? Музыка? Ну как обычно. И чистенько. Коллега? Хозяйственная, сразу видно. Борщ? М-м-м… Вкусно. Нет, не буду, спасибо. Ой, а хомка-то… — Сестра смотрела на пустой, чисто вымытый аквариум в углу. — Что? Подох?
— Нет…
— Сбежал? И как? Сам на свободу вылез? Наверное, под плинтус и к соседям. Тут у тебя под раковиной кошка пролезть может, не то что хомяк. Ремонт пора делать. Не переживай. Не расстраивайся ты. У Сашки морская свинка освинилась… опоросилась. Ну, одним словом, приплод принесла. Хочешь, привезу одного? Они смешные.
— Ну уж нет, спасибо.
— Ладно, как хочешь. Ты и так не скучаешь ведь? Увиделись — поеду дальше. Не буду мешать. Давай аквариум захвачу. Да донесу я. Не провожай. Ты маме позвони, не забывай, ладно? Люблю-целую, — она повернулась в сторону ванной. Вода шумела.
— До свиданья!!! — сказала театрально громко, приставив ладонь рупором ко рту.
Сестра убежала по лестнице, не дождавшись лифта. Гоша предусмотрительно просидел в ванной ещё минут пятнадцать после её ухода.
***
— Руслан Георгиевич, здравствуйте. Да, вывих. Да, уже был в травме. Я-я-я-я… знаю. Поскользнулся. Наверное. Буду. Я постараюсь. До завтра. Вот блин.
Василий сидел на диванчике, Гоша прикладывал к его ноге лёд.
— Прямо перед премьерой. Перед завтрашним генеральным прогоном. Руслан сожрёт меня. Уволит и сожрёт. Выставит на улицу.
— Я могу заменить вас. Я знаю вашу партию. Видел. Слышал все партитуры.
— Что…? Может, тебе ещё и скрипку мою отдать? Хотя… Это мысль… Ростом ты чуть ниже меня. Костюм… Решим с костюмом… Постой… ты ж меня опозоришь.
Хомяк молча ушёл в комнату, вернулся со скрипкой и начал играть.
***
К вечеру была нарисована схема кулис, первого и второго этажа, репетиционной; распланировали, где стоять и куда идти. Гоша должен был показать вахтеру на входе военный билет Василия — всё равно неясно, кто на фотографии: Василий в юности растил усы и бороду. До начала репетиции хомяк должен был прятаться от всех, а после подойти к дирижёру и объяснить, что он троюродный брат Василия, проездом из Новосибирска, заменяет его. Гоша отправился на такси — это был первый в его сознательной жизни выход на улицу.
***
— Это бесподобно! Гениально! — телефон вибрировал и рокотал. — Он затмил всех! Из всех скрипок было слышно только его одного. Но как играет! Помнишь, к нам приезжал тот знаменитый? Так вот, этот такой же. Только лучше. У него акцентировка… невероятно… я ни разу не слышал такой реверберации… Ты сам-то его слушал? В большом пространстве… Я не знаю, где в Новосибирске учат таких… Талант. Я его переведу к нам, пусть оформляет. Я его отшлифую. Хотя там нечего. Природа. Как он зазвучит… — Руслана Георгиевича несло. Василий опустил кулак на стол и тихо вздохнул. Гоше он пока говорить ничего не стал, а в вечер премьеры безобразно напился в квартире один.
***
Гоша, в концертном фраке, с развязанным галстуком-бабочкой, в обнимку со скрипичным футляром, с порога понял, что произойдёт.
— Василий, мне Руслан Георгиевич сказал. Я объяснил ему, что это неконструктивно.
— Ты… предатель…
— Не надо так. Я не собираюсь занимать твоё место.
— Хомяк… не собирается занимать моё место. Я польщён.
— Не надо. Я сам отказался. Мне сложно. Много внимания. К тому же у меня нет никаких документов. Даже справки от ветеринара. Если позволишь, я возьму твою скрипку, детскую. Иначе я просто погибну. Без музыки.
Гоша прошёл в ванную, повозился там, вышел, вынес аккуратно расправленный концертный костюм, пристроил его на вешалке в прихожей, метнулся в кухню за своей скрипкой и тихо прикрыл за собой входную дверь.
На следующее утро, протрезвев, Василий кинулся было искать хомяка, но не нашёл, а вскоре уехал на гастроли.
***
Гоша всё лето играл на скрипке на Арбате, пока городские власти не решили выставить оттуда музыкантов. Сейчас там пусто и скучно. Одна девушка, совсем юная, по дороге домой каждый вечер ненадолго задерживается рядом с тем местом, где пару месяцев назад он играл, — замедляет шаги и, кажется, слушает ту самую мелодию, которая теряется в невесомых московских сумерках и обрывается высокой печальной нотой.
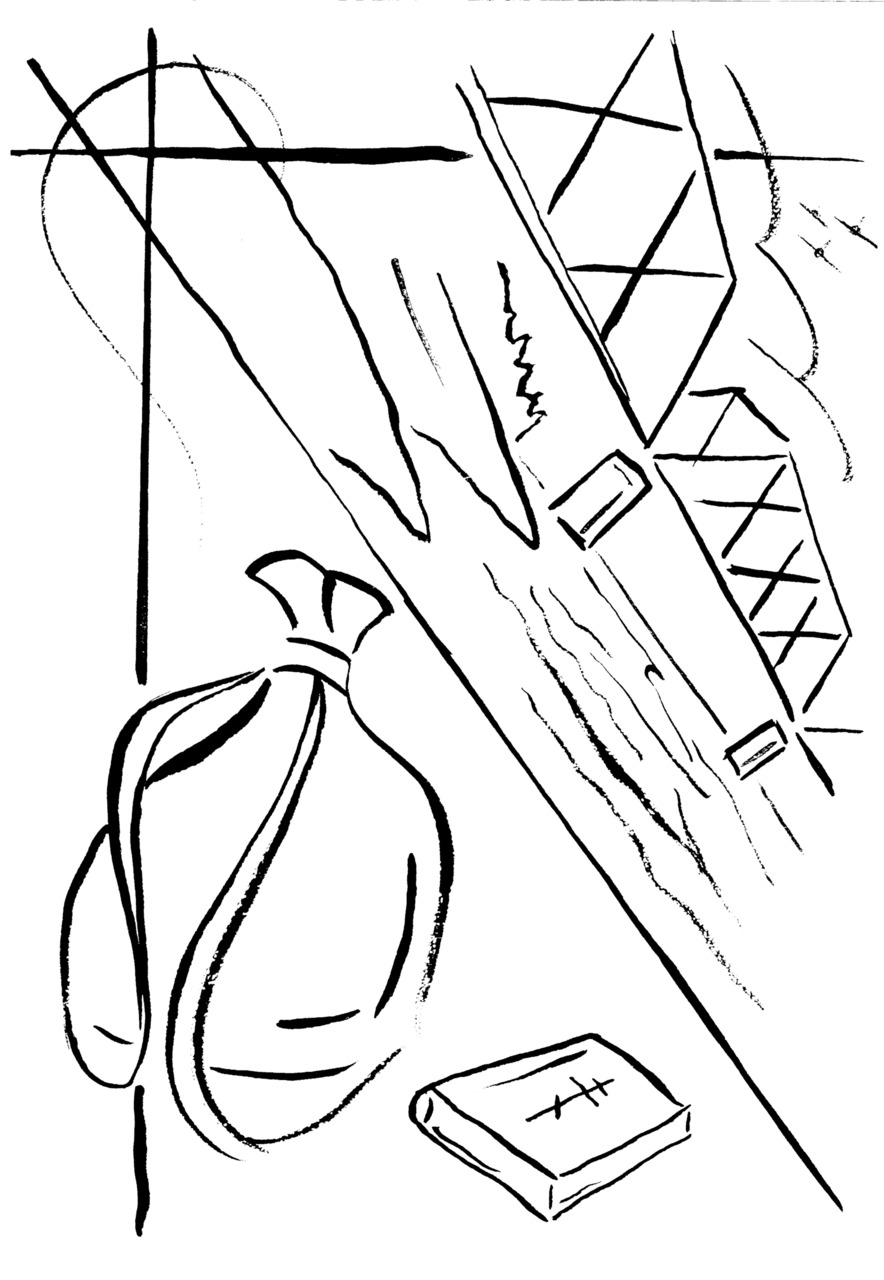
Анна Вислоух
Анна Вислоух — псевдоним журналиста, литератора Людмилы Шилиной. Живёт в Воронеже, по образованию экономист. Работала в областных и центральных СМИ. Окончила курсы литмастерства (мастерская руководителя семинара прозы ВЛК Литературного института им. Горького Андрея Воронцова). Автор пяти книг, рассказы опубликованы в международных сборниках прозы, альманахах, журналах.
В детстве я не знала, что такое кухня. Много лет при этом слове я представляла себе огромную комнату с чугунной дровяной печкой в углу, кучей разномастных столов и кривобоких, грубо сколоченных полок. И в этой комнате — толпа каких-то чужих женщин. Такой была общая кухня в бараках, где нам приходилось жить. Вместе с отцом, военным строителем, мы колесили по стране, зачастую раз в полгода меняя «место дислокации».
На одной такой кухне я заприметила стул. Он стоял у окна, и был, похоже, ничейный. Поэтому я завладела им безраздельно. Я забиралась на него с ногами, глядела в окно и что только себе не воображала!
Но однажды я зашла на кухню и увидела: мой стул занят! На нём стоял таз с мыльной водой. Я подошла ближе. Из пенной глубины на меня таращилась яркая китайская кофта с вышивкой. Какая-то совсем неизвестная тётя отжала воду с кофты и стала раскладывать её на полотенце, заново придавая форму растянувшемуся трикотажному полотну. Я стояла и наблюдала…
Я и сегодня наблюдаю. И слушаю, подчас внутренним слухом. Я словно шагаю по незнакомым улицам неведомых городов, выхватываю из толпы чью-то жизнь, как растянутую кофту из таза с мыльной водой, чтобы потом на своей писательской «кухне», разложив и подровняв так и эдак, придать этой жизни новую форму.
Так и пишу.
«Рыба тоже люди…»
Море стояло, словно суп в огромной тарелке. И на горизонте, как и положено, сливалось с небом. На пляже в этот рассветный час было пусто: местные жители сюда почти не ходили, для тех, кто приезжал к родственникам в гости, рановато. Только мой отец и его брат Борис совершали свой обязательный утренний заплыв. Мы с сестрой, насупленные и сердитые, наблюдали за ними с берега. Разбуженные на рассвете громким криком отца: «Вставайте, всю красоту проспите!», из чувства протеста против его командирских замашек и казарменной дисциплины упорно валялись на песке.
Вдруг мы увидели какое-то движение возле мирно плывущих купальщиков. Внезапно над безмятежной поверхностью моря взметнулся к небу фонтан из пены и брызг. В руках отца забилось что-то большое. «Рыба!» — крикнул он. Мы с сестрой вскочили. И подбежав к самой кромке воды, стали прыгать и кричать, не в силах помочь этой странной ловле. Рыба постоянно выскальзывала из рук. Только и люди не собирались сдаваться. Они пытались удержать здоровенную рыбину, но она каждый раз вырывалась и бросалась в воду. Похоже, она была оглушена веслом, как-то умудрилась удрать с рыбацкой лодки и вяло плескалась на поверхности, когда её заметили пловцы.
— Не поймают! — крикнула сестра. — Эх, уйдёт!
— Эге-гей! — завопила я, азартно размахивая над головой полотенцем. — Поднажмите! Вот же, вот она!!!
Рыбина, словно услышав наши вопли, высунула из воды голову и как-то криво оскалилась — а вот фигушки вам! В это время отец догадался схватить её за жабры и рванул к себе. Борис пытался удержать ускользающий хвост, в панике беспрерывно бьющий по воде. И всё это они умудрялись проделывать, оставаясь на плаву…
Уставшие, наглотавшиеся солёной воды, «рыбаки» подтащили гигантскую рыбину к берегу и, выкинув её на сушу, рухнули рядом. Мы подбежали ближе.
— Ничего себе… — изумленно пробормотала сестра.
На песке валялось морское чудище не меньше метра длиной. И выдернутое из привычной стихии, всё-таки не оставляло надежды в неё вернуться. Изогнувшись в отчаянном броске, оно пару раз ударило хвостом по песку, и я отпрыгнула в сторону. Мне показалось? Или рыба вправду тяжело вздохнула… Какое-то неясное в своей неловкости чувство шелохнулось где-то глубоко внутри и грустно затихло. Я взглянула на отца: «А сейчас мы его отпустим, да?», но тому было явно не до сантиментов.
— Осётр! — гордо сказал отец. — Вот это шашлычок мы из него сварганим!
…Любите ли вы Каспий? Любите ли вы Каспий так, как люблю его я? Когда море и, правда, напоминает тёплый суп в тарелке — ни суетливой ряби, ни зыбкого шалого гребня, только удравшие к берегу нечаянные мелкие волны, как если бы кто-то гладил против шерсти огромного неведомого зверя, слегка нарушают его невозмутимую поверхность. Если заплыть подальше и лечь на спину, можно даже не двигаться: море будет держать тебя в своих ладонях и только ухать и шевелиться под тобой всей живой громадой. А потом, обсыпанной бусинами горьковатой воды, нужно пронестись по раскалённому берегу и плюхнуться в его горячее нутро, в мельчайшую ракушечно-песочную взвесь, которая облепляет словно второй кожей всё тело. Оно мгновенно высыхает под палящим солнцем (42 градуса в тени!), и песчинки струйками стекают с ног, приятно щекоча.
Если очень повезёт, в ясный прозрачный день, встав спиной к морю, можно увидеть, как высоко в воздухе повисает едва различимая, потерянная, наверное, сказочным великаном белая панамка. Сестра утверждала, что это вершина Эльбруса. Правда, великан быстро спохватывался, подбирал свою шляпу, и она исчезала. Воздух тяжёл и густ, он маревом висит над раскалённой землей, и, возвращаясь домой, мы двигаемся сквозь него, ощущая тугие волны дыхания пустыни. И невесть откуда взявшийся ветер, смешавший в себе запахи свежей рыбы, давленого винограда, водорослей и ещё чего-то необъяснимого, но такого вкусного, что хочется брать его горстями и запихивать в рот, внезапно бросает песок прямо в лицо. И пока ты протираешь глаза, вдруг так же внезапно исчезает, прошмыгнув куда-то в сторону Набрани.
Каждое лето отец привозил нас с сестрой к деду в рыбацкий поселок на берегу Каспийского моря. В 33-м году его семья бежала с Кубани на юг от страшного голода. Отец не любил рассказывать об этом исходе, знаю только, что обессилевшего его брата Борьку дед приказал бросить на дороге, а бабушка посадила на закорки да так вот и несла. Дед был жёсткий до жестокости. У отца моего, воевавшего, раненого не раз офицера-орденоносца, служившего в секретных военных частях, похоже, сохранился на всю жизнь этот безотчетный детский страх: он разъел его нутро так, что и в зрелом возрасте рана не заживала и саднила. Решение деда, его слово не обсуждалось.
Дед откровенно не любил и даже побаивался только одного человека. Мою маму. И было за что. Здесь случилось всё ровно по поговорке: нашла коса на камень. Мать отвечала деду взаимностью и редко навещала свёкра. Приехав же, устанавливала на время нашего отдыха свои порядки и только улыбалась, когда дед шипел, думая, что она его не слышит: «Ишь, генеральша…» Не мог забыть, как с сыновьями выскакивал из окна женского общежития рыбсовхоза. Как-то раз мама приехала чуть позже нас. Путем беглого, но пристрастного опроса бабушки на предмет того, почему дорогой супруг не встречает, узнала, где её муж с братом и отцом решили провести время. И наведалась туда, бросив чемодан у калитки. Нежданно-негаданно, нужно сказать. О подробностях, однако, история умалчивает.
Мои отношения с отцом были очень сложными. Мне всегда казалось, что он меня… не любит, наверное. Вот к сестре, спокойной покладистой белокурой девочке, он явно испытывал тёплые чувства, и это было всегда заметно. А я… смуглый лохматый неслух, вечно всем перечивший и стремившийся к абсолютной самостоятельности. Покорности и послушания никакого! Кому же это понравится.
Правда, многие поступки отца мне только сегодня удалось понять. Остался непонятым лишь один…
Так дошли мой отец с братом и родителями до Каспия и осели в посёлке у моря. Был там богатый рыболовецкий совхоз, а потом о нём напоминали лишь старые баркасы на берегу, в тени которых мы прятались от прожигающего кожу солнца. Промышленным ловом здесь уже давно не занимались, браконьерничали на продажу, да для себя рыбачили. По посёлку была протянута узкоколейка, по которой, весело пыхтя, бегало чудное изобретение под названием мотовоз — до железнодорожной станции Хачмас и обратно. В чайхане в любое время дня можно было увидеть уважаемых стариков в папахах и мужчин помоложе, они пили чай из специальных стаканов «армуду», напоминающих по форме грушу, и вели неспешные беседы.
На улице нашей под названием Коммунистическая жили бок о бок русские, азербайджанцы, армяне, осетины, лезгины, евреи… Настоящая коммуна, словом. И можно только себе представить, какие блюда входили в репертуар моей бабушки!
Она готовила и знаменитый аджапсандал из «синеньких» — крутобоких, глянцевых, калиброванных баклажанов, и блюдо под названием имам баялды. Говорят, некий имам, испробовав его, просто потерял сознание! Она ловко крутила крошечную долму из виноградных листьев, она жарила люля-кебабы (люляки, называли их мы), исходящие прозрачным соком и призывно шкворчащие на сковороде, варила чихиртму из курицы, пекла пирожки с хартутом — есть такой сорт шелковицы. Дерево росло во дворе, и собирать ягоды поручали нам, детям. Причем сделать это можно было лишь одним способом: обрезав ножницами черенок, потому что спелая ягода лопалась, едва к ней прикасались рукой, и исчерна-фиолетовый сок весело бежал аж до локтей. Во дворе росла и огромная черешня, плоды на которой созревали размером с райское яблоко и были густо-бордового, уходящего в черноту цвета.
Бабушка засаливала кутум, селёдку в огромных эмалированных кастрюлях, и казалось, что такого количества рыбы нам не съесть никогда. Но это только казалось! Вкусноты она была необыкновенной, и исчезала целая рыбина за один присест. На стол, который соорудили во дворе под крышей из винограда, ставилась и огромная миска салата из знаменитых помидоров «бычье сердце». Я больше никогда и нигде такого размера томатов не встречала. Делала бабушка и еврейский медовый цимес, и шакшуку (яичницу с помидорами) и картофельный кугель, и форшмак, и жаркое с айвой… В углу двора притулились каменные жернова, чтобы тереть урбеч — натуральную пасту из сырых семян или орехов. Увидела я как-то в супермаркете, схватила… да разве ж это тот урбеч, который тёрла на камнях моя бабушка!
Варила она компот из мушмулы, а на чердаке сушила раскатанную в тонкий пласт блестящую тёмно-фиолетовую яблочную и грушевую пастилу — с лёгкой кислинкой, вяжущую терпкую вкуснятину.
Но апофеозом так любимой нами кавказской кухни был, конечно же, шашлык. Причём, шашлык из осетра считался блюдом поистине деликатесным: даже живя на берегу Каспия, мы не могли похвастаться, что так уж часто его ели. И тем более нам никогда не приходилось получать такие подарочки от морского царя.
Словом, это было настоящее чудо! И оно лежало на нашем столе, а мы сгрудились вокруг.
— Справная телушка! Как же вы её словили?! — бабушка восхищённо поцокала языком и провела ладонью по наждачному рыбьему боку. Рыбина вздрогнула и дёрнула хвостом.
— Сопротивлялась, подлюка! — отец гордо похлопал осетра по шипастому хребту. — Врёшь, от нас не уйдешь! Ну, кто будет разделывать?
К столу уже спешил дед с огромным тесаком. У меня внутри вновь шелохнулось что-то угловатое и теперь уже больно зацарапало своими краями. Мне совсем не хотелось смотреть, как рыбу будут чистить и рубить на куски. Поэтому я ушла в сад, где у меня было своё укромное место: шалаш из яблоневых веток, и решила, что вернусь только к концу процесса. Или вообще — когда есть позовут… Осетра мне было жалко, но мой голос в иерархической системе нашей семьи весил ещё меньше, чем тявканье дворового пса по кличке Мальчик. В шалаше лежала только начатая, но уже захватившая целиком моё воображение книга «Дерсу Узала». Я открыла её и углубилась в чтение…
Но уже через час совершенно нереальные запахи выманили меня из моего укромного убежища, и я, как за дудочкой крысолова, поплелась на этот аромат, не особо сильно сопротивляясь. Во дворе уже вовсю полыхал мангал, огонь пожирал пахучие ветки виноградной лозы, они превращались в ломкие угли и рассыпались рдяно тлеющей золой. Отец, священнодействуя, насаживал на шампуры осетрину, исходящую жиром, аккуратно приминал, закреплял каждый кусок шапочкой из помидора и лука и — вжжик! — ловко цеплял следующий шмат.
Готовые шампуры уже лежали ровными рядами на краю большущего таза.
— Борис, посмотри, как там угли, не пора? — крикнул отец.
— Давай, клади! — отозвался дядька. Отец осторожно, как младенца, взял в руку первый шампур, нежно опустил его на край мангала. Капля жира стекла на угли, и они тотчас же отозвались недовольным шкворчанием, которое то затихало, то усиливалось по мере того, как отец выкладывал эту рыбно-шампурную мозаику над пышущей жаровней.
— Ну вот, минут двадцать и… Мать, собирай на стол!
Бабушка засуетилась, забегала из летней кухни под виноградный навес, и на столе начали как по волшебству появляться лаваш, ткемали, горы зелени всех цветов — от нежно-салатового до иссиня-фиолетового, искрящиеся на разрезе помидоры, кастрюля с холодным аджапсандалом и запотевшая бутылка тутового самогона.
— Деда, деда-то покличьте, отдохнуть пошёл в хату! — бабушка махнула Борису рукой.
— Нехай ещё подремлет, щас всё готово будет, тогда и позовём!
— Тащи! — отец кивнул на эмалированный таз, приготовленный для шашлыка. Я обречённо двинулась к мангалу, подставляя посудину под невероятные янтарно-солнечные куски истекающей соком рыбы.
— Ого-го! — отец ловко укладывал ломти шашлыка горкой. Они возвышались, как тот Эльбрус, источая запах костра, виноградной лозы, солёного моря, загорелой кожи, солнца и лета.
— Готово! Неси на стол! — отец, довольный, предвкушающий пир горой с неспешной беседой и уже сто раз повторенным, но обрастающим всё новыми подробностями рассказом о том, как они с братом поймали осетра, любовно оглядел эту красоту. Я, затаив дыхание и крепко прижав таз к груди, маленькими шажками двинулась к столу…
За что я зацепилась, не знаю. И вообще, зацепилась ли… Я дальше плохо всё помню. Но на спасительную мою забывчивость будто кнопками пришпилили одну яркую картинку: кто-то безжалостный вырывает таз у меня из рук, он взмывает вверх, куски рыбы подлетают вместе с ним, но не падают аккуратненько на место, а разносятся по всему двору, а я почему-то лежу носом в пыли. И понимаю, что никто никогда меня не простит.
Бабушка попыталась было отклеить меня от ножки стола, в которую я вцепилась, но я сопротивлялась изо всех сил — оставьте, я лучше умру, как эта несчастная рыба. Отец, недолго думая, схватил меня, как котёнка, за шиворот и дёрнул вверх.
— Чего разлеглась! Собирай, быстро!
— Ты что, Петруша, ты что? — засуетилась бабушка. — Да разве ж это можно теперь есть?!
— Быстро, я сказал, все сюда! — зарычал отец. — И от песка отчищайте!
— А ты, — он кивнул остолбеневшей сестре, — бегом к деду. Скажи, что не готово ещё, пусть не торопится. Задержи, как хочешь!
И вот мы — я, всхлипывающая и дрожащая от ужаса за содеянное, зло молчащий отец, охающая бабушка и матерящийся дядька — бросились собирать только что светившиеся янтарным светом куски шашлыка, и отряхивая каждый от песка, складывать в таз.
— Быстрее! — свистящим шёпотом подгоняла сестра, высунувшись из окна. — Дед в туалет собрался!.. Не-не, дедушка, всё нормально, ты не торопись, я тебе помогу…
…Таз с шашлыком торжественно высился посреди стола. Мы, красные и потные, расселись на своих местах. Дед прошёл к рукомойнику, поплескал водой на ладони.
— Давай, отец, садись, будем шашлык пробовать, — напряжённо улыбаясь, сказал ему Борис.
— Давайте, давайте, что ж не попробовать! — дед вдохновенно потёр руки. — Наливай, Петруша! Под такой-то шашлык…
Отец молча разлил тутовку по стопкам, взял с верха рыбного Эльбруса большой кусок шашлыка и дрожащими руками шмякнул его на тарелку деда. Молчание повисло в воздухе у нас над головами и стало густеть, наливаясь тяжёлой тишиной, как соком. Дед взял тарелку с шашлыком, любовно опрокинул стопочку, удовлетворённо, с оттяжкой крякнул. Лоскутом лаваша подцепил рыбу и отправил в рот. Все замерли. Даже Мальчик не громыхал цепью. Дед медленно жевал, качая головой и причмокивая.
— Ну как? — не выдержал отец и похоже перестал дышать. — Как шашлычок? Годится?
— Ну… что ж… — в это время у меня в животе ещё сильнее что-то зацарапалось, будто собралось громко заявить о своём присутствии, и стало огрызаться на мои судорожные попытки затолкать его обратно.
— Ну что ж… годится!
Отец шумно выдохнул и одним махом опрокинул в рот стопку с тутовкой: «Ээээх!» Игра в «Морская фигура, замри» тут же закончилась, все зашевелились, заулыбались и стали накладывать себе куски рыбы. Только я никак не могла выйти из ступора и, уставившись в пустую тарелку, смутно понимала: если я сейчас проглочу хотя бы крошечный кусочек этого проклятого шашлыка, тот, кто поселился пару часов назад у меня в животе, уж точно оттуда выберется на волю. И пока не поздно, мне нужно во что бы то ни стало уговорить его не высовываться.
— А ты, внучка, чего ж не ешь? — дед наконец-то увидел моё перевёрнутое лицо.
— Да у неё… — заспешила на помощь бабушка.
— Да у меня… живот болит! — я выскочила из-за стола и помчалась к туалету. Из шалаша выглядывал Дерсу Узала и в такт моим шагам кивал: «Рыба… тоже… люди… Наша… его… понимай… нету… Рыба… тоже… люди…»
— Вот говоришь, говоришь им — не ешьте зелёную алычу, всё как об стенку горох, — неслось мне вслед…
Мой отец при всей своей внешней суровости оставался человеком мягким, бесхитростным и откровенным. Когда он был мальчишкой, по продразвёрстке увели с их двора единственную корову, потому что он честно рассказал дяденькам, где её спрятали. Дед тогда чуть не пришиб пацана, бабушка заслонила собой, и была избита до полусмерти. Но этот случай не сильно отразился на характере отца: он так и не научился хранить никакую тайну, за что мама, очень закрытая и сдержанная, довольно едко его вышучивала. Я знала об этой особенности, но не могла даже представить дальнейшего развития сюжета: подвыпив и расхрабрившись, отец вдруг решил признаться деду, что… уронил таз с шашлыком. Нёс к столу и за корень черешни зацепился. Дед помолчал и произнёс:
— Такую рыбу спортили! Как есть безрукие!
Отец обиделся.
— Если бы я не сказал, ты бы и не узнал — вон ел и нахваливал!
— Дак ел, а понять не мог — чевой-то у меня на зубах песок скрипит?!
Мне рассказала об этом сестра. На похоронах отца…
Переправа
Маруся проснулась от стука. И не проснулась даже, а вскинулась и села на постели. Показалось?.. Рань-то какая, поспать бы ещё. Но кто-то безжалостный уже выхватил её из предрассветного забытья и швырнул в зябкое весеннее утро с остывшей печью и сползшим одеялом. «Опять Пашка, чёртушка, на себя перетянул», — подумать успела, как в окно снова забарабанила чья-то нетерпеливая рука.
— Манька, Манька, вставай, горе-то какое! — голос за окном захлёбывался плачем. — Пове-е-естки-и-и нашим мужикам принесли-и-и-и!
Маруся, леденея от ужаса, подскочила к окну и рывком распахнула его. На улице стояла соседка Клавдия — в рубашке, растрёпанная, босиком на грязной, ещё в снежной каше земле.
— Повестки! — Клавдия, задыхаясь, прижала руки к горлу, словно пыталась проглотить солёный, пополам со слезами стон.
— Уже к тебе… идут! — провыла она и, припав к стене, стала оседать прямо в грязь…
— Домой беги, Клавдя, — Маруся выскочила из хаты, оскользнулась, но устояла, подхватила подругу. — Что ж ты Федю-то кинула?!..
— Федя… на МТС заночевал… всё с трактором своим… а тут… а я… Два часа на сборы дали, да пока его на МТС найдут… и нет этого времечка…
Маруся замолчала, плюхнулась рядом с Клавдией прямо на стылую землю и прижала её голову к своей груди…
— Сядь! — Павел хлопнул ладонью по лавке. — Сядь, кому сказал!
Маруся запнулась на лету, медленно повернулась… Уже час она металась по хате, хватая всё, что попадалось под руку — одежду мужа, хлеб, куски сала, спички, табак — потом вдруг замирала, с недоумением разглядывала то, что было у неё в руках, откладывала в сторону и начинала сначала. Павел сидел возле стола и курил одну самокрутку за другой. В мирной-то жизни Маруся в хате курить не разрешала, а сейчас… Господи, да как же это! Пашенька…
— Сядь, Маня! Послушай, что скажу… Там, в сундуке…
Она обречённо опустилась на лавку возле мужа. Он молчал. Маруся тоже. «Что, в каком сундуке? При чём здесь сундук?!» Но Павел ничего больше не сказал, а переспросить она не решилась. Вдруг Маруся запоздало поняла, что нужно бы поторопиться, поговорить ещё хотя бы, она явственно ощутила, что время, отведённое на прощание с мужем, уже высыпается в вечность, как пуховая мука сквозь сито.
— Паш, а помнишь, ты меня…
— Не надо, Маня… Вот вернусь, тогда всё и вспоминать будем.
Так и просидели Маруся с мужем молча, не произнесли ни слова. Да и что говорить-то… Потом Павел встал, скупо обронил:
— Пора…
Закинул на плечи мешок с одной переменой и шагнул за порог.
В центре посёлка уже выстроились зловещей тёмной шеренгой грузовики. Почти все жители, кроме совсем старых да малых, собрались на площади проводить мужиков на фронт. Стояла ранняя весна 1943 года…
Влажный мартовский ветер бил Марусе в лицо, но не освежал, а перехватывал её неровное дыхание так, что казалось, она сейчас и вовсе перестанет дышать. Слёз уже не было. Только сердце будто кто-то засунул в тиски-колодки и никак не хотел отпустить. Оно трепыхалось и пыталось вырваться на волю. И замирало от отчаянья после очередной бесполезной попытки. Маруся добрела до дома, рухнула ничком на ещё примятую, словно хранящую очертания тела любимого, постель, и забылась в каком-то зыбком полуобморочном сне, спасшем её от удушья. «Вот проснусь утром, а мне всё приснилось — и война проклятая, и Пашенька в грузовике…».
Назавтра по притихшему поселку пробежала новость — мужчин далеко не увезли, а стоят они в городе N на сборном пункте и будут там ещё с неделю.
Маруся, еле переводя дух, мчалась по улице. У сельсовета уже колыхалась неспокойная безрадостная толпа.
— Бабы! — закричала Клавдия, взобравшись на крыльцо. — Раз вышло такое дело, надо в город пробираться, да с нашими мужиками хоть денёк провести.
Она не выдержала и горько всхлипнула — у неё с Фёдором еще и медовый месяц не закончился. Пробираться-то как? И в мирное время путь неблизкий, а в войну и вовсе.
— Страшно… — засомневались в толпе.
— А мужикам нашим не страшно?! Так мы ещё разочек обнимем их, кто знает, может в последний…
На том и порешили.
…Здесь она почти всегда замолкает. Я оборачиваюсь.
— Бабуль! Ну чё дальше-то было? Что, правда, поехали они?
— Поехали, Павлик, как задумали, так и исполнили.
Она молчит. Смотрит на фотографию, старую, чёрно-белую, и молчит. Я знаю эту историю наизусть. И знаю, что было дальше. Но она должна мне всё рассказать. Опять сначала, уже в который раз. Ритуал у нас с ней такой — тайный. Она и рассказывает, охотно включаясь в нашу старую игру. На самом деле, это не единственная история, которую знает моя бабушка, но именно её она вспоминает как-то по-особенному, склоняя голову набок, и лицо у неё становится мягкое и задумчивое. И непременная фотография в руках…
— Вообще-то я тебе это уже всё рассказывала, — сердится она. Я досадливо киваю: «Ну ты же знаешь…»
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.