
Бесплатный фрагмент - Константин Игумнов. Великий сын Лебедяни
Тебя ж, как первую любовь
России сердце не забудет.
Ф.И.Тютчев
К 150 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИАНИСТА
Первое издание этой книги вышло в знаменательные для города Лебедяни дни — 400-летний юбилей города. Лебедянь помнит своих сыновей и собирала их в эти дни на Второй съезд землячества. И, конечно же, имя Константина Николаевича Игумнова звучало на устах и жителей города, и его многочисленных гостей. Пусть и эта книга послужит в качестве дополнительного стимула для воспитания у граждан России чувства гордости за своих предков и для того, чтобы память о выдающемся лебедянце и великом русском патриоте сохранялась и в последующих поколениях россиян.
Предисловие к 1-му изданию
Лебедянская земля дала России много блистательных имён. Среди них есть писатели, художники, учёные, военные, но особо выделяется имя великого музыканта, одного из основателей московской пианистической школы Константина Николаевича Игумнова.
Прогуливаясь по тенистым улицам Лебедяни, вы несколько раз встретите имя Игумновых, членов обширного купеческого клана, некогда живших в этом городе: то на бывшей Дворянской улице, у старинного трёхэтажного особняка, в котором провёл детство Костя Игумнов, то на торговой площади, где стоит храм, воздвигнутый одним из Игумновых, а потом обихоженный другими членами клана, то на бывшей Христовоздвиженской улице, где находится музыкальная школа имени К.Н.Игумнова, то на местном кладбище, где похоронены многие его предки…
Выходить надо в предзакатное время, когда косые лучи солнца, пробиваясь через густую листву лип, отражаются на домах особым красно-янтарным цветом, когда городской шум покидает улицы, а на душе становится как-то тягостно грустно, и в то же время радостно от ощущения какой-то предстоящей встречи с прошлым. Мне кажется глубоко символичным, что именно в этом русском купеческом городе, в Верхнем Придонье, утопающем в яблоневом и сиреневом цвету, появился удивительно яркий талант, который прославил потом всю Россию и который находился в какой-то необычайной гармонии с душой этого края…
…Предметом моих писательских интересов до сих пор была главным образом история, и настоящая книга как бы выпадает из ряда ранее написанного и опубликованного. Идею о её написании подал Лебедянский краеведческий музей, и неожиданно для себя я загорелся желанием собрать воедино все разрозненные материалы — архивные данные, воспоминания современников и его учеников, книги и статьи — и написать биографию этого удивительного человека.
Имея в прошлом отношение к дипломатии и разведке, я приступил к работе, испытывая определённые сомнения в своих силах и компетентности, но в процессе работы я настолько увлёкся, что пожалел, что не соприкоснулся с удивительным миром музыки раньше. Собирая материал об Игумнове и познакомившись с его учителями — великими пианистами и композиторами, с товарищами по учёбе, с обстановкой в Московской консерватории, с событиями музыкальной жизни России конца XIX-середины ХХ в.в., я решил расширить рамки повествования, включив в него рассказ не только о нём самом, но и о людях, окружавших его с детства, об атмосфере, в которой он жил, работал и черпал вдохновенье.
Естественно, писать об Игумнове и не касаться при этом его музыкального творчества было невозможно, но я, не будучи специалистом, сделал это в самом общем виде. Мне важно было показать Игумнова как человека. Выполнить эту задачу было не так просто: собирать материал приходилось буквально по крохам, по крупицам, и находить их можно было в самых неожиданных местах.
Константин Николаевич Игумнов был, как известно, не только великим пианистом, но и великим педагогом. За время своей 50-летней работы в Московской консерватории он подготовил целую плеяду пианистов и музыкантов, которые составили потом славу нашей страны. Примечательно, что следуя примеру своих уважаемых учителей — Н.С.Зверева, А.И.Зилоти, П.А.Пабста, С.И.Танеева и др., он учил своих учеников не только музыке, но и воспитывал в них чувство любви к своей родине, бережное отношение к её культурным традициям и прививал им чувства высокой нравственности.
И последнее: эта книга — дань моего глубокого уважения к великому земляку. Хочется надеяться, что читатель найдёт в ней для себя много полезного и интересного.
В заключение хочу выразить благодарность моей жене Григорьевой Н. Г., оказавшей неоценимую помощь в поисках материала для этой книги, историкам–краеведам Н. Кривошеину и В. Акимову, а также администрации г. Лебедяни, благодаря которым эта книга увидела свет.
Часть первая Истоки
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А.С.Пушкин
Глава 1 Корни
Как сообщает нам Сергей Николаевич Игумнов, купеческий род Игумновых прослеживается вглубь до первых десятилетий XVIII века и начинается с некоего Саввы, бывшего дьячка в каком-то селе Рязанского воеводства, что на границе между Раненбургским и Ряжским уездами. Его сын Ефим, родившийся около 1710—1712 г., по семейному преданию, собирался записаться в крепостные к какому-то помещику и начал вести с приказчиком этого помещика переговоры о своём закрепощении. Но его свободолюбивая жена Василиса резко запротестовала и устроила мужу такую бучу, что тот отказался от своего намерения, а приказчик тоже «обратился вспять». Таким образом, Ефим Саввич избежал закрепощения, а его сын Иван Ефимович (1747—1828), в царствование Екатерины числился уже «купеческим сыном» г. Данкова.
К концу XVIII века у Ивана Ефимовича были уже взрослые дети — Степан (1774—1833) и Иван (1766—1855). Поскольку Игумновы питали явное пристрастие к имени «Иван», этот Иван Иванович получил звание «старший», в отличие от своего сына Ивана Ивановича-младшего.
Иван Иванович-старший был женат на Марии Васильевне Поповой, дочери данковского купца (сразу после этого брака семья Поповых поменяла фамилию и стала носить фамилию «Гостевы»). При регистрации, очевидно в силу своего церковного происхождения или желая взять фамилию супруги, Иван Ефимович хотел взять фамилию «Попов», но чиновник отсоветовал, сославшись на множество людей с такой фамилией. Тогда Иван Ефимович взял фамилию «Игумнов» — забрал чином повыше попа!
На границе XVIII и XIX в. в. Иван Ефимович ведший бакалейную, москательную, чёрную и возможно винную торговлю, уже будучи в преклонном возрасте, вместе с сыновьями Иваном и Степаном, переехал в соседнюю Лебедянь. Есть данные о том, что своей рачительностью и хозяйственной жилкой Иван Ефимович произвёл сильное впечатление на местного богатея-виноторговца, и тот, очевидно, будучи бездетным, перед смертью отписал Игумнову и дом на Дворянской улице (к настоящему времени не уцелел), и все капиталы. Это и послужило мощным толчком к бурной торговой деятельности всего семейства.
Иван Ефимович, вероятно, был первым в роду человеком, проявивший художественные способности. Он стал художником-самоучкой и писал иконы и картины. Его правнук Сергей Николаевич Игумнов пишет, что в углу кладовой родительского дома он однажды увидел пылившуюся на стене картину «аршина в два длиной» с изображением не то скелета, не то смерти. Напугался он так, что больше в кладовую не заглядывал. В Лебедянской (Преображенской) кладбищенской церкви, строителем и старостой которой был Иван Ефимович, до революции имелись образа его работы — и ничего, никто страха перед ними не испытывал. Умер первый носитель фамилии «Игумнов» в 1828 году в возрасте около 90 лет, когда отцу Сергея Николаевича было 5 лет. Долгожительницей была и его жена Мария Васильевна.
(Старо-) Казанский собор города сооружался главным образом на средства Ивана Ивановича-ст. и Степана Ивановича. О том, как умирал Иван Иванович-старший, записано его внуком Николаем Ивановичем и отцом К.Н.Игумнова в специальной тетрадке, заведенной для занесения памятных дат и событий рода:
«…Дедушка Иван Иванович скончался 9 марта 1855 г. в 7 часов утра. Накануне его смерти после обеда я по обыкновению вошёл в контору и уселся проверять книги… Дедушка в это время сидел на диване… Вдруг он заплакал… и только твердил сквозь слёзы: „Прошла, прошла, кончается жизнь моя“. Потом он успокоился, вынул некоторые записки, касающиеся до собора, проверил их, приказал мне вписать их в приходно-расходные книги и подписал их. Вскоре… подали самовар, и он сел по обыкновению пить чай… Садясь за чай, дедушка сказал: „Напиться мне чаю с вами последний раз“. Он был, впрочем, спокоен и улыбался. Тотчас после этого я ушёл домой… Когда мы всей семьёй сидели дома за чаем, он пришёл к нам, посидел немножко с нами у печки в кабинете, потом вышел в залу и сел у среднего окна, которое выходит на улицу. Мне было видно…, как он сидел и беспрестанно утирал слёзы…»
Запись на этом обрывается, но оставляет непередаваемое ощущение мистического чувства, овладевавшего старыми людьми того времени в преддверии наступавшей смерти. Очень часто они почти физически ощущали момент своей предстоящей кончины и в полном сознании готовились к ней. Кто из нынешних людей наблюдал подобные сцены в отношении своих престарелых родственников, умирающих от какой-нибудь очередной болезни века? Это очевидно атавистическое чувство люди нашей эпохи утратили безвозвратно.
А дед Иван тихо скончался в своём флигеле в присутствии родственников, не забыв дать последние наставления по делам, послать за священником, благословить образами домочадцев, причаститься и пособороваться.
В 1798 года у Ивана Ивановича-старшего и Марии Васильевны родился сын Иван-младший, а уже от «младшенького» 9 марта (ст. ст.) 1823 года родился автор вышеприведенных записей — Николай Иванович Игумнов. Он был третьим ребёнком в семье, но после смерти старших брата и сестры стал первым. Женой Ивана Ивановича-младшего в 1819 году стала 16-летняя Елизавета Терентьевна, урождённая Тарасенкова. Отец её Тарасенков Терентий происходил из коломенских крестьян, потом вышел в московские купцы. Елизавета Терентьевна умерла в 1845 году в возрасте 42 лет, родив за 26 лет замужества 13 детей, из которых 5 умерли в грудном возрасте, трое — в раннем детстве или отрочестве и лишь 5 дожили до глубокой старости. Муж пережил её на 10 лет, но, тем не менее, умер раньше своего отца в возрасте 56 лет от нервической горячки. Он отличался хорошим здоровьем и на болезнь свою внимания не обращал, лечиться не хотел. Врача к внезапно занемогшему пригласили поздно, больной терял уже сознание. Успели только пособоровать — священник ждал проблесков сознания в соседней комнате, но попрощаться с детьми и родными больной не успел. И.И.Игумнов-младший, сообщает нам его внук Сергей Николаевич, уже носил немецкое платье, «завёл культурную обстановку, писал культурным почерком, но не без грамматических ошибок».
У Ивана Ивановича-младшего (1835—1884), купца 1-й гильдии и почётного потомственного гражданина были две дочери и два сына. Один из сыновей — Пётр (1832—1911) — был тоже купцом 1-й гильдии, почётным потомственным гражданином Лебедяни и принимал активное участие в торгово-экономической деятельности города и уезда. Так он вместе с братом Иваном проявил инициативу создания в городе «Общества охотников конного бега» (1881). Конный завод Петра Ивановича располагался при селе Елизаветино Задонского уезда. Позже П. И. Игумнов возглавил управление Лебедянским банком. Он умер от сердечной недостаточности (аневризм аорты). В 1860 году он женился на Марье Николаевне Хренниковой, умершей в 1883 году от чахотки. У них было 13 детей, из которых двое умерли в младенческом, двое — в детском от туберкулёза, пятеро — от него же в возрасте от 30 до 60 лет. Пётр Иванович был типичным дельцом и хозяином, «хронически употреблял водку», но до последних дней сохранял бодрость. В семье имел кличку «папа Петя». Как все Игумновы, занимался и благотворительной деятельностью и с 80-х годов до 1906 года был старостой Старо-Казанского собора.
Сестра его Зинаида Ивановна, в браке Калашникова, умерла в возрасте 60 лет с «хвостиком», оставив после себя с десяток взрослых детей.
Сестра Марья Ивановна умерла в старости от воспаления лёгких. До этого ничем никогда не болела, седых волос не имела, с юности «проявляла истерический характер, 33 лет вышла замуж за Хренникова, но осталась девицей». Неудовлетворённый муж требовал развода, но за неё вступились братья. В конце концов, Хренников плюнул на всё, отказался от развода, удовлетворившись взять на себя её приданое. Содержать оставленную жену согласились братья Николай и Пётр Ивановичи и несли свой крест в течение 50 лет. После их смерти тётку содержали сыновья Николая Ивановича — Николай и Константин.
Брат Иван Иванович, неудавшийся пианист, умер в 49 лет в 1884 г. от склероза печени. Он много пил водки ежедневно, но, по словам С.Н.Игумнова, не до полного опьянения. Значит, мужик он был всё-таки крепкий. У Ивана Ивановича на хуторе близ села Шовское тоже был завод рысистых лошадей. Жена его Елизавета Николаевна, урождённая Проскурина (1848—1940), умерла своей смертью в глубокой старости. За 16 лет супружества она произвела на свет 11 детей, из которых только 1 умер в младенчестве: дочь Елизавета умерла в возрасте старше 60 лет, дочь Юлия («Жули-Мули»), долго жившая в семье Л.Н.Толстого и выполнявшая обязанности секретаря писателя, прожила 70 лет, а эпилептик Клавдия — 25 лет.
В конце жизни вдова Елизавета Николаевна продала имущество с молотка и была определена в богадельню Тамбовского губернского земства. После революции ей выхлопотали небольшую пенсию, и всё было бы в порядке, если бы не длинный язык пенсионерки. Где-то в 1933—35 гг. она стала хвастать о том, как богато и знатно жила в прошлом, что у неё дома бывали губернаторы и министры царя, как её муж строго и даже жестоко обращался с крестьянами. В результате на неё завели дело, начали таскать к следователю и её, и её поручителей по пенсионному делу. Уголовное дело прекратили, но одна старушка-поручительница от волнений всё-таки отдала Богу душу. В результате расследования пенсию выплачивать прекратили, и Елизавете Николаевне пришлось жить на средства, высылаемые московским племянником К.Н.Игумновым.
Об атмосфере в родительском доме С.Н.Игумнов вспоминает с благоговением. Везде по стенам были развешаны образа, составляющие настоящие иконостасы: «Теперь я вижу, что помимо религиозного значения этих икон, они были для отцов тесно связаны с важнейшими семейными событиями, являлись знаком, закрепляющим в их памяти, иногда отмечающими этапы жизни, новые полосы в ней или итоги прошлого. Одни из этих икон будили воспоминания о том, как пятилетнего малыша благословлял дряхлый дед… На других дрожат слёзы матери, коснеющим языком делающей последние распоряжения и непослушной рукой старающейся перекрестить сиротеющих детей. Иные смочены потоком слёз старика, прощающегося с жизнью…»
Глава 2 Лебедянь
Лебедянь — это важный период в моей жизни, заложивший основы
художественного развития и оставивший отпечаток на многом…
К.Н.Игумнов
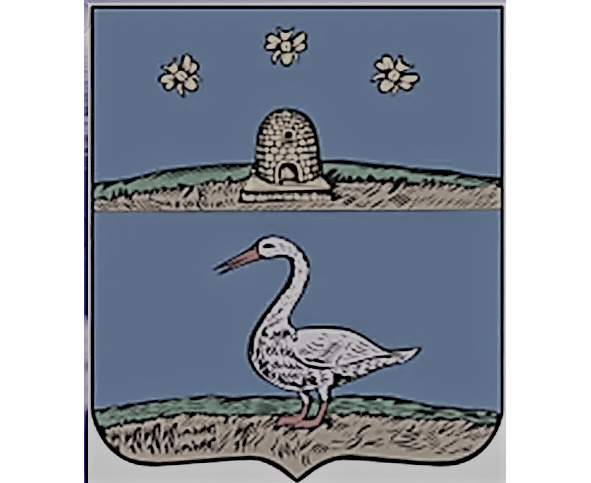
Итак, купеческий клан Игумновых окончательно и прочно обосновался в Лебедяни.
О Лебедяни, отмечающей своё 400-летие, местными краеведами сказано достаточно много. Этот город с поэтическим названием на самом деле намного старше своего официального возраста, отсчитывающего своё начало от первого летописного упоминания в 1613 году. Зародившийся на крутом берегу Дона на пересечение торговых путей, он на своём веку повидал много: и нашествие татаро-монгольских кочевников, и набеги ногайцев и крымских татар, и внутренние княжеские усобицы, и Великую Смуту. Его жгли, разоряли, но упорные вятичи неизменно возвращались на родное пепелище и отстраивались заново.
Лебедянь разделила свою участь с другими русскими провинциальными городами Центральной России, пережив и бурное развитие, и упадок, но выжила, отдавая при этом лучших своих сыновей и дочерей на алтарь Отечества. Одним из великих лебедянцев является Константин Николаевич Игумнов, великий пианист, педагог, создатель московской пианистической школы и настоящий русский патриот, плоть от плоти представитель своего народа. О нём поёдёт речь ниже.
Чтобы лучше понять этого человека, оценить его поступки и свершения, узнать принципы и идеи, которыми он руководствовался в своей жизни, и попытаться проникнуть в его духовный мир, необходимо познакомить, тебя, читатель, с городом Лебедянь, в котором прошло детство и отрочество нашего героя. Русская интеллигенция далеко не вся вышла из гоголевской «Шинели» — многие её представители имеют своими корнями купеческое сословие. А родной город К.Н.Игумнова был городом чиновничьим и мещанским лишь отчасти: тон в нём задавали купцы.
Лебедянь в XIX веке был уездным центром Тамбовской губернии, живописно расположенным на крутом берегу Дона. Мы опустим славную и всё ещё мало изученную историю этого города, собирающегося отметить своё 400-летие в 2013 году; не будем рассказывать о знаменитых людях Лебедянщины, давших России и писателей типа Левитова или Замятина, и общественных деятелей, художников, военных и многих, многих других замечательных людей. Всё это можно узнать из достаточно обширной литературы, написано неутомимыми лебедянскими краеведами. Сосредоточим наше внимание на быте и повседневной жизни города и уезда, дающего, как нам кажется, много пищи для размышления и выводов в свете поставленной автором задачи.
В той Лебедяни, которая уже ушла в историю, очень много гоголевского, салтыков-щедринского, а ещё больше в ней — от А.Н.Островского и А.П.Чехова. В этом провинциальном городе всё или почти всё происходило так, как в провинциальных городах, описанных нашими классиками. Здесь были свои Чичиковы и Собакевичи, Крандышевы и Кабановы, «помпадуры» и «помпадурши», люди в «футляре» и «унтеры Пришибеевы». Очень много сходства у Лебедяни наблюдается, к примеру, с городком Глуховым, так что наши классики могли бы писать героев своих произведений с лебедянских купцов, мещан и чиновников.
В 1820-х годах в Лебедяни было 5 каменных церквей, два магазина (1 каменный), винный подвал, 6 питейных домов, духовное училище, уездное училище (светское), больница, богадельня, 4 салотопенных, 2 пивоваренных и 2 кирпичных завода, 1 мыловаренный завод, 6 мельничных поставов и 2 толчеи.
К 1865 году население города составило 5.327 человек, в уезде проживали 110 292 человека — все православные, за исключением 122 раскольников, 5 лютеран и 22 иудеев. Купцов 2-й гильдии было 2, а третьей — 90 человек.
В мещанско-купеческом городе Лебедяни в 80-е годы XIX в. насчитывалось уже около 7 тысяч жителей, а со слободами — и все 15 тысяч. Гордостью города были ярмарки: двухнедельная Троицкая — в июне, Покровская — в конце сентября и Крещенская — на святках, главным товаром на которых были скот и лошади (последними снабжалась чуть ли не вся русская армия). Функционировало Лебедянское сельскохозяйственное общество, ипподром, банк, два светских и одно духовное училище, больница и 7 церквей, включая большой Новоказанский собор, построенный (1828) и украшаемый стараниями и усердием купцов Игумновых.
Почти все общественные здания города были построены купцами, потом уже они перешли в казну. При домах были большие дворы, а за ними — почти всегда сады. Грязь на улицах в сырую погоду была непролазная. Перейти улицу в таких местах представлялось делом хитрым. В сухую погоду ветры поднимали столбы известковой пыли. Ассенизация города была на первобытном уровне. Свалки за городом, рядом — частные бойни «без всяких приспособлений и содержимые в зловонном состоянии» по милости Божьей и благодаря солнцу и ветрам к эпидемиям не приводили. Воду брали из Дона, водовозы медленно поднимались по крутой Тяпкиной горе и развозили её по улицам. С середины 1870-х годов её стали брать из колодца, устроенного на берегу реки.
Провинциальная скука, отсутствие «светского» общества, беспробудное пьянство, грубые нравы, кутежи — вот черты повседневной жизни Лебедяни того времени. Но не только этим была известна Лебедянь. Не далее как в 1826 году в городе было организовано первое в России скаковое общество, вовлекшее в свою деятельность массу активных и деятельных людей русского общества, способствовавшее вместе с известными также на всю Россию тремя ярмарками экономическому и культурному росту города и уезда и развитию коневодства в России. И в Лебедяни постепенно прорастали ростки просвещения и прогресса.
Газета «Тамбовские губернские ведомости» от 7.6.1852 года вводит нас в курс дела, подтверждая наше утверждение о том, что «Лебедянь — уездный город при реке Дон» и сообщает, что «Лебедянский уезд граничит с Рязанской, Тульской и Орловской губерниями. Реки в нём Дон, Красивая Меча, Воронеж и другие. Почва плодородна. Главные промыслы: земледелие и скотоводство. 43911 жителей мужского пола». Далее газета, проигнорировав женское население уезда, перечисляет всякие заведения и учреждения города, напоминает о главных достопримечательностях — Крещенской, Троицкой и Покровской ярмарках — и заключает свою заметку следующим сообщением: «Город находится в 1059 верстах от Санкт-Петербурга, 385 — от Москвы и 199 — от губернского города».
Вроде всё хорошо и правильно. Запомним это и рассмотрим отрывок из книги П.И.Пискарёва, помещённый в ТГВ в 1856 году (№№22—25, 27—28). Читаем: «Лебедянь — уездный город Тамбовской губернии — находится под 53º 49» северной широты и 56º 16» восточной долготы». Молодец, Пискарёв! Он даже поместил город в точные географические координаты. Читаем дальше: «Отстоит от С.-Петербурга в 1049 верстах, от Москвы — в 376 верстах и от губернского города — в 201¼ версты». Стоп! Получается, что за 4 года Лебедянь на 10 вёрст приблизилась к Петербургу, на 9 вёрст — к Москве, но при этом почему-то удалилась от Тамбова на одну с четвертью версты. Как случилось, что город в течение 4 лет дрейфовал, приближаясь и к Москве, и Петербургу, но одновременно удаляясь от родной губернской столицы, «уму не растяжимо». И куда только смотрел тамбовский губернатор!
Та же самая газета развлечёт нас не менее удивительными известиями.
«…в Лебедянском городническом правлении, казённая того правления печать, бывшая без употребления за получением таковой нового формата, при переделке в оном правлении печей неизвестно куда и как затерялась; то, если где эта печать окажется, представили бы оную к г. лебедянскому городничему». (ТГВ, официальный отдел, 22.10.1838 г.) Непременно в Лебедяни побывал Хлестаков и прибрал к рукам печать старого формата. Куды ж ишшо ей было деваться?
Но не только пропажами жил город — случались и находки. «От Лебедянского земского суда сим объявляется с рапорта пристава 1 стана, что экономическими крестьянами Подмонастырной слободы Назаровым и Часовниковым найдены в лесу 415 пар лаптей, неизвестно кому принадлежащих» (там же, 22.03.1841 года). А восемью годами позже государственный крестьянин Пётр Стефанов Крюков нашёл по дороге в Рязань 100 рублей, о чём с гордостью вспомнили четыре года спустя после находки ТГВ (28.11.1853 года)
Так что были в уезде честные и благородные люди, проявлявшие сочувствие к бедам других россиян. Так по объявленной в губернии подписке на пожертвование в пользу Казани кто-то неизвестный из Лебедяни внёс целых 2 руб. 45 коп. серебром. «О таковом пожертвовании от управляющего Тамбовской губернией сим объявляется», — с гордостью повествуют ТГВ (29.05.1843 года).
Лебедянь и дальше продолжала отличаться в глазах вышестоящего начальства. «Губернское правление, усматривая из ведомости о недоимке на мещанах города Лебедяни, что оная к 1-му марта вся уплачена, и относя это к особенной деятельности членов Лебедянской городской думы и секретаря, объявляет им признательность начальства» (ТГВ от 12.3.1848 года) Не удовлетворившись выражением общей признательности, губернское управление через 6 дней через газету же объявило «лебедянскому городскому голове Попову за заботливость об очищении числящейся на мещанах недоимки благодарность начальства». Ура-а-а!
Театра в Лебедяни, разумеется, не было — были 2 хора цыган и арфисты, а потому, когда на Покровскую ярмарку 1848 года приехал театр г-на Азбукина, в движение пришло всё культурное общество города. Театр «доставил нам приятность неожиданного удивления», — писал некто В.Л. в губернскую газету. Особенную радость лебедянцам доставила своей игрой девица Азбукина, бенефис которой и отмечался в городе. «И прелестной песенкой о приданом савойской невесты, пропетой с выразительной беспечностью… производится фурор. Точно так же, как и страдальческим безумием сироты, отверженной отцом и обманутой любезным», — захлёбывается от восторга В. Л. Артистку вызывали после каждого действия, а после спектакля — целых четыре раза. За неимением цветов ей вручили 30 рублей серебром. Автор заметки был обеспокоен здоровьем Азбукиной, отдававшей ролям всю себя, и желал, «чтобы глубокое чувство не расстроило» её здоровья (ТГВ от 30.10.1848 г.).
1854-й год ознаменовался оживлёнными торгами движимого и недвижимого имущества тех, кто терпел банкротство, не платил долги, аренду, вёл из рук вон плохо хозяйство. Кто-то «прогорал», а кто-то пользовался бедами других и за бесценок скупал дома, бани, лошадей, телеги, сбрую… За видимостью благочиния, тишины и спокойствия бурлила купеческая жизнь, действовали неутомимые стряпчие, ковались коварные планы, плакали неутешные вдовы и осиротевшие дети…
В 1862 г. в Лебедянском уезде открылось несколько сельских школ, в которых пока обучались исключительно мальчики — на 204 мальчика было только 4 девочки-ученицы.
А вот ограблением церквей лебедянские «ухари» занимались, оказывается, уже в то патриархальное время. ТГВ 28.10.1867 года сообщило о краже со взломом двери и замков 40 рублей из церковной кассы села Мокрое.
21 октября 1869 года по определению Елецкого окружного суда один из членов Игумновского клана, потомственный почётный гражданин 2-й гильдии купец Николай Петрович Игумнов, был объявлен несостоятельным должником. Богатенькие родственники не помогли банкроту, и всё его имущество подлежало продаже с молотка.
В связи с началом войны с Турцией лебедянское крестьянство направило Александру II всеподданнейший адрес: «Посылаем Тебе на службу своих сыновей и братьев, мы все от мала до велика готовы по первому Твоему слову стать в ряды Твоего непобедимого воинства и умереть. Да знают и ведают все народы, что горе тому, кто осмелится нарушить покой Царя-батюшки. Прости, Государь, за слово но оно идёт от сердец детей Твоих» (ТГВ, 1.12.1876 года). Чувствуется, что пером крестьян явно водила чья-то руководящая рука.
По случаю взятия Плевны лома и лавки Лебедяни украсились флагами, лебедянцы принялись поздравлять друг друга с великой победой и спешили в церкви, где духовенство отслужило благодарственный молебен. Мировой судья и уездный воинский начальник ходили в церкви с кружкой и собирали пожертвования в пользу раненых и больных воинов. В доме купцов Акимовых играла музыка, а на улицах пылали смоляные бочки. Сотни жителей кричали «ура». Три дня город был иллюминирован, был устроен фейерверк, а потом в здании земства был устроен бал (ТГВ 15.12.1877 года). В уезде продолжался сбор пожертвований в пользу русской армии (там же 10.01.,7.3. и 10.6.1878 года).
6.4.1880 года в Лебедяни открылось благотворительное общество, состоявшее из 3 почётных и 86 действительных членов. Председателем правления был избран П.И.Игумнов. Определили размеры постоянных и единовременных пособий (от 1 до 5 рублей), всего на эти цели выделили 1189 рублей. Пособия получили 115 семейств, состоявших из 198 взрослых и 225 малолетних детей (ТГВ 11.06.1881 года). Средства общества состояли из членских взносов, пожертвований (кружечный сбор) и случайных поступлений и процентов с капитала общества. Наименьший членский взнос составлял 5 рублей. Был, к примеру, устроен танцевальный вечер, давший обществу 199 руб. 27 коп. В декабре 1892 года «Общество» дало любительский спектакль в пользу бедных, что дало ему 250 рублей.
«12 ноября у нас состоялся первый спектакль, данный вновь образовавшимся обществом любителей музыкального и драматического искусства», — поспешили проинформировать своих читателей ТГВ (24.11.1888 года). Поставили драму Лаврова «Одним грехом более» и водевиль «Старый математик», публика сочувственно отнеслась к новшеству и наградила артистов-любителей шумными аплодисментами. «Трудно поверить в возможность существования такого общества в таком маленьком и глухом городишке», — рассуждает газета, почему-то отказывая Лебедяни в наличии достаточных духовных и культурных сил. Впрочем, газета от души желает обществу успеха в борьбе с уездными традициями (какими, автор заметки скромно умалчивает): «Дай Бог, чтобы хотя оно пробудило нас от крепкого, безмятежного сна».
В конце 1886 года Лебедянь и всю лебедянскую округу потрясло дело о крахе Лебедянского городского общественного банка, в котором оказались виновны члены игумновского клана, сами сильно от него пострадавшие. Из обвинительного акта Московской городской палаты от 1887 года явствует, что в результате злоупотреблений правилами ведения банковского дела в Лебедянском городском общественном банке к ответственности привлекались директор банка и потомственный почётный гражданин Александр Михайлович Игумнов. Ему было предъявлено обвинение по более, чем 20 пунктам (от «а» до «ц»). Вместе с ним «загремели под фанфары» второй директор, 5 товарищей директора, два городских головы и бухгалтер банка — всего 9 человек.
ТГВ от 22.1.1887 года утверждали, что А.М.Игумнов забрал из банка 200 тысяч рублей на устройство винокуренных заводов и мельниц в своих имениях. Его примеру следовали, хотя и с большим отставанием, прочие руководители банка. Он отсидел 1 год в тюрьме, но все крупные его имения пошли с молотка за бесценок. Знаменская дача на р. Воронеж с мельницей о 20-ти поставах; только что отстроенный винокуренный завод; 1457 десятин земли и 600 десятин векового леса ушли за 150 тысяч рублей (десятью годами раньше один только этот лес оценивался в 300 тысяч рублей). Когда престарелый директор сел в тюрьму, его племянник-технолог не выдержал позора и застрелился.
В качестве свидетелей, «подлежащих вызову к судебному следствию», привлекались 16 человек. В списке под №10 фигурирует и потомственный почётный гражданин Пётр Иванович Игумнов («папа Петя»), управляющий делами своего брата Н.И.Игумнова. Собственно, с крушения банка и начались невзгоды у некоторых членов клана Игумновых, в частности, у того же «папы Пети».
Из этого дела следует, что некоторые члены клана Игумновых занимались не только созидательной деятельностью на благо общества и города, но и не были чужды обычного делячества, обмана и жульничества, присущих русскому купечеству. К этому времени значение знаменитых лебедянских ярмарок, благодаря строительству железных дорог, резко снизилось. В частности ушли в прошлое гулянья, бесшабашные кутежи с цыганами и разгул помещиков и ремонтёров, так характерные для ярмарок. Как писал с ностальгическим надрывом лебедянский корреспондент ТГВ М.В. 14.10.1886 года, «жизнь теперь так сузилась, и её широкие стороны отошли и отходят уже в область преданий». Крах банка ещё больше способствовал «сужению жизни» Лебедяни, в частности, привёл к повсеместному падению цен на недвижимость в уезде.
Но прогресс, который мог иметь и негативные последствия, уже коснулся Лебедяни и продолжал неустанно трудиться над её патриархальной жизнью. В Лебедяни открылось «Общество трезвости», сообщила ТГВ 10.12.1891 года. Местный клир поддержал начинание и прочёл народу несколько проповедей о вреде пьянства. «Имена членов трезвости (так в газете) заносятся в список, и о здравии и воздержании от пьянства всех священник молится на проскомидии бесплатно, поэтому число членов трезвости с каждой его службой увеличивается».
Оптимизму газеты можно было только позавидовать. Если бы всё так было, как в газете, Россия давно бы освободилась от этого порока.
В середине 90-х годов в Лебедяни стала дискутироваться проблема выходного дня и размеров рабочего дня для приказчиков. До сих пор никаких норм установлено не было, и приказчики фактически работали на хозяина столько, сколько тому хотелось.
В 1894 году в городе при большом стечении публики состоялось открытие народных чтений. Инициаторами чтений выступили члены музыкально-драматического общества, которые внесли взносы по 3 рубля с каждого, что и позволило стартовать этому полезному начинанию. Душой и руководителем общества народных чтений стал неутомимый городской судья А.И.Прокофьев. Общество это будет работать долго и плодотворно.
Нельзя сказать, что перечисленные выше начинания были встречены лебедянским обществом с энтузиазмом. Косность, леность ума, безграмотность и бескультурье ещё остро давали о себе знать, так что каждый шажок нужно было делать с усилием. Так городская дума много лет подряд блокировала открытие в Лебедяни общественной бесплатной библиотеки. Гласные, в основном купцы и мещане, считали эту «затею» не только бесполезной, но и вредной. Они всё время ссылались на нехватку средств, при этом, не моргнув глазом, за счёт средств города списывали долги какого-нибудь прохиндея-купца в размере более 6000 рублей, в то время как на организацию библиотеки хватило бы 500—600 рублей.
Некоторые обыватели города в новых веяниях и начинаниях видели крамолу и активно, по-унтерпришибеевски, противодействовали им. Бывший председатель Лебедянской земской управы и член Тамбовской губернской земской управы Бехтеев придрался к группе лиц, отмечавших в общественном собрании какое-то семейное торжество. Недовольство Бехтеева вызвало пение собравшихся: ему показалось, что песни носили провокационный политический характер, и он в грубой форме стал нападать на певших. Незлобивые обыватели, как пишет ТГВ (25.05.1905 года) «с надлежащими почестями выпроводили г-на Бехтеева из клуба» и подали в правление старшин собрания жалобу с требованием исключить его из списка членов. Жалоба показалась Бехтееву оскорбительной, и он подал на жалобщиков в суд. «Городской судья оправдал всех обвиняемых», — заключила свою заметку газета. Что ж, времена унтеров Пришибеевых в Лебедяни, вероятно, заканчивались.
Примерно в том же духе закончилась в 1909 году на страницах ТГВ полемика о состоянии почтовой конторы в Лебедяни. Кто-то из жителей выступил с критической статьёй, в котором описал неудовлетворительную работу конторы, грязные помещения, тесноту, неудобства для посетителей, а кому-то эта критика не понравилась и этот кто-то ответил весьма грубой ответной статьёй. Но в конечном итоге поле брани осталось за «критиканом», правда и прогресс постепенно пробивала дорогу и в глухой провинции.
«Сборник статистических сведений Тамбовской губернии» (т. XVII, 1891 год) даёт интересную картину землевладения в Лебедянском уезде. Всего в пользовании имелось 283 439 десятин земли, из которых крестьянам принадлежало 200 059 десятин. Крупных (свыше 1000 десятин), средних (от 100 до 1000 десятин) и мелких (до 100 десятин) частных землевладений было около 734, причём 83% их составляли мелкие хозяйства.
Газета «Тамбовский край» от 26.02.1914 года подводит итоги земской деятельности в Лебедянском уезде за период с начала 70-х годов до начала 1900-х годов. Если в 1874 году в уезде была 21 однокомплектная школа, то к 1914 году их было уже 130, из которых 18 было двухкомплектные, 23 — трёхкомплектные и 1 — четырёхкомплектная школа. Если в 1874 году радиус охвата школами составлял 6 вёрст, то к 1914 г. он сократился до 2 вёрст. Число учащихся за это время значительно выросло.
В области медицины: если в 1870 году на весь уезд имелось 2 врачебных участка, то в 1914 году их стало 9. Радиус каждого участка за этот период сократился с 30—40 вёрст до 10—12. Число земских врачей за это время выросло с 2 (при 47 500 жителей на врача) до 12 (при 16000 жителей на врача). Развитие медленное, но верное поступательное.
Газета продолжала сообщать о лебедянских событиях, которые сейчас кажутся нам странными, гротескными, трогательно-смешными и малозначительными, но такова уж была наша русская провинция XIX века. Люди жили ими, волновались, переживали, боролись за лучшую долю, рождались, умирали…
Между тем, мы приблизились к крайней границе нашего повествования о лебедянской жизни — 90-м годам и началу XX века. Мы, наконец, добрались до сообщения в газете «Тамбовский край» об открытии в Лебедяни общественной библиотеки. Но к этому времени все интересующие нас люди уже покинули город и начали жить новой жизнью в Москве и других городах Российской империи. А потому и прямое влияние на них родного лебедянского климата прекратилось. И мы тоже прервём хронику лебедянской жизни и последуем за молодой и сильной порослью купеческого клана Игумновых, пополнившей ряды русской интеллигенции и успешно проявившей себя на самых разных поприщах.
Глава 3 Родители
Счастлив тот, кто дома.
Л.Н.Толстой.
К.Н.Игумнову и его братьям и сестре повезло — у них были симпатичные и довольно культурные для купеческой среды родители. Мы привыкли воспринимать русских купцов такими, какими их нарисовал великий А.Н.Островский: самодуров и деспотов вроде Кабанихи или Самсона Силыча, главной чертой которых была страсть к наживе. Не таковы были, как мы увидим, купцы Игумновы. Свои прибыли они употребляли и на пользу обществу, городу, людям. Они интересовались не только материальной стороной жизни, но и старались приобщиться к духовной жизни, к достижениям русской культуры.
В доме родителей К.Н.Игумнова, не испытывавшего материального недостатка, господствовала любовная, сердечная атмосфера в доме. И отец, и мать в меру своего образования, сил и любви прививали детям высокие моральные качества и смогли дать всем хорошее для тех времён и условий образование.
Главой и душой семьи был, конечно, отец Николай Иванович Игумнов (1823—1899). Родившиеся до него двое детей скончались в младенчестве, так что он стал у Ивана Ивановича-младшего старшим сыном. Коленька имел похвальный лист, выданный ему в 1829 году за окончание приготовительного класса уездного училища. Поступил он в класс в 1828 году, будучи 5-летним мальчиком, а закончил он своё образование в Тамбове у частного преподавателя-священника. Учил, между прочим, латынь и французский язык, обучался музыке и русской словесности, играл — правда, слабо — на фортепьяно, но ноты знал, имел хороший слух, подбирал мотивы — чаще духовные.
В Лебедяни он стал брать уроки музыки у местного настройщика фортепьяно. Он же был единственным учителем в городе, способным обучать игре на этом инструменте. Звали его все Варфоломеичем. Научившись играть на фортепьяно, Николай Иванович сочинил 2—3 пьески: польку-мазурку, марш-кадриль, которые были напечатаны в Москве, вальс и ещё что-то. Не так уж и плохо для купеческого сынка из провинциальной Лебедяни! Несомненно, он мог бы достичь в музыкальном образовании бóльшего, но жизнь, купеческая среда распорядились иначе.
Николай Иванович проявлял живой интерес и к литературе. В переписке с троюродным братом Николаем Петровичем, жившим на мельнице в 15 км (в с. Курапово? Б.Г.), обсуждал статьи, печатавшиеся в журналах «Московитянин» и «Отечественные записки», в том числе критические статьи В. Белинского и защищал его от всяких нападок. Советовал брату «вникнуть хорошенько в „Отечественные записки“… Это лучший наш журнал, чуждый пошлых, истасканных китайских мыслей, которые проповедуют другие журналы. Словесность может быть только там, где есть общество, т.е. не стадо, а общество мыслящее, могущее понимать словесность. Литературой нельзя назвать несколько книжных лавок… Это ещё только грамотность, а не литература», — писал он. Это были вполне здравые и умные мысли, актуальные и в наше время.
Он написал также повесть «Свадьба», которая, по словам его сына-писателя С.Н.Игумнова, «отличается махровым романтизмом того времени», и 3 тетрадки стихов (68 штук), датированные в основном 1837—1845 годами. Большинство стихов любовного характера. Некоторые из них, как писал потом сын Сергей, недурны, как, к примеру, стихотворение «Желание ещё»:
Не в зале шумной и мятежной
При блеске свеч, в толпе гостей,
В летучем вальсе и небрежном
Желал бы встретиться я с ней.
В святом восторге упоенья
Один, вдали от всех людей,
Я полон грусти и моленья
Всё сердце выплакать пред ней.
О нет, в тиши благословенной,
В томящий робкий час ночной
Желанной встречей с незабвенной
Я насладился бы душой.
И в тихом медленном лобзаньи
Весь скучный мир бы позабыл
И жгучий поцелуй прощанья
Я б вечно в сердце схоронил.
Или вот стихотворение «Лебедянские красавицы»:
Я помню их изысканный наряд
Желанных уст небрежный звонкий хохот,
Я не забыл их полный злобы взгляд
Речей насмешливых нескромный шёпот.
За что ж меня злословили они?
Что им во мне, безумце одиноком?
За то ль, что не искал я их любви,
Пред ними не страдал в тоске глубокой?
Но, Боже мой! Любовь их, их вражда
В моих глазах так жалки, так ничтожны.
Любить иль ненавидеть никогда,
Мои друзья, их право невозможно.
В этих и других стихах Николая Ивановича мы видим много фантазии и подражания другим поэтам, но они дышат искренностью. Не исключено, что некоторые мотивы были навеяны автору личными переживаниями. С.Н.Игумнов припоминает, что мать как-то говорила о том, что муж до женитьбы пережил серьёзную и неудовлетворённую любовь. Так что Николай Иванович был фигурой довольно романтичной, явно не вписывавшейся в купеческий быт.
Профессор Московской консерватории, ученик К.Н.Игумнова и автор книги о своём учителе Я.И.Мильштейн (1911—1981), очевидно, со слов К.Н.Игумнова, пишет о Н.И.Игумнове, что он «не проявлял особой индивидуальности и сильного характера — в сущности, на всём, что бы он ни делал, лежала печать диллентантизма, ни один из интересов не преобладал у него исключительно — зато отличался умом, вкусом и твёрдыми моральными убеждениями. К людям он относился сердечно и тепло, многим помог и словом, и делом. Взгляды его, особенно в вопросах общественной жизни, искусства и воспитания были весьма своеобразны».
И действительно: разделяя славянофильские воззрения, он одобрительно относился к народничеству и хождению в народ. Он преклонялся перед А.С.Пушкиным и поэзию любил больше прозы. Как вспоминал К.Н.Игумнов, «писал он очень гладко и складно, сначала даже менее всерьёз, а затем уже в шутку». Музыкальные вкусы его, по свидетельству сына, отличались почти пуританской строгостью: «для него существовал прежде всего Бетховен; к Моцарту он относился скептически; что касается Шопена, то он его принимал в очень небольших дозах — постольку — поскольку; ему эта музыка казалась чем-то несерьёзным, а вот Бетховен — это да!» Он любил также М.И.Глинку, а в последние годы стал сочувственно относиться к П.И.Чайковскому.
В вопросах воспитания Н.И.Игумнов был основательно серьёзен и последователен. Всем детям он дал хорошее образование, не считаясь с материальными затратами, внимательно следил за их успехами и способствовал расширению их кругозора. Например, для младшего сына он делал всё, чтобы развить у него музыкальные и иные способности: он покупал ему ноты, художественные журналы, научные книги и пр.
В 40-е годы Николай Иванович ездил по делам в Таганрог, где закупал колониальные товары, оливковое масло, чай, а также местное донское и цимлянское вино. «Ездить приходилось, конечно, на лошадях, на перекладных, в тележке, разумеется, без рессор. Чтобы не так трясло, на сиденье делался переплёт из верёвок, и на него клали сено. Проехать приходилось в один конец около 800 вёрст», — вспоминает Сергей Николаевич.
Поездки прекратились уже в 50-х годах после раздела огромной семьи, состоявшей из 2 братьев-стариков с 3 сыновьями и 6 уже взрослыми внуками, не считая женщин. Все жили на усадьбе 2-этажного дома с 2-мя флигелями. При разделе там остались, кроме стариков, старшая ветвь Михайловичей. Пётр Степанович с семьёй переехал в дом на углу Соборной площади и переулка, идущего к церкви Рождества. Иван Иванович с семьёй перешёл в новый только что отделанный дом, построенный рядом со старым. Торговое дело поделили тоже: мучное дело осталось за Иваном Ивановичем с сыновьями, бакалейное перешло к Петру Степановичу, ветвь Михаила Степановича получила лесную дачу с винокуренным заводом на востоке Лебедянского уезда.
Николай Иванович Игумнов женился в октябре 1852 года. Через 3 года, один за другим, умерли его дед и отец, и он стал главой семьи, в которой, кроме жены, были ещё 2 неженатых брата (Иван и Пётр) и сестра-девица Зинаида (её выдали замуж в Москву в начале 60-х годов). Брата Ивана выделили, в то время как Пётр, который был крёстным отцом почти всех детей Николая Ивановича и которого звали «папой Петей», остался невыделенным. У него, в отличие от Николая Ивановича, была хозяйственная жилка, поэтому всеми делами в семье распоряжался «папа Петя».
Николай же Иванович, доморощенный поэт и композитор, в течение 9 лет (1858—61, 1864—70) выбирался городским головой. В 1866 году, вспоминает Сергей Николаевич, «какой-то взбалмошный губернатор, кажется, Данзас», при объезде Лебедянского уезда осматривая пожарную команду, которая была гордостью города и всего уезда, придрался к какой-то мелочи и грубейшим образом накричал на Н.И.Игумнова. Тот хотел выйти в отставку, но лебедянцы уговорили его остаться и устроили губернатору «демонстрацию», дав своему голове торжественный обед с преподнесением Почётного Листа «от почётных граждан, купцов, мещан за шестилетнюю службу градским головою, справедливые и добропорядочные поступки по этой службе, которыми заслужил всеобще наше одобрение и благодарность» — всего за 70 подписями.
Потом, в связи с изменением Положения о городах, Николай Иванович не служил, а состоял вплоть до 90-х годов гласным городской думы, избираясь почти все эти годы в члены Училищного Совета, а с 1867 года и до самой смерти — почётным мировым судьёй по выбору земского собрания уезда. В последнем качестве он принимал участие в работе Окружного суда, приезжавшего в Лебедянь из Ельца 2 раза в год. Впрочем, земская и городская деятельность оставляли ему много свободного времени, которое он использовал на дела сооружённого ещё стараниями Степана Ивановича Игумнова Лебедянского (Новоказанского) собора, ктитором (старостой) которого он был с 1855 года до самой смерти. «Все улучшения и украшения храма за это время сделаны его стараниями со значительной затратой личных средств», — пишет Сергей Николаевич.
О «стараниях» Н.И.Игумнова в этом направлении свидетельствует преподнесённые ему от благодарных прихожан икона Казанской Божьей Матери и адрес. В адресе говорится, что т.н. тёплый храм до Игумнова был тесен, не отштукатурен, имел только алтарь, при Игумнове же он был расширен, украшен, а холодный храм окрашен масляной краской. В нём расписали купола и стены, нарисовали картины в рамах — пять художественных образов (работы проф. Мягкова), устроен второй алтарь, отлит колокол весом в 521 пуд, потом перелитый с прибавкой ещё 200 пудов, заново сделаны 2 иконостаса с новым художественным обрамлением и т. д. Скромный подсчёт личных расходов Игумнова приближается при этом к 17 тысячам рублей. На 1000 рублей, пожертвованных Николаем Ивановичем, в 1860 году вокруг кладбища Преображенской церкви была сооружена каменная ограда. Таким образом, говорится в адресе, «если построением собора Лебедянь обязана незабвенному вашему деду (двоюродному, Степану Ивановичу), то его расписанием и украшением он обязан вам».
Заказанный для соборной звонницы на средства Николая Ивановича (3000 руб.) большой колокол весом 620 пудов 39 фунтов в 1876 году с большим трудом был доставлен в Лебедянь из Москвы на 2-х железнодорожных платформах, а затем его везли 40 вёрст по грунтовой дороге. Хлипкие мостики не могли выдержать такой тяжести. «Пришлось отрывать спуски и въезды в объезд этих мостиков», — вспоминал С.Н.Игумнов. — «Везли колокол лошадьми, к которым местами присоединялись и люди, выходившие из соседних деревень и доброхотно впрягавшиеся на пригорках и горах».
Тамбовские губернские вести от 20.11.1882 г. писали: «На днях, т.е. 9 и 11 числа сего ноября месяца, в приделе этого храма было совершено освящение двух новых иконостасов… Означенные иконостасы сооружены …ктитором г. Игумновым, на какие средства — неизвестно; достоверно только то, что им употреблено на это до 15000 рублей».
Николай Иванович хорошо знал богослужение, иногда поучал даже священников. Он был глубоко религиозным, но далеко не фанатичным человеком. Из-за хронического катара желудка он сидел на диете, хотя строгого поста не придерживался, и ел очень мало: утром — чай с белым чёрствым хлебом с маслом, в обед — мясная котлета и стакан молока с вареньем из «шпанской» земляники. И так изо дня в день в течение длинного ряда лет, кроме больших праздников, когда котлету заменяло постное белое мясо индейки.
Он ввёл для себя необычный распорядок дня: вставал достаточно поздно — после 10 часов, молился, стоя на коленях у себя в кабинете, и пил утренний чай, когда домочадцы уже готовились обедать. Сам он обедал отдельно в 6-м часу, но ужинал со всеми в 22.00. К полночи опять становился на молитву, кончавшуюся часа в 2 и позже. Остальное время проводил за домашними и церковными счётами, за чтением духовных журналов, книг и газет. К старости увлечение Белинским и «Отечественными записками» прошло, и он стал консерватором, критически относившимся к либеральным «китайским» идеям, хотя недостатка в периодической, в том числе и либеральной, периодике в доме у него никогда не было. Он был прилежным читателем «Нового времени», большим почитателем И.С.Аксакова и «Дневника писателя» Ф.М.Достоевского, любил А.К.Толстого, Ф.И.Тютчева и склонялся к славянофильству, не одобряя «западничества» Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева и антицерковных «умствований» Л.Н.Толстого.
Писать «вирши» он перестал рано, только иногда писал шутливые и шаловливые экспромты типа:
Не уезжай, голубчик мой,
И не томи разлукой злой!
Кумир наш милый и седой,
Нет, не расстанемся с тобою.
О если нас покинешь ты,
Лото и карты — всё пропало;
Блины, беседы и мечты,
Всё, чем так сердце трепетало.
Душа, душа, не уезжай!
Не уноси с собою рай
И не предай нас мукам адским!
«Шутка написана на отъезд исправника Горбова, весьма представительного с эффектными седыми бакенбардами, большого дамского кавалера с претензией на светскость, устроителя разных развлечений, прозванного знакомыми «душой общества», — пишет Сергей Николаевич и добавляет, что весь этот внешний антураж не мешал исправнику быть сифилитиком — даже в заразной стадии, а в отправлении своих служебных обязанностей — не чистым и тяжёлым на руку, «которою распоряжался беспощадно, — разумеется, не с дамами; у крестьян же от этой руки трещали зубы». Горбов ехал с повышением в Козлов, но там ему не повезло, и он скоро лишился места.
Проводя лето в с. Шовском, Николай Иванович писал такие стихи:
На денёчек, хоть один,
Кто-нибудь бы из мужчин,
Хоть из пьющих иль непьющих
Посетил бы здесь живущих.
Угостить чем есть: вино,
Водка, пиво и мадера, —
Всё давно припасено
Для любого кавалера,
Но никто — вот в чём беда
Не заглянет к нам сюда.
Если б к нам явилась дама,
Будь ровесница Адама,
Рады будем даже ей,
Просим милости — скорей!
Дача Игумновых была построена на земле помещика Дурасова. Шовское было довольно большим селом (500 ревизских душ) с тремя кабаками, «гостеприимство которых положительно разорило всех, и не один крестьянин пошёл по миру» (замечает ТГВ). Впрочем, шовских крестьян выручали фруктовые сады, плоды которых продавали лебедянским и не только лебедянским дачникам, так полюбившим шовские воздух и природу.
Зимой 1883 года из дома Игумновых в Шовске с хозяйственным поручением был послан в Лебедянь крестьянин Иван Ковешников. На обратном пути из города он подобрал пешехода и, посадив его в розвальни, завёл разговор. «Благодарный» пешеход вспомнил о том, что у него где-то за пазухой осталась водка, и решил угостить Ковешникова. Тот, ничего не подозревая, с удовольствием припал к фляжке и тут же свалился мёртвым. Проснулся он в с. Хрущово Данковского уезда в каком-то крестьянском доме. Попутчик вместе с лошадью и санями бесследно исчез. Сообщая об этом мошенничестве, которое наделало в уезде много шуму, ТГВ от 19.2.1883 г. успокаивает своих читателей тем, что ограбленный работник жив-здоров и живёт у прежних хозяев.
А лошади у Н.И.Игумнова были отменные. Взять хотя бы жеребца Ваську, который на бегах на Лебедянском ипподроме в сентябре 1883 года выиграл денежный приз в размере 100 рублей.
С дачи хозяин съезжал первым. В городе обычно уже квартировал полк или, как в последние годы, батальон. И он спешил проинформировать оставшихся в Шовском:
Как живётся вам, красным девицам?
Да и то сказать: что вам деется!
Чай, хохочете, да болтаете,
Офицеров всё поминаете?
А они у нас уж явилися.
Даже барынь пять в них влюбилися.
Так спешите к нам, не пугайтеся,
Офицеров влюбить постарайтеся.
Ох, уж эти мне офицерики
Доведут всех вас до истерики!
А когда Сергей Николаевич помолвился с девушкой, то будущей невестке был преподнесён такой стих:
Не стану вас я ни хвалить,
Ни комплиментов говорить.
Прекрасно знаете вы сами,
Что вам и прозой, и стихами
Одно и можно лишь сказать,
Что рождены вы всех пленять,
Что вы так веселы, так милы,
Что отойти от вас нет силы.
При каждой встрече всякий раз
Я всё любуюся на вас.
Я в вас влюблён… Но вот беда:
Ведь голова моя седа!
Нет, положительно много поэзии было заключено в груди этого человека!
Консерватизм и исключительная набожность отца плохо уживались со свободомыслием его сыновей, и между ними часто происходили ссоры и недоразумения. «Запевалой» был старший брат Николай, с 12 лет — с 3-го класса — обучавшийся в московской гимназии, а потом в университете. Тем не менее, пишет Сергей Николаевич, «припоминая тогдашнее время…, видишь, что сурового гнёта, каких-либо тяжёлых требований к нам отец не высказывал, а лишь настаивал на посещении …важных церковных служб — и то в урезанном виде — и на соблюдении поста на страстной неделе и в сочельник — и то в таком виде, что этот пост кажется лакомством и объедением».
Но сыновья бунтовали и с отцовским принуждением примириться не хотели. Они не желали выстаивать обедни или всенощные и изнурять себя голодом на страстной неделе. Брат Николай заочно ругал отца, семейные порядки и начальство, а потихоньку от родителей, к ужасу обожавшей его няни, доставал привезённую из Москвы колбасу и закусывал ею перед страстными службами. Няня Мария Савельевна боялась совершить грех, но всё равно прятала колбасу в потайное от родителей место.
Отец в своих требованиях сначала был настойчив, а потом сдался и ограничился упрёками и выражением своего глубокого огорчения поведением сыновей-безбожников. За сыновей вступалась мать, так что пост превращался часто в обеды с ухой из судачков или налимов пирогами с севрюгой или грибами, к которым подавались паюсная икра, отварная осетрина, кисели, левашники, оладья, пирожки с вареньем и пр. «И стыдно и горько теперь вспомнить, как мы фыркали и морщились на всё это, якобы страдая от голода», — сетует Сергей Николаевич. — «Теперь сознаёшь, что уступки желаниям родителей не бог знает чего стоили нам, настойчивость же их была весьма понятна: дело, с их точки зрения, шло ведь о спасении души любимых детей…»
Менее остро воспринимались разногласия политические. Их было не меньше, чем житейских, но отец уже махнул на сыновей рукой, понимая, что они всё равно пойдут своим путём. Принимали родители в расчёт и болезненность своего среднего сына Сергея и часто смягчали свои требования.
В 60-е годы порка считалась неизбежным средством воспитания. Очень редко, пишет Сергей Николаевич, она применялась и Николаем Ивановичем, но только по отношению к старшему сыну Николаю. Вероятно, болезненность среднего сына не позволила распространить это средство на других сыновей, так что Сергей и Костя розги не знали. К старости гневливость отца пропала вовсе и превратилась в ворчливость.
Сергей Николаевич приводит в своих воспоминаниях эпизод столкновения с отцом в более позднее время. Сергей Николаевич уже был попечителем богадельни и врачом Лебедянской земской больницы, когда в город приехал губернатор, пользовавшийся дурной славой. Николай Иванович выразил возмущение тем, что сын не принял никаких мер к встрече начальства, а работал, как в обычные дни. Отец считал, что начальство нужно было встречать достойно, с почётом и уважением, — что в глазах сына выглядело бы проявлением раболепства и угодничества. Они резко и откровенно объяснились на эту тему и разошлись, оставшись каждый при своём мнении. Вечером того же дня Николай Иванович, перед тем как лечь спать, зашёл к сыну, с любовью обнял его, перекрестил, поцеловал, сказал «Господь с тобой» и ушёл. Кажется, вспоминает Сергей Николаевич, у обоих навернулись тогда слёзы.
Николай Иванович обладал довольно вспыльчивым характером.
Поводом к бурным проявлениям чувств часто служили дети или работники, плохо или не к сроку выполнявшие работу, порча вещей, просьба выдать аванс за несделанную работу, пьянство и разгильдяйство работников. Пьянством грешила почти вся мужская часть работников и служащих, кучер, повар, лакей, писал С.Н.Игумнов. Тем не менее, своим служащим отец часто выдавал жалованье за месяц вперёд, и случалось, что иногда люди эти деньги не отрабатывали. Когда к нему в очередной раз приходил какой-нибудь работник просить денег вперёд, Николай Иванович взрывался, но тот не смущался, терпеливо выслушивал тирады хозяина и ждал, когда тот смягчится. И всегда получал то, что хотел. Иногда просители действовали через супругу хозяина Клавдию Васильевну. В экстренных случаях Николай Иванович выдавал просителям крупные суммы — на покупку дома, коровы, ремонт квартиры и т. п. «Разносы шли разносами, а пьянство и промахи своим чередом, …почти всегда остававшиеся без серьёзных последствий», — иронизирует Сергей Николаевич. — «Всякий знал, что эти гневные вспышки, во-первых, небезосновательны, во-вторых, не что иное, как досадный, но легко податливый барьер, которым огораживается доброта отца. И ею пользовались. Бывали обидные слова, но не было обидных дел, обидных порядков…» Мелкое воровство тоже имело место, но по-крупному не воровали, и хозяйство береглось в целом основательно.
Естественно, хозяин всегда помогал бедным и нуждающимся. Некоторые его подопечные получали эту помощь если не постоянно, то регулярно. Деньги выдавались практически бесконтрольно, а за подаяниями натурой (хлебом, рыбой, мясом, яйцами и пр.) у дома Игумнова выстраивалась очередь.
В Лебедяни долго не было катка, но вот ТГВ от 3.1.1891 г. сообщили, например, о том, что «благодаря старанию любителя Н. И. И. каток устроен и …даёт лучшее зимнее развлечение здешней молодёжи». За аббревиатурой «Н.И.И.» конечно же скрывался Николай Иванович Игумнов.
1891 год «отметился» в Лебедянском и соседних уездах большим несчастьем — голодом. В соседнем Данковском уезде Л.Н.Толстой устроил для голодающих бесплатные столовые. Писатель А. И. Эртель истратил на такие пункты питания всё своё состояние. Внёс свою лепту в борьбу с голодом и Н.И.Игумнов: он не стал продавать имевшиеся у него запасы муки спекулянтам, а по низкой цене продал её нуждающимся крестьянам. Для обсуждения деталей помощи голодающим он встречался с Л.Н.Толстым.
Николай Иванович и «папа Петя» продолжали расширять хозяйство и в 18993 году построили мельницу на р. Красивая Меча на окраине с. Курапово, хотя мукомольное дело стало повсеместно приходить в упадок. Последние годы жизни Николай Иванович, в силу указанного выше распорядка дня, а также глухоты и привязанности к церковным делам, несколько уединился от остальных домочадцев — встречались только за ужином и по праздникам. За столом велась оживлённая беседа, и отец, пишет Сергей Николаевич, был вынужден переспрашивать, говорить невпопад, что несколько раздражало остальных, докучало, и потому отвечали ему кратко, а иногда и отмахивались от него, упрекая в глухоте. Он редко отвечал протестами, лишь замыкался в себе, молча доедал ужин и уходил в свой кабинет. Туда ему подавали и чай. Из кабинета он выходил, чтобы умыться, пообедать или поужинать. Он сидел за столом, разбирал счета и прочие документы, читал газеты и журналы, к нему приходили приказчики и помощники по делам церкви. Иногда он ложился на диван и брал трубку с аршинным чубуком. Когда трубки вышли из моды, он перешёл на папиросы. Он курил много и курил с 12 лет, но лет за 10 до смерти курить бросил. Никогда не брал в руки табака до утренней и после вечерней молитвы.
Как все старики, Николай Иванович зяб и почти не снимал байкового халата. Но из-под халата всегда выглядывали пиджачная пара, рубашка с крахмальной манишкой и стоячим воротником, галстук. Туфель не носил, предпочитая им сапоги — тут он тоже придерживался старых привычек. Распущенности и неряшливости в одежде не терпел, одежду заказывал у хорошего портного в Москве.
По своей внешности он был смуглым человеком с тёмными негустыми прямыми волосами, карими глазами, довольно большим с маленькой горбинкой носом. Это был мужчина высокого роста — вершков семи; держался он всегда прямо, не горбясь, походку до последних дней сохранил лёгкую, упругую и довольно быструю; был худ, а к старости превратился в сущий скелет.
Он не чурался людей, но и не стремился к обществу. В гости ходил редко, да и то только к родственникам. Он не танцевал, не играл в карты, считая это богопротивным делом, всю жизнь не мог терпеть водку, пил только мадеру, но каждый день, поэтому в купеческо-мещанском обществе выглядел белой вороной. К нему иногда заходили в кабинет, изредка там сидел протопоп. Им приносили трубки с чубуками, что придавало компании «торжественную важность». Говорили степенно о погоде, урожае, вспоминали старые события и памятные даты, перебирали местные и общероссийские новости. Вечером подавалась закуска: сыр, икра, балык, сардины, домашние маринады, водка, мадера, портвейн. К закуске допускали и старших сыновей хозяина.
Он любил цветы и под старость эта любовь только усилилась. В парадных комнатах всегда стояли кадки и горшки с цветами: драцены, фикусы, китайские розаны, кактусы, позже появились пальмы, филадендроны, кипарисы, а также гиацинты, тацеты, тюльпаны, нарциссы и многие другие. За разведением цветов Николай Иванович наблюдал лично.
Было у него ещё одно увлечение — наблюдение за температурой наружного воздуха. Аккуратно, три раза в день, он проверял градусник и записывал его показатели в особую тетрадку. Наблюдения велись в течение нескольких десятилетий. «Записи эти ни для чего не использовались и определённой цели, по-видимому, не имели, но велись неуклонно», — писал С.Н.Игумнов.
Умер Н. И. Игумнов на 76 году жизни от сердечной недостаточности и отёка лёгких. Не будучи крепышом, болел редко, если не считать хронического катара желудка и геморроя, которыми страдал издавна. В семье были врачи (кроме Сергея Николаевича, врачом был зять, муж дочери Елизаветы — Леонов Дмитрий Николаевич), но ни сам больной, ни окружающие его домочадцы, ни врачи не осознали опасности случившегося с ним сердечного и лёгочного заболевания. В последние часы жизни он сильно ослаб и даже не мог завести карманные часы. Он тихо скончался в ночь с 13 на 14 октября 1898 года. Соборовать и причащать его по старому обычаю не стали, чтобы не пугать приближением конца. Отец при всей своей набожности и ортодоксальности этого не любил — он боялся смерти.
В своей статье «О творческом пути и исполнительском искусстве пианиста» К.Н.Игумнов писал: «Осенняя песня» Чайковского у меня всегда связывается с отцом… Картина облетевшего сада… а октябрь — это месяц, когда умерли Чайковский и мой отец… Слушая или играя «Осеннюю песню», я всегда вспоминаю отца — это была его любимая пьеса… С «Подснежником» связаны воспоминания о том, как в детстве в Лебедяни ходили рвать полевые цветы в монастырь. Нигде их больше не было, а в монастыре — очень много…»
Мать — Клавдия Васильевна, урождённая Игнатова, родилась в 1836 году в Серпухове. Воспитывалась в Москве в пансионе «Севенер» и прямо оттуда в 16-летнем возрасте пошла под венец. Как пишет её сын Сергей, часть денежного приданого она поместила в дело своих родителей и потом, нерегулярно и с задержками, получала с него какую-то прибыль. Другую часть она отдала мужу и тоже обратила в дело. Она сильно беспокоилась за их судьбу, боялась остаться с детьми к концу жизни без денег и очень успокоилась, когда «папа Петя» выплатил ей сполна все деньги — около 20 тысяч рублей.
После родов старшего сына Николая Клавдия Васильевна долго болела воспалением лёгких, но «отпилась» кумысом, для чего в Лебедянь был выписан татарин с кобылицей. Впрочем, болезнь перешла в хроническую стадию, и скончалась она на 71-м году жизни в 1907 году от её очередного обострения.
Болезнь отразилась на её образе жизни. Она редко выходила зимой на улицу, но, тем не менее, успешно родила ещё троих детей. Жаловалась на плохой сон — обострённый слух и восприимчивость к посторонним звукам усугубляли бессонницу. Она сносила всё с присущей русским женщинам покорностью и терпением, характера была ровного, к детям относилась ласково. Почти ежедневно дом посещал семейный врач Андрей Константинович Арнольд, он же наблюдал за здоровьем Клавдии Васильевны.
До родов эта худая и бледная шатенка с серыми глазами и высоким лбом увлекалась танцами. С особенным успехом танцевала польку-мазурку, так что картёжники отрывались от карт и выходили посмотреть на её танец. Одевалась она в соответствии с модой (кринолины, турнюры и пр.) и выписывала одежду, как и муж, из Москвы.
Клавдия Васильевна была религиозна, но не так глубоко, как супруг. Она не была искусной портнихой, но кое-что шила сама и вязала крючком. На её попечении была кладовая белья и одежды. Там на специальных подставках стояли более дюжины огромных сундуков и «укладок», в которых хранились шубы, салопы, шапки, носильное и постельное бельё и т. п. Почти всё это было приданым Клавдии Васильевны, которое до конца её жизни истощено не было и досталось уже её дочери Елизавете.
Игумновы занимали единственный в городе 3-этажный дом на Дворянской улие. В доме часто собирались гости — обычно часов с семи вечера — преимущественно дамы, всегда принаряженные. Они чинно рассаживались в гостиной, ужин и чай им не подавали, а угощали вареньем в вазах, смоквой, домашней пастилой, яблоками, орешками, мармеладом, соломкой, винными ягодами, финиками и т. п. Если с ними были мужчины, то подавали закуски и спиртное. К закускам приглашали и дам.
Разговоры шли вяло, заполнить время не умели, и обычно брались за лото или карты (ералаш, рамс, вист, «сибирка» — то простая, то с «винтом»). Как-то в присутствии инспектора прогимназии Р.И.Гаека кто-то спросил у одного из игроков, в какую «сибирку» играют — с винтом или «без», на что был дан ответ:
— Не только с «винтом», но и с «гайкой».
Клавдия Васильевна тоже любила цветы, но не разводила их, а только за ними ухаживала. В месте летнего отдыха семьи, в Шовском, она высадила небольшую хвойную рощу, но дождаться больших деревьев не удалось, потому что имение в 1899 году было продано.
После смерти отца дом тоже был продан, и Клавдии Васильевне с одной няней Марией Савельевной пришлось съехать на квартиру в три крошечные комнатки и жить на средства, выделяемые старшим и младшим сыновьями (Сергея Николаевича братья от этого отстранили, поскольку у него была своя семья). Квартирка имела то преимущество, что соединялась сенями с квартирой её дочери Лизы и зятя Д.Н.Леонова. Позднее Леоновы переехали в Тамбов, потом в Воронеж, и Клавдия Васильевна последовала за ними. В 1903 году она приезжала гостить к Сергею Николаевичу в Звенигород, а в 1905 году — в Харьков. Весной 1907 года она заболела воспалением лёгких. Приехавший 28 марта по телеграмме из Харькова Сергей Николаевич застал её уже положенной на стол.
Похоронили Клавдию Васильевну на Нижнедевичьем кладбище в Воронеже.
Глава 4 Братья и сестра
Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть…
М.Ю.Лермонтов
Ближе брата Николая и сестры Лизы Константину Николаевичу Игумнову был брат Сергей — поэт, публицист, драматург и врач (1864—1942). К нему он был ближе всего и в детстве, и будучи уже взрослым. Их объединял тяга к искусству и общие творческие задатки. Сыграло роль, по всей видимости, также и то, что Сергей из-за своей болезненности поздно пошёл в школу, и сидя дома, он много общался с младшим братом. Средний брат оказал на будущего пианиста и музыканта сильное влияние. Как пишет Я. Мильштейн, человек большого благородства, разносторонних интересов и талантов, средний брат оказал на развитие младшего брата самое сильное и благотворное влияние. Сергей рано выработал в себе идеалы служения народу, которым остался верен до конца жизни.
Сохранилась запись о рождении Сергея Николаевича:
СВИДЕТЕЛЬСТВО
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, в Тамбовской Духовной Консистории по метрическим книгам, хранящимся в архиве оной, города Лебедяни Казанской церкви за тысяча восемьсот шестьдесят четвёртый год, под №27, значится так:
«Потомственный почётный гражданин Николай Иванов Игумнов и законная жена его Клавдия Васильевна, оба православные, у них родился сын Сергий двадцать четвёртого, а крещён тридцатого сентября священником Михаилом Добротворцевым с причтом».
Член Консистории
Секретарь (Печать)
За столоначальника
На обороте свидетельства есть надпись, почему-то касающаяся брака старшего брата Николая: «Сего 1891 года 28-м июнем свидетельство Лебедянской городской управы от 18 июня за №340 с надписью о браке получил обратно кандидат права Николай Николаевич Игумнов». Благодаря этому мы знаем о времени женитьбы Николая Николаевича.
У всех детей были кормилицы. У Сергея их было даже две, причём, как он пишет, одна из них его чуть не уморила: у неё пропало молоко, и, не желая терять место, она скрывала это. Рос он и без того исключительно болезненным и тихим мальчиком. Болел в детстве корью, краснухой, дизентерией, ветрянкой. На втором году едва не умер от крупозного воспаления лёгких. Спасли методом рвоты: изо рта выскочили крупозные плёнки с бронхов, и мальчик пошёл на поправку. Из-за болезней он довольно поздно — в 12-летнем возрасте — поступил в Лебедянскую прогимназию, где открыл для себя Некрасова и Тургенева — писателей, которых отец не одобрял за либеральные «китайские» идеи.
Из-за экземы на теле и голове в виде шлема Сергей, по собственным словам, имел очень жалкий вид, но выглядел весьма сурово. Однажды его показали товарищу военного министра и севастопольскому герою князю Виктору Илларионовичу Васильчикову, имевшему в Лебедянском уезде имение. Тот взглянул на насупившуюся физиономию мальчика и сказал:
— О, какой строгий! Далеко пойдёшь, но не желал бы служить под твоим начальством.
Экзема мучила Сергея Николаевича в течение всей взрослой жизни.
Болел он и ангиной, пока не решился вырезать гланды по примеру дяди Ивана Ивановича. Сергей учился тогда уже в 5-м классе московской гимназии, когда дядя приехал в Москву, чтобы вырезать себе гланды у известного ларинголога Беляева. Удачный опыт дяди вдохновил на подвиг и племянника, и он тоже пошёл к Беляеву. Тот сразу вооружился тонзилотом и без всякой анестезии в два приёма вырвал злосчастные гланды. «Раза два что-то щёлкнуло, хрустнуло, жгучая боль, слёзы градом, потемнение в глазах, несколько кровавых плевков и опять — раз-два, и снова боль, слёзы… вырезаны другие гланды. Вышел на улицу, сел на извозчика и ничего дальше не помню, очнулся уже около квартиры…, не вывалившись из пролётки и даже не потеряв фуражки. Вошёл в комнату козырем и изумил всех своим подвигом. С тех пор ангин не знаю», — вспоминал несчастный пациент.
Болел Сергей ещё бронхитами и бронхиальной астмой, брюшным тифом и ещё чем-то — всего не перечислить. И чем только его не лечили: отвары, ингаляции, компрессы, мышьяк в каплях, железистые пилюли, минеральная вода, визиты к знаменитому Захарьину в Москве — ничего не помогало.
Сергей Константинович вспоминал: когда Игумновы появились у Захарьина, перед их взорами в приёмной разыгрались душераздирающие сцены. Во-первых, нужно было дождаться приёма после длиннющей очереди. Ждать приходилось до 2 часов ночи! Захарьин к этому времени ввёл новшество — плату за консультацию и лечение в размере 5 рублей, чем вызвал большое недовольство публики. Одна дама выскочила из его кабинета, как ошпаренная, потому что положила гонорар не на столик, а сунула его в руку врачу, чем вызвала гнев негодования у холерика-врача.
Сергей пришёл на приём с родителями. Захарьин стал задавать матери вопросы об условиях жизни в Лебедяни и симптомах болезни, но отвечал на них отец, поскольку мать мешкала с ответами.
— Я не вас спрашиваю, — взорвался врач, — вы спутали мои мысли, опять придётся всё сначала!
Врач закрыл глаза рукой и несколько минут сидел в полной тишине. Все — и пациенты, и его ассистенты — боялись пошевелиться. Потом допрос продолжился и даже в полне ласковой манере. Никакого толку от визита не было, заключает свои воспоминания пациент.
Сохранилась «китайская» записка Серёжи, написанная матери в связи с днём ангела младшего брата Костика, отправленная вместе с запиской отца из Москвы:
«Яалим амам!
Юялвардзоп ябет с мокиннинями и юалеж огесв огешорох. Юулец ябет окперк и ьсюатсо йищябюлогонм ныс йовт Йегрес Вонмуги.
Авксом, 1881 адог, яам 71, еьнесерксов, 01 восач».
Надеемся, читатель легко расшифрует текст этой «хитрой» записки. К «такой «китайской» грамоте, как мы увидим, будет потом прибегать и Константин Николаевич.
В 1881 году, окончив в 17 лет прогимназию, Сергей поступил в 5-й класс 1-й Московской гимназии, одной из лучших среди казённых. Жил вместе со старшим братом Николаем в меблированных комнатах, они вместе ходили в театр и на симфонические концерты. В гимназии Сергей увлекался художниками-передвижниками, приверженность к которым сохранил на всю жизнь. В эти годы он стал симпатизировать народникам, много читал Н. Добролюбова, но близко с ними не сошёлся. «Зовы народников» его отталкивали, опрощение и «толстовство» тоже не привлекали своей надуманностью, не соответствующей действительности.
В 1884 году Сергей поступает в Московский университет на медицинский факультет. Дух времени, стремление приносить пользу людям определили выбор профессии. Медицинский факультет университета был богат знаменитостями: тот же Захарьин, Остроумов, Склифосовский, Филатов, Эрисман… Из их лекций Игумнов вынес идею о том, что лечить в России надо было не больных, а условия, в которых они находятся. Эту идею Сергей Константинович пронёс через всю свою жизнь.
Во время учёбы в университете Сергей попадает на съезд земских врачей Московской губернии и заражается земскими идеями. Он формулирует для себя вывод о том, что путь в земскую медицину был единственным приемлемым для него путём. Поэтому по окончании учёбы он решил вернуться в родной Лебедянский уезд и работать там земским врачом. Вместе с ним поехали зять Д.П.Леонов и А.И.Вигрен, тоже выпускники медицинского факультета Московского университета.
Вот текст документа, полученного Сергеем Константиновичем по окончании учёбы:
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
От Совета ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Университета Сергею Игумнову дано сие свидетельство в том, что он, при надлежащем испытании в Медицинском факультете, определением Университетскаго Совета, 31 мая 1889 года состоявшимся, утверждён в звании Уездного Врача. Дано в Москве, Октября 27 дня 1889 года.
Ректор Университета Гавриил Иванов
Декан Медицинскаго Факультета (подпись неразборчива)
Секретарь по студенческим делам (подпись неразборчива)
№4232 (Печать университета)
Вот так: было такое звание «уездного врача».
Во время работы в Лебедяни С. Н. Игумнов занимал прогрессивную позицию, направленную на улучшение медицинского обслуживания бедной части населения уезда.
В 1890—92 гг. он принимал деятельное участие в борьбе с эпидемиями холеры, тифа, с голодом. Вопреки полному бездействию губернских и уездных властей, а иногда и в противостоянии с властями, Игумнов совершал акты истинного героизма. Во время одной из эпидемий он заразился сыпным тифом, долго и тяжело преодолевал болезнь, но от последствий её так и не избавился: он стал быстро глохнуть. Это заставило его потом бросить активную медицину и стать врачом санитарным.
Как член городской думы он с 8 по 12 октября 1895 года принимал участие в очередной сессии Лебедянского земского собрания (см. отчёт ТГВ от 2.12.1895 г.), на которой выступал за увеличение жалованья учителям и выделение дополнительных средств на приобретение учебников и учебных пособий в уездных школах. Характерно, что, выступая за учреждение в городе общественной библиотеки, он шёл против большинства земства, упорно не желавшего выделять на это деньги. Он же резко выступил против предложения установить за врачебную помощь плату, поскольку, по его мнению, это отвратило бы бедную часть населения от компетентной врачебной помощи и толкнуло бы её обратно в руки знахарей, бабок и колдунов.
Кстати, уже в Лебедяни С. Н. Игумнов написал работу «Краткие сведения о холере и мерах предохранения от неё»
В 1899 г. С. Н. Игумнов покинул Лебедянь.
В архиве ЛКМ имеется лицевой лист «Формулярного списка о службе» «Лебедянскаго Земскаго врача городского участка, потомственнаго почётнаго гражданина Сергия Николаевича Игумнова. Составлен 5 января 1900 г.» На обратной стороне листа рукописный текст, скреплённый соответствующими подписями и печатью: «Настоящая копия выдана Сергию Николаевичу Игумнову вследствие его личной просьбы на предмет представления в Херсонскую губернскую Земскую управу января 7-го дня 1906 года».
Очевидно, при выезде из Лебедяни Сергей Николаевич проявил беспечность и был вынужден запрашивать формулярный список уже в 1906 г.
На лицевой стороне листа есть (харьковский) штамп: «Паспорт выдан 1933 г.»
«Конец прошлого и начало нынешнего года местное общество жило под впечатлением тяжёлой утраты», — писали ТГВ 6.5.1899 г. — «Оба земские врача, Д.Н.Леонов и С.Н.Игумнов… оставили службу Лебедянскому земству». Газета отмечала их «неизменно внимательное отношение к больным» и бескорыстную помощь всем нуждающимся, что ставило их «неизмеримо выше обыкновенного уровня врача-ремесленника». Оба врача были деятельными членами благотворительного общества, в котором Леонов, муж сестры Елизаветы Игумнова, был председателем, а Игумнов — делопроизводителем. Кроме того, Игумнов оставил по себе память устройством в Лебедяни бесплатной народной библиотеки-читальни. В таких же скорбных и выражающих сожаление выражениях по поводу ухода врачей из Лебедянского земства была выдержана заметка в «Листках заразных заболеваний в Тамбовской губернии (№3, 1900).
Возможно, с С.Н.Игумновым всё произошло так, как это было с героем повести В. Вересаева «Без дороги»: «Почти против воли я стал в земстве каким-то enfant terrible председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и …свалился сам, а когда поправился… то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я должен был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо…»
Весной 1899 года родители буквально прогнали Сергея Николаевича в Рязань на т. н. Пироговский съезд. Сравнивая эту поездку с выездом девицы на первый бал, Сергей Николаевич вспоминал потом, что съезд «вскружил ему голову», там его заметили и предложили занять место земского санитарного врача по Александровскому уезду Херсонской губернии. В январе 1900 года он приступил к работе.
Через полтора года его пригласили в Звенигородский и Верейский уезды Московской губернии на более самостоятельную работу, на которой он проработал почти три года и считал этот период самым счастливым в своей жизни. С.Н.Игумнов окончательно становится признанным представителем общественной медицины и завоёвывает в ней всё больший авторитет.
С марта 1904 года он работает заведующим санитарным бюро Харьковского губернского земства. Больше из Харькова он не выедет до самой своей смерти. Здесь, как и ранее в Лебедяни, Херсоне и Звенигороде, он занимается активной общественной деятельностью, он член различных обществ, комитетов и комиссий, в 1908—1913 гг. преподавал санитарную статистику и организацию медпомощи в Фельдшерской школе. Он становится поэтом и ярким публицистом, сотрудничает с многими газетами и журналами, в частности, с «Врачебной хроникой» Харьковской губернии, пишет статьи на медицинскую тематику, пьесы (1917—1918) и художественную прозу. По своим взглядам он становится крайним либералом, противником всякого насилия. Отвергая непротивление злу насилием, он отвергал насилие тоже. Критикуя власти за тупую «зубодробительную политику», он одновременно умолял Господа Бога «избавить Россию от зажигателей ужасной революции» и проявлять милость по отношению к революционерам. Выход для страны он видел один — «в создании прочного общественного мнения с необходимыми для него либеральными основами общежития, надо поднять культурность населения».
Стихи С. Н. Игумнов писал всю жизнь, но выпустил всего два сборника (1911, 1915). Социальная направленность стихов та же, что и в публицистических статьях. В 1917 же году он в типографии Харьковского губернского земства опубликовал известную брошюру «Земство и его реформы».
Революцию 1917 года С.Н.Игумнов не принял, но в эмиграцию не ушёл, а проработал на медицинском поприще ещё 20 лет. Он был человеком дела, и дел у него всегда было много. Писал статьи к датам и юбилеям, вспоминал историю земства. 5 апреля 1921 года он был избран профессором института народного хозяйства на правовом отделении при кафедре «Правовая основа общественной санитарии». Там же читал санитарную статистику. В 1940 году в Киеве на правах рукописи вышла его книга «Очерк развития земской медицины в губерниях, вошедших в состав У. С. С.Р., в Бессарабии и в Крыму». К сожалению, не были напечатаны многочисленные его рассказы и повести (после него остались 10 толстых тетрадей с их рукописями), а также автобиография на более чем 300 рукописных листах. Всего им написано более 400 произведений, в том числе статьи о творчестве Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, И.С.Тургенева и В.Г.Короленко.
25 октября 1942 года С.Н.Игумнов трагически погиб в оккупированном немцами Харькове. Переходя улицу, он не услышал гудка и попал под автомашину оккупантов. Вероятно, по этой причине он не успел дописать свои воспоминания о себе и других членах семьи Игумновых.
Жена С. Н. Игумнова — Ольга Львовна, урождённая Гельфрейх и уроженка Ельца. Отец её отставной штаб-ротмистр, надворный советник Лев Егорович фон Гельфрейх (1832—1907) был представителем эстляндского дворянства с австрийскими корнями. Мать Ольги Львовны, Ольга Николаевна (умерла в 1907 году) происходила из купеческого рода Хренниковых, с которыми Игумновы уже были в родстве. Ольга Львовна была профессиональной певицей и принимала самое активное участие в деятельности музыкально-драматического общества Лебедяни. При отъезде из Лебедяни с мужем общество преподнесло ей адрес, в котором отмечался её вклад в культурно-просветительскую деятельность общества: «Общество с особым удовольствием вспоминает, что при первом Вашем появлении на Лебедянской сцене, в декабре 1890 года, в роли Любы в комедии „Сорванец“ Вы сразу приобрели себе симпатии всей местной публики. Впоследствии, вступив уже в число членов местного драматического кружка, Вы исполнили ряд ответственных ролей … (идёт их перечисление) в пьесах…»
Отметив несомненное музыкально-драматическое дарование Ольги Львовны и искренние симпатии публики, «Лебедянское Музыкально-Драматическое Общество, в общем своём собрании 9 января 1900 года, избрало Вас своим Почётным членом».
Адрес подписан 33-мя членами общества.
«На память от искренно любящих и уважающих» её двадцати лебедянцев был преподнесён отдельный адрес.
В Харькове, на ул. Бассейная, 41, Ольга Львовна до революции вела класс пения, организовывала концерты своих учеников, а при советской власти преподавала пение в местной консерватории. В архивах сохранилась афиша за 1930 год с объявлением концерта членов вокальной студии О.Л.Игумновой.
Дочь С. Н. Игумнова — Татьяна Сергеевна Игумнова, (1892—1983), известная советская писательница (романы «Шаги времени», «Маркизетовый поход» и др.), училась в Харькове, потом перевелась в Москву, где поступила на женские курсы, но занималась в театральных кружках и студиях. Во время гражданской войны она оказалась в Ростове и как артистка была мобилизована в Красную Армию, где и познакомилась с Яковом Моисеевичем Ромом.
Узнав о смерти отца, Татьяна Сергеевна добилась места в двухместном истребителе и прилетела во временно освобождённый Харьков, чтобы успеть там побывать на его похоронах.
У Татьяны Сергеевны и Якова Моисеевича родилось двое сыновей: Радомир (1921) и Витольд (1928). В 1948 году Я.М.Рома репрессировали, он вернулся из лагерей только в 1957 году и в этом же году скончался.
Общение Кости Игумнова со старшим братом Николаем, 1859 г.р., затруднялось 15-летней разницей в возрасте. Кстати, Николай Николаевич тоже обладал хорошим музыкальным слухом и памятью, музыку понимал и любил, был большим любителем итальянского пения. Из «старых» композиторов он выше всех ставил венских классиков — Моцарта, Бетховена и Шуберта. «Этих композиторов он любил потому, что находил в их музыке идейное начало, настоящие чувства и мысли», — вспоминал потом К.Н.Игумнов. Интересовался Николай Николаевич также творчеством Шопена и Листа. Впрочем, Шопена он любил меньше, в его сочинениях ему не нравилось любовное начало, «тяготение к женщине». Он говорил: «Пахнет духами».
Позже Николай Николаевич стал увлекался юриспруденцией, с отличием окончил Московский университет и по окончании был оставлен там же на кафедре по истории западноевропейских конституций. Константин Николаевич вспоминал по этому поводу: «Был оставлен у Максима Ковалевского по истории западноевропейских конституций. Но дальше из этого ничего не вышло. Ковалевский должен был уйти из университета. Предмет его был, по новому уставу, вычеркнут из учебного плана, а переходить на общее государственное право брат не пожелал — он не ладил с Алексеевым. В результате он бросил университет — ушёл в судебное ведомство, где и служил до своей смерти».
Дата смерти брата не известна (скончался он, по некоторым данным в 20-х годах прошлого столетия), мы можем лишь предположить, что Николаю Николаевичу пришлось работать и в советской судебной системе, например, при Крыленко. Других сведений о нём и его судьбе пока не обнаружено
Сохранилось его письмо 12-летнему брату Косте из Москвы в Лебедянь:
«Милый Костя!
Неправда ли, какой безсовестный твой брат, сиречь я? Только что собрался тебе написать, да и теперь-то ещё не напишу, потому что сию минуту отправляюсь в театр, так что докончить придётся уже завтра.
Теперь я оказываюсь ещё безсовестнее, чем тогда, когда начал писать тебе это послание: обещал дописать «завтра», т.е. в среду, а дописываю вот в пятницу. Ты завидуешь, что я слышал игру Рубинштейна, которой ты не слыхал. Но, во-первых, зависть вещь очень непохвальная, во-вторых, и завидовать нечего, потому что если ты и не слыхал Руб., то это дело ещё поправимое и поправимое потому, что я могу тебе описать, как он играл. Правда, моё описание будет касаться более внешности, но и это не беда, так как при необходимой доле воображения можно представить себе игру лучше Рубинштейновской: ведь появился же здесь некий Фельдман, который в тёплой комнате вообразит по чистому произволу, когда вздумается, что его рука во льду, и она, его рука, действительно озябнет, т.е. по ней забегают мурашки.
Так вот и ты неполноту моего описания дополни воображением, и будет всё отлично, и завидовать тебе не придётся.
Руб. сидит за роялью на стуле не особенно близко к ней, но и не особенно далеко от нея; приблизительно разстояние его живота в области, лежащей выше пупка и прямо над ним, выражаясь анатомически, regionis epigastrical до ближайшей части клавиатуры равнялось 15—15½ дюймам. Ноги обязательно вытянуты вперёд и обе покоятся на обеих педалях, так как, по его мнению, душа рояля в педали. Это его мнение понятно: всегда ведь говорят, что у испуганного душа в пятки убегает, а так как Руб. не щадит рояля, то последняя, когда за ней сидит Руб., и пугается, вследствие чего ея душа улепётывает в педаль, т.е. в пятки рояля.
Далее. Руки Руб. поднимает невысоко, голову немного свешивает на грудь и чуть-чуть едва заметно набок, закрывает глаза (далее неразборчиво) … так как несмотря на то, что я ему хлопал из желания, испугав его, заставить его раскрыть рот, но, к сожалению, мне это не удалось); прибавь к этому, что он сопит так, что сап его слышен хорошо на разстоянии 5¾ аршин, порядочно на разстоянии 5—7½, плохо — на разстоянии до 10 аршин, и далее аршин на 11—12 — с величайшим трудом, впрочем, но можно услыхать.
Ты пишешь, что мне больше понравился Шопен, но ты не знаешь, что до самого последнего времени я его считал за весьма легкомысленного композитора, писавшего одни польки. В последнее время я узнал, что это мнение неверно. Точно так же я изменил мнение и о Моцарте, прежде я считал его великим, но теперь потерял к нему уважение, так как он, несчастный, писал преимущественно фугами (!!!!) Душевно сокрушаюсь безграмотностью ваших музыкантов (об училище!)
До свиданья! Будь здоров. У вас скоро конец четверти? Целую тебя (далее неразборчиво). Поцелуй папу, маму, няню, всем поклон. Всего хорошего».
Мы чувствует в тексте и взрослую снисходительность к младшему, и рисование собой, умным и остроумным человеком, и равнодушие к великим мира сего, претензию на оригинальность суждений и мнений, но и тёплую искреннюю любовь к брату. Отличное письмо, дышащее воздухом искренних заблуждений и исканий давно ушедшей эпохи!
Мало сведений сохранилось и о сестре К.Н.Игумнова Елизавете Николаевне (1866—1927). Она скончалась и похоронена в Воронеже, не достигнув полных 62 лет. Как мы уже писали выше, она вышла замуж за Дмитрия Николаевича Леонова (1858—1943), уроженца Ельца, получившего медицинское образование в московском университете в 1886 году. Брак Елизаветы Николаевны с Дмитрием Николаевичем Леоновым зарегистрирован 19 мая 1893 г. за №8 в Новоказанском соборе Лебедяни. Ей было 26, ему — 35 лет, Свидетелями со стороны жениха выступали брат Сергей и Николай Петрович Игумнов, а со стороны невесты — старший брат Николай и Иван Петрович Калашников.
По выражению коллеги, родственника и друга Леонова — Сергея Николаевича Игумнова, Дмитрий Николаевич «был типичным земским врачом, тянувшим его подвижническую лямку и ухитрявшимся порою, что называется, на обухе рожь молотить, и в тоже время значительно возвышался над общим уровнем земско-врачебной среды…» Он ещё студентом сблизился с народническим кружком Н.Н.Златовратского и пронёс идеи народничества через всю свою жизнь.
После университета он некоторое время поработал волонтёром в земской больнице родного Ельца, а в начале 1887 года вместе со своим товарищем А.И.Вигреном, окончившим курс университета годом раньше его, поступили вдвоём на одно место в Лебедянское земство, где терпя лишения, холодное, а иногда враждебное отношение к себе со стороны власть предержащих, не бунтуя, не протестуя, тихо и спокойно делали своё дело и буквально в короткое время резко изменили к лучшему климат и состояние дел в земской больнице.
После Лебедяни Леонов работал в Воронеже — сначала в амбулатории Красного Креста, потом городским врачом. Там под его руководством была выстроена городская больница для заразных больных, но в благополучные годы функционировавшая как родильный дом и терапевтическая больница. Так он продолжал трудиться на почве воронежского здравоохранения и в советские годы. «И вот ему 68 лет», — писал С.Н.Игумнов, — «у него 40-летний блестящий стаж, работает и теперь, как вол, и на работе заткнёт за пояс многих молодых».
В предвоенные годы Леонов работал главным врачом воронежской тюремной больницы им. Гааза, а до эвакуации в октябре 1941 года в Ташкент — её консультантом.
В 30-е годы Леоновы проживали в здании Воронежского краеведческого музея на ул. ул Бехтерева, 36. Это явствует из письма Ушаковой Н. Д., отправленного в 1937 г. из Москвы, Сивцев Вражек 38 кв. 1. Она пишет Леоновым о том, как К.Н.Игумнов с ней и своими учениками возлагали цветы на могиле Танеева.
В ташкентскую эвакуацию Д.Н.Леонов отправился с детьми Верой и Еленой и внучкой (дочерью Елены). Там в 1943 году бывший земский врач и умер.
О Д.Н.Леонове и семерых детях Леоновых. рассказала нам проживающая в Воронеже их внучка Е.А.Рагозина: Сергей, 1896 г.р., без вести пропал в 1918 году; Николай (1897—1958), биолог, выпускник МГУ, уехал в Ташкент на укрепление национальных кадров Среднеазиатского университета, полиглот, со знаниями во многих областях науки, в звании майора служил военным переводчиком в Иране, дружил со Львом Николаевичем Гумилёвым; дочь Елизавета умерла в возрасте 15 лет от перитонита; сын Дмитрий (1903—1983) снискал себе уважение и почёт на краеведческой и археологической ниве; дочь Ольга, 1906г.р., умерла в младенческом возрасте; дочь Вера (1908—1983) нашла себя в библиотекарском деле; а дочь Елена (1908—1995), в замужестве Рагозина, прожила трудную и честную жизнь, работала учителем физкультуры, но главным образом была домохозяйкой.
Вот таким беспощадным образом судьба распорядилась со всеми родными и близкими К.Н.Игумнова.
Глава 5 Жули-Мули
Сама ты знала свой удел,
Но до конца, как прежде,
Твой голос, погасая, пел
О счастье, о надежде.
Н.А.Некрасов «Памяти Асенковой»
Яркой представительницей рода Игумновых была кузина К.Н.Игумнова — Юлия Ивановна Игумнова (5 марта 1871 — 15 февраля 1940), тоже уроженка Лебедяни и наперсница его детских лет. Дома их родителей, родных братьев Николая Ивановича и Ивана Ивановича-мл. (1835—1874), стояли неподалёку друг от друга, так что они часто играли вместе во дворах на Дворянской и на Христорождественской улицах, гуляли по крутому берегу Дона, совершали экскурсии в Троицкий монастырь за ландышами и подснежниками.
Родители её — Иван Иванович (младший) и Елизавета Николаевна Игумновы — рано ушли в мир иной. К концу века семья обеднела, и члены её навсегда покинули Лебедянь и рассеялись по всей России. Ю.И.Игумнова получила известность как человек, входивший в окружение Л.Н.Толстого, но и как талантливая художница, специализировавшаяся в жанре портрета и анималистики, она вполне заслуживает самостоятельную известность. Родная сестра Юлии — Варвара — была пианисткой.
В метрической книги Старособорной Казанской церкви г. Лебедяни за 1871 год в разделе родившихся за №6 записано:
«Коренного Лебедянского жителя потомственного почётного гражданина Ивана Ивановича Игумнова и его законной жены Елизаветы Николаевны родилась 5 марта, крещена 6 марта дочь Юлия.
Воспреемники: Лебедянский житель потомственный почётный гражданин Николай Иванович Игумнов и вдова Марья Васильевна Проскурина.
Совершал таинство крещения священник Михаил Добротворцев».
Как мы видим, крёстным отцом Юлии стал будущий отец Кости Игумнова.
В 1889 году Юлия начала самостоятельную жизнь в Москве, поступив в качестве «вольной посетительницы фигурного класса» в Училище живописи, ваяния и зодчества (УЖВЗ). В РГАЛИ хранится её личное дело, в котором, к сожалению, процесс и результаты её учёбы в училище не отражены. Оно было заведено в 1889 году и дополнено документами в связи с её переездом в 1896 году в Петербург и поступлением там на живописное отделение Императорской Академии художеств.
В начале 1889 года мать Юлии Ивановны, Елизавета Николаевна, обратилась в Совет Московского Художественного Общества (СМХО) с просьбой принять её дочь в УЖВЗ и приложила к прошению метрическое свидетельство дочери и её же свидетельство о звании потомственного и почётного гражданина города Лебедяни. Вот текст этого свидетельства, в копии хранящегося в указанном личном деле:
Дано сие из Лебедянской Городской Управы Тамбовской губернии потомственной гражданке Юлии Ивановне Игумновой, имеющей от роду семнадцать лет, девице, для свободного пребывания во всех местах Российской империи, что Городская Управа подписом и приложением печати удостоверяет. Января 14 дня 1889 года.
Подлинно подписали: Городская Голова Проскурин
Секретарь Тимофеев
и приложена печать Городской Управы.
Автор не ошибся: именно «подписом» Городская Управа удостоверила факт её почётного гражданства Лебедяни.
На заявлении матери внизу сделана две приписки: одна о том, что Юлия Ивановна свидетельство о почётном потомственном гражданстве получила на руки, и о том, что метрическое свидетельство выслано в Императорскую Академию художеств за письмом №1002.
В связи с переездом в Петербург Игумнова запросила у Московского обер-полицеймейстера свидетельство о благонадёжности. Канцелярия высшего полицейского начальства Москвы письмом №16758 от 15 июня 1896 года сообщила СМХО о выдаче просительнице такового за №6187 и при этом же письме переслала его по назначению в Совет общества.
После этого вольная слушательница фигурного класса Ю.И.Игумнова обратилась в Контору СМХО с прошением следующего содержания:
«Имею честь просить переслать мои бумаги: свидетельство метрическое, о звании, о моём пребывании в фигурном классе училища, о благонадёжности и три фотографии, заверенные нотариусом, в Высшее художественное училище Императорской академии художеств. Выслать прошу не замедляя».
Резолюция в верхнем правом углу прошения гласит: «Исполнено», а внизу сделана надпись карандашом: «Свидетельство о пребывании в фигурном классе». Это напоминание чиновникам УЖВЗ о том, чтобы они подготовили этот вид аттестата. Все другие документы для отсылки в Петербург были уже готовы.
Историю с переездом в Петербург завершает отношение М. И. Д. Императорской Академии Художеств от 9 сентября 1896 года. В нём контора СМХО уведомляется, «что присланные при отношении от 24 августа сего года за №1002 документы Юлии Ивановны Игумновой в канцелярии Академии получены».
Теперь, как нам кажется, вопрос с учёбой Ю.И.Игумновой в УЖВЗ окончательно прояснён. Для получения информации о её учёбе в Петербурге необходимо познакомиться с её личным делом ИАХ за 1896—1898 гг.
Появившись в 1898 году снова в Москве, Юлия Ивановна входит в круг семьи Толстых и становится известной как лицо из окружения великого писателя.
В 1899—1910 г.г. она де-факто была неустанным и бескорыстным секретарём и переписчицей произведений писателя. Толстой оставил отзыв о «добродушной и усердной» помощи» Жули Игумновой (так на французский лад звали её Толстые). Дружеские связи у неё были со всеми дочерьми писателя — с А.Л.Толстой, Т.Л.Толстой-Сухотиной, М.Л.Толстой-Оболенской. Игумнова переписывалась с Толстыми и после выезда из Ясной Поляны. Знакомство с семьёй писателя началось, по-видимому, в 1891 году через Татьяну Львовну, обучавшуюся, как и Юлия Ивановна, в Училище живописи, ваяния и зодчества. Зимой 1895 года между ними началась переписка, продлившаяся целых 23 года и, к сожалению, не отразившаяся в известной книге Т.Л.Сухотиной-Толстой.
В Ясной Поляне Юлия Ивановна появится в 1898 году, а с 1899 года она фактически становится помощницей Софьи Андреевны по дому и секретарём и переписчицей Льва Николаевича. В своих воспоминаниях Александра Львовна Толстая пишет, как шла работа над «Воскресением» в 1899 году: вся столовая московского дома в Хамовниках была завалена рукописями и корректурами, и переписыванием занимались все — дочь Татьяна, Софья Андреевна, гости. Юлия Игумнова подключилась к переписке уже в Ясной Поляне, о чём писатель в письме в Москву дочери Татьяне сообщает: «Серёжа с Жули переписывают в гостиной, теперь 12 ч. ночи. Она диктует, он пишет, я им принёс карты для кабалы в награду».
О пребывании Юлии Ивановны в Ясной Поляне Александра Львовна сообщает так:
«Она была чрезвычайно полезна нам в то время, когда сёстры вышли замуж, а я ещё недостаточно подросла, чтобы помогать отцу. Юлия Ивановна не была товаркой Тани и Суллера по школе живописи. Она гостила в Ясной Поляне с подругой, писала портреты. Подруга уехала, а Юлия Ивановна так и осталась у нас на долгие годы. Таня звала её Жули, но французское имя так мало шло к ней, что мы сейчас же переделали …в Жули-Мули».
Из вышеприведенной цитаты дочери Толстого всё-таки не ясно, на каких основаниях Игумнова с подругой оказалась в Ясной Поляне, да ещё осталась там на долгие годы, если она не была «товаркой», т.е. знакомой или подругой Татьяны Львовны. По-видимому, Александра Львовна или ошибалась, или имела в виду, что Юлия Игумнова не была близкой подругой Татьяны Львовны.
Откуда появилось прозвище «Мули»? А вот откуда: Юлия Ивановна имела обыкновение, кому-то в подражание, заменять первую согласную букву на букву «м»: «мобака» («собака»), «марелка» (тарелка» и т. п. Французское имя «Жули» превратилось таким образом в «Мули».
Создаётся впечатление, что Александра Львовна недолюбливала Игумнову. «Жули-Мули была спокойная, добродушная, но с сознанием собственного достоинства девица», — продолжает Александра Львовна. — «Она беспрестанно хохотала, причём скалила свои большие лошадиные зубы, обнажая дёсны и встряхивая короткими волосами. Она любила острить, мягким баском пела частушки, любила масляными красками писать лошадей. Часами полулежа на кожаной кушетке в зале, она могла с тягучей ленью разговаривать неизвестно о чём. Иногда я приставала к ней:
— Жули, нарисуйте мой портрет.
— Твой портрет? Здравствуйте, пожалуйста! Кому же это интересно?».
Не слишком доброжелательные интонации этого высказывания очевидны, замечает биограф Игумновой Л. Галахова. Да и сама автор этих строк признавалась в ревнивом отношении к помощникам отца: «Особенно я ревновала к Жули. Она была много старше меня и в её обращении со мной звучала вполне естественная покровительственно-насмешливая нотка. В такие минуты меня раздражали и её низкий голос, и стриженые, гладкие волосы, её плоские шуточки и бесконечные разговоры с Колей Оболенским о политике, которые Жули обычно вела, растянувшись в зале на кушетке. Я ревновала даже отцовскую собаку Белку…, которую Жули приучила с ней гулять… Но Жули была милым и очень полезным в нашем доме человеком, всегда готовым помочь там, где нужно было».
Сама Юлия Ивановна в письме к Татьяне Львовне в 1899 году увязывает своё присутствие в доме с болезнью Льва Николаевича: «Я ведь и осталась, чтобы помогать Софье Андреевне. На моих руках вся еда».
Из дневника Софьи Андреевны явствует, что она тоже не особенно жаловала Игумнову, но была вынуждена терпеть её, потому что в вечно переполненном гостями доме нуждалась в её помощи. Супруга писателя сперва отнеслась к Игумновой с некоторым недоверием, но скоро убедилась в её аккуратности и усердии и с её присутствием скоро смирилась. А спустя годы Юлия Игумнова станет не только помощницей, но и весьма близким человеком и другом семьи Толстых. Многолетняя дружба связала её, вопреки вышеприведенному мнению Александры Львовны, именно с Татьяной Львовной Толстой-Сухотиной и Марией Львовной Оболенской. Она помогала им в 1902 году ухаживать за больным отцом в Гаспре, о чём свидетельствуют слишком скупые пометки в дневнике Софьи Андреевны и сохранившиеся фотографии. Живущая в Англии О. К. Толстая все яснополянские новости узнавала из писем Игумновой.
Писала Игумнова письма торопливым и неразборчивым почерком, они полны доброты, участия и ненавязчивого юмора. Писала она обо всём: о литературных делах Льва Николаевича, о его здоровье и семейных событиях Софье Андреевне — в Москву, Татьяне — в Кочеты, Марии — в Пирогово (а также в Рим, Париж и Баден, когда М.Л.Оболенская выезжала за границу).
11 марта 1904 года Юлия Ивановна пишет Софье Андреевне: «Вчера вечером Лев Николаевич изгонял из своей комнаты Шекспира, теперь придётся мне заниматься рассылкой этих уже ненужных ему книг». Или 13 марта 1905 года сообщает О.К.Толстой о Льве Николаевиче: «Пишет теперь рассказы для „Круга чтения“ и просматривает, и поправляет, и дополняет корректуры».
С 1899 по 1910 гг. Юлия Ивановна помогает Толстому в копировании черновиков и правке корректур к «Воскресению» (1899), «Хаджи-Мурату» (1901), «К политическим деятелям» (1901), «Одумайтесь» (1904), «Об общественном движении в России» (1904), «Единому на потребу», «Кругу чтения», предисловиям к сборникам «Путь жизни» и «На каждый день». Работала она, по словам друга семьи Толстого, врача Душана Петровича Маковицкого, не по принуждению, а по доброй воле: «Это в высшей степени справедливо по отношению к Игумновой. В.Г.Черткову на предложение оплачивать её труд… она отвечает: ˮЯ считаю это своей обязанностью… ˮ»
При этом Юлия Ивановна отнюдь не обладала достаточными материальными средствами, чтобы зарабатывать на жизнь, а потому часто отлучалась из Ясной Поляны, чтобы по заказу московских и петербургских магазинов писать картины и рисунки лошадей и других животных, а также птиц. В конце столетия Игумнова работала у И.Е.Репина в его частной мастерской, выполняя, очевидно, черновую работу подмастерья и тем самым зарабатывая себе на жизнь. Роль приживалки Толстых вряд ли её устраивала.
Впрочем, и в Ясной Поляне она не оставляла своих занятий живописью.
А.Л.Толстая нехотя свидетельствует: «Иногда Жули-Мули преодолевала свою лень, вспоминала, что она художница, и писала очень недурные этюды отца верхом на лошади». А Д.П.Маковицкий писал: «Художница Ю. И. заговорила о своей картине: Лев Николаевич верхом на Тарпане. Намеревается кончить её и повесить у себя. Ю.И. пишет по памяти. Л.Н. ей не позировал. На выставку её не пошлёт. Нет самолюбия: что ей было дорого — сделала».
Честолюбия у Игумновой, как и у многих других представителей этого рода, и в самом деле не было: несмотря на уговоры Маковицкого, она так и не написала собственных мемуаров, а между тем она могла бы поведать много интересного и о жизни в Ясной Поляне, и о Л.Н.Толстом как человеке и писателе. Она не искала выгоды от своего многолетнего знакомства с великим писателем. Жаль, конечно, потому что Юлии Ивановне было что рассказать о нём. Зато она в письме к Татьяне Львовне хвалит записки Душана Петровича: «Они так напомнили мне Льва Николаевича, что я точно слышу его голос».
Толстой высоко ценил помощь Игумновой и отзывался о ней с уважением и благодарностью: «Юлия Ивановна так же добродушно и усердно мне помогает», «Юлия Ивановна много переписывает, и мне совестно за то, что так плохо то, что она так хорошо воспроизводит», «Саша, Душан, Юлия Ивановна — все милые помощники и такие хорошие люди».
Характеризуя «полезную и приятную» Жули, Толстой заносит в свою записную книжку следующее наблюдение: «У каждого человека есть высшее для него миросозерцание, то, во имя чего он живёт…» Касаясь Юлии Ивановны, он заносит её в ряд своих домочадцев и пишет, что у неё миросозерцание эпикурейца — честное и правдивое.
С отцом в оценке Игумновой соглашаются и его дочери:
Т.Л.Сухотина пишет Юлии Ивановне 1 апреля 1902 г.: «Нежно благодарю за заботу о моём папеньке». В своих воспоминаниях Т.Л.Сухотина-Толстая, однако, незаслуженно скупо — всего один раз — упоминает подругу молодости: «3 ноября. Кочеты (имение мужа Т.Л., Б.Г.). Вчера уехал отсюда папá с Юлией Ивановной Игумновой. Прожил от 18 октября до вчерашнего дня (1900 г., Б.Г.)».
М.Л.Толстая (Оболенская) в письме Игумновой от 3 декабря 1900 года пишет: «…думаю по тону твоего энергичного письма, что ты всё так же бодра и энергична и тебе хорошо, потому что ты всё так же умеешь быть всякому полезна и приятна», а в письме от 13 мая 1906 года сообщает Игумновой: «Я тебе уже говорила и повторяю, что всегда, думая о папа, о его болезнях, о его делах — всегда радуюсь, вспоминая, что ты внимательно и с любовью всегда о нём помнишь и за ним следишь. И я знаю, что и ему это приятно, и он очень тебе за это благодарен».
Высоко ценил Толстой и художественный талант Игумновой. Л.Н.Толстой писал дочери Татьяне 1 апреля 1903 года: «Юлия Ивановна (я не люблю ваших кличек — Жули и т.п.) пишет портрет доктора (Гедгофа), заменяющего Никитина, и так хорошо, что тебе завидно будет». Особенно нравился писателю портрет дочери Марии, написанный в конце 90-х годов, вероятно, уже после смерти Марии Львовны. 30 января 1907 года Маковицкий записал слова Льва Николаевича: «Машин портрет её мне лучше нравится, чем Н.Н.Ге, и главное, так похож на неё в последнее время».
В своей книге о Толстом В. Ф. Булгаков пишет о том, что портрет Льва Николаевича, выполненный Игумновой после крымской болезни писателя, очень похож на оригинал. Он же упоминает о висевшем в одной из комнат в Ясной Поляне портрете Татьяны Львовны той же руки. Художницу он называет «малоизвестной, но хорошо знавшей семью Л.Н.Толстого».
Софья Андреевна, в противовес мужу, не очень ценила талант Юлии Ивановны — видно, у неё сразу сложилось не совсем благоприятное представление о ней. В её дневнике есть такая запись: «От 12 до 2 позирую для моего портрета, который очень грубо и плохо пишет Игумнова» (11 октября 1899 года, Ясная Поляна).
Тем не менее, имя Игумновой время от времени встречается на страницах её дневника: «Дом весь полон: приехала невестка Соня с двумя мальчиками, живёт Таня с мужем и пасынком. Юлия Ивановна Игумнова, Серёжа, Миша…» (20 ноября 1900 года); «Приехала поздно Соня, болтали с Таней, Жули (Игумновой) и Соней и легли около 2 часов ночи» (22 ноября). 7 ноября Софья Андреевна записывает, что Юлия Ивановна помогала ей и Александре Львовне проверить с приказчиком книжного магазина ход реализации книг Толстого.
Но от чувства внутренней неприязни к Игумновой Софья Андреевна избавиться не может. Дочь Татьяна сделал ей как-то упрёк о том, что дом в Хамовниках содержится в беспорядке. Уязвлённая родительница 12 февраля 1901 года пишет: как же можно навести порядок, «когда в доме вечно живут и гостят разные лица, за собой влекущие каждый ещё ряд посетителей… Живут и Миша Сухотин, и Количка Ге, и Юлия Ивановна Игумнова, и сама Таня…» Вряд ли было справедливо включать в список людей, способствующих беспорядку в доме, Игумнову Ю. И., помогавшую хозяйке именно по дому. Запись от 30 марта истерично гласит: «Дома сегодня опять тяжело: песни Суллержицкого под громкий аккомпанемент Серёжи, крикливый мучительный голос Булыгина, хохот бессмысленный Саши, Юлии Ивановны и Марии Васильевны. Всё это ужасно!» Впрочем, Софью Андреевну тоже можно было понять: она в это время сильно нервничала и переживала из-за отчуждения, возникшего у неё с мужем, так что любые громкие занятия молодёжи в доме её сильно раздражали.
Как бы Софья Андреевна ни относилась к Юлии Ивановне, она, переезжая весной в Ясную Поляну, берёт с собой Игумнову. Дочь Татьяна, сын Сергей и Юлия Ивановна ехали из Москвы со всеми удобствами в директорском вагоне поезда. С декабря 1901 года по июнь 1901 года включительно тяжело больной Толстой находился в Гаспре. Всё это время Юлия Ивановна самоотверженно ухаживала за больным. Дневник Софьи Андреевны в этот период полон тревоги, отчаяния и даже истерики, но в нём нет ни одного слова о присутствии Игумновой. Только уже при отъезде домой она вскользь пишет, что «уехали из Гаспры, Юлия Ивановна тоже».
Дома в Ясной Поляне она снова и снова жалуется на поведение мужа: «С чужими — Юлией Ивановной, доктором и прочими — он учтив и благодарен, а со мной только раздражителен» (запись 23 июля 1902 года). 27 июля она сухо пишет: «Ходили сегодня гулять с Л.Н., Зосей, внуками и Юлией Ивановной до конца деревни». «Гольденвейзер противен своим вторжением в нашу интимную жизнь», — записывает она 19 января 1903 года. Александр Борисович и в самом деле стал бывать у Толстых часто — даже очень часто. Он почти не играл на фортепиано, а играл только в шахматы. В феврале и марте 1903 года Софья Андреевна в последний раз в своём дневнике упоминает о присутствии в доме Юлии Ивановны.
В списке гостей Ясной Поляны по случаю 80-летия Л.Н.Толстого, составленном Софьей Андреевной, Игумнова уже не фигурирует. Впрочем, в 1908 году Юлия Ивановна отлучалась из Ясной Поляны и гостила в поместье у своей родственницы Неонилы Анненковой в городе Льгове Курской губернии, где продолжала работать над портретами Л.Н.Толстого.
Писатель, философ, литературовед и журналист Н.Н.Гусев (1882—1967), проживший в семье Толстых в 1907—1909 г.г., неоднократно упоминает в своих дневниках о Юлии Ивановне. Из дневника явствует, что она чувствовала себя полноправным членом семьи писателя, присутствуя на общих с Гусевым беседах и постоянно сопровождая Софью Андреевну. Автор дневника описывает эпизод заболевания Льва Толстого гриппом. Лев Николаевич спрашивает у жены и у присутствующей рядом Юлии Ивановны, что это за болезнь такая странная, которой он заболел. Юлия Ивановна со знанием дела поясняет, что появилась новая болезнь — инфлуенца. Писатель удивляется. В другом эпизоде Юлия Ивановна обсуждает с Софьей Андреевной не совсем этичное по отношению к Льву Николаевичу поведение местного архиерея и способы реагирования на него.
Талант Юлии Ивановны как художника-анималиста в полной мере раскрылся уже в Аскании-Нова, куда она уехала в 1914 году. После смерти Толстого она ещё несколько лет оставалась компаньонкой Софьи Андреевны, принимала вместе с ней посетителей Ясной Поляны, сопровождала её в Гаспру летом 1913 года, создала проект ограды вокруг захоронения писателя. В 1911 году она писала Татьяне Львовне: «Мне пришла в голову мысль …оградить не могилу, а место с могилой. Мне кажется, что необходимо, насколько возможно, сохранить всё это место в его первоначальном виде…» В письме прилагался и рисунок ограды, но Софья Андреевна проект отвергла.
Решение о переезде в Асканию-Нова не было случайным. В 1901 году Ясную Поляну посетил таврический дворянин Николай Эдуардович Фальц-Фейн, младший брат основателя и владельца заповедника. Софья Андреевна 3 марта отметила в дневнике: «Приехал чужой посетитель Фальц-Фейн… Л.Н. пошёл с ним походить и поговорить». Старший брат Фальц-Фейн — Фридрих Эдуардович — в 1910 году тоже хотел приехать в Ясную Поляну, но состоялся ли этот визит или нет, данных на этот счёт не сохранилось. По всей видимости, Н.Э.Фальц-Фейн знал также и кузена Юлии Ивановны, пианиста Константина Игумнова. Игумнова поехала в Асканию-Нова предположительно по приглашению обоих братьев и, судя по некоторым косвенным данным, не желая больше быть в тягость Софье Андреевне.
Заповедник произвёл на Юлию Ивановну сильное впечатление, которым она поделилась с Софьей Андреевной. Кенгуру, ручные газели, страусы, фазаны всех пород, журавли… И ей захотелось там остаться и поработать. Конечно, она скучала по Ясной Поляне и писала, что если бы её дела как-то устроились (вероятно, материальные), она непременно вернулась бы обратно. Впрочем, мечта о возвращении в Поляну исполнилась, но только 20 лет спустя и при слишком неблагоприятных для неё обстоятельствах. А пока она, засучив рукава, принимается за работу в заповеднике Фальц-Фейнов, сочетая занятия художника с работой по уходу за животными — она никогда не чуралась никакой работы. «Под моим наблюдением находятся все птицы, всё, что их касается, всё это мне очень интересно», — сообщает она Софье Андреевне.
Нам не известно, как Юлия Ивановна пережила гражданскую войну — ведь заповедник Аскания-Нова был театром военных действий с участием Конной армии С.М.Будённого, батек Махно, Григорьева и многих других. Известно только, что на 27 июля 1920 года Юлия Ивановна продолжала состоять служителем заповедника при диких птицах. Как всегда, она бралась за дело со всех сторон, а когда в заповеднике не стало рабочих и специалистов, она взяла на себя роль смотрителя. Во время революции и гражданской войны она оставалась в заповеднике и оберегала животных и птиц от полного истребления. Дочь орнитолога А.А.Шуммера — Людмила — вспоминала, что Игумнова была крупной женщиной «всегда в мужской куртке, в фуражке, а за ней хвостом ходил степной журавль. Жила она в маленькой комнатке на территории зоопарка рядом с Сиянко».
20 лет службы в заповеднике не спасут художницу от «госаппаратных чисток» 30-х годов. Её-таки выжили из заповедника как «чужеродный элемент», и в 1935 году, оставшись без средств существования, она ходатайствует о назначении персональной пенсии, а в 1937 году, тяжело больная, возвращается в Ясную Поляну.
Поселилась она в доме потомков старого своего знакомого, Филиппа Родионовича Егорова, бывшего кучера Л.Н.Толстого, уже умершего к этому времени. Потомки современника писателя были людьми иного склада и, кажется, встретили её не очень тепло. Это видно из её катастрофически тяжёлого положения, в котором она оказалась в Ясной Поляне.
В её архиве сохранились письма к Софье Андреевне Толстой-Есениной, учёному секретарю Государственного музея Л.Н.Толстого в Москве и внучке великого писателя, которую знала ещё ребёнком. Письма эти просты и глубоко трагичны, пишет Галахова. Вот одно из них, отправленное 20 апреля 1938 года: «Милая Соничка! У меня к тебе большая просьба: купи, пожалуйста, мне керосинку… Хозяева мои у меня уже перестали топить… Как поживает Ольга Константиновна? Я вообще стала мало подвижна. Я уже совсем не переношу холод… Я, наверное, уже никогда не поправлюсь…»
С дровами в достаточно лесистой Тульской области всё ещё обстояло плохо.
Она скончалась 15 февраля 1940 года в Москве. Вероятно, Толстая-Есенина всё-таки взяла её в Москву на своё попечение. Как бы то ни было, похоронена она на фамильном кладбище Толстых в Николо-Кочаковском некрополе, что в 17 км южнее Тулы. Старая могильная плита расположена между могилами внуков писателя. Надписи на ней нет.
По словам старейшего работника яснополянского музея Н.П.Пузина, ряд эскизов и рисунков, привезенных Ю.И.Игумновой из Аскании-Нова, пошли на растопку печей в Ясной Поляне в самом начале войны. Сохранившиеся работы Ю.И.Игумновой хранятся в Государственном музее Л.Н.Толстого (ГМТ), в частности, её рисунки и несколько работ маслом: портреты Л.Н.Толстого и Т.Л.Сухотиной, картина «Л.Н.Толстой верхом на Делире» и некоторые др.
Есть сведения о том, что учёный секретарь Украинского комитета охраны памятников культуры некто по фамилии Тихий в записке Наркомзему от 11 марта 1930 года предлагал вывезти из Аскании-Нова очень ценные картины и передать их в Харьковский художественно-исторический музей, но из этого ничего не вышло. Картины, судя по всему, «разбрелись» по свету, поскольку хранились якобы в частных квартирах сотрудников заповедника.
В книге «Кочаковский некрополь» Н.П.Пузин приводит слова Юлии Ивановны, своего рода итог пережитого: «Я хотела бы умереть только в Ясной, с которой у меня связаны самые хорошие и светлые воспоминания моей жизни».
Ах, Жули, Жули… Хоть эта её мечта нашла своё воплощение. Тульская земля приняла её многострадальное тело в свои объятья.
Жизнь Юлии Ивановны Игумновой ещё ждёт своих исследователей.
Часть вторая Великий пианист
Глава 1 Лебедянский мальчик
Я из глухой провинции из Тамбовской губернии, маленького городка Лебедяни, в котором десятки лет по календарю числилось 6010 жителей.
К.Н.Игумнов
В метрической книге Старособорной Казанской церкви г. Лебедяни за 1873 год в разделе родившихся за №8 записано:
««Коренного Лебедянского жителя потомственного почётного гражданина Николая Ивановича Игумнова и его законной жены Клавдии Васильевны родился 19 апреля, крещён 23 апреля сын Константин.
Воспреемники: потомственный почётный гражданин Лебедяни Пётр Иванович Игумнов и серпуховская вдова Елена Константиновна Игнатова.
Совершал таинство крещения священник Михаил Добротворцев».
О родителях своих и семье, в которой, несмотря на купеческий склад жизни, «преобладали культурные интересы», Игумнов вспоминал всегда с трогательным, неизбывным чувством благодарности. В своей автобиографии, представленной в отдел кадров консерватории в 1940 году, он пишет, что отец его, несмотря на упадок дел к концу своей жизни, успел дать всем детям хорошее образование, а уж потом они честно «прожили жизнь своим трудом».
По новому стилю дата рождения Кости 1 мая.
Тонкий, чувствительный ко всему внешнему мальчик любил семейную дачу в Шовском. «С Шовским», — вспоминал потом Константин Николаевич, — «связано моё детство. Моё первое путешествие в Шовское я совершил, когда мне был год. С Шовским связано многое, очень многое… и первые впечатления от природы, и первые размышления о мире, о назначении человека…» Он бережно хранил до конца дней своих небольшой бумажный пакетик с горсткой сухой шовской земли с надписью, сделанной его рукой: «Земля Шовского. Бросить в могилу, когда умру». Желание его было исполнено…
Нельзя сказать, что в детстве Костю влекла исключительно одна только музыка. «У меня никогда не было такого момента, чтобы кроме музыки ничего не существовало», — признавался он позже. — «Для меня всегда были три линии — природа, искусство и переживания религиозные, моральные».
В духовном смысле наибольшее влияние на него оказывал брат Сергей. Как вспоминал сам Константин Николаевич, именно с ним он вёл первые беседы о волновавших его в юности вопросах и именно к нему испытывал тогда чувство духовной близости: «Мои первые беседы были с ним… Когда я был мальчиком 13—14 лет, летом, после ужина мы с ним гуляли по цветнику (у нас был очень хороший цветник, так как отец любил цветы), рассматривали звёздное небо, говорили, говорили… Он был человек с большими художественными интересами, очень любил природу, стихи… В этих беседах у меня с ним была полная близость…»
А вот своим приобщением к миру музыки Игумнов был, вероятно, обязан своему дяде Ивану Ивановичу, родному брату отца. Много лет спустя Константин Николаевич вспоминал: «Дядя мой играл на рояле. Он учился в Петербурге, собирался поступать в консерваторию. Но ему сказали, что играть-то он может, но у него слишком высокие перепонки между пальцами и это будет всегда мешать при игре; если их перерезать, тогда станет играть легче. Перерезать их он не рискнул и, в конце концов, отказался от своего намерения стать пианистом-профессионалом и уехал в Лебедянь, где и умер в возрасте сорока восьми лет. Его игру я в детстве часто слушал. Он считал, что способности у меня, несомненно, есть, и что меня надо учить».
Затем музыкальным образованием Кости занималась гувернантка А.Ф.Мейер, родом из Риги, имевшая приличное музыкальное образование. «С фортепьяно я познакомился очень рано», — вспоминал Игумнов 60 лет спустя. — «Как-то раз весной 1877 года моя мать с отцом уехали в город Серпухов к больной бабушке. Зная, что я любил слушать, когда кто-нибудь из взрослых играл на рояле, наша гувернантка Алина Фёдоровна Мейер решила в виде сюрприза к приезду матери обучить меня каким-то пьескам, кажется, Бейера… К приезду матери я выучил две или три строчки из этих произведений и сыграл их. С тех пор я стал учиться музыке… Сперва мне показали дискантовый ключ. Басовый ключ я узнал несколько позже, вероятно, к пяти годам. Затем начались гаммы и упражнения… Здесь я немного брыкался: не очень хотелось играть гаммы и иногда даже прятался под стол. Но это продолжалось совсем недолго; впоследствии я свыкся с ними… Вообще же я занимался аккуратно. Вначале — один час в день, а потом с возрастом мы стали играть по два часа в день».
И так до 14-летнего возраста.

Заметим, что в музыкальном воспитании Костика на раннем этапе всё-таки не обошлось без принудительного элемента. И это вполне понятно: в таком «неусидчивом» возрасте он полезен и необходим.
Впрочем, «никакого систематического обучения не было», — вспоминал позже Константин Николаевич. А.Ф.Мейер, не имея специального музыкально-педагогического образования, следовала во всём немецким педагогическим авторитетам, в частности Л. Келлеру, в книге которого «Wegweiser durch die Klavierliteratur» фортепианная литература была распределена по разным степеням трудности. Не мудрствуя лукаво, Костя вместе с учительницей «проходили» по порядку указанные там этюды и пьесы: «Так мы понемножку и играли. Отделывать мы ничего не отделывали, но переиграл я с ней довольно много произведений, причём плохой музыки не играл…»
Кроме путеводителя Келлера, Мейер использовала «Каталог сочинений, которые необходимо сыграть», в который входили сонаты Гайдна, Моцарта, Бетховена, пьесы Мендельсона, Фильда, Шопена и др. «К 14 годам, когда я окончил Лебедянскую прогимназию, я переиграл много литературы, причём хорошей. В сущности, не умея играть, я уже играл все Бетховенские сонаты, кроме „Апассионаты“ и пяти последних сонат… Играл я и Шестую рапсодию Листа, но что это такое было, не знаю», — писал Игумнов впоследствии.
Через свою двоюродную сестру Варвару Ивановну, окончившую пансион Дюмушель и получившую от бабушки в подарок рояль Шрёдера, Костя познакомился с музыкой Шопена. Варвара Ивановна сыграла ему h-moll-ный вальс композитора, и Шопен мальчику, в отличие от отца, понравился. Очень любил он мендельсоновские «Песни без слов» и некоторые сонаты Бетховена.
В детские и отроческие годы он пытался и сочинять музыку: «Когда я уехал в Москву, у меня уже были сочинены два вальса в стиле Шопена». Большинство своих опусов он написал именно в 1885—1887 гг., в конце учёбы в Лебедянской прогимназии и в первые годы учёбы в Москве. Много времени он тратил и на переложения произведений других композиторов. «Была у меня ребячья тетрадка», — признавался Игумнов много позже, — «из которой видно, что я любил писать ноты. Это было ещё до поступления моего в прогимназию; в прогимназию я попал лет одиннадцати, а марал нотную бумагу уже лет в девять-десять».
Конечно, в провинциальной Лебедяни настоящей музыки не было. «Первый раз я её услышал, когда в город приехала пианистка Пирожкова, которая выдавала себя, смотря по настроению, то за ученицу Венской консерватории, то за окончившую Лейпцигскую консерваторию», — вспоминал К.Н.Игумнов. Единственный рояль в городе был у отца, так что Пирожковой предложили выступить в доме Игумновых. Косте в это время было лет 11—12, и здесь он впервые услышал концерт Шопена и «Компанеллу» Ф. Листа.
В эти годы Игумнов только раз оторвался от Лебедяни, когда в 1882 году родители взяли его в Москву на Всероссийскую выставку. Там он впервые побывал в Большом театре и услышал три оперы: «Фауст», «Гугеноты» и «Русалку». «Особенно меня пленили «Гугеноты» и «Русалка», — писал он позже. — «К «Фаусту» я отнёсся менее восторженно… Всё это было для меня большим событием. Когда мы вернулись в Лебедянь, «Гугеноты» сразу же были выписаны, и я знал их от доски до доски».
Все эти внешние побудительные толчки, конечно, способствовали появлению у него музыкального мироощущения, но главная музыкальная доминанта его дарования шла изнутри, из самой глубины натуры Игумнова. В целом он рос, по собственным словам, предоставленный самому себе, почти не слушая музыки. Остаётся только удивляться, как он уже в 14-летнем возрасте, идя своим естественным и не вполне осознанным путём, без всякой школы, наощупь, достиг сравнительно больших высот в своём музыкальном развитии. Недаром он считал свой лебедянский отрезок жизни самым важным. Именно в Лебедяни был заложен фундамент его будущей карьеры, сформированы духовные потребности и именно лебедянский период оставил отпечаток на многих гранях его дарования.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.