
Бесплатный фрагмент - Конь, колесо и колесница
Как предки русских создали современный мир
Посвящается героям Русской весны
Индоевропеистика как научное знание насчитывает в своём развитии уже более двух веков, за которые было сделано множество выдающихся открытий, главным образом в двух дисциплинах — лингвистике и археологии. Однако вплоть до недавнего времени учёным-индоевропеистам не удавалось убедительно совместить данные этих дисциплин, т.е. отождествить носителей реконструируемого ими праиндоевропейского языка с носителями определённой археологической культуры. Вследствие этого в качестве индоевропейских прародин предлагались самые разные, иногда ничего общего между собой не имеющие культурные ареалы и территории (южнорусские степи, Анатолия, Армения, Индия, Средняя Азия, Подунавье и т.д.), либо же отрицались вообще существование подобной прародины или возможность когда-либо её определить.
Выход из тупика был найден при помощи популяционной генетики (и в особенности палеогенетики). Благодаря ей стало возможно с математической точностью прослеживать связи между древними популяциями, надёжно отождествляемыми с археологическими культурами, а также определять происхождение современных популяций от древних. Палеогенетические исследования, дающие ответы на основные вопросы индоевропеистики, были опубликованы в основном за последнее пятилетие. Генетика стала третьей (наряду с лингвистикой и археологией) опорой, благодаря которой у нас впервые появилась возможность возвести устойчивую конструкцию ранней индоевропейской истории. Какие-то детали этой конструкции будут в дальнейшем исправляться, уточняться и дополняться, однако в её общей правильности сомнений уже нет.
КОНЬ
Предыстория
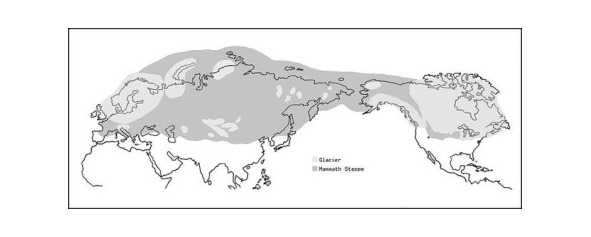
Происхождение индоевропейцев связано с приледниковой мамонтовой степью, которая в эпоху позднего палеолита простиралась от атлантического побережья Западной Европы до Северной Америки, соединённой тогда с Евразией сушей Берингии. Индоевропейский язык в своей ранней форме образовался ок. 5000 г. до н.э. на юге Русской равнины в среде носителей преимущественно мужских гаплогрупп R1a и R1b. Самым ранним известным представителем предковой для них обеих гаплогруппы R* (R-M207*) является мальчик, живший 24 тысячи лет назад на палеолитической стоянке Мальтá в Иркутской области к западу от Байкала. Его женская гаплогруппа U* была больше всего распространена у европейских охотников-собирателей позднего палеолита и мезолита. По аутосомным генам мальчик из Мальты был наиболее сходен с современными популяциями Южной Азии (37%), Европы (34%) и американскими индейцами (26%), причём из европейцев он был ближе всего к популяциям Северо-восточной Европы (которые унаследовали больше всего генов от европейских охотников-собирателей позднего палеолита и мезолита).
Близости к современным восточным азиатам и сибирским народностям геном мальчика из Мальты не имеет. При этом современные американские индейцы унаследовали от популяции, к которой он принадлежал, от 14 до 38% своих генов. Отметим, что у американских индейцев преобладает ряд линий мужской гаплогруппы Q, являющейся «братской» для гаплогруппы R мальтинского мальчика. По всей видимости, носители R и Q какое-то время составляли единую популяцию. Потом носители Q отделились, где-то в Восточной Сибири смешались с пришедшими с юга восточными азиатами, после чего через Берингию переселились в Америку и дали начало американским индейцам.
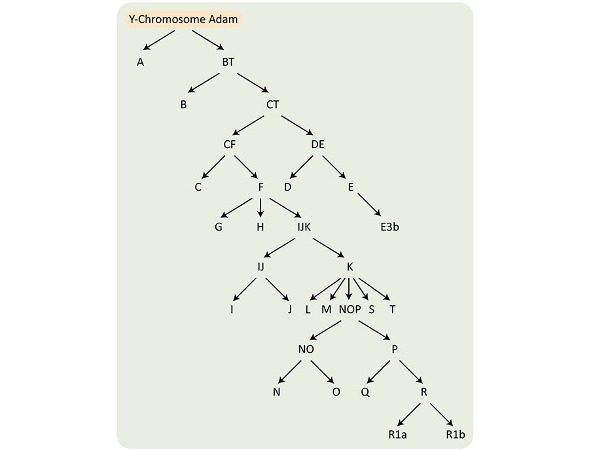
Таким образом, выясняется, что уже в глубокой древности протоевропейское население, предковое для современных европейцев, особенно северо-восточных, было распространено далеко на восток, по меньшей мере до озера Байкал. Позднее его сменили пришедшие откуда-то с юга, вероятно, с территории Китая, восточные азиаты, ставшие предками современных сибирских народностей. Причём произошло это довольно недавно, что показывают исследования останков людей, живших 17 тысяч лет назад на стоянке Афонтова Гора на левом берегу Енисея в пределах современного города Красноярска. Сведения об отцовской гаплогруппе мужчины с Афонтовой Горы 2 противоречивы, а женщина с Афонтовой Горы 3 имела материнскую гаплогруппу R1b (не путать с имеющей такое же обозначение мужской гаплогруппой!). По аутосомным генам они оба близки к мальчику из Мальты и образовывают с ним общий кластер. Входившие в этот кластер люди получили у генетиков наименование «древние северные евразийцы» (англ. Ancient North Eurasians, ANE).
Из этого следует, что бывшие предками индоевропейцев носители гаплогруппы R* или уже её отдельных ветвей R1a и R1b должны были поселиться на Русской равнине ещё до окончания последней ледниковой эпохи. Однако они не были её первыми обитателями. Об их предшественниках нам известно благодаря исследованиям останков палеолитических людей со стоянок Костёнки (Воронежская область) и Сунгирь (Владимирская область). Мужчина из Костёнок 14 (Маркина Гора), живший примерно 36 тысяч лет назад, имел мужскую гаплогруппу C1b и женскую гаплогруппу U2. Мальчик из Костёнок 12, живший примерно на пять тысячелетий позже, имел такую же женскую гаплогруппу U2 и мужскую гаплогруппу CT.

На стоянке Сунгирь в самом богатом на сегодняшний день в мире палеолитическом захоронении были обнаружены останки четырёх человек, живших 34 тысячи лет назад. Недавно выяснилось, что дети из двойного захоронения, раньше считавшиеся братом и сестрой, были оба мальчиками, причём не близкими родственниками. Старший мальчик приходился близким родственником похороненному неподалёку могучему мужчине, который при жизни занимался колкой камня. Они оба в течение жизни обильно питались мясом, а младший мальчик мяса вообще не ел, питаясь только беспозвоночными. Рядом с ним нашли человеческую кость, служившую ёмкостью для охры. Эта кость принадлежала близкому предку (предположительно прадеду) младшего мальчика, пища которого при жизни тоже состояла исключительно из беспозвоночных. По-видимому, они оба происходили из семьи шаманов. Старший мужчина был убит выстрелом из лука, а младший мальчик — ударом в живот. В их племя, судя по кругу семейных связей, входило 250—450 человек. Все четверо мужчин из Сунгири были носителями мужской гаплогруппы С1а2, при этом трое из них имели ту же женскую гаплогруппу U2, что и костёнковцы, а один — U8c.
Таким образом, все костёнковцы и сунгирьцы были носителями ветвей женской гаплогруппы U, предковая линия которой была обнаружена у мальчика из Мальты. Что касается их мужских линий, то они в эту раннюю эпоху были, по всей видимости, широко распространены в Европе. Гаплогруппа CT мальчика из Костёнок 12 обнаружена также у его примерных современников — людей из Чокловины в Румынии (33 тысячи лет назад) и Вестонице в Чехии (31 тысяча лет назад). Гаплогруппа сунгирьцев C1a найдена также у их примерных современников — людей из Гойе в Бельгии (35 тысяч лет назад, C1a) и Павлова в Чехии (31 тысяча лет назад, С1а2), а, кроме того, у гораздо более позднего охотника-собирателя из Ла-Браньи в Испании (1-я пол. 8 тыс. до н.э., С1а2).

Точное время и обстоятельства замещения на Русской равнине носителей гаплогрупп CT и C1 пришедшими с востока носителями гаплогруппы R на данный момент остаются неизвестными. Самым ранним свидетельством западной экспансии последних является живший ок. 14 тысяч лет назад охотник-собиратель из Виллабруны на северо-востоке Италии, имевший мужскую гаплогруппу R1b-L754 (R1b1a). Та же линия была обнаружена у семи охотников-собирателей, живших между 9500—5900 гг. до н.э. в районе карпатских Железных ворот на границе Сербии и Румынии (ещё у десяти живших там же охотников-собирателей была обнаружена гаплогруппа I2a), и у неолитического земледельца, жившего ок. 7 тысяч лет назад в Испании. Однако эта представляющая раннюю западную экспансию R1b линия, по всей видимости, впоследствии вымерла и не оставила потомков, а все современные носители R1b в Западной Европе принадлежат к линии, которая была принесена индоевропейцами с юга Русской равнины в III тыс. до н.э.
Древнейшим известным в настоящее время представителем гаплогруппы R1a является восточноевропейский охотник-собиратель, живший ок. 8825—8561 гг. до н.э., останки которого были обнаружены в могильнике Васильевка 3, находившемся на левобережье Днепра близ порогов (нынешняя Днепропетровская область). Другой мужчина из того же могильника (живший ок. 8280—7967 гг. до н.э.) был носителем гаплогруппы I2a1, а мужчина из соседнего могильника Васильевка 2 (живший ок. 7446—7058 гг. до н.э.) — гаплогруппы R1b1a. У всех троих была обнаружена материнская гаплогруппа U5b2. Люди, захороненные в Волненском могильнике также в районе днепровских порогов (6500—4000 гг. до н.э.), были носителями гаплогрупп IJ, I, I2, I2a2, I2a2a и I2a2a1b1, ещё один человек с могильника Вовниги в нынешней Днепропетровской области (5473—5326 гг. до н.э.) — гаплогруппы I2a2a1b1b. Судя по отцовским линиям, они были пришельцами с запада, что также подтверждает примесь западноевропейских охотников-собирателей в их аутосомных генах. С материнской стороны у них были представлены разные линии гаплогрупп U2, U4 и U5. Люди из неолитического могильника у села Дереивка нынешней Кировоградской области на правом берегу Днепра (5500—4800 гг. до н.э.) были носителями мужских гаплогрупп R (2), R1b1 (1), R1b1a (5), R1a (1) и I2a2a1b (2) и женских гаплогрупп U4 и U5.
В VI тысячелетии до н.э., на заре собственно индоевропейской истории, гаплогруппы R1a и R1b обнаруживаются у мезолитических охотников-собирателей в разных местах Русской равнины. R1a1a1 была найдена у человека, жившего ок. 5500—5000 гг. до н.э. (предлагаются и более ранние датировки) на Южном Оленьем острове Онежского озера, а R1b1a1a — у его примерного современника, жившего на реке Сок в нынешней Самарской области. Носителем R1a был человек культуры Ямочно-гребенчатой керамики, живший в середине IV тыс. до н.э. в Кудрукюле на северо-востоке Эстонии. Хотя он жил позднее интересующей нас эпохи, и его линия (R1a5-YP1272), как и линия человека из Карелии, является побочной для собственно индоевропейской, он свидетельствует о присутствии R1a у охотников-собирателей севера Русской равнины уже в довольно раннее время. R1b-L754 (R1b1a) также была обнаружена у шести представителей Нарвской культуры из могильника Звейниеки на севере Латвии, живших между 7465 и 4852 гг. до н.э. (ещё шесть человек из того же могильника оказались носителями I2a и один — Q1a2).
Именно в среде таких перешедших к скотоводству мезолитических охотников-собирателей и зарождается на юге Русской равнины праиндоевропейский (далее также — ПИЕ) язык. После окончания Валдайского оледенения около одиннадцати тысяч лет до н.э. в этой области возник пояс степной растительности с островками лесов в речных долинах. Севернее её располагалась лесостепь, поросшая берёзой, сосной, ивой, орешником, вязом и дубом. Животный мир представляли дикие лошади, дикие быки, северные и благородные олени, сайгаки, кабаны, рыси, медведи, лисы, волки, собаки, бобры, зайцы. Население было редким, селилось главным образом в долинах рек и по берегам озёр и занималось собирательством, охотой и рыболовством.
Женщина с Афонтовой Горы 3 оказалась самой ранней известной носительницей гена светлых волос, который позднее был распространён индоевропейцами в Европе: «Производный аллель KITLG SNP rs12821256, который связан со светлым цветом волос у европейцев (и, вероятно, является его причиной), присутствует у охотников-собирателей из Самары и Муталы и с Украины (I0124, I0014 и I1763), а также у нескольких более поздних лиц, имеющих степных предков. Поскольку этот аллель обнаружен в популяциях, происходящих от восточных, а не от западных охотников-собирателей, его источником, вероятно, является популяция древних северных евразийцев (ANE). Подтверждением этого служит то, что самым ранним известным человеком с таким производным аллелем является [сибирская] северная евразийка со стоянки Афонтова Гора 3, которая напрямую датируется примерно 16 130 — 15 749 гг. до н.э. калибр. (14 710 ± 60 лет назад)».

Языковым отражением генетической общности «древних северных евразийцев» может быть выделяемая рядом лингвистов «митийская» (англ. Mitian) группа языковых семей, именуемая так по форме местоимений первого и второго лица (*mi, *ti — ср. рус. мы, ты), которые для неё реконструируются. В митийскую группу включаются индоевропейские, уральские, тюркские, монгольские, тунгусские, юкагирские, нивхский, чукотско-камчатские и эскимосско-алеутские языки, и её распространение, таким образом, примерно совпадает с приледниковой мамонтовой степью позднего каменного века. Ближайшей к индоевропейской языковой семьёй является уральская, объединяемая иногда с ней в единую индоуральскую семью. Языковые предки уральцев были, по всей вероятности, непосредственными восточными соседями языковых предков индоевропейцев. Их разделение должно было произойти в конце последней ледниковой эпохи, когда образовавшееся от таяния ледника Хвалынское море (14—9 тыс. лет до н.э.), достигавшее на северо-востоке широты нынешнего Оренбурга, создало между ними естественную преграду. Индоуральцы, оказавшиеся западнее неё, на юге Русской равнины, стали индоевропейцами, оказавшиеся восточнее, на юге Западной Сибири, — финноуграми.
Начало индоевропейцев
Возникновение неолитической производящей экономики на Русской равнине относится к VI тысячелетию до н. э. Первые животноводы и земледельцы пришли в южнорусские степи из долины Дуная. Ими были носители Кришской культуры, которые ок. 5800—5700 гг. до н.э. расселились к востоку от Карпат. Вместе с кришцами пришли коровы, овцы и козы, первоначально приручённые в Анатолии и затем распространившиеся с неолитическими мигрантами в Грецию и дальше на север. Из земледельческих культур кришцы возделывали пшеницу и бобы, одомашненные на Ближнем Востоке, а также европейские ячмень и просо.
Кришцы были частью миграции в Европу неолитических земледельцев из ближневосточно-анатолийского региона, которая началась ок. 6500 г. до н. э. Сначала пришельцы заселили юг Балканского полуострова, ок. 6000 г. до н.э. продвинулись на север от Дуная в Венгрию и Румынию, ок. 5800—5700 гг. до н.э. колонизовали Южную Францию, потом Иберию, в 5500—5000 гг. до н.э. расселились в Центральной Европе, а к 4000 г. до н.э. достигли юга Скандинавии и Британских островов. В результате неолитические земледельцы колонизовали всю Южную, Западную и Центральную Европу, Южную Скандинавию и часть Восточной Европы (включая Западную Украину).
К моменту их появления указанные европейские области заселяли мезолитические охотники-собиратели с преобладанием мужской гаплогруппы I (в основном заместившей к тому времени западнее Русской равнины более древние гаплогруппы CT и C1a) и женской гаплогруппы U. По своим аутосомам генам они были частью генетического континуума, простиравшегося через всю Европу от Испании до России. Неолитические земледельцы принесли с собой с Ближнего Востока и из Анатолии совершенно другой аутосомный компонент, условно именуемый компонентом «ранних европейских земледельцев» (англ. Early European Farmers, EEF), и совершенно другие однородительские гены — в основном мужскую гаплогруппу G2a (также в меньшей степени J2a и E1b) и женскую гаплогруппу N1a. К 5000 г. до н.э. в большинстве областей земледельческой колонизации им удалось практически полностью заместить прежнее мезолитическое население.
Обширные пространства на юге Русской равнины от правобережья Днепра до левобережья Волги в это время занимал пояс родственных мезолитическо-субнеолитических культур. Их носители всё ещё были охотниками и собирателями, однако уже были знакомы с керамикой. Первыми ок. 7000—6500 гг. до н.э. обожжённые глиняные горшки стали производить носители Елшанской культуры в Среднем Поволжье (Самарская и Ульяновская области), которая, таким образом, является самой древней керамической культурой в Европе. Оттуда производство керамики стало постепенно проникать на юг и запад и к 6200—6000 гг. до н.э. широко распространилось среди обитателей южнорусских степей.
Первыми из них с производящей экономикой кришцев столкнулись носители Буго-Днестровской культуры, через которых навыки скотоводства и земледелия начали распространяться далее на восток. После 5200 г. до н. э. Кришскую культуру сменила культура Кукутени-Триполье, распространившаяся с юго-запада в долины Днестра и Южного Буга. Буго-Днестровская культура была ею полностью поглощена. Генетически трипольцы были типичными неолитическими земледельцами. Известны мужские гаплогруппы четырёх их представителей, живших в IV тыс. до н.э. на территории нынешней Тернопольской области Украины, — у трёх была G2a и у одного — E. По аутосомным генам они являлись более чем на 80% потомками выходцев из Анатолии (и на оставшуюся долю — потомками западных и восточных охотников-собирателей).
Восточными соседями трипольцев были племена Днепро-Донецкой культуры, известные своими могильниками Васильевка, Волошское и Мариевка, располагавшимися у днепровских порогов. Главными занятиями носителей первого этапа Днепро-Донецкой культуры (5700—5200 гг. до н.э.) были охота (на дикую лошадь, благородного оленя, косулю, кабана, бобра), рыболовство и собирательство. В 5200—5000 гг. до н.э. под западными влияниями в их образе жизни происходят существенные перемены. В захоронениях у днепровских порогов начинают появляться кости домашних коров, овец и коз.
От Днепра новая животноводческая экономика продолжила своё победное шествие на восток. Вскоре одомашненные коровы, овцы и козы достигли волжско-уральских степей. Результатом этого стало возникновение обширной культурно-экономической общности восточных охотников-собирателей, освоивших животноводство. Эта общность простиралась от Днепра на западе, служившего границей неолитической земледельческой культуры Кукутени-Триполье, до реки Урал на востоке, за которой обитали люди Атбасарской культуры, по-прежнему остававшиеся охотниками и собирателями, и от Чёрного моря, Кавказа и Каспийского моря на юге до северных лесов, где жили племена, родственные обитателям степей, но пока производящую животноводческую экономику не принимавшие. По всей вероятности, эта общность была не только культурно-экономической, но и лингвистической, и составлявшие её племена говорили на праиндоевропейском и родственных ему языках. К данной эпохе должно восходить значительное количество индоевропейских терминов, связанных с животноводством, таких как *péḱu «домашний скот» (> индоар. paśu-, лат. pecus, др.-англ. feoh), *gʷṓus «корова» (> иер.-лув. wawa, индоар. gáu-, тох. В keu, гр. βοῦς, лат. bōs, др.-ирл. bō, рус. говядина), *uksēn- «бык» (> индоар. ukṣán-, тох. В okso, др.-ирл. oss, англ. ox), *h2ówis «овца» (> лув. ḫāwa-, тох. В āu, индоар. ávi-, лат. ovis, рус. овца), *h2egʷnos «ягнёнок» (> гр. ἀμνός, лат. agnus, др.-ирл. ūan, рус. ягнёнок) и др.
Экономическая революция породила революцию социальную. В южнорусских степях, ранее характеризовавшихся единообразно бедным погребальным инвентарём, появляются захоронения, отличающиеся исключительным богатством. Они принадлежали племенным вождям, сосредоточившим в своих руках крупные стада скота. Главными знаками их власти были каменные зооморфные или четырёхгранные булавы (прообразы более поздней ваджры). При погребении этих вождей в жертву приносились овцы, козы, быки и кони. Обычно основная часть туши съедалась участниками погребального пира, а в могилу клались только голова и задние конечности. В загробный мир умерших сопровождало оружие — кинжалы, топоры, стрелы и копья, а также украшения — пояса и ожерелья из раковин и зубов бобра, оленя и коня, подвески из хрусталя и порфира, полированные каменные браслеты, пластинки для одежды и головных уборов и шейные подвески из кабаньих клыков и бусы, браслеты и ожерелья из меди.

Первые следы обработки меди обнаруживаются в VIII тыс. до н.э. в анатолийском Чатал-Гуюке. На Балканах медная металлургия зародилась незадолго до 5000 г. до н.э. и быстро распространилась на восток, достигнув волжско-уральских степей примерно к 4600 г. до н.э. (в Центральную и Западную Европу она проникла на несколько столетий позже). Для позднего праиндоевропейского языка название меди восстанавливается как *h2eyes- (> индоар áyas- «медь, железо», авест. ayah- «металл (медь, бронза?)», лат. aes «медь, бронза», др.-сканд. eir «руда», англ. ore «руда» (<прагерм. *ayiz)). В некоторых индоевропейских языках рефлексы этого слова означают бронзу или железо, но здесь мы имеем дело с последующим переносом значений, поскольку бронза, хотя и могла уже быть известна поздним праиндоевропейцам 2-й пол. IV тыс. до н.э., исключается по причине отсутствия общеиндоевропейских названий для мышьяка и олова, сплавом которых с медью она является. Единичные предметы из железа встречаются уже в погребениях поздней Ямной и Катакомбной культур (кон. IV — III тыс. до н.э.), однако развитая железная металлургия распространяется гораздо позже распада ПИЕ общности (во II тыс. до н.э.). В хеттском языке медь называлась словом kuwannu (ср. гр. κύανος «синий»), возможно, по цвету медной руды. Первоначально медь в южнорусские степи поступала в виде балканских импортов, но уже очень скоро в среде местных племён возникла собственная медная металлургия. Северо-восточный фланг этих племён образовывала Самарская культура на Средней Волге, чрезвычайная важность которой заключается в том, что именно к ней относятся первые в мире свидетельства о приручении коня.
Приручение коня

Современная домашняя лошадь (Equus ferus caballus) является потомком одной из разновидностей дикой лошади (Equus ferus) — тарпана (Equus ferus ferus), окончательно вымершего в начале ХХ в. До наших дней сохранился только один вид дикой лошади — лошадь Пржевальского (Equus ferus przewalskii). Помимо собственно лошадей, из членов семейства лошадиных (эквидов) здесь необходимо упомянуть европейских ослов (Equus hydruntinus), онагров (Equus hemionus) и собственно ослов (Equus africanus asinus). Европейский осёл — похожий на собственно осла более мелкий представитель семейства лошадиных — обитал в том числе в степях севернее Чёрного моря. Основным ареалом онагров была Западная Азия, однако они встречались и к северу от Чёрного и Каспийского морей. Первоначальным местом обитания осла была Африка, где он был одомашнен в конце V тыс. до н.э. и откуда он с рубежа IV—III тыс. до н.э. распространился в Азию, а затем и в Европу.
Итак, помимо коня в области обитания праиндоевропейцев в V — IV тыс. до н.э. водились ещё два вида эквидов — европейский осёл (Equus hydruntinus) и онагр или кулан (Equus hemionus). Европейский осёл после окончания ледникового периода был распространён в Европе от Иберии на восток вплоть до южнорусских степей. Впоследствии этот вид был истреблён — самые поздние находки его останков датируются временем ок. 3000 г. до н. э. В то же самое послеледниковое время онагр обитал в степях от Подунавья на восток до Монголии и южнее в Анатолии, на Ближнем и Среднем Востоке и в Индии. Так, на поселении Ямной культуры Михайловка на Херсонщине (IV — III тыс. до н.э.) наряду с останками 656 коней были обнаружены останки 118 онагров. Позднее ареал этого эквида сузился, и из южнорусских степей он исчез. Европейский осёл и онагр должны были быть хорошо известны праиндоевропейцам, что предполагает наличие в праиндоевропейском языке слов для их обозначения.
В индоарийском языке имеется слово gardabhá-, а в тохарском В — слово kercapo, оба из которых означают «осёл». Высказывается мнение, что тохарское слово заимствовано из индоарийского. Однако подобное заимствование, если бы оно имело место, должно было бы состояться очень рано — до слияния *-е-, *-о- и *-а- в *-а- в индоарийском и палатализации в тохарском. Но мы знаем, что языковые предки тохар ушли на Алтай ещё во второй половине IV тыс. до н.э., т.е. задолго до возникновения индоарийского языка. Вследствие этого их языковые связи с другими индоевропейцами прекратились, а влияние индоарийского на тохарский началось лишь гораздо позже, после принятия тохарами буддизма. Заимствование в индоарийский и тохарский из какого-то третьего неиндоевропейского языка также маловероятно, поскольку соответствующее слово имеет вполне индоевропейский облик и предположительно содержит суффикс *-bho-, который встречается и в других ИЕ названиях животных. Вероятно, мы имеем дело с независимо унаследованным словом, которое в праиндоевропейском должно было звучать как *gordebhós.
Греческое слово μυχλός «осёл» и латинское слово mūlus «мул» оба восходят к ПИЕ *mukslόs. Сходное слово со значением «мул» имеется в славянских языках — цсл. ед. ч. мъскъ, мн. ч. мъсчата, др.-рус. меск и др. Русское слово ещё встречается в переводах «Илиады» Гнедича и «Одиссеи» Жуковского, напр.: «Тут предложил он награды кулачного страшного боя: / Выслав пред круг, привязал шестилетнего, сильного меска: / Игом еще не смиренный, жесток для смирения был он. / Меск победителю мзда…» (Ил. XXIII, 653—656). Албанское слово mushk «мул» могло быть заимствовано из славянского или унаследовано из общего со славянским праиндоевропейского источника. Архетип славянского и албанского слов восстанавливается как *mú (k) skos, что может быть вариантом *mukslόs, восстанавливаемого на основании греческого и латинского слов.
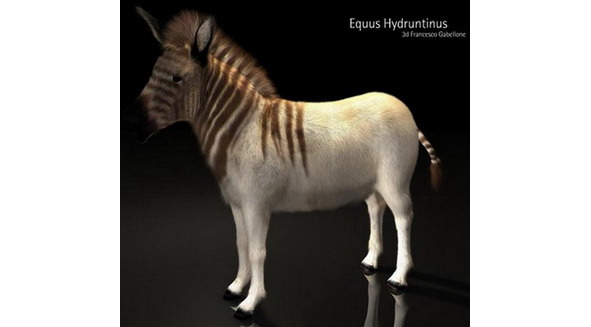
Таким образом, мы имеем два названия эквидов, одно из которых, сохранившееся в восточном ареале (*gordebhós), дало рефлексы со значением «осёл», а другое, сохранившееся в западно-центральном ареале (*mú (k) skos / *mukslόs), — рефлексы со значением «осёл» или «мул». Однако подобные значения не могли быть первоначальными.
Обычное греческое название осла ὂνος (присутствующее уже в микенских текстах в форме o-no) и его латинское название asinus (которое в своей уменьшительной форме asellus было заимствовано в германский и далее в славянский) определённо являются заимствованиями (скорее всего, независимыми) из ближневосточных языков (ср. шум. anše «осёл» и прасем. *ʔatān «ослица»). Осёл (Equus asinus africanus) является по происхождению африканским животным. Он был одомашнен в конце V тыс. до н.э. на северо-востоке Африки, откуда ок. 3000 г. до н.э. попал в Переднюю Азию. Согласно археологическим данным, к 2000 г. до н.э. он распространился в Индию (Хараппская цивилизация) и Среднюю Азию (Бактрийско-Маргианский археологический комплекс). К II тыс. до н.э. он был известен в Анатолии. В хеттских текстах осёл всегда обозначается шумерограммой ANŠE, и его остающееся неизвестным хеттское название, которое могло быть сходным с шумерским, возможно, послужило источником для соответствующих европейских слов. Судя по микенским текстам, осёл достиг Европы уже к 2-й пол. II тыс. до н.э., однако археологические следы его присутствия там появляются лишь в следующем тысячелетии.
Из этого следует, что носителям праиндоевропейского языка осёл быть известен не мог и слова для его обозначения у них не было. То же касается мула, представляющего собой помесь осла и кобылы. Таким образом, ПИЕ слова *gordebhós и *mú (k) skos/*mukslόs должны были первоначально означать каких-то других животных — вероятно, эквидов, внешнее сходство которых с ослами и мулами позволило в конечном счёте перенести эти названия на последних. Такими эквидами, по всей видимости, и были европейский осёл и онагр.
Вернёмся теперь к коням. В конце ледниковой эпохи (XX—XII тыс. до н.э.) дикая лошадь была повсеместно распространена в северном полушарии, составляя один из основных предметов охоты палеолитических людей. Ареал обитания непарнокопытных семейства лошадиных резко сократился ок. 14—10 тысяч лет назад, когда излюбленные ими степи ледникового периода на большей части северного полушария сменились густыми лесами. В Северной Америке они вымерли повсюду, а в Евразии выжили только в центре континента и в небольших изолированных анклавах в Европе, в Анатолии и на Кавказе. После окончания ледникового периода дикие лошади исчезли из Индии (где они появились вновь уже в одомашненном виде только во II тыс. до н.э.), Ирана, Месопотамии и земель Плодородного полумесяца, оставив этот ареал онаграм и ослам.

В Анатолии дикие лошади вымерли на западе, но сохранились в центре и на востоке. На поселениях людей в Центральной и Восточной Анатолии VIII—VII тыс. до н.э. кости эквидов составляют менее 3% костей всех животных, а кости собственно коней — менее 0,3% костей всех животных. Более 90% костей эквидов дают онагры и европейские ослы.
В послеледниковой Европе следы дикой лошади отсутствуют в Ирландии, Италии и Греции. В небольших количествах её присутствие засвидетельствовано в Британии, Иберии, дунайских областях (из 5000 костей, обнаруженных на поселениях неолитической культуры Линейно-ленточной керамики в Центральной Германии, лишь 17 являются лошадиными) и на правобережье Днепра. На дикую лошадь определённо охотились мезолитические обитатели Северной Европы, но в их мясном рационе она редко где составляла более 5%. В этот же период на мезолитических и ранненеолитических стоянках в средне- и нижневолжских степях кости дикой лошади регулярно составляют более 40% всех костей животных. Близкое знакомство местных племён с лошадью сделало возможным её приручение.

Самарская и Хвалынская культуры
Исследования генетиков установили, что по митохондриальной ДНК современные домашние лошади происходят по меньшей мере от 77 кобыл, в то время как по Y-хромосоме все они очень однородны, т.е., возможно, их прародителем стал один-единственный некогда приручённый людьми жеребец (или несколько близкородственных жеребцов). По всей видимости, одомашнивание коня произошло в первой половине V тыс. до н.э. в областях Самарской и Хвалынской археологических культур. К тому времени носители данных культур уже несколько столетий имели дело с домашними коровами, овцами и козами. Приручение коня стало возможным благодаря применению к нему навыков обращения с уже одомашненным скотом. Первые коневоды на Средней и Нижней Волге видели в лошади пока ещё не средство передвижения, а источник дешёвого мяса на зиму. Прокормить в зимний период лошадь гораздо легче, чем крупный и мелкий рогатый скот, потому что она может сама откапывать из-под снега траву копытами, а также разбивать ими лёд, чтобы напиться. Естественно, это было очень важно как раз в областях распространения Самарской и Хвалынской культур с их суровыми зимами.
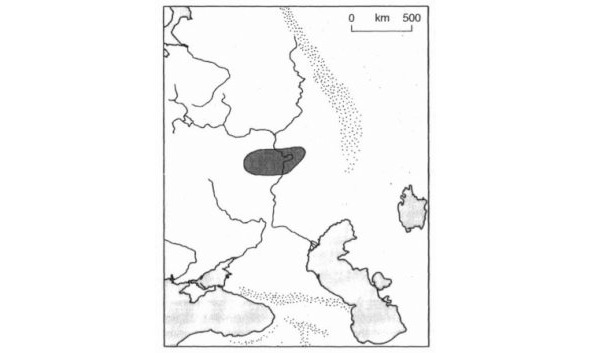
Самарская раннеэнеолитическая культура была распространена в лесостепи Среднего Поволжья примерно в 5000—4500 гг. до н. э. Она развилась из Средневолжской культуры 6000—5000 гг. до н.э., которая, в свою очередь, восходит к уже упоминавшейся Елшанской культуре VIII — VII тыс. до н.э., существовавшей в лесостепи бассейна рек Самары и Сока. По сравнению с Елшанской Средневолжская культура была распространена на более обширной площади, занимая бассейны Самары, Сока, Большого Черемшана и верховьев Суры на право- и левобережье Средней Волги. На памятниках Средневолжской культуры останков коня уже в 5—10 раз больше, чем на памятниках синхронных ей соседних родственных культур (не говоря уже о культурах неолитических земледельцев), однако признаки культового значения коня пока полностью отсутствуют.

Подобные признаки в изобилии и в разнообразных видах появляются на памятниках уже Самарской культуры с начала V тыс. до н. э. Самые ранние из них были обнаружены в раскопанном в 1972 г. могильнике у села Съезжее в Богатовском районе Самарской области. Могильник, сооружённый в лесостепи на берегу реки Самары около 5000 г. до н.э., содержал одно тройное и шесть отдельных захоронений людей, положенных на спине с прямыми ногами. Над самым богатым из них, расположенным в центре погребальной площадки, была вырыта посыпанная красной охрой жертвенная яма, в которой находились разбитые горшки, бусы из раковин, костяной гарпун и черепа и нижние части задних ног двух коней. Рядом находилось ещё одно место жертвоприношения коней и быков. Съезжинский могильник, таким образом, содержит первые в истории конские жертвоприношения.
В Съезжинском могильнике рядом с жертвенной ямой также были обнаружены два вырезанных из кости изображения коней с отверстиями для крепления, наряду с такими же изображениями быков. Подобные костяные подвески в виде коней найдены и на других памятниках Самарской культуры — одна была обнаружена лежащей на черепе погребённого в могильнике Липовый Овраг, три — на Варфоломеевской стоянке и ещё две в готовом виде и две в виде заготовок — на Виловатской стоянке (где также была обнаружена украшенная путовая кость коня). Большинство из них имели отверстия для крепления, что свидетельствует об их использовании в качестве украшений или оберегов. Кроме того, на Варфоломеевской стоянке были найдены кучки передних резцов коня в количестве от нескольких десятков до полутысячи, на некоторых из которых имелось от 1 до 13 пропилов кремниевой пилкой с внутренней стороны корня. Могильник Липовый Овраг дал более 100 подвесок из конских зубов с насечками и 8 путовых костей с украшениями.
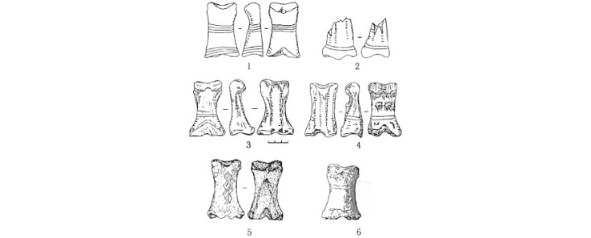
Жертвенники с костями коня на могильниках и поселениях, украшения или обереги в виде конских фигурок из кости, конские зубы и путовые кости, зачастую украшенные, обнаруживаемые в жертвенных местах и погребениях, свидетельствуют о чрезвычайно большой роли коня в духовной жизни носителей Самарской культуры. Ничего подобного не наблюдается ни в более ранних, ни в современных ей других археологических культурах. Если добавить к этому двукратный рост конских останков на памятниках Самарской культуры по сравнению со Средневолжской (20% по костям и 10% по особям в Самарской и 10% по костям и 5% по особям в Средневолжской) и присутствие коня в одинаковых контекстах с явно домашними животными (быками), можно уверенно заключить, что кони самарцев были уже одомашненными.

Южной соседкой Самарской была несколько более поздняя Хвалынская культура (5000—4500/4000 гг. до н.э.), существовавшая в лесостепных, степных и полупустынных районах правого и левого берега Волги и Северо-восточного Прикаспия. На памятниках Хвалынской культуры обнаруживается примерно такой же процент конских останков, как и на памятниках Самарской, конские кости по-прежнему встречаются на жертвенниках и в погребениях.
В могильнике Хвалынск I (4700—4600 гг. до н.э.), раскопанном в 1977—1979 гг., было обнаружено 158 захоронений, из которых около трети были одиночными, остальные содержали от 2 до 6 тел. Детских захоронений было немного (13), но в их число входили очень богатые, что свидетельствует о наследовании общественного положения и имущества. Тела лежали на спине с подогнутыми ногами, головой на север или восток. Насыпи над могилами ещё не сооружались, иногда они лишь отмечались камнями. Над захоронениями находилось 12 посыпанных красной охрой жертвенных ям с останками животных. В их число входили 3 жертвенника с конскими костями, из которых на первом были найдены 3 путовые кости, на втором — 5 путовых костей и на третьем — первая фаланга и берцовая кость.
Всего в могильнике Хвалынск I были обнаружены останки 52 (или, по другим данным, 70) коз и овец, 23 коров и 11 коней. Из 158 захоронений в 22 (14%) имелись останки жертвенных животных, причём только в 4 это были животные разных видов (быки и овцы, овцы и кони и т.д.), и над всеми этими 4 имелись посыпанные охрой жертвенные ямы с дополнительными останками животных. Части ног коней без других животных были найдены в 8 могилах, голова и задние конечности коня в сочетании с останками мелкого рогатого скота присутствовали в захоронении 127, в сочетании с останками мелкого и крупного рогатого скота — в захоронении 4. Жертвенники с костями коней имелись также на раскопанном в 1980—1985 гг. могильнике Хвалынск II, который содержал 43 захоронения.
В Хвалынских могильниках было найдено намного больше медных изделий (самых древних в волжско-уральских степях), чем на всех памятниках более западной Днепро-донецкой культуры вместе взятых. Большинство из них (286) приходилось на Хвалынск II, но в Хвалынске I было также найдено 34 медных предмета в 11 из 158 захоронений. Изделия из меди находились в 13 взрослых мужских захоронениях, 8 взрослых женских и 4 детских. Из 30 исследованных медных предметов с Хвалынска II 25 оказались изделиями местного производства и 5 (2 тонких кольца и 3 массивных спиральных кольца) — импортами с Балкан.
Кроме того, в Хвалынске были найдены 3 каменные булавы, из них одна в погребении №57 и две — в погребении №108, которое также содержало полированный браслет из стеатита. Одно из двух последних изделий представляло собой скипетр в виде конской головы. Этот предмет является, по всей видимости, самым ранним представителем чрезвычайно важной серии изделий, датируемых серединой — второй половиной V тыс. до н. э. Всего в настоящее время их известно около четырёх десятков, и они делятся на две разновидности — схематическую и реалистическую.

Выделяются две зоны распространения конеголовых скипетров — восточная и западная. На восточную зону (Среднее и Нижнее Поволжье и Северное Предкавказье) приходится 13 схематических и 3 реалистических навершия такого рода. 4 древнейших скипетра приходятся на Хвалынскую культуру, из них 3 схематические (Хвалынск I, Хвалынск IIa и Хлопково I) и 1 реалистический (Хлопково II). Все скипетры Хвалынской культуры и ставшей её преемницей Новоданиловской культуры (всего 11) были найдены в погребениях, что свидетельствует об органической духовной связи данного предмета с носителями этих культур. Можно заключить, что конеголовые навершия, крепившиеся на деревянные рукояти и служившие символами власти военных вождей, возникли в среде Хвалынской культуры на юге лесостепного Среднего Поволжья. Они являются косвенным свидетельством начала военного использования коня.
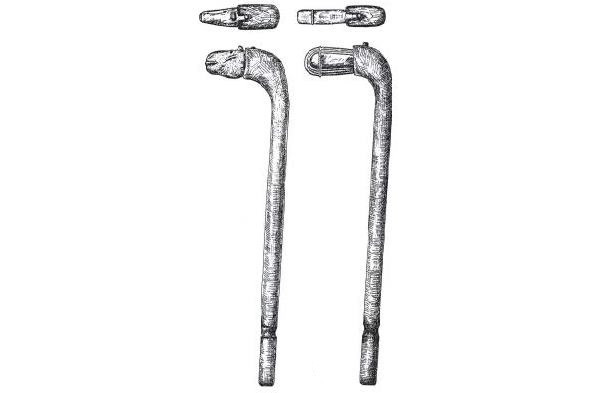
Западная зона, на которую приходится 17 находок скипетров (из них 7 реалистических), включает неолитические земледельческие культуры Карпато-Подунавья и Балкан (Триполье, Гумельница, Болград и др.). Все конеголовые навершия из этой зоны были найдены на поселениях, часто в разбитом или испорченном виде со следами вторичного использования, т.е. не имеют органической связи с соответствующими культурами и должны рассматриваться как занесённые извне. В пользу этого говорит и тот факт, что почти все находки происходят из степных или пристепных районов, а в других культурах земледельческого неолита Юго-восточной Европы подобные предметы полностью отсутствуют. Не характерны для западной зоны и погребения с жертвенными костями коня — в ней обнаружены всего два таких памятника (на территории культуры Болград). Сходна в этом отношении с западной и прикавказская зона — из неё происходят 3 конеголовых скипетра, однако археозоологических останков коня в ней очень мало, а проявления его ритуальной роли отсутствуют полностью.
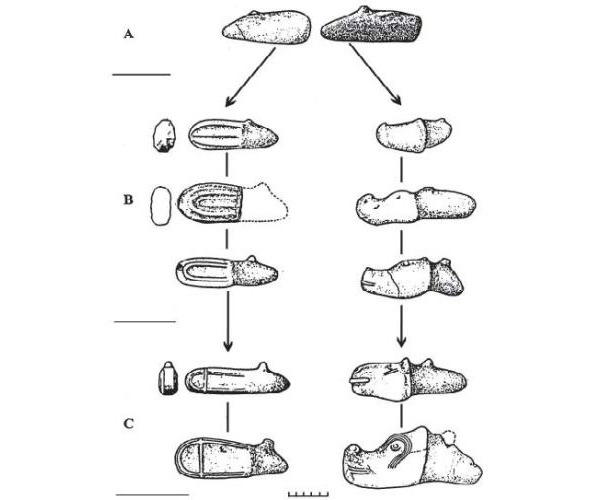
Распространение конеголовых скипетров из их первоначального ареала в рамках Хвалынской культуры связано в первую очередь с воспринявшей её традиции Новоданиловской культурой (4500—4000 гг. до н.э.), памятники которой рассеяны на огромном пространстве от Заволжья и Северного Кавказа до Трансильвании. Представляется естественным связать данное явление с началом индоевропейской экспансии, основным средством которой на этом этапе выступал верховой конь. У нас нет прямых и однозначных свидетельств о верховой езде у индоевропейцев в данный период, но в пользу неё говорит общий культурный контекст. Если конь у индоевропейцев в V тыс. был уже одомашненным (а сомневаться в этом не приходится), то они не могли не ездить на нём верхом, потому что пасти конские стада пешком практически невозможно. Освоение верховой езды должно было произойти примерно одновременно с приручением коня.
Археологических следов этой самой ранней стадии верховой езды не сохранилось, да и не могло сохраниться. Первые достоверные изображения людей верхом на конях происходят из Месопотамии и относятся ко второй половине III тыс. до н. э. Очевидно, что индоевропейцы, знавшие лошадей с незапамятных времён и сами их приручившие, должны были уметь ездить на них верхом гораздо раньше, чем шумеро-аккадцы, для которых конь в III тыс. до н.э. был ещё новым и малознакомым животным.
В качестве средства управления, по всей видимости, первоначально использовалась простая верёвка, накинутая на челюсти коня. О том, что подобная примитивная сбруя могла быть вполне эффективной, свидетельствуют примеры более позднего времени (нумидийцы последних веков до н.э., американские индейцы Великих равнин XVII—XIX вв. и т.д.). Дополнительные доказательства в пользу этого представляют произведения искусства. На ряде реалистических конеголовых наверший (из Терекли-Мектеба, Касимчи, Феделешень и др. мест) «орнаментальные мотивы» в виде выпуклых губ и полоски на носу могут быть истолкованы как изображения конской узды.
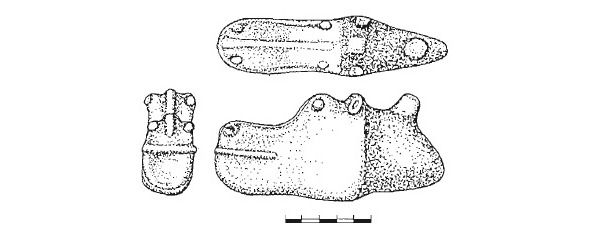
В расовом отношении самарцы и хвалынцы были северными европеоидами: «Каждая из имеющихся трёх антропологических серий (Хвалынск I, Хвалынск II, Хлопков Бугор) демонстрирует связь, в первую очередь, с комплексами северных европейских групп, которые были распространены в нео-энеолитическое время в лесостепной и лесной зоне Восточной Европы. Это, соответственно, определяет тот антропологический субстрат, на основе которого преимущественно формировался физический тип древнехвалынского населения».
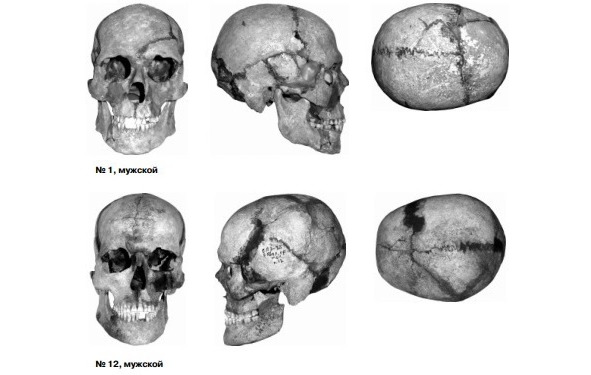
О генетике хвалынцев мы можем судить по исследованным останкам трёх человек из могильника Хвалынск II. По аутосомным генам они были в основном потомками местных восточных охотников-собирателей. Что касается однородительских генов, то мужчина 30—35 лет из погребения №1, при котором были найдены медное кольцо и бусина, имел мужскую гаплогруппу R1a1 и женскую гаплогруппу U5a1i, обычные для восточных охотников-собирателей.

В погребении №12 покоился мужчина 20—30 лет в сопровождении 293 медных изделий (в основном бусин), которые составляют 80% всех медных изделий, найденных в могильниках Хвалынск I и Хвалынск II. Он имел обычную для восточных охотников-собирателей мужскую гаплогруппу R1b1 и более редкую для тех мест и той эпохи женскую гаплогруппу H2a1. Мужчина 45—55 лет из захоронения №17 имел на черепе 4 раны, послужившие причиной его смерти, и был погребён без вещей и жертвоприношений. Его мужская гаплогруппа Q1a в настоящее время распространена среди сибирских народностей и американских индейцев, а женская гаплогруппа U4a2 или U4d обычна для восточных охотников-собирателей.
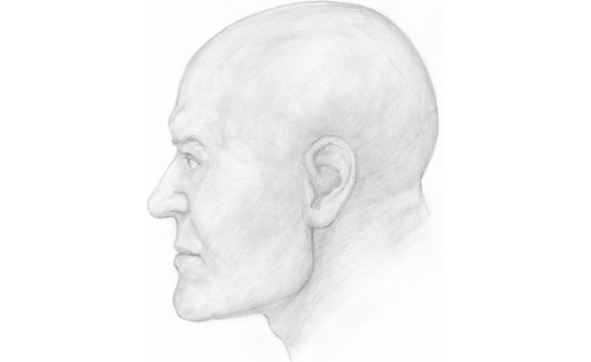
Присутствие гаплогруппы Q1a отмечается также среди носителей Ямной культуры в IV тыс. до н.э., однако последующего развития она у индоевропейцев не получила, что же касается гаплогрупп R1a1 и R1b1, обнаруженных у погребённых в могильнике Хвалынск II, то в дальнейшем они стали преобладающими линиями соответственно у северо-восточных и юго-западных индоевропейцев.
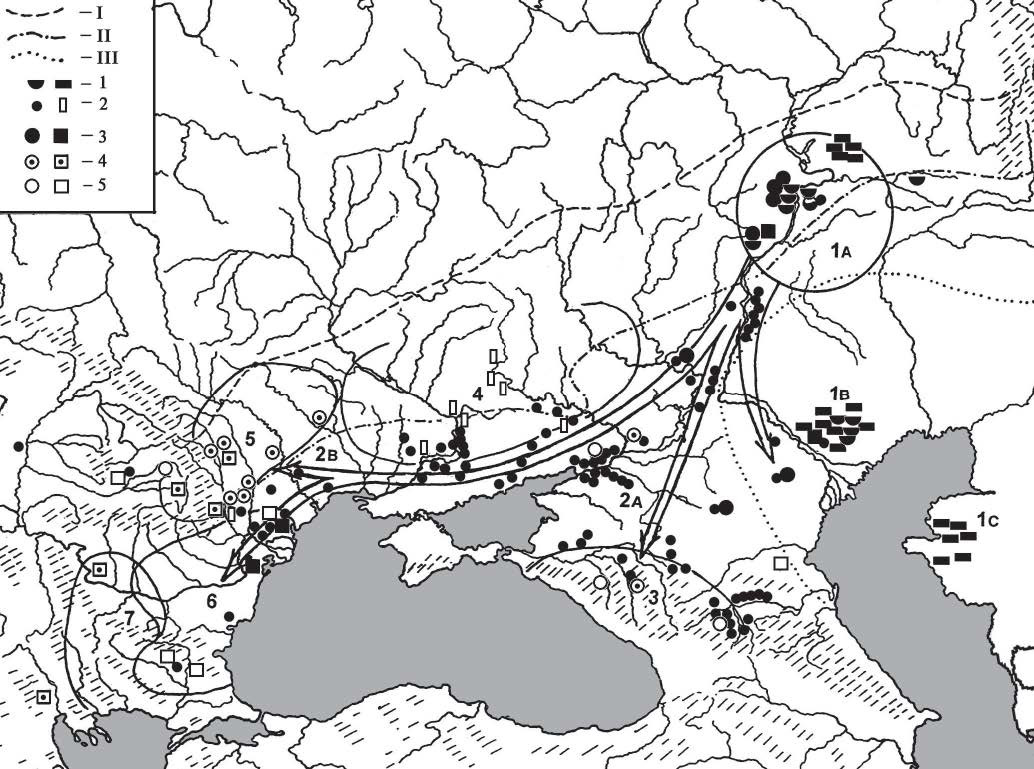
Ботайцы и их лошади
Забегая хронологически немного вперёд, уместно будет сказать здесь несколько слов о Ботайской археологической культуре, которая была распространена ок. 3700—3000 гг. до н.э. на территории нынешней Акмолинской области на севере Казахстана. Ряд исследователей считают, что именно носители этой культуры первыми одомашнили лошадь.
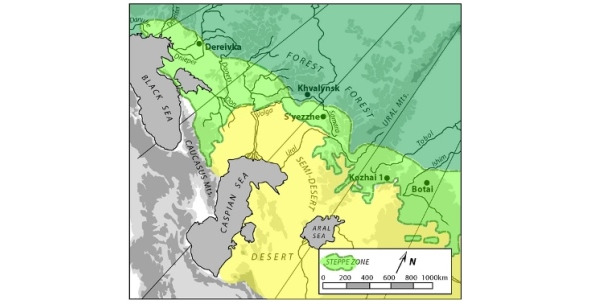
По происхождению ботайцы были в целом частью генетического континуума древних северных евразийцев, простиравшегося в палеолите от Сибири (Мальта и Афонтова Гора) до Западной Европы (западные охотники-собиратели), и располагались внутри него между человеком с Афонтовой Горы 3 и восточными охониками-собирателями из Карелии и Самарской области. При этом они отличаются от других древних северных евразийцев наличием заметной восточноазиатской примеси (17,3%) и имеют сходство с носителями Окуневской культуры Алтая II тыс. до н.э. Известны мужские гаплогруппы двух ботайцев — базовая N*-M231 и R1b1a1-M478. Последняя отличается от R1b-GG400, обнаруженной у ямников, и R1b-L51, распространённой у современных европейцев. В настоящее время она чаще всего встречается у южносибирских и среднеазиатских народов. В антропологическом отношении ботайцы относились к уральской расе. Их языковая принадлежность неизвестна, но наиболее вероятно, что они говорили на языке уральской семьи или близком к ней.

Носители Ботайской культуры были охотниками, основным предметом охоты которых являлись дикие лошади (на поселении Ботай, давшем название культуре, конские кости составляют 99,99% всех костей животных). К настоящему времени можно считать доказанным, что наряду с охотой на диких лошадей ботайцы держали и разводили их домашних собратьев. Об этом свидетельствуют прежде всего два факта. Во-первых, следы кобыльего молока, обнаруженные на черепках ботайской посуды, доказывают, что у ботайцев были домашние кобылы (доить диких кобыл невозможно). Во-вторых, на ботайском поселении Красный Яр был найден загон для коней со скоплением навоза. Конский навоз ботайцы использовали как изоляционный материал для крыш своих домов (подобная практика известна у современных казахов и монголов).
Два других аргумента в пользу домашнего характера лошадей у ботайцев несколько менее надёжны. Метрический анализ пястных костей коней Ботайской культуры выявил их бóльшую близость к домашним коням бронзового века, чем к диким палеолитическим коням из того же региона. Второй аргумент касается следов от удил на зубах ботайских лошадей, и его главным сторонником является английский археолог Дэвид Энтони. Согласно Энтони, органические удила оставляют на нижних вторых премолярах коня заметный скос, и если на зубах с останков коня обнаруживается подобный скос размером не менее 3 мм, можно с уверенностью говорить, что при жизни на этом коне ездили верхом. Дэвид Энтони нашёл подобный скос на 5 из 19 исследованных им нижних вторых премоляров коней (принадлежавших как минимум 3 особям) со стоянки Ботай и на 2 из 12 со стоянки Кожай I и сделал отсюда вывод, что ботайцы ездили на своих конях верхом. Однако этот вывод Энтони убедил далеко не всех, так как подобный скос мог быть вызван и просто неправильным прикусом.
В любом случае, не приходится сомневаться, что ботайцы имели домашних коней, которых они использовали в качестве источника мяса, молока, навоза и других материалов. Возможно, они также использовали своих одомашненных коней как средство передвижения и для загонной охоты на диких коней. Однако, как показали недавние генетические исследования, кони ботайцев были лошадями Пржевальского, отличающимися от современных одомашненных коней, происходящих от другого вида дикой лошади — тарпана. Тарпан же был приручен индоевропейцами Самарской и Хвалынской археологических культур примерно на тысячелетие раньше появления у ботайцев собственной домашней лошади.
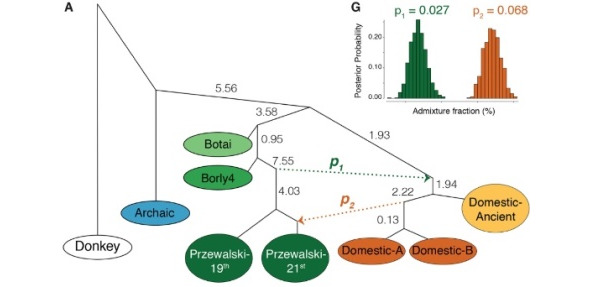
Само приручение ботайцами лошади Пржевальского разумно объяснить индоевропейским влиянием. Ботайской культуре в Северном Казахстане предшествовала Атбасарская культура мезолитических охотников-собирателей, не имевших никакого опыта обращения с одомашненными животными. У самих ботайцев из домашних животных помимо коня засвидетельствована только собака — никаких следов крупного или мелкого рогатого скота на их памятниках не обнаруживается. Приручение тарпана индоевропейцами последовало за их знакомством с одомашненным крупным и мелким рогатым скотом, полученным от неолитических земледельцев. Самостоятельное приручение ботайцами лошади Пржевальского без внешнего воздействия выглядит маловероятным. Подобным внешним воздействием могли послужить индоевропейские племена, двигавшиеся со своими одомашненными конями из Поволжья через земли ботайцев на восток, чтобы создать на Алтае Афанасьевскую культуру. Это переселение по времени как раз примерно совпадает с одомашниванием ботайцами лошади Пржевальского.
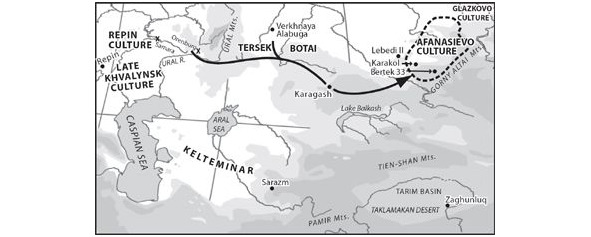
Какими бы ни были конкретные обстоятельства приручения лошади ботайцами, они не имеют прямого отношения к вопросу о происхождении современной домашней лошади, являющейся потомком приручённого индоевропейцами тарпана. Генетика свидетельствует, что распространение на рубеже III—II тыс. до н.э. индоевропейцев Синташтинской культуры на область Ботайской культуры привело к полному исчезновению как потомков самих ботайцев, так и их одомашненных лошадей.
Индоевропейское название коня
Обратимся теперь от археологических данных о приручении лошади индоевропейцами к лингвистическим. Общее по происхождению название коня засвидетельствовано почти во всех группах индоевропейской семьи — индоар. áśva-, авест. aspa-, др.-перс. asa-, тох. А yuk, тох. В yakwe, гр. ἵππος, лат. equus, галльск. epo-, др.-ирл. ech, гот. aíƕa (только в названии ежевики aíƕa-tundi «конский зуб»), др.-англ. eoh, др.-сканд. jōr, др.-лит. ašvà, ešvà «кобыла», ašvíenis «жеребец», др.-прус. aswinan «кобылье молоко», арм. eš «осёл» и др. Приведённые данные позволяют восстановить для праиндоевропейского языка после отделения от него анатолийской ветви слово «конь» в виде *h1éḱwos.
Рефлексы этого слова отсутствуют только в албанском и славянском (в последнем его следы, по всей видимости, сохраняются в топонимах типа Осва, Освица, Освея, Освей, Осовка и т.д.). В славянском оно было вытеснено словом *komonь (> рус. комонь, конь), которое является кентумным рефлексом ПИЕ *ḱem- «безрогий» (> индоар. śáma- «безрогое животное», гр. κεμάς «молодой олень»), ср. от того же корня рус. комолый «безрогий». Этот кентумный рефлекс засвидетельствован и в балтском, т.е. является обще-балто-славянским (др.-прус. camnet «конь», лит. kumẽlė, kùmė «кобыла», kumelỹs «жеребёнок», лат. kumeļš «жеребёнок»).
Родственные слова в четырёх индоевропейских языках со значением «кобыла» (индоар. áśvā-, авест. aspā-, лат. equa, др.-лит. ašvà, ešvà) позволяют восстановить ПИЕ слово *h1éḱweh2- «кобыла». Отличие суффикса *-eh2- от суффикса *-ih2-, обозначающего самку очевидно дикого животного (напр., *wlkʷíh2- «волчица»), позволяет предположить, что речь идёт об уже одомашненной кобыле.
Что касается анатолийских языков, то в хеттских клинописных текстах слово «конь» всегда передаётся шумерограммой ANŠE. KUR. RA (шум. «горный осёл»). Несколько хеттских клинописных написаний с фонетическими комплементами (им. п. ед. ч. ANŠE. KUR. RA-uš, вин. п. ед. ч. ANŠE. KUR. RAḪI. A-un) показывают, что соответствующее хеттское слово имело основу на -u, что также подтверждают лувийская клинописная форма им. п. ед. ч. ANŠE. KUR. RA-uš и лувийская иероглифическая форма вин. п. ед. ч. /Ɂasun/. В лувийской иероглифике слово «конь» пишется как á-sù-, что может передавать варианты произношения *assu-, *aššu- или *azzu-. В ликийском (потомке лувийского языка, на котором говорили в юго-западной Анатолии во второй половине I тыс. до н.э.) слово «конь» звучало как esb-.
Высказывалось предположение, что лувийское и ликийское слово является заимствованием из языка митаннийских ариев (ср. индоар. áśva-), источник которого засвидетельствован, например, именами Pi-ri-da-aš-šu-wa (*Prītāśva) и Pi-ri-aš-wa (*Priyāśva). Однако против свидетельствует то, что древнеиндийское слово является тематическим, а лувийское и ликийское (как и хеттское) — атематическим с основой на -u. На основании лувийского иероглифического á-sù- и ликийского esb- можно восстановить праанатолийскую форму *Ɂeḱu-, исход которой в хеттском должен был звучать как *ekku- (им. п. *ekkuš, вин. п. *ekkun). Источник анатолийского названия коня в ПИЕ, таким образом, имел форму *h1éḱu-.
Из этого можно сделать вывод, что в эпоху до отделения анатолийского языка (т.е. ранее конца V тыс. до н.э.) слово «конь» в ПИЕ было атематическим (*h1éḱu-). От этого атематического корня ещё в раннем праиндоевропейском языке были образованы производные при помощи суффиксов *-in- (лат. equinus, индоар. aśvin-) и *-yo- (индоар. aśv (i) ya-, мик. i-qe-ja) со значением «конский».
Правдоподобно звучит предположение о происхождении индоевропейского названия коня от корня со значением «быстрый», отражённого в индоар. āśú-, авест. āsu- и гр. ὠκύς. Примечательно, что во всех этих трёх языках имеется устойчивое выражение «быстрые кони», первый компонент которого произведён от того же корня: индоар. āśávaḥ áśvāḥ, авест. āsauuō aspåŋhō, гр. ὠκέες ἵπποι (<ПИЕ *h1ōḱéwes h1éḱwōs). Праформа индоиранских и греческого слов с основой на -u, не имеющих особых форм женского рода, может быть восстановлена как *h2o-h1ḱ-u- (> *ōḱu-) и истолкована как прилагательное-бахуврихи со значением «обладающий быстротой», вторая часть которого представляет собой нулевую ступень огласовки слова *h1éḱ-u- «быстрота», служившего в раннем праиндоевропейском названием коня. Затем оно было тематизировано в *h1eḱw-ó- и субстантивировано в h1éḱw-o-, что дало название коня в позднем праиндоевропейском.
Наименование животных по их качествам хорошо засвидетельствовано у индоевропейцев (напр., волк — *wĺkʷos «раздирающий», медведь — *h2ŕtḱos «разрушающий», заяц — *ḱásos «серый», поросёнок — *pórḱos «пятнистый» и т.д.), а быстрота представляется наиболее очевидным качеством, по которому мог получить своё название конь. По этим причинам объяснение праиндоевропейского названия коня *h1éḱu- как означающего «быстрый» является наиболее вероятным.
Показательно сравнение конской терминологии у индоевропейцев и их ближайшей родни — уральцев. Название коня в балтийско-финских языках — фин. hevonen, эст. hobune (оба слова восходят к прафин. *hepoinen, являющемуся уменьшительным от прафин. *hepoi), карел. hepo, вепск. hebo, лив. ibbi, водск. õpo, по всей видимости, является заимствованием (с метатезой *ehpoi> *hepoi) из какого-то диалектного варианта прагерманского *ehwaz, восходящего к ПИЕ *h1éḱwos. Саамское слово hiävuš с тем же значением заимствовано из финского. В языках пермской группы название коня (коми вӧв, удм. вал) восходит к прауральскому *wäδV «большое животное». В волжско-финских языках марийский заимствовал слово «конь» (имне, имни) из тюркского, а его название в мордовском (лишме) произошло от прауральского *lešmä «большое домашнее животное». В угорской группе венг. lό, манс. low и хант. loɣ восходят к праугорскому *luwV (*luɣV) с неясной дальнейшей этимологией (высказывалось предположение, что это слово заимствовано из языка носителей Ботайской культуры). Как видим, в отличие от праиндоевропейского, слово для коня в прауральском отсутствует. В эпоху существования ПИЕ общности, знакомой уже с животноводством и земледелием, её северо-восточные соседи уральцы всё ещё были охотниками-собирателями, единственным домашним животным которых была собака, а с одомашненными конями они познакомились уже после распада уральской семьи на отдельные ветви.
Приручение коня в промежутке между 5000 и 4500 гг. до н.э. племенами Самарской и Хвалынской культур вызвало эпохальные сдвиги в их экономической и социальной жизни. Конные пастухи способны пасти в разы более крупные стада, чем пешие, поэтому начало верховой езды должно было привести к росту стад и потребности в новых пастбищах для них, которые было невозможно приобрести без междоусобных или захватнических войн. Следствием этого стали социальное расслоение и милитаризация индоевропейцев. Свидетельства подобных процессов можно обнаружить как в археологических памятниках, так и в языке.
Индоевропейское общество
Общественный строй
Лингвистика свидетельствует, что мельчайшей социальной единицей общества праиндоевропейцев был дом — *dom (> индоар. dáma-, авест. dąm-, гр. δόμος, лат. domus, рус. дом), который возглавлял глава — *dems-potis (> индоар. dámpati-, авест. də̄ng.pati-, гр. δεσπότης). Слово *dom было образовано от глагольного корня *dem- «строить». Некоторое количество домов объединялись в село или весь — *wiḱ- (> индоар. viś-, авест. vīs-, гр. οῖκος, лат. vīcus, рус. весь), во главе которого стоял *wiḱ-potis (> индоар. viśpáti-, авест. vispaiti-, лит. viẽšpatis). Поселения входили в состав рода или племени — *ǵen- (> индоар. jána-, гр. γένος, лат. genus, гот. kuni). Это наиболее распространённое индоевропейское название рода было образовано от глагольного корня *ǵen- «рождать», в то время как русское «род» восходит к корню *Hrd-, который также отражён в хет. ḫardu- «потомок» и лув. ḫarduwatt- «потомство».
Самой крупной единицей праиндоевропейского общества был народ или люд, называвшийся *teutá (> др.-ирл. tūath, оскск. touto, др.-англ. þēod, лит. tautà). Судя по его возможному отражению в хеттском как tuzzi- «войско», это слово означало прежде всего вооружённый народ. Другим праиндоевропейским названием народа было образованное от глагольного корня h1leudh- «расти» слово *h1leudhos (> нем. Leute, лит. liáudis, рус. люд, люди, людин; восточным отражением может быть слово дардского языка торвали roi «человек, люди»). От слова *h1leudhos при помощи сравнительного суффикса -ero- было образовано производное *h1leudheros (> гр. ἐλεύθερος, лат. līber «свободный»), противопоставляющее человека своего народа как свободного несвободному пленному или рабу, захваченному из другого народа.
Общество праиндоевропейцев делилось на три сословия или касты — жрецов, воинов и простолюдинов. У индоариев такие касты назывались словом varṇa-, у иранцев — словом pištra-, оба из которых означают «цвет». Цветом жрецов у индоариев и иранцев был белый, воинов — красный, простолюдинов — синий. Судя по тому, что древние кельты также связывали белый цвет с жрецами, а красный — с воинами, подобные цветовые ассоциации восходят к временам индоевропейской общности.
Согласно мифу, три праиндоевропейские касты произошли из частей тела принесённого в жертву Первочеловека — головы, рук и ног. Лучше всего этот миф сохранила «Ригведа» (здесь и далее «Ригведа» цитируется в основном в переводе Т. Я. Елизаренковой):
Когда Пурушу расчленяли, / yát púruṣaṃ ví ádadhuḥ
На сколько частей разделили его? / katidhā́ ví akalpayan
Что его рот, что руки, / múkhaṃ kím asya kaú bāhū́
Что бёдра, что ноги называются? / kā́ ūrū́ pā́dā ucyete
Его рот стал брахманом, / brāhmaṇò ’sya múkham āsīd
(Его) руки сделались раджанья, / bāhū́ rājaníyaḥ krtáḥ
(То,) что бёдра его, — это вайшья, / ūrū́ tád asya yád vaíśyaḥ
Из ног родился шудра/ / padbhyā́ṃ śūdró ajāyata
(РВ 10.90.11—12)
В христианизированном виде его донесла до нас также русская «Голубиная книга»: «Оттого у нас в земле цари пошли — / От святой главы от Адамовой; / Оттого зачались князья-бояры — / От святых мощей от Адамовых; / Оттого крестьяны православныя — / От свята колена от Адамова».
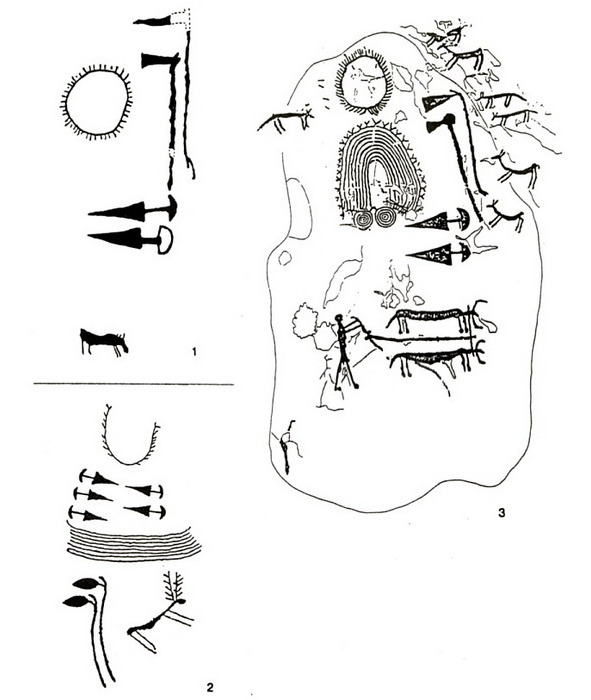
Индоевропейский царь происходил из воинов, но при этом исполнял и определённые жреческие функции. Для раннего праиндоевропейского (V тыс. до н.э.) в качестве названия царя может быть предположительно восстановлено слово *h2énsus, образованное от незасвидетельствованного глагольного корня *h2ens- «держать, править», которое могло применяться также к богам (> хет. ḫaššu- «царь», авест. aŋhu-, ahura- «господин, бог, ахура», индоар. asu-, asura- «господин, бог, асура», др.-сканд. ōss (мн. ч. æsir) «бог, ас»).
Для поздней праиндоевропейской общности (IV тыс. до н.э.) в значении «царь» достоверно реконструируется слово *h3rḗǵs (р.п. *h3réǵos) или *h3rḗǵ-on-. Это слово, образованное от глагольного корня *h3reǵ- «протягивать руку, направлять», отражено в галльск. rix, др.-ирл. rī (р.п. rīg), лат. rēx, авест. bərəzi-rāz- «правящий в вышине», хотано-сакск. rräspūra- «царевич», rräysduar- «царевна» (<праир. *raz (i) -puθra-, *raz (i) -dugdar-) и индоар. rā́j-. Помимо итало-кельтского и индоиранского, оно может быть отражено также во фракийском — ср. имя упоминаемого в «Илиаде» фракийского царя Ῥῆσος и название пригорода Византия Ῥήσιον.
Одним из праиндоевропейских названий жреца было *bʰlaǵʰ-men-, давшее лат. flāmen и индоар. brahmán-. Фонетическое соответствие между этими двумя словами не является точным, однако в пользу их родства говорят паралеллизм лат. rēx/flāmen и индоар. rā́j-/brahmán-, наличие архаичного суффикса мужского рода *-men- и сходные правила, которые применялись как к римскому, так и к индийскому жрецу (он не мог быть убит, не мог выступать свидетелем, должен был избегать контактов с погребальными кострами, собаками и войсками, не мог пить опьяняющие напитки и др.).
Поэты и поэзия
Индоевропейский жрец был тесно связан с пророческим вдохновением и зачастую являлся также и поэтом, что отражается в соответствующей лексике. На основании индоар. kaví- «поэт, провидец, мудрец», авест. kəvi- «жрец, правитель», лидийск. kaveś «жрец» и гр. κόης/κοίης «жрец» (Самофракийских таинств, у Гесихия) можно восстановить ПИЕ слово *kowh1ḗi (s) со значением «жрец, провидец, поэт», образованное от глагольного корня *keuh1- «видеть, воспринимать» (> рус. чуять, чудо, гр. κῦδος «слава»).
Засвидетельствованное на западе индоевропейского мира слово *wōt- «провидец, поэт», образовано от глагольного корня *wet- «дуть, веять, вдохновлять», связь которого с поэзией восходит к общеиндоевропейской эпохе — ср. в «Ригведе» обращение к Агни: «Вдохни в нас мысль!» (no ápi vātaya mánaḥ) (РВ 10.20.1) (ср. тж. авест. vāta- «ветер», в т.ч. как одно из воплощений бога Победы). Это слово отражено в др.-ирл. fáith «провидец», вал. gwawd «поэзия, стихотворение», лат. vātēs «провидец, поэт» (м.б. заимствование из кельтского), др.-сканд ōðr «одержимость, поэзия», др.-англ. wōþ «песня, поэзия», нем. wüten «буйствовать» и рус. вещий, вития (праслав. větiji). От него также произведено имя германского бога Вотана или Одина (<прагерм. *Wātόnos «одержимый»).
Параллель между индоар. kārú- «поэт» и гр. κήρυξ «глашатай» позволяет восстановить греко-арийский термин *kāru- « (странствующий?) поэт», образованный от глагола *kar- «хвалить» (> индоар. carkarti). Другой глагол с тем же значением *gʷerh2- отражён в индоар. grṇā́ti «хвалить», gir- «хвала», jaritár- «певец», авест. gar «хвалить» (ср. одно из названий зороастрийского рая Garō-nmāna «Дом хвалы»), лит gìrti «хвалить». Его использование в выражении «класть хвалу» засвидетельствовано в индоарийском (giró dhā-) и авестийском (garō dā-); в древнеирландском это выражение дало слово бард — пракельт. *bardos (<*gʷrh2-dʰh1-o-). Другое название древнеирландского поэта филид (fili) может быть образовано от глагольного корня *wel-, связанного с представлениями о загробном мире (герм. Valkyria, Valhǫll, рус. Велес — ср. др.-рус. «Велесовъ вънукъ» о поэте).
Связь поэтического искусства с пением отражает ПИЕ глагол *geh1 (i) «петь», давший такие слова, как рус. гаять, гудеть, лит. giedóti «петь», др.-англ. gieddian «петь», индоар. gā́ti, gā́yati «петь», gā́thā- «песня», авест. gāϑā- «размер, поэтическая строка, Гата». В качестве древнейшего названия индоевропейского музыкального инструмента, в сопровождении которого исполнялась поэзия, можно восстановить слово *golgol-, отражённое в хет. galgalturi- «цимбалы или другой ударный инструмент», индоар. gárgara- «какой-то музыкальный инструмент» (áva svarāti gárgaro — «звучит музыкальный инструмент» в РВ 8.69.9) и праслав. *golgolŭ «слово, речь, звучание» (ср. у Державина: «Глагол времён! металла звон!»).
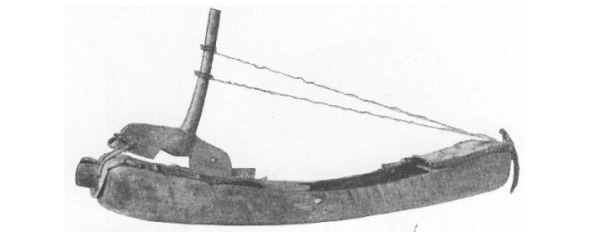
ПИЕ глагольный корень *wekʷ — «говорить» отражён в гр. εἰπεῖν «говорить», а его производное *wekʷ-es- «слово» — в гр. ἔπος, ранее (ϝ) έπος, которое означало в ед. ч. эпический стих, а во мн. ч. — полное стихотворение или гекзаметрическую поэзию в целом. Точным соответствием гр. ἔπος является индоар. vácas- «слово, речь, песня». Сходный с ним смысл имеет слово ж.р. vāc- «Вач, богиня Священного слова» (ср. лат. vōx «голос»). В «Ригведе» имеется гимн богине Вач, которая, в частности, заявляет о себе: «Я вызываю состязание среди народа. Я пропитала (собой) небо и землю… Я ведь вею, как ветер, охватывая все миры» (aháṃ jánāya samádaṃ krṇomi / aháṃ dyā́vāprthivī́ ā́ viveśa… / ahám evá vā́ta iva prá vāmi / ārábhamāṇā bhúvanāni víśvā) (РВ 10.125.6, 8).
На основании гр. ἔπος εἰπεῖν, авест. uxdā vačå и индоар. vacas- vac- (ávocāma váca) как минимум для греко-арийской общности восстанавливается figura etymologica *wékʷos wekʷ- «молвить слово». Производные от ПИЕ *wekʷ- включают индоар. ukthám «гимн» (<*ukʷ-th2o-) и термин древнеирландского поэтического мастерства anocht «ошибка размера», букв. «несказанное», точно соответствующий индоар. an-uk-ta-.
Создание поэтического произведения в праиндоевропейском языке могло описываться рядом глаголов. Самым общим из них является *kʷer- «делать», от которого произведены ср.-ирл. creth «поэзия» (<*kʷrto-) и вал. prydydd «поэт», однако сравнение с индоар. kártram «чара, заговор», лит. kerai «чары», keréti «очаровывать» и рус. чары, чародей показывает, что делание такого рода было тесно связано с магией.
От глагола *seh2 (i) — «связывать, скручивать, сплетать, свивать» (ср. «свивая славы оба полы сего времени» в «Слове о полку Игореве») было образовано слово *sh2ómen- «песня», букв. «связанное», отражённое в хет. išḫamai- «песня», išḫamanatalla- «певец», индоар. sā́man- «песня» и гр. ὕμνος «гимн» (альтернативная этимология производит греческое слово от *su-mn-o- букв. «хорошая мысль», ср. индоар. sumnám «песня»).
Русское слово «поэт» произведено от гр. ποιητής «ремесленник», и творчество индоевропейского поэта, хотя и считалось невозможным без божественного вдохновения, уподоблялось при этом работе искусных ремесленников, прежде всего ткачей и плотников.
ПИЕ глагол *webʰ- «ткать» отражён, среди прочего, в индоар. vapate, авест. vaf и гр. ὑφαίνω. В «Ригведе» хвалебную песнь Индре ткут божества: «Это ему даже жёны, супруги богов, / Индре, соткали песню при убийстве Змея» (asmā́ íd u gnā́ś cid devápatnīr / bíndrāya arkám ahihátya ūvuḥ) (РВ 1.61.8). В авестийском языке «Гат» глагол vaf имеет переносное значение «хвалить, славить»: «Как никогда, прославлю / Благую Мысль, о Истина» (yə̄ wå aṣ̌ā ufyānī manascā wohū apaourwīm) (28.3); «Пока ж Тебя, / о Мазда, прославляю» (yawat ā ϑβā mazdā stāumī ufyācā) (43.8) (здесь и далее «Авеста» цитируется в основном в переводе И. М. Стеблин-Каменского).
Как и во многих других случаях, в греческой поэзии эта часть греко-арийского поэтического наследия лучше всего сохранена дорийской хоровой традицией, представленной Пиндаром и Вакхилидом: «Начни же ткать и не медли, / О сладкая лира моя, В лидийском ладу / Милую песнь» (ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φόρμιγξ, / Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος πεφιλημένον) (Пиндар, Нем. 4, 44—45); «Помощью глубоко подпоясанных Харит / Вытканный этот гимн / Посылает с божественного острова / В именитый ваш город / Гость» (ᾗ σὺν Χαρίτεσσι βαθυζώνοις ὑφάνας ὕμνον ἀπὸ ζαθέας / νάσου ξένος ὑμετέραν πέμπει κλεεννὰν ἐς πόλιν) (Вакхилид, 5.9) (здесь и далее Пиндар и Вакхилид цитируются в основном в переводе М. Л. Гаспарова).
Однако она не ограничивается греко-арийской общностью, поскольку обнаруживается также у германцев, например, у Кюневульфа в эпилоге к «Елене»: «Так я… соткал поэзию» (þus ic… wordcrœft wœf) (1237).
Индоевропейские поэты не только ткали (ПИЕ *webʰ-) слова как ткачи, но и тесали (ПИЕ teḱs-) их как плотники: «О поэты, точите же сейчас все вместе топоры, / Которыми вы вытёсываете для бессмертия!» (sató nūnáṃ kavayaḥ sáṃ śiśīta / vā́śībhir yā́bhir amŕ̥tāya tákṣatha) (РВ 10.53.10). Выражение «Ригведы» « [люди] вытесали мантру» (mántraṃ átakṣan) (РВ 7.7.6) имеет своё точное соответствие в «Авесте»: «Ахура вытесал мантру» (ahurō mąϑrəm taṣ̌at) (29.7). Пиндар, призывая Музу к поэтам, именует их «плотниками сладких как мёд песен» (μελιγαρύων τέκτονες κώμων) (Нем. 3, 4).
Индоарийские, авестийские и греческие данные позволяют восстановить для греко-арийской общности технический термин поэтического искусства *wékʷos teḱs- «тесать слова» (индоар. vácas- takṣ-, авест. vačas-tašti-, гр. ἐπέων τέκτονες): «Небывалые, лучшие из многих слова… / Я хочу вытесать устами — для крепкого (т. е. Индры)» (ápūrviyā purutámāni asmai… / vácāṃsi āsā́ sthávirāya takṣam) (РВ 6.32.1). В авестийском языке словом vačatašti- называется строфа «Гат». Пиндар упоминает «гремящие стихи, которые сложили искусные плотники» (ἐπέων κελαδεννῶν, τέκτονες οἷα σοφοὶ ἅρμοσαν) (Пиф. 3, 113). Демокрит утверждает, что Гомер благодаря божественному дару «стесал красоту стихов» (ἐπέων κόσμον ἐτεκτήνατο) (DK 21). Эпиграмматист Никарх хвалит того же Гомера за «плотницкое искусство стихов» (τεκτοσύνη ἐπέων) (Ант. Пал. 7.159.3).
Самым совершенным произведением плотницкого искусства для индоария была колесница, поэтому «Ригведа» неоднократно сравнивает сочинение стихов с её строительством: «Эту хвалу тебе, о рождённый могучим (т.е. богу Агни), я, вдохновенный, / Стесал, как искусный (плотник) — колесницу» (etáṃ te stómaṃ tuvijāta vípro / ráthaṃ ná dhī́raḥ suápā atakṣam) (РВ 5.2.11); «Эти молитвы, которые мы вытесали, как колесницы» (imā́ bráhmāṇi… yā́ tákṣāma ráthām iva) (РВ 5.73.10).
За пределами греко-арийской общности валлийские поэты говорили о себе как о «плотниках стихов» (seiri gwawd или seiri cerdd), а скандинавские о себе — как о «ремесленниках (слово могло означать и плотников) песни» (liόðasmiðr).
Учитывая, что ткачество и строительство колёсных повозок у индоевропейцев появились примерно одновременно — около середины IV тыс. до н.э., можно отнести к этому времени и возникновение соответствующих образов поэтического искусства.
Поэзия является важным источником наших знаний о жизни индоевропейцев. Имеется множество случаев, когда данные поздних индоевропейских поэтических традиций (прежде всего индоиранской и греческой) выражают одинаковые идеи имеющими общее происхождение словами. Зачастую на их основании можно реконструировать целые фразы, которые должны были присутствовать уже в праиндоевропейском поэтическом языке, из чего следует, что и выражаемые ими идеи и реалии должны были присутствовать в сознании и жизни праиндоевропейцев (некоторые из этих тем будут подробнее рассмотрены позже).
Применительно к одному из основных индоевропейских мифов поддаётся реконструкции фраза «бог убил змея» (*dyews (e) gʷʰent ogʷʰim). С этим мифом тесно связана тема «угона скота» (*gʷōs h2eǵ-), игравшего важную роль в жизни индоевропейцев. Наряду с овладением материальными благами индоевропейцы в ходе войны стремились «искать славу» (*ḱléwos h1eys-) и «стяжать славу» (*ḱléwos dʰeh1-), чтобы стать «славными именем» (*nomn ḱlutom) и чтобы певцы пели о них «славы мужей» (*ḱléwos h2nróm).
Наградой индоевропейцу за подвиги была «неиссякающая слава» (*ḱléwos ndʰgʷʰitom), «нестареющая слава» (*ḱléwos n̥ǵertom), «неумирающая слава» (*ḱléwos nmr̥tom), «великая слава» (*ḱléwos meǵ), «высокая слава» (*ḱléwos bʰr̥ǵʰent), «широкая слава» (*ḱlewos werus) и «добрая слава» (*ḱléwos h1ésu или wésu). Противоположностью последней была «злая слава» (*dus-ḱléwes-> гр. δυσκλεής, авест. duš-sravahyā- «обладающий злой славой»). Индоевропейский воин или его противник мог наделяться эпитетом «убийца мужей» (*h2nr-gʷʰén-> гр. ἀνδροφόνος, индоар. nr̥-hán-, авест. ǰannara- (с обратным порядком компонентов)).
Особая духовная сила индоевропейского героя описывалась словом *ménos. Такая сила могла быть как «доброй» (h1ésu или wésu ménos> гр. εὐμενής, индоар. sumánas-, Vasumanas-, авест. humanah-, vohu manah-), так и «злой» (*dus-menes-> гр. δυσμενής, индоар. durmanā́s, авест. dušmanah-). Она могла быть также «святой», т.е. вдохновенной от божества (*ish1róm ménos> индоар. iṣiréṇa mánasā, гр. ἱερὸν μένος). Последнее выражение присутствует в ригведийском гимне «К Соме»: «Ревностным духом мы хотим приобщаться / К твоему выжатому (соку), как (сын) — к отчему богатству. / О сома-царь, продли нам сроки жизни, / Как солнце — вешние дни!» (iṣiréṇa te mánasā sutásya / bhakṣīmáhi pítriyasyeva rāyáḥ / sóma rājan prá ṇa ā́yūṃṣi tārīr / áhānīva sū́riyo vāsarā́ṇi) (РВ 8.48.7), а также в «Одиссее»: «Так он (т.е. старец Ехеней) сказав, пробудил Алкиноеву силу святую» (αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσ᾽ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο) (Од. 7.167).
Предметом гордости индоевропейского героя были его «быстрые кони» (*h1ōḱéwes h1éḱwōs). То же понятие выражалось синонимичной фразой *h2rǵrṓs h1éḱwōs (гр. ἀργοί ἵπποι, индоар. rjrā́s áśvās, авест. ərəzāspa-). Кони могли называться не только «быстрыми», но и «добрыми» (*h1su-h1éḱwos> гр. εὔιππος, авест. hvaspō «имеющий добрых коней»). Также высоко ценились «быстрые псы» (*h2rǵrós ḱ (u) wṓn> гр. κύνας ἀργούς, ср. имя пса Одиссея Ἄργος и индоар. имя-бахуврихи Rjíśvan «имеющий быстрых псов»). Быстрота важна не для пастушеских сторожевых или охотничьих легавых, а для борзых собак, при этом охота с борзыми никогда не была промысловой, из чего можно заключить, что данное выражение сохранило память об аристократической охоте у индоевропейцев.
Унаследованные поэтические формулы позволяют составить представление о местности, в которой жили индоевропейцы. Одной из таких формул является выражение «широкая земля» (*dʰǵʰóm- pl̥th2ú-> индоар. kṣā́ṃ prthivī́ṃ, авест. ząm pərəϑwīm, гр. (с другим по происхождению прилагательным) χθών εὐρεῖα, ср. др.-сканд. fold, др.-англ. folde (<plth2-eh2-) «земля», букв. «широкая»), встречающееся, например, в «Ригведе»: «Как Нерождённый несёт он (т. е. Агни) широкую землю» (ajó ná kṣā́ṃ dādhā́ra prthivī́ṃ) (РВ 1.67.5); «Как стрела (?), проходит он (т. е. Агни) сквозь широкую землю» (stegó ná kṣã́m áti eti prthvī́m) (РВ 10.31.9). Праформа прилагательного греческого варианта восстанавливается также для выражения «широкое жилище» (*wrrú sédos> индоар. urú sádas, гр. εὐρυεδής). Земля для индоевропейцев была не только «широкой», но и «тёмной» (хет. отл. п. dankuiaz tagnaz, др.-ирл. domun donn).
У Гомера (Ил. 16.174; 17.263; 21.268, 326; Од. 4.477, 581; 7.284) применительно к рекам (Сперхею, Скамандру и Нилу) несколько раз встречается эпитет διιπετής, который был уже не вполне понятен греческим филологам классической эпохи. В Гомеровском гимне к Афродите (5, 4) им описываются птицы. Наиболее правдоподобно объяснение первого компонента этого эпитета как слова в местном падеже diwi- «на небе», а его всего — как очень архаичного выражения со значением «летящий или текущий по небу». Подтверждением этому служит говорящий об уподобляемых птицам небесных реках отрывок из «Ригведы»: «Адитья выпустил их течь, (и) разделил (их): / Реки движутся по (вселенскому) закону Варуны. / Они не устают, не отдыхают. / Быстро, как птицы, летят они по кругу» (prá sīm ādityó asrjad vidhartā́m /r̥táṃ síndhavo váruṇasya yanti / ná śrāmyanti ná ví mucanti eté / váyo ná paptū raghuyā́ párijman) (РВ 2.28.4).
В то же время Гомер применяет данный эпитет к вполне земным рекам. По всей видимости, традиция, которой он наследовал, говорила о земных реках, истоки которых находятся на небе. Наиболее вероятным местом возникновения поэтических формул, говорящих о ниспадающих с небес потоках вод, текущих по широкой тёмной земле, является юг Русской равнины с её огромными реками (Уралом, Волгой, Доном, Днепром и т.д.), истоки которых находятся на таинственном севере.
В нескольких индоевропейских поэтических традициях засвидетельствовано выражение «колесо солнца» (*sh2wéns kʷekʷlos> индоар. sū́raś cakrá-, гр. ἡλίου κύκλος, др.-сканд. sunnu hvēl, др.-англ. sunnan hweogul). Оно многократно встречается в «Ригведе»: «Он (т. е. Индра) привёл в движение колесо солнца» (ayáṃ cakrám iṣaṇat sū́riyasya) (РВ 4.17.14); «С тобою (т. е. Сомой) как с союзником Индра сдавил / Колесо солнца» (tuvā́ yujā́ ní khidat sū́riyasya / índraś cakráṃ) (РВ 4.28.2); «Ты (т. е. Индра) сорвал одно колесо солнца. / Ради Кутсы ты предоставил свободный путь для движения другого (колеса)» (prā́nyác cakrám avrhaḥ sū́riyasya / kútsāyānyád várivo yā́tave ’kaḥ) (РВ 5.29.10); «Вгрызайся при разбеге и отнимай / Колесо у солнца! (Так) ты (т. е. Индра) принялся за дела» (dáśa prapitvé ádha sū́riyasya / muṣāyáś cakrám ávive rápāṃsi) (РВ 6.31.3)
Эта фраза также часто используется греческими поэтами: «Ведь вскоре солнца пламя светозарное / Палящим жаром хрупкий растопило мост» (φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος / μέσον πόρον διῆκε, θερμαίνων φλογί) (Эсхил. Персы, 504—505) (перевод С. К. Апта); «Веселый рокот, и земля, что все родит, / И солнца круг, всевидец, — я взываю к вам» (ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ, / καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ) (Эсхил. Прометей прикованный, 90—91) (перевод С. К. Апта); «Вот уж неба / Средину занял яркий солнца круг, / И стал нас зной палить» (ἔστ᾽ ἐν αἰθέρι / μέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου κύκλος / καὶ καῦμ᾽ ἔθαλπε) (Софокл. Антигона, 416—418) (перевод Фаддея Зелинского); «Мне не видеть света дня!» (ἀκτῖνα κύκλον θ᾽ ἡλίου προσόψομαι) (Еврипид. Гекуба, 412) (перевод Иннокентия Анненского).
Под «колесом» могла подразумеваться вся колесница, в которой небесное божество совершает по небу свою поездку, обозначавшуюся в индоевропейском поэтическом языке выражением «великий путь» (*meǵos h2eǵmos). В «Ригведе» это путь солнечного бога Савитара: «Не поддаваясь обману, взирая на (все) существа, / Бог Савитар охраняет обеты. / Он простёр руки ко (всем) существам в мире. / Твёрдо придерживаясь обета, он правит великим путём» (ádābhiyo bhúvanāni pracā́kaśad / vratā́ni deváḥ savitā́bhí rakṣate / prā́srāg bāhū́ bhúvanasya prajā́bhiyo / dhrtávrato mahó ájmasya rājati) (РВ 4.53.4). В Гомеровском гимне к Селене по этому пути скачет богиня Луны: «…Лучезарных запрягши коней — крепкошеих, гривастых, / По небу быстро погонит вперёд их Селена-богиня / Вечером, в день полнолунья, великий свой путь совершая…» (ζευξαμένη πώλους ἐριαύχενας, αἰγλήεντας, / ἐσσυμένως προτέρωσ᾽ ἐλάσῃ καλλίτριχας ἵππους, / ἑσπερίη, διχόμηνος: ὃ δὲ πλήθει μέγας ὄγμος) (32.9—11).
Воинское сословие
Обратимся теперь к воинской касте. В позднем праиндоевропейском языке войско называлось словом *koryos, образованным от *koros «война» (> ср.-ирл. cuire, гот. harjis, др.-сканд. herr, нем. Heer, др.-прус. kargis, лит. kãrias, лат. kaŗš, м.б. др.-перс. kāra- «народ, войско»). Производное от него слово со значением «военный вождь» (*koryonos) отражено, среди прочего, в гр. κοίρανος «полководец», др.-сканд. Herjan как одном из имён Одина и названии бриттского племени Coriono-totae. В германском от него же был произведён глагол со значением «совершать набег» (др.-сканд. herja, др.-верх.-нем. herian).

От глагольного корня *h2eǵ- «вести» были образованы слова *h2eǵmen- «дружина, войско» (> лат. agmen, индоар. ájman-) и *h2eǵós «предводитель дружины или войска» (> гр. ἀγός, индоар. ajá-). Последователи военного предводителя в позднем праиндоевропейском могли называться словами *h2entbhi-kʷolos, букв. «ходящий вокруг» (> лат. anculus, гр. ἀμφίπολος, индоар. abhicara-), и *upo-sth2-i-, букв. «стоящий внизу» (> ср.-ирл. foss (> позднелат. vassalus), индоар. úpasti-). Северо-западом индоевропейского мира ограничены слова *slóugos (др.-ирл. slōg «войско», лит. slaugà «служба», рус. слуга) и *dʰrougʰós (др.-англ. ge-drēag «войско», лит. draũgas «друг», рус. друг).
Праиндоевропейский воин обладал достаточно внушительным арсеналом. Из названий режуще-колющего оружия древнейшим оказывается *h2nsis, восстанавливаемое на основании палайск. hasīra- (<*h2nsi-ro-) «кинжал», лат. ēnsis «меч», индоар. así- «нож, меч», авест aŋhū- «меч» и м. б. гр. ἄορ «меч». Архаичная основа на i с нулевой огласовкой корня и присутствие этого слова в анатолийской ветви гарантируют его ранний праиндоевропейский статус. Его первоначальным референтом должны были быть кремнёвые и костяные ножи и кинжалы, которыми были вооружены воины Самарской и Хвалынской культур V тыс. до н.э.
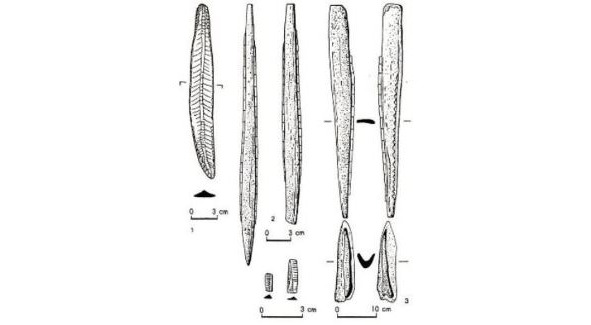
В качестве других праиндоевропейских названий ножей и кинжалов с более ограниченным распространением поддаются реконструкции *wēben (> тох. В yepe (<пратох. *wēb-en-) « [режущее] оружие, нож», гот. (мн. ч.) wēpna, др.-сканд. vāpn, англ. weapon «оружие» (<прагерм. *wēb-no-)), *ḱos-trom или *ḱos-dhrom (<*ḱes- «резать» + инструментальный суффикс *-trom или *-dhrom) (> индоар. śástra- «нож, кинжал», алб. thadër «тесло», лат. *castrum> castrō «резать»), *kltḗr (<* (s) kel- «резать») (> лат. culter «нож», индоар. kuṭhāra- «топор»), *kert- (<* (s) ker- «резать») (> индоар. krtí- «нож», авест. kərəti- «нож, кинжал, меч», тох. В kertte «меч») и *skolma- (> др.-сканд. skǫlm «меч», фрак. σκάλμη «нож, меч»). Перечисленные термины со значением «меч» могли приобрести такое значение только после середины II тыс. до н.э., когда появились мечи в строгом смысле этого слова.
Древнейшее индоевропейское название топора на основании хет. ateš-, atešša- «топор» и др.-англ. adesa «топор» (> англ. adze «тесло») восстанавливается как *h2edʰés. Судя по хеттским рефлексам, оно присутствовало уже в раннем ПИЕ языке V тыс. до н. э. Имеются также термины для топора с более ограниченным распространением — западным — *h2egʷisya- (> лат. ascia «тесло», англ. ax «топор», гр. ἀξίνη «топор») и *sekūr- (от глагольного корня *sek- «сечь») (> лат. secūris, рус. секира) и греко-арийским — *peleḱus (> гр. πέλεκυς, индоар. paraśú-, осет. fœrœt).
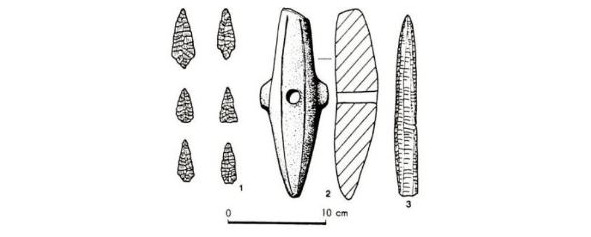
Наиболее распространённым индоевропейским названием (метательного) копья является слово *ǵʰaisόs, образованное от глагольного корня ǵʰi- «метать» (> др.-ирл. gae «копьё», др.-англ. gār «копьё», индоар. héṣas- «метательное орудие», гр. χαῖος «пастуший посох»). Другие слова с тем же значением включают *ḱel (H) — (> индоар. śalyá- «копьё, наконечник стрелы», ср.-ирл. cāil «копьё», др.-сканд. hali «древко», др.-прус. kelian «копьё», гр. κῆλα «древка стрел», алб. thel «шип»), *h2eiḱsmo или *h2eiḱsmeh2 (> лит. iẽšmis «копьё», гр. ἀιχμή «копьё, стрела»), *gʷéru (> лат. verū «копьё», др.-ирл. biur «копьё», авест. grava- «палка») и *ḱúHlos (> индоар. śū́la- «копьё, дротик», пехл. swl’ck «вертелы», арм. slak» «копьё, стрела, кинжал»).
Лук и стрелы входят в число древнейших видов оружия, однако их названия поддаются реконструкции только для отдельных индоевропейских ареалов. Для западного ареала можно восстановить слово *h2érkwos со значением «лук и/или стрела» (> лат. arcus «лук», гот. arƕazna «стрела», англ. arrow «стрела»). Термины греко-арийского ареала включают *tóksom «лук» (метонимически от «тис») (> мик.-гр. to-ko-so-wo-ko (= τοξοϝοργοί) «изготовители луков», гр. τόξον «лук», скиф. taxša «лук», ср.-перс. taxš «лук»), *gʷ (i) yéh2 «тетива, лук» (> гр. βιός (от род. п. *gʷih2ós) «лук», авест. ǰyā «тетива», фарс. zih «тетива», индоар. jyā «тетива») и *h1ísus «стрела» (возможно, первоначально *h1éysus <*h1eys- «приводить в движение») (> гр. ἰός (от род. п. *h1iswós) «стрела», авест. išu- «стрела», индоар. íṣu- «стрела», лит. gijà «нить основы», ц.-сл. жица «нить»).
Из других названий предметов вооружения с ограниченным распространением можно отметить термины для булавы — *lorga- (> др.-ирл. lorg, др.-сканд. lurkr) и *wáǵros (> индоар. vájra-, авест. vazra- (> фин. vasara «молот»), гр. Μελέαγρος «Заботящийся о булаве») и щита — *skéits (лат. scūtum, др.-ирл. scīath, рус. щит).
Для праиндоевропейского языка уже раннего этапа восстанавливаются термины, означающие победу — *seǵʰ- (> хет. šakkuriya- «преодолевать», индоар. sáhas- «победа», нем. Sieg «победа», галльск. Sego-marus) и военную добычу — *seru (> хет. šāru «добыча», šaruwai- «грабить», валлийск. herw «набег», ср.-ирл. serb «грабёж», м.б. лат. servus, если первоначально «пленный»). Однако, как будет показано далее, главной целью индоевропейского воина было не захватить добычу, а завоевать славу, которая обеспечивала ему бессмертие в памяти потомков.

Свойством выдающихся индоевропейских героев была их способность уподобляться в бою диким животным — обычно медведям, волкам, псам или вепрям. Целый ряд традиций сохранили память о таких воинах, из которых наиболее известны скандинавские берсерки («облачённые в медведей»): «Его (т. е. Одина) воины бросались в бой без кольчуги, ярились, как собаки или волки, кусали свои щиты, и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Такие воины назывались берсерками» (en hans menn fóru brynjulausir ok váru galnir sem hundar eða vargar, bitu í skjöldu sína, váru sterkir sem birnir eða griðungar; þeir drápu mannfólkit, en hvártki eldr né járn orti á þá. Þat er kallaðr berserksgangr) (Сага об Инглингах, 6).
В «Илиаде» трижды упоминается слово λύσσα, которым называется воинская ярость. Оно произведено от греческого слова λύκος «волк» (<ПИЕ *wĺkʷos) при помощи суффикса -ya-, образующего отвлечённые понятия (*lyk-ya) и означает, таким образом, «нахождение в состоянии волка». Впервые мы слышим его, когда Одиссей и Аякс пытаются убедить Ахилла вновь вступить в сражение с троянцами: «Гектор, ужасною силой кичася, / Буйно свирепствует, крепкий на Зевса; в ничто он вменяет / Смертных и самых богов, обладаемый бешенством страшным» (Ἕκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων / μαίνεται ἐκπάγλως πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει / ἀνέρας οὐδὲ θεούς: κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν) (Ил. 9.237—239) (здесь и далее «Илиада» цитируется в основном в переводе Николая Гнедича).
В конце той же речи Одиссей пытается привлечь Ахилла к сражению обещанием славы: «Тебя, как бессмертного бога, / Рати почтут; между них ты покроешься дивною славой! / Гектора ты поразишь! до тебя он приближится ныне, / Буйством своим обезумленный…» (οἵ σε θεὸν ὣς / τίσουσ᾽: ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο: / νῦν γάρ χ᾽ Ἕκτορ᾽ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι / λύσσαν ἔχων ὀλοήν) (Ил. 9.302—305). Наконец, тем же словом описывается состояние самого Ахилла во время преследования троянцев: «Бурно их гнал он копьём; непрестанно в нём сердце / Страшным пылало свирепством, неистово славы алкал он» (ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ᾽ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ / αἰὲν ἔχε κρατερή, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι) (Ил. 21.542—543).
Как мы видим, в «состоянии волка» воин считает себя непобедимым (Гектор вменяет в ничто людей и богов) и способен успешно противостоять целому войску (как Гектор — ахейскому или Ахилл — троянскому). Обозначающие героев термины, образованные, как и греческая λύσσα, от слова «волк», мы находим и у других индоевропейских народов (др.-сканд. úlfheðnar, др.-ирл. luchthonn, индоар. Vrkājina и др.).
У древних ирландцев состояние воинского неистовства называлось словом ferg. В ирландском эпосе его самым ярким носителем выступает герой Кухулин, о «звериной» природе которого свидетельствует уже его имя («Пёс Куланна»). В саге «Похищение быка из Куальнге» возница воителя Фер Диада объявляет своему господину о приближении Кухулина следующими словами (перевод С. Шкунаева):
То Пёс, ведомый ратной страдой.
То боец колесничный, что играет уздой,
То ястреб благородный, воин младой,
К югу коней устремляет гон.
Тело Пса кровью обагрено.
Не устрашиться его мудрено…
Предсказал я в прошлом году: нападёт
Однажды, в самый нежданный час,
Пёс из Эмайн Махи, чей лик
Изменить окраску способен вмиг,
Грозный Пёс, что в битвах велик!
Выражением воинского идеала у индоиранцев был прежде всего бог Индра. Заратуштра отверг как самого Индру, так и воплощаемую им боевую ярость, называвшуюся по-авестийски aēšma, однако большинство качеств индоиранского воинского бога унаследовали в зороастризме Митра и бог победы Веретрагна, само имя которого было эпитетом Индры («Убийца Вритры»). Одним из воплощений Веретрагны является вепрь, скачуший перед колесницей Митры:
Летит пред ним Вэртрагна,
Создание Ахуры,
Рассвирепевшим Вепрем,
Злым, острыми зубами
И острыми клыками
Разящим наповал,
Взбешённым, неподступным,
Сердитым, пёстромордым,
Чьи ноги из металла,
Передние и задние,
Чьи жилы из металла
И из металла хвост,
Чьи челюсти — металл.
Который, нападая,
Стремительно бросаясь,
Отважно поражает
Противника насквозь
И до тех пор не думает,
Что он сразил кого-то,
Покуда позвоночник,
Столп жизни и источник,
Врагу не раздробит.
Растерзывая разом,
Он волосы и кости,
И кровь, и мозг мешает
С землёю у лжецов.
(Михр-яшт 10.70—72)
Через лёгкий налёт зороастризма мы видим в этом тексте всё тот же образ индоевропейского воина, уподобляющегося в битве неистовому дикому зверю.
Змееборческий миф
Один из наиболее надёжно восстанавливаемых мифов, восходящих к эпохе индоевропейской общности, служил в качестве идеологического обоснования экспансии индоевропейцев, поэтому имеет смысл рассмотреть его здесь подробно. Это миф о змееборчестве, повествующий о победе небесного Бога-громовержца (или смертного героя, которому он оказывает поддержку) над своим хтоническим змеевидным противником. Из всех индоевропейских традиций самое ранее и полное отражение этого мифа донесла до нас «Ригведа». В первоначальном варианте героем повествования был бог *Dyéws (букв. «Небо»), имя которого, в частности, отражено в греческом как Ζεύς, а в индоарийском — как Dyáus. В греческой традиции Зевс сохранил свою роль, в то время как в индоарийской Дьяус был вытеснен на периферию религиозного сознания, а большинство его функций (включая функцию Бога-громовержца, побеждающего Змея) перешло к Индре (имя которого, скорее всего, родственно праслав. *jędrъ «сильный»).
Самым важным текстом, отражающим этот миф, является в «Ригведе» Гимн 32 её Первой книги:
Индры героические деяния сейчас я хочу провозгласить: / índrasya nú vīríyāṇi prá vocaṃ
Те первые, что совершил громовержец, / yā́ni cakā́ra prathamā́ni vajrī́
Он убил змея, он просверлил (русла) вод, / áhann áhim ánu apás tatarda
Он рассёк недра гор… / prá vakṣáṇā abhinat párvatānām…
Он убил его, перворождённого из змеев… / áhann enam prathamajā́m áhīnām…
Он убил Вритру, самого (страшного) врага, бесплечего, / áhan vrtráṃ vrtratáraṃ víaṃsam
Индра — дубиной, великим оружием. / índro vájreṇa mahatā́ vadhéna
Как ветви топором обрубленные, / skándhāṃsīva kúliśenā vívrkṇā
Змей лежит, прильнув к земле… / áhiḥ śayata upapŕk prthivyā́ḥ…
Единый бог, ты завоевал коров, ты завоевал сому, о герой! / devá ékaḥ ájayo gā́ ájayaḥ śūra sómam
(РВ 1.32.1, 3, 5, 12)
Имя змея Вритра (vŕtra- — «препятствие») засвидетельствовано только индоиранским преданием, в самом же древнем индоевропейском изводе противник Бога-громовержца назывался просто Змеем (ПИЕ * ogʷʰis> индоар. ahi). (В славянском это слово ограничило своё значение и стало обозначать ужа, в общем же значении «змей» стало употребляться новообразование с буквальным значением «земляной». ) В выражении áhann áhim («он убил змея») из вышеприведённого отрывка к праиндоевропейским временам восходит не только второй, но и первый компонент (ПИЕ *gʷʰen- «убивать»). Его отражение (хет. kuen-) используется и в хеттском мифе о победе Бога грозы над Змеем — MUŠilluyankan kuenta «он убил змея» (KUB 17.5 I 17), а также в мифах о змееборчестве в других индоевропейских традициях (др.-ирл. gon-, англ. bane и т.д.), из чего следует, что это слово было своего рода «техническим термином» для описания подобного рода событий.

Точно соответствующее индоарийскому áhann áhim выражение (авест. ǰanat ažīm) в «Авесте» применяется к иранским героям-змееборцам — Траэтаоне, который «убил змея дасовского» (ǰanat ažīm dahākəm) (Яшт 9.8), и Кэрсаспе, который «убил змея рогатого» (ǰanat ažīm sruuarəm) (Яшт 19.40).
Индоиранские параллели можно подкрепить греческими данными. Греческая литература донесла до нас многочисленные рассказы о героях-змееборцам. В частности, Пиндар говорит о Персее, что «Он убил Горгону, / Он принёс островитянам / Ту голову, пёструю змеиною гривой, — / Каменную смерть» (ἔπεφνέν τε Γοργόνα, καὶ ποικίλον κάρα / δρακόντων φόβαισιν ἤλυθε νασιώταις / λίθινον θάνατον φέρων) (Пиф. 10.46—49), в другом месте называя Пегаса «исчадьем змеистой Горгоны» (τᾶς ὀφιώδεος υἱόν Γοργόνος) (Ол. 13.64). О Ясоне тот же автор сообщает, что «Он убил дракона умением своим, / Змея с серым глазом, с пёстрой спиной» (κτεῖνε μὲν γλαυκῶπα τέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν) (Пиф. 4.249). Побеждённого Ясоном дракона Пиндар называет «змеем» (ὄφις), а Горгону — «змеистой» (ὀφιώδεος). Греческое слово ὄφις является прямым отражением ПИЕ *ogʷʰis, давшего индоар. ahi и авест. aži.

Убийство «змеистой» Горгоны Персеем Пиндар передаёт при помощи глагола в аористе ἔπεφνεν, корень которого восходит к тому же ПИЕ глагольному корню *gʷʰen- «убивать» (> рус. гнать), который дал áhann в индоарийском и ǰanat в авестийском. Примечательно, что в греческом языке производный от ПИЕ *gʷʰen- глагол в настоящем времени θείνω приобрёл значение «бить», уступив значение «убивать» другим глаголам. Однако старое значение сохранилось в именном производном от него φόνος «убийство» (ПИЕ *gʷʰonos> рус. гон) и в редуплицированном тематическом аористе ἔπεφνε (ν) (у Гомера встречается также инфинитив аориста πεφνέμεν — см. ниже).
Сохранение этим словом в прошедшем времени старого значения можно объяснить его связью с мифом о змееборчестве. Например, именно оно используется в одном из двух отголосков этого мифа у Гомера — рассказе об убийстве Беллерофонтом Химеры: «Юноше Беллерофонту [ликийский царь] убить заповедал Химеру / Лютую, коей порода была от богов, не от смертных: / Лев головою, задом дракон и коза серединой, / Страшно дыхала она пожирающим пламенем бурным. / Грозную он поразил, чудесами богов ободрённый» (πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε / πεφνέμεν: ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην θεῖον γένος οὐδ᾽ ἀνθρώπων, / πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, / δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο, / καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας) (Ил. 6.179—183).

На основании индоар. áhann áhim, авест. ǰanat ažīm и гр. ἔπεφνεν ὄφιν можно достоверно восстановить выражение (e)gʷʰent ogʷʰim («убил змея»), содержащее аллитерацию с использованием очень редкого индоевропейского согласного звука gʷʰ, которое входило в состав первоначального поэтического повествования о змееборчестве.
В последующих отражениях этого повествования могут варьироваться главные герои (сам Бог-громовержец или его сын или покровительствуемый им герой) и конкретные имена их противников. Так, греческая литература донесла до нас мифы о победе Зевса над Тифоном и сына Зевса Аполлона — над Пифоном.
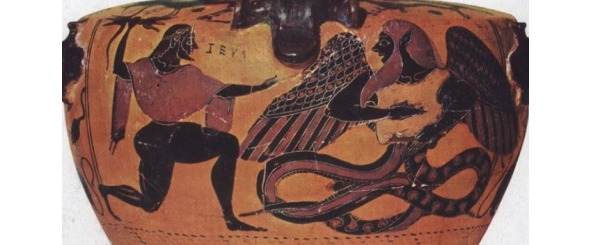
Согласно Аполлодору, руки Тифона «оканчивались ста головами драконов», а «часть его тела ниже бёдер состояла из огромных извивающихся кольцами змей (ἐχιδνῶν)» (Мифологическая библиотека, 1.6.3). Древнейшее в греческой литературе упоминание о Тифоне содержится во втором из отголосков змееборческого мифа у Гомера. Описывая движение ахейского войска, он сообщает: «Дол застонал, как под яростью бога, метателя грома / Зевса, когда над Тифеем сечёт он перунами землю» (γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ / χωομένῳ ὅτε τ᾽ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ) (Ил. 2.781—782). Судя по тому, что победу Зевса над Тифоном греческая традиция помещает на гору Касий в Сирии, она могла испытать влияние хеттского мифа о змееборчестве, имевшего, впрочем, тот же самый индоевропейский источник.
Самое древнее повествование о победе Аполлона над Пифоном содержится в гомеровском Гимне к Аполлону Пифийскому, в котором, что примечательно, Пифон называется кормильцем Тифона: «Близко оттуда — прекрасноструистый родник, где владыкой, / Зевсовым сыном, дракон умерщвлён из могучего лука, — / Дикое чудище, жирный, огромный, который немало / Людям беды причинил на земле, — причинил и самим им, / И легконогим овечьим стадам, — бедоносец кровавый. / Был на вскормление отдан ему златотронною Герой / Страшный, свирепый Тифаон, рождённый на пагубу людям» (ἀγχοῦ δὲ κρήνη καλλίρροος, ἔνθα δράκαιναν / κτεῖνεν ἄναξ, Διὸς υἱός, ἀπὸ κρατεροῖο βιοῖο, / ζατρεφέα, μεγάλην, τέρας ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ / ἀνθρώπους ἔρδεσκεν ἐπὶ χθονί, πολλὰ μὲν αὐτούς, / πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδ᾽, ἐπεὶ πέλε πῆμα δαφοινόν. / καὶ ποτε δεξαμένη χρυσοθρόνου ἔτρεφεν Ἥρης / δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε Τυφάονα, πῆμα βροτοῖσιν) (Гимн к Аполлону Пифийскому, 300—306) (здесь и далее Гомеровские гимны цитируются обычно в переводе Викентия Вересаева).

Связь между двумя змеевидными чудовищами совсем не случайна. Имя Тифона (Τυφῶν) восходит к ПИЕ *dubh- (n-) «дно, глубина» (> праслав. dъbno «дно»), а имя Пифона (Πύθων) — к ПИЕ *budh- (n-) с тем же самым значением (> гр. πυθμήν «дно, глубина»). От второго слова происходит также второй компонент в имени индоарийского Ahi Budhnya — «Змея глубинного» (budhn-ya — прилагательное на -ya от budhnas «дно, глубина»). Последний представляет собой загадочную фигуру, вскользь упоминаемую в «Ригведе» 12 раз. Наиболее развернутый текст о нём гласит: «Змея, рождённого водой, я воспеваю в гимнах, / (Того,) кто сидит на дне рек в тёмных просторах. / Да не причинит нам вреда Змей глубинный!» (abjã́m ukthaír áhiṃ grṇīṣe / budhné nadī́nāṃ rájassu ṣī́dan / mā́ no áhir budhníyo riṣé dhān) (РВ 7.34.16—17).
Следовательно, Ahi Budhnya — связанный с водой змей, могущий причинить вред. Эти качества сближают его с Вритрой. Кроме того, «Ригведа» очень сходно описывает Вритру после его поражения от Индры: «Среди неостанавливающихся, неуспокаивающихся / Водных потоков скрыто тело. / Воды текут через тайное место Вритры. / В долгий мрак погрузился тот, кому Индра враг» (átiṣṭhantīnām aniveśanā́nāṃ / kā́ṣṭhānām mádhye níhitaṃ śárīram / vrtrásya niṇyáṃ ví caranti ā́po / dīrgháṃ táma ā́śayad índraśatruḥ) (РВ 1.32.10). Отсюда можно заключить, что Ahi Budhnya и Vrtra представляют собой отражения одного и того же образа Змея, отражениями которого также являются греческие Тифон и Пифон, имена которых на праиндоевропейском уровне (*dubh- (n-) и *budh- (n-)) связаны метатетическими отношениями.
Частью индоевропейского змееборческого мифа был захват героем у побеждённого врага скота (коров и быков). «Ригведа» неоднократно упоминает его при описании победы Индры над Вритрой: «Этот убийца Вритры, этот самый Индра выпустил с помощью песнопений / Коров вместе с молодняком, вместе с жертвенными возлияниями. / Широко шагающая домашняя корова, несущая для него / (Молоко,) полное жира, доится медовой сладостью» (sá jātébhir vrtrahā́ séd u havyaír / úd usríyā asrjad índro arkaíḥ / urūcí asmai ghrtávad bhárantī / mádhu svā́dma duduhe jéniyā gaúḥ) (РВ 3.31.11).
О том же говорится при описании победы Индры над Валой (имя которого, как и имя Вритры, может восходить к ПИЕ глагольному корню *wel- «скрывать»): «Индра увеличил воздушное пространство / (И) светлые просторы (неба) в опьянении сомой, / Когда он расколол Валу. / Он выгнал коров наружу к Ангирасам, / Делая явными тех, кто был в укрытии. / Он изверг Валу в нашу сторону» (ví antárikṣam atiran / máde sómasya rocanā́ / índro yád ábhinad valám / úd gā́ ājad áṅgirobhya / āvíṣ krṇván gúhā satī́ḥ / arvā́ñcaṃ nunude valám) (РВ 8.14.7—8).
Угоном скота сопровождается также победа над змеем Вишварупой. В некоторых текстах эта победа приписывается самому Индре: «Я, Индра, — (защитный) вал, грудь Атхарвана. / Для Триты я породил коров из змея» (ahám índro ródho vákṣo átharvaṇas / tritā́ya gā́ ajanayam áher ádhi) (РВ 10.48.2). В других её одерживает герой Трита, которому Индра оказывает поддержку: «Зная оружие, идущее от предков, этот / Аптья, посланный Индрой, победил в борьбе. / Убив трёхглавого, о семи лучах, / Трита выпустил коров у сына Тваштара. / Идра зарубил (того,) кто замахнулся на слишком большую силу, / Благой господин — (того), кто мнил себя (таковым). / Забрав себе коров самого сына Тваштара / Вишварупы, он оторвал три его головы» (sá pítriyāṇi ā́yudhāni vidvā́n / índreṣita āptiyó abhy àyudhyat / triśīrṣā́ṇaṃ saptáraśmiṃ jaghanvā́n / tvāṣṭrásya cin níḥ sasrje tritó gā́ḥ / bhū́rī́d índra udínakṣantam ójo / ávābhinat sátpatir mányamānam / tvāṣṭrásya cid viśvárūpasya gónām / ācakrāṇás trī́ṇi śīrṣā́ párā vark) (РВ 10.8.8—9).
Один из гимнов «Ригведы» утверждает, что Трита победил «шестиглазого, трёхглавого» (ṣaḷakṣáṃ triśīrṣā́ṇaṃ) противника (РВ 10.99.6). «Авеста» приписывает победу над «шестиглазым, трёхглавым» (xšuuašašīm ϑrikamərəδəm) змеем Ажи Дахакой иранскому герою Траэтаоне (Яшт 9.14). Имена Триты и Траэтаоны означают «Третий». Кроме того, индоарийский Трита называется Аптьей («Водяным»), а иранский Траэтаона — сыном Атвии («Водяного»).
Очевидно, что речь идёт об одном и том же герое, восходящем не только к общеиндоиранской, но и к общеиндоевропейской древности, судя по отражению его образа в русских сказках: «В самом общем виде на русском материале суть сказок типа 301 в интересующей нас здесь части сводится к следующему: три брата, младший из которых особо отмечен (иногда он единственный из братьев, чьё имя упоминается; среди этих имен такие показательные, как Иван Третей, Третьяк /ср. Tritā/ или Иван Водович), отправляются на поиски трёх исчезнувших царевен (иногда одной, ср. тот же мотив в „Шахнаме“ и его вариант в Авесте); братья приходят к отверстию, ведущему под землю (чаще всего это именно колодец /ср. колодец Триты/, или яма, дыра); младший брат спускается по верёвке под землю; братья предательски бросают верёвку, и младший брат (третий) остаётся под землёй; там он последовательно попадает в три царства — медное, серебряное и золотое; в каждом из них он встречает девицу (царевну), предупреждающую его об опасности, исходящей от змея (обычно трёх-, шести- и девятиголового), который должен прилететь в соответствующее царство; когда змеи (чудовища, драконы, иногда один) прилетают, младший брат вступает с ними в поединок и побеждает их, ссекая им головы… Таким образом, оказывается, что Трита, Трайтаона, Иван Третей (Третьяк) и являются, по сути дела, убийцами чудовища, чье имя Vrtra (Vrθra) и под.».
В «Авесте» (Яшт 5.61) Траэтаона именуется vərəϑrajå, что точно соответствует эпитету Индры vrtrahan-, в котором han- происходит от ПИЕ глагола *gʷʰen- «убивать», а vr̥tra — имя змея. Отсюда следует, что противник Траэтаоны (а тем самым и именуемый Вишварупой противник Триты) — это разновидность того же Вритры.
«Ригведа» неоднократно называет змееобразного противника Индры или представляющего его героя «дасой», напр.: «Этот самый хозяин дома (Индра или Трита?) укротил дасу, / Громко ревущего, шестиглазого, трёхглавого» (sá íd dā́saṃ tuvīrávam pátir dán / ṣaḷakṣáṃ triśīrṣā́ṇaṃ damanyat) (РВ 10.99.6). Об иранском Траэтаоне «Авеста» сообщает, что он победил «змея дасовского… трёхглавого, шестиглазого» (ažīm dahākəm… ϑrikamərəδəm xšuuašašīm) (Яшт 9.14). Авестийское слово dahāka имеет тот же корень, что и индоар. dāsa- (> ир. dāha-), к которому присоединён суффикс -ka. На этом основании можно восстановить общеиндоиранское обозначение противника Триты и Траэтаоны (и, соответственно, Бога-громовержца) как *aǰhi- dāsa- «змей дасовский».
Словами общего происхождения dāsa- и dasyu- с неясной этимологией в «Ригведе» называются демоны или представители неарийских народностей. По всей видимости, второе значение является более ранним, и именование Змея «дасовским» определяет его как представителя враждебного ариям мира. Победа над Змеем позволяет ариям овладеть скотом своих врагов. В приведённом выше отрывке о победе Индры над Валой действие Индры описано выражением gā āj- «угонять скот», являющимся стандартным для подобных ситуаций в «Ригведе». Точное соответствие ему имеется в авестийском языке (gąm az-), а также в латыни (bovēs agere). Оно восстанавливается также для древнеирландского на основании выражения tāin (<*to-ag-no) bō «угон скота», ставшего названием целого жанра ирландских саг, самой известной из которых является Tāin Bō Cūalinge («Похищение быка из Куальнге»). На этом основании можно восстановить для общеиндоевропейского языка фразу *gʷōs h2eǵ- «угонять скот». Судя по совпадению между индоиранским и итало-кельтским, указанное выражение и обозначаемое им явление должны были существовать ещё до расхождения этих ветвей индоевропейской общности, т.е., по меньшей мере, до конца IV тыс. до н.э.
Угон скота у инородцев воспринимался индоевропейцами как повторение победы над Змеем Бога-громовержца, поэтому конкретное воплощение последнего было естественным адресатом молитв об успехе в подобном деле: «Только к нему мы обращаемся за дружбой, / К нему — за богатством, к нему — за героической силой — / И он, могучий, должен постараться для нас, / Индра, наделяющий добром. / (Загон с коровами,) легко открываемый, легко опустошаемый, — / О Индра, (это) отличие, даваемое только тобой! / Открой загон с коровами!» (tám ít sakhitvá īmahe / táṃ rāyé táṃ suvī́riye / sá śakrá utá naḥ śakad / índro vásu dáyamānaḥ / suvivŕtaṃ sunirájam / índra tvā́dātam íd yáśaḥ / gávām ápa vrajáṃ vrdhi) (РВ 1.10.6—7). В «Ригведе» возносящие молитвы Индре воины уподобляют себя змееборцу Трите: «Мы хотим получать выгоду, побеждая с твоей помощью / Вместе с арием всех врагов-дасью! / Это для нас тогда ты отдал во власть Вишварупу, / Сына Тваштара, во власть Триты из круга (наших) друзей» (sánema yé ta ūtíbhis táranto / víśvā spŕdha ā́riyeṇa dásyūn / asmábhyaṃ tát tvāṣṭráṃ viśvárūpam / árandhayaḥ sākhiyásya tritā́ya) (РВ 2.11.19).
В греческом языке второй компонент ПИЕ выражения *gʷōs h2eǵ- (гр. ἄγω) оказался вытеснен глаголом ἐλαύνω, вследствие чего выражение «угонять скот» приняло вид βοῦς ἐλαύνω. Примечательно, однако, что для описания захвата женщины Гомер использует всё-таки производное от ПИЕ h2eǵ-. Собираясь отобрать у Ахилла троянскую пленницу, Агамемнон заявляет: «Брисеиду сам увлеку я» (ἐγὼ δέ κ᾽ ἄγω Βρισηΐδα) (Ил. 1.184). В «Авесте» Траэтаона молится, чтобы после победы над Ажи Дахакой ему «увести его двух любимых жён» (he vaṇta azāni) (Яшт 5.34). Это совпадение между греческим и иранским свидетельствами предполагает, что захват женщин у индоевропейцев обозначался тем же самым глаголом h2eǵ-, что и захват скота.
Гесиод использует выражение βοῦς ἐλαύνω в рассказе о победе Геракла над Герионом, внуком Медузы через Хрисаора: «Этот Хрисаор родил трёхголового Герионея, / Соединившись в любви с Каллироею Океанидой. / Герионея того умертвила Гераклова сила / Возле ленивых коров на омытой водой Ерифее. / В тот же направился день к Тиринфу священному с этим / Стадом коровьим Геракл, через броды пройдя Океана» (Χρυσάωρ δ᾽ ἔτεκεν τρικέφαλον Γηρυονῆα / μιχθεὶς Καλλιρόῃ κούρῃ κλυτοῦ Ὠκεανοῖο. / τὸν μὲν ἄρ᾽ ἐξενάριξε βίη Ἡρακληείη / βουσὶ παρ᾽ εἰλιπόδεσσι περιρρύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ / ἤματι τῷ ὅτε περ βοῦς ἤλασεν εὐρυμετώπους / Τίρυνθ᾽ εἰς ἱερὴν διαβὰς πόρον Ὠκεανοῖο) (Теогония, 287—292) (здесь и далее «Теогония» Гесиода цитируется обычно в переводе Викентия Вересаева). Победа сына Бога-громовержца над трёхголовым внуком «змеистой» Медузы Горгоны с целью угона его скота является очевидным отражением всё того же индоевропейского змееборческого мифа.
Выражение βοῦς ἐλαύνω Пиндар использует, повествуя о том же событии (фр. 169а6—8), а гомеровский Гимн к Гермесу — о похищении новорожденным Гермесом коров Аполлона (101—107). В «Илиаде» его употребляет Ахилл, заявляющий Агамемнону: «Предо мною ни в чем не виновны трояне: / Муж их ни ко́ней моих, ни тельцов никогда не похитил; / В счастливой Фтии моей, многолюдной, плодами обильной» (ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν: / οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους, / οὐδέ ποτ᾽ ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ) (Ил. 1.153—155).
Описание угона скота (βοηλασία), которое Гомер вкладывает в уста предающегося воспоминаниям пилосского царя Нестора, способно дать представление о подобных событиях индоевропейской древности: «Если бы молод я стал и могучестью крепок, как прежде, / В годы, когда возгорелася распря меж нас и элеян, / Хищников стада; когда Гипирохова мощного сына / Я поразил Итимонея, жившего в злачной Элиде, / И отбил всё возмездие: стадо своё защищая, / Он поражён меж передними бурною пикой моею; / Пал, и мгновенно рассыпались сельские ратники в страхе. / Мы от элеян добычу богатую с поля погнали: / Овчих ватаг пятьдесят и столько же гуртов воловых, / Столько же стад и свиных, и бесчисленных козьих, и с ними / Конский табун захватили мы, сто пятьдесят светломастных / Всё кобылиц, и при многих прекрасные были жребята» (εἴθ᾽ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη / ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη / ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ᾽ ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα / ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε, / ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος: ὃ δ᾽ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν / ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι, / κὰδ δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. / ληΐδα δ᾽ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν / πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν, / τόσσα συῶν συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, / ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα / πάσας θηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν) (Ил. 11.670—681).
Рассмотренные данные позволяют реконструировать общеиндоевропейский миф, в котором Бог-громовержец (*dyews) или связанный с ним герой убивает (*gʷʰen-) многоголового Змея (*ogʷʰis), представляющего враждебный индоевропейцам мир, и угоняет (*h2eǵ-) его коров (*gʷōs). В V — IV тыс. до н.э. скот являлся главным богатством индоевропейцев, а естественным способом его пополнения должны были быть набеги верхом на конях на соседние племена неолитических земледельцев — трипольцев на Правобережной Украине и майкопцев на Северном Кавказе. Такого рода набеги осмыслялись как отнятие богатства у несправедливо владеющей им чуждой враждебной силы, олицетворяемой Змеем.
Начало индоевропейских завоеваний
Среднестоговская культура

Социальное расслоение и милитаризация привели к бурной экспансии индоевропейцев, которая началась в середине V тысячелетия до н. э. Около 4500 г. до н. э. Днепро-Донецкая культура мезолитических охотников-собирателей и ранних скотоводов в междуречье Днепра и Донца сменяется новой — Среднестоговской, которая обнаруживает явные черты сходства с Хвалынской. Это сходство проявляется в керамике (круглодонные горшки с примесью ракушек вместо плоскодонных с примесью песка), погребениях на спине с подогнутыми ногами головой на восток или северо-восток, иногда окружённых кругом из камней с земляной или каменной насыпью (первые курганы), переходе от коллективных захоронений к индивидуальным и т. д. Погребальный инвентарь небогат, из вещей чаще всего встречаются кремнёвые лезвия. По сравнению с днепро-донецкими, на среднестоговских поселениях в 2 раза больше конских костей (в среднем 54%). Отмечаются изменения и в антропологии — черепа среднестоговцев более грацильны, чем массивные днепро-донецкие, и сходны с хвалынскими. Таким образом, есть основания предполагать вторжение на Днепр племён из волжско-донского региона, по всей видимости, верхом на конях.

Данное предположение полностью подтверждается генетикой. На настоящее время исследованы останки двух мужчин Среднестоговской культуры — одного из хутора Александрия Купянского района Харьковской области, расположенного на левом берегу реки Оскол, другого из села Дереивка Кировоградской области на правом берегу Днепра (могильник, откуда происходят эти останки, теперь залит водами Каменского водохранилища). У мужчины из Александрии были обнаружены мужская гаплогруппа R1a-M417 (предковая как для балтославянской линии Z282+, так и для индоиранской линии Z93+) и женская гаплогруппа H2a1a, у мужчины из Дереивки — мужская гаплогруппа R1b1a и женская гаплогруппа U4a. Показательно, что обе эти мужские гаплогруппы присутствовали уже у похороненных на несколько столетий раньше в могильнике Хвалынск II. То же касается и женских гаплогрупп — H2a1 среднестоговца из Александрии была найдена у хвалынца с R1b1, а U4a среднестоговца из Дереивки — предположительно у хвалынца с Q1a. Окончательно на вопрос о происхождении среднестоговцев отвечают аутосомные гены — у обоих из них присутствует (а у индивида с R1a — преобладает) индоевропейский «ямный» генетический компонент, отсутствовавший у более ранних охотников-собирателей Днепро-донецкой культуры. Следовательно, среднестоговцы были потомками хвалынцев.
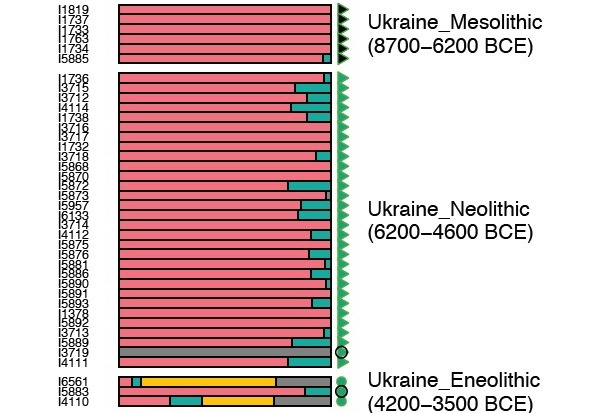
Культурный горизонт Суворово-Новоданиловка
Распространение индоевропейцев через степные пространства на юго-запад вдоль черноморского побережья отмечает культура Суворово (4300—4000 гг. до н.э.), представляющая собой продолжение Новоданиловской культуры и обычно объединяемая с ней в культурный горизонт Суворово-Новоданиловка. Культура получила своё название по могильнику, раскопанному близ посёлка Суворово (ныне Штефан-Водэ) в Молдавии. Она была распространена на северо-западном побережье Черного моря и в нижнем Подунавье вплоть до Северо-восточной Болгарии.
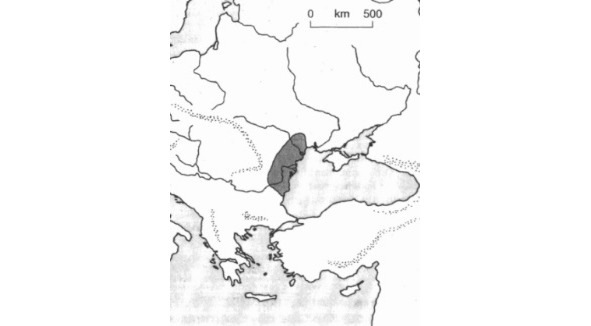
Суворовская культура известна только по своим захоронениям. Всего обнаружено 35—40 её могильников, большинство из которых содержат меньше десяти захоронений, а некоторые всего по одному, что свидетельствует о продолжающейся индивидуализации индоевропейского общества. В отличие от области Новоданиловской культуры в днепро-азовской степи, где обычными были каменные насыпи над могилами, а курганы возводились редко, носители культуры Суворово в дунайской дельте предпочитали насыпать над своими мёртвыми курганы, окружённые кольцами из больших камней (кромлехами). Могильные ямы были обычно прямоугольными, иногда овальными. Покойников, как правило, хоронили на спине с подогнутыми ногами, головой на восток или северо-восток. Тело и пол могилы обычно посыпали охрой. Могильная камера могла покрываться брёвнами или каменными плитами. Все эти черты унаследованы из восточных степных культур. Из них же были унаследованы скипетры и булавы, обнаруживаемые в суворовских погребениях на территории нынешних Молдавии, Румынии, Болгарии, Македонии и Трансильвании.
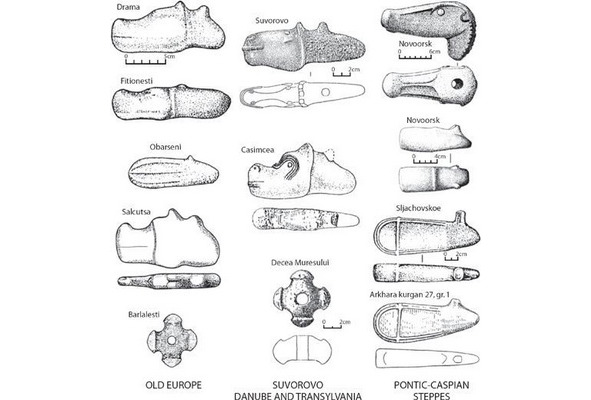
Суворовцы пользовались керамикой, изготовленной земледельцами культур Триполье и Гумельница, иногда также и посудой степного типа. В их погребениях нередко встречаются орудия и оружие из кости, камня и меди и медные украшения. Медные изделия Суворово были балканскими импортами, изготовленными из меди, добытой на месторождениях в Болгарии, которые прекратили свою работу ок. 4000 г. до н. э. По-видимому, суворовцы получали их у земледельцев дельты Дуная путём торговли или войны. Из оружия в их погребениях чаще всего встречаются кремнёвые кинжалы, которые обычно вкладывали в руку покойному, и топоры, которые клали рядом с его головой.
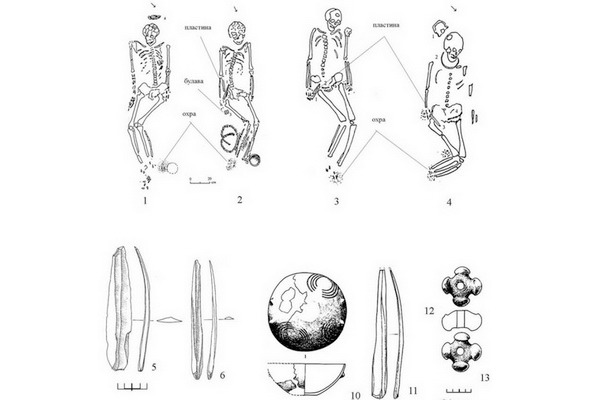
Самое известное суворовское погребение было исследовано близ посёлка Суворово, давшего название всей культуре. Содержавший четыре погребения курган был обнесён кругом из камней метровой высоты диаметром 13 м. Внутри кургана имелись два меньших каменных круга с захоронениями. Одно индивидуальное захоронение было сделано вне кругов, ещё одно — внутри одного из кругов. Внутри другого круга в глубокой прямоугольной камере, обложенной камнями, с посыпанным красной охрой полом были похоронены мужчина и женщина. Они лежали на спине с подогнутыми ногами головой на восток. На живот мужчины был положен конеголовый скипетр из порфира, рядом лежали кинжал из кремня, топор и медное шило. У женщины имелись ожерелье из раковин, пояс из перламутра и скребок из кремня. Очевидно, что в Суворовском кургане был погребён индоевропейский военный вождь вместе со своей (принесённой в жертву?) женой или наложницей.
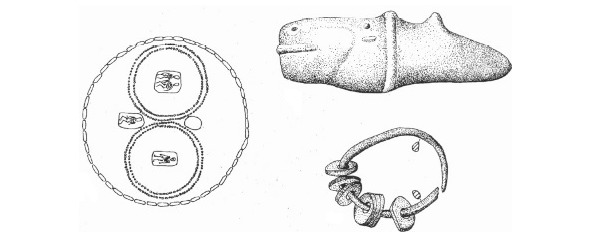
Примечательное погребение культуры Суворово в Джурджулешты у устья Прута в Кагульском районе Молдавии содержало пять захоронений, расположенных вокруг жертвенника с сожжёнными костями животных и покрытых курганом. В одной из могил находились останки мужчины, в другой — женщины, ещё в трёх — детей. Все они были уложены на спину с подогнутыми ногами и посыпаны охрой. Над могилой мужчины были положены три конских и две бычьих головы вместе с задними конечностями. Мужчина 20—25 лет был похоронен в яме глубиной 5 метров. У его левого плеча лежало оружие, представляющее собой костяной стержень длиной 60 см с 28 кремнёвыми лезвиями (наконечник копья или меч?), у правого плеча — костяной наконечник копья длиной 14,5 см, там же лежал костяной жезл длиной 40 см с тремя накладками из золота и бронзовый четырёхгранный кинжал. В правой руке погребённого лежал кремнёвый кинжал длиной 24 см, а между бедренными костями — костяной предмет фаллической формы длиной 23,5 см. Его голова была украшены височными подвесками из собранных в многовитковые спирали бус из раковин и многовитковыми спиральными кольцами из золота и меди. В захоронениях женщины и детей находились 19 медных спиральных браслетов и 5 пекторалей из кабаньих клыков, одна из которых была покрыта листовой медью, а также множество бус из меди, раковин и оленьих зубов. Суворовский военный вождь, похороненный в Джурджулешты, был, возможно, также жрецом.
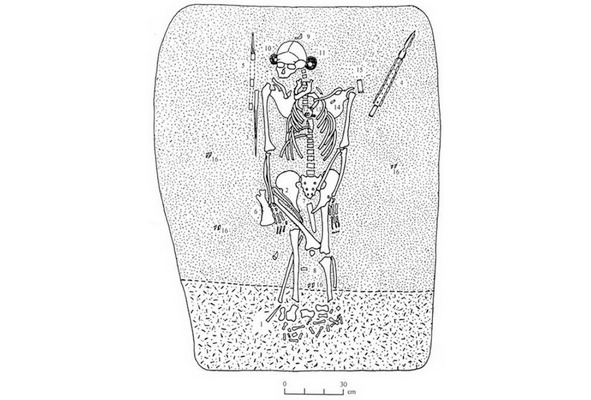
Ещё одно известное суворовское погребение, находившееся уже к югу от Дуная — в Казимче (румынская Добруджа), представляло собой курган, под которым был захоронен на посыпанном охрой полу камеры мужчина, лежавший на спине с подогнутыми ногами. В загробный мир его сопровождали конеголовый скипетр из порфира, 5 топоров из кремня, 15 наконечников копий или дротиков и 3 кинжала.
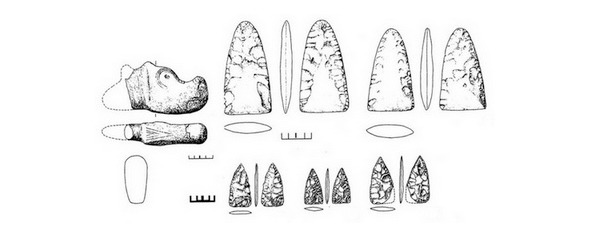
Очевидно, что суворовцы были индоевропейскими степными скотоводами, которых привлекли на Нижний Дунай его пастбища, а также медь и иные богатства неолитических земледельческих культур Балкан («Старой Европы» по определению Марии Гимбутас), переживавших в 4400—4200 гг. до н.э. пик своего расцвета. Возможно, первоначально они вступали с ними в торговые отношения, предлагая за их изделия продукты своей скотоводческой экономики, а потом переходили к набегам и завоеваниям.
Ок. 4200 г. до н.э. внезапно прекратила своё существование земледельческая культура Болград. Все 30 её известных поселений к северу от Дуная были покинуты и сожжены. Судя по тому, что почти всё своё имущество болградцы унесли с собой, эвакуация была плановой. В последующие столетия сходная судьба постигла других их неолитических собратьев. В 4200—3900 гг. до н.э. были покинуты и сгорели более 600 поселений земледельческих культур Гумельница, Караново и Варна в долине нижнего Дуная и Восточной Болгарии. Иногда причину этого видят в похолодании, имевшем место в балканском регионе на рубеже пятого и четвёртого тысячелетий до н. э. Похолодание, безусловно, должно было ослабить земледельческие экономики Старой Европы, однако без разрушительного воздействия степных пришельцев обойтись тоже не могло.
Наряду с южным путём индоевропейской экспансии археологические памятники свидетельствуют также о западном пути, который вёл через Трансильванское плато вниз по долине реки Муреш в Восточную Венгрию, но он не оказал на местные культуры такого большого влияния, как южный.
Происхождение хеттов
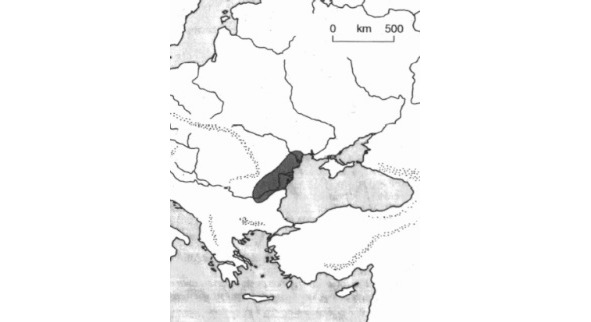
На месте культуры Гумельница в Молдавии и Восточной Румынии возникла культура Чернаводэ I (4000—3600 гг. до н.э.), сочетавшая в себе земледельческие и степные элементы. В отличие от предыдущего неолитического населения, жившего в больших неукреплённых городах на равнинах, её носители жили в небольших укреплённых поселениях, расположенных на возвышенностях. Среди керамики культуры Чернаводэ I встречаются своеобразные кружки с двумя ручками, в которых видят первое свидетельство об употреблении опьяняющих напитков — по всей видимости, мёда.
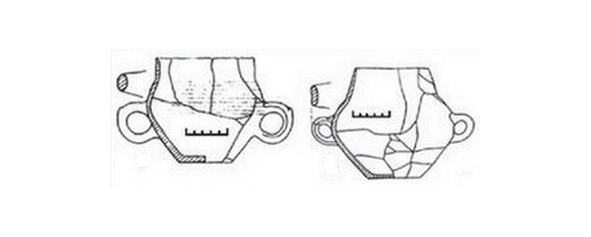
Для праиндоевропейского языка восстанавливаются слова со значением «пчелиный мёд» — *mélit (> хет. militt-, лув. mallit-, гр. μέλι (род. п. μέλιτος), лат. mel, др.-ирл. mil, гот. miliþ, арм. mełr) и «медовый напиток» (с расширением в ряде языков значения на вино и пчелиный мёд) — *médʰu (> гр. μέθυ «вино», тох. В mit «пчелиный мёд», индоар. mádhu «пчелиный мёд, вино», авест. maδu «вино», согд. mδw «вино», фарси may «вино», др.-ирл. mid «медовый напиток», др.-ирл. medb «опьянённый», вал. meddw «опьянённый» (<пракельт. *medhwo-), др.-сканд. mjǫðr «медовый напиток», лит. medùs «пчелиный мёд», mìdus «медовый напиток» (заимств. из готского?), латв. medus «пчелиный мёд, медовый напиток», рус. мёд). Хеттская форма второго слова может быть отражена в названии города Midduwa, который в новохеттскую эпоху назывался Meliddu (современная Малатья). Мёд был главным напитком на пирах индоевропейцев, служивших важным средством сохранения и распространения индоевропейской культуры.
Основными домашними животными культуры Чернаводэ I были овцы и козы, однако в этот же период в долине нижнего и среднего Дуная в составе стад впервые появляются кони. Культура Чернаводэ I развилась в культуру Чернаводэ III (3600—3200 гг. до н.э.), родственную Баден-Болераз — крупному и влиятельному культурному горизонту с центром в Венгрии, ответственному за распространение коневодства в Средней Европе. В 3500—3000 гг. до н.э. кони стали появляться в больших количествах на поселениях за пределами южнорусских степей. Так, около 3000 г. до н.э. кости лошади составляли до 10—20% на поселении Бернберг в Центральной Германии и более 20% на поселении Гальгенберг в Баварии.
Наиболее правдоподобно отождествление племён, создавших культуры Суворово-Новоданиловка и Чернаводэ, с носителями праанатолийского языка, первыми отделившимися от индоевропейской общности. Следующим этапом их продвижения к Анатолии была, по всей видимости, культура Езеро на территории нынешней Болгарии (3300—2700 гг. до н.э.). Её укреплённые поселения возникли на месте городов неолитических земледельцев, покинутых в 4000—3700 гг. до н. э. С Езерской культурой связано начало на Балканах металлургии бронзы (представлявшей первоначально сплав меди с мышьяком), сменившей медную металлургию неолитических земледельцев. В керамике, домостроительстве и других чертах культура Езеро имеет сходство с культурой Трои I, основанной ок. 3000 г. до н. э. Возможно, возникновение Трои отмечает приход в Анатолию носителей анатолийской ветви индоевропейских языков, окончательный ответ на вопрос о времени которого (в виде «степного» генетического компонента) сможет со временем дать палеогенетика.

Появление одомашненного коня на Ближнем Востоке
Самыми ранними письменными свидетельствами о пребывании хеттов в Анатолии являются аккадоязычные документы XX — XVIII вв. до н.э. ассирийского карума (торговой колонии) в городе Канеше (хет. Неса), будущей первой столице Хеттского царства. Эти тексты содержат в качестве местных заимствований вообще самые ранние письменно зафиксированные слова на индоевропейском языке. В их число, помимо хеттских и лувийских имён собственных, входят такие лексические заимствования из хеттского в ассирийский диалект аккадского, как išḫiullum — от хет. išḫiul- «договор» (<ПИЕ *seh2- «связывать») и išpattallum — от. хет. išpantalla- «ночной дозор», от išpant- «ночь» (<ПИЕ *kʷsp-ent-> вед. kṣap-, авест. xšapan-/xšafn-).
Тексты ассирийского карума упоминают одного из приближённых хеттского царя Канеша, носившего звание «старший над конями». Всего это звание встречается четыре раза — два раза в выражении GAL (rabī) sí-sí-e («старший над конями») и по одному разу в выражениях É (bīt) GAL (rabī) sí-sí-e («дом старшего над конями») и DAM (aššat) GAL (rabī) sí-sí-e («жена старшего над конями»). Эти выражения содержат 4 древнейших упоминания аккадского слова sīsûm «конь» (во всех четырёх случаях написанного силлабически, что свойственно для заимствованных слов), которое, как и ряд других названий коня в языках Ближнего Востока, имеет индоевропейское происхождение.
Наиболее вероятным источником для древних ближневосточных слов, которые означают одомашненного коня, засвидетельствованных в хурритском, семитских, шумерском и египетском языках, является лувийское слово, которое могло произноситься как *assu-, *aššu- или *azzu-.
Ближайшими соседями лувийцев были хурриты. Хурритское слово со значением «конь» засвидетельствовано несколькими текстами из Богазкёя (хеттской столицы Хаттусы). В хеттско-хурритско-лувийском тексте, представляющем собой молитву о благополучии коней, шумерограмме ANŠE. KUR. RAḪI. A («кони») в лувийском варианте соответствует хурритское слово в дат. п. мн. ч. iš-ši-ya-na-a-ša (iššiyanaša) (CTH 285, 1 Vs. 1), по которому можно установить основу iššiy-. Однако другие тексты из Богазкёя всегда дают в этом слове начальное е с полным написанием: e-eš-še-e-ne-e-eš (эрг. п. ед. ч.), e-eš-še-ni-e- (абс. п. ед. ч.), (e) -eš-ši-ra (комит. п.). На этом основании можно установить хурритскую основу слова «конь» как ešši-. Выяснить произношение соответствующего слова в родственном хурритскому урартском языке не представляется возможным, поскольку оно всегда скрыто за шумерограммой. Источником хурритского слова могло послужить лувийское слово в его близкой к праанатолийскому форме (*eḱḱu-).
По-видимому, из того же источника происходит аккадское слово sīsû (m) (с метатезой пралув. Vssw> акк. sVsw), засвидетельствованное впервые, как уже упоминалось, документами из ассирийских торговых колоний в Анатолии XX—XVIII вв. до н. э. Столь ранняя письменная фиксация этого термина исключает его предполагаемое иногда заимствование из языка митаннийских ариев (ср. индоар. aśva-), появившихся на Ближнем Востоке только в XVIII в. до н. э. Примечательно, что в ряде аккадских документов II — нач. I тыс. до н.э. в качестве источника коней упоминается город Харсамна, находившийся где-то в Восточной Анатолии, возможно, в лувийскоязычной области. В других семитских языках аккадскому sīsû (m) соответствуют эблаитск. SU.SUM6 (= su-su-um), угаритск. ssw или śśw, финик. ss, евр. sūs (обе согласных буквы — самех), набатейск. и пальмирск. swsy и арам. sūsyā. Во всех северо-западно-семитских языках, огласовывающих первый слог на письме, в этом слоге имеется гласный u в отличие от аккадского i. Данное явление можно объяснить метатезой (акк. s-s-w> сев.-зап.-сем. s-w-s). Самым ранним отражением северо-западно-семитской формы является ханаанейская глосса sú-ú- [x x] (sú-ú- [sí-ma] = sūsīma) к шумерограмме ANŠE.<KUR>.MEŠ («кони») в одном из амарнских писем XIV в. до н.э. (EA 263:25).
Примечательно наличие в западно-семитских языках собственного названия для коня — евр. pārāš, арам. parrāšā, араб. farasun, эф. faras, которое возводится к празап.-сем. paraš-. Это слово могло означать дикую лошадь, реликтовые популяции которой, по некоторым сведениям, обитали в V—IV тыс. до н.э. в Северной Сирии и в пустыне Негев, либо же оно могло быть перенесено на коня с какого-то другого эквида: ср. отражение хамито-сем. pVrd- «осёл, мул» (акк. perdum, евр. pered) в кушитских языках Эфиопии и Эритреи как farda «конь».
В шумерском языке имеется несколько терминов для эквидов, хотя их точное значение не всегда ясно. Первые идеограммы с подобным значением появляются уже в текстах из Джемдет-Наср (3100—2900 гг. до н.э.). Исконным для Шумера эквидом был онагр (Equus hemionus). Осёл (Equus africanus asinus), как упоминалось ранее, является по происхождению африканским животным. Дикий африканский осёл был одомашнен где-то в Северо-восточной Африке в конце V тыс. до н.э. в качестве источника мяса и молока и уже в IV тыс. до н.э. использовался в Египте для езды и перевозки грузов. В Абидосе была обнаружена гробница одного из фараонов I династии, которого, помимо 200 слуг, в загробный мир сопровождали 10 ослов, имевших на костяках следы использования в качестве верховых или вьючных животных. Осёл был идеален для таких целей в условиях полупустыни. В Южном Леванте глиняные фигурки ослов с корзинами появляются ок. 3000 г. до н. э. Примерно в это же время ослы попадают в Месопотамию.
По-шумерски осёл назывался ANŠE, то же слово могло использоваться и как название для других известных шумерам эквидов — онагра и, позднее, коня, а также шести видов их гибридов. Собственно онагра шумеры называли ANŠE.EDIN.NA, т.е. «степной осёл». О хозяйственном использовании не поддающихся приручению онагров шумерские тексты ничего не говорят. По всей видимости, самцы онагров отлавливались и использовались для скрещивания с самками ослов и получения послушных и выносливых мулов, которые назывались ANŠE.BARxAN (читалось как anše-kunga). Термины ANŠE.EDIN.NA и ANŠE.BARxAN появляются в шумерских текстах в Раннединастический период IIIa (2600—2500 гг. до н.э.). Ослы и мулы применялись в сельскохозяйственных работах, а также запрягались в повозки, в т.ч. боевые. Не вполне понятным остаётся смысл шумерских терминов ANŠE.ŠUL.GI и ANŠE.LIBIR, обозначавшиеся которыми животные также использовались в сельскохозяйственных работах и как транспортные средства.
Одним из названий коня в шумерском языке было ANŠE. KUR. RA, т.е. «горный осёл» или «чужеземный осёл». Если не считать единичного упоминания упряжки ANŠE. KUR в одном из текстов из Джемдет-Наср (3100—2900 гг. до н.э.), которое может иметь в виду другого эквида, оно входит в употребление в эпоху III династии Ура (XXI в. до н.э.). Возможно, самый ранний случай его использования засвидетельствован в гимне А шумерского царя Шульги (2094—2047 гг. до н.э.). Хвалясь тем, с какой скоростью он преодолел путь из Ниппура в Ур (ок. 80 миль), Шульги заявляет о себе: «Я — конь, машущий хвостом на дороге» (ANŠE. KUR. RA ḪAR.RA.AN.NA KUN.SUD.SUD.ME.EN) (A.17). В тексте посвящения статуи Энлиля царём Исина Ишме-Даганом (2-я пол. XX в. до н.э.) встречается та же самая фраза, но ANŠE. KUR. RA в ней заменён на ANŠE. SÍ. SÍ: « [Ишме-Даган] — конь, машущий хвостом на дороге» (ANŠE. SÍ. SÍ ḪAR.RA.AN.NA KUN.SUD.SUD. [X]) (S.17).
Слово ANŠE. SÍ. SÍ входит в широкое употребление в шумерских текстах в эпоху Исина-Ларсы (XX—XVIII вв. до н.э.). По всей видимости, компонент SÍ. SÍ в нём фонетически воспроизводит аккадское название коня sīsû (m) (кроме того, шумерская идеограмма SÍ (ZI) означает, в частности, «живой», и сочетание её удвоенной формы со словом ANŠE могло пониматься шумерами как «очень живой», т.е. «очень быстрый» осёл). Таким образом, шумерское отражение аккадского слова sīsû (m) фиксируется на письме примерно одновременно с письменной фиксацией самого этого слова в документах ассирийских торговых колоний в Анатолии.
В Египте кони впервые появляются в гиксосскую эпоху (XVIII—XVI вв. до н.э.). Датировка конского костяка со следами удил на зубах, найденного на кирпичном валу крепости времён Среднего царства в Бухане рядом со Вторым порогом Нила, не вполне ясна. Он может относиться ко времени повторного завоевания Нубии египтянами в начале XVIII династии. Самым ранним надёжным свидетельством присутствия лошадей являются два конских зуба, обнаруженные при раскопках гиксосской столицы Авариса (совр. Тель-эд-Дабаа). Они датируются 1650—1600 гг. до н. э. К первой половине XVI в. относится недавно найденное захоронение кобылы рядом с тронным залом во дворце гиксосских царей в Аварисе. По всей видимости, это животное было любимой лошадью кого-то из семитских правителей Дельты.

В конце гиксосской эпохи египетское слово ḥtr, ранее обычно обозначавшее упряжку быков, стало обозначать также упряжку лошадей. Собственно слово ssmt «конь» появляется на письме уже в послегиксосское время. Впервые оно засвидетельствовано в надписи из гробницы приближённого фараона Яхмоса I — Яхмоса сына Эбаны (2-я пол. XVI в. до н.э.). Египетское название лошади является общепризнанным заимствованием семитского слова — вероятно, в форме двойственного числа (*sūsaym) с добавленным показателем собирательности -t. Слово ssmt получило широкое распространение в египетском языке Нового царства, но вышло из употребления после 3-го промежуточного периода (X—VIII вв. до н.э.), уступив место в значении «конь» производному древнеегипетского слова ḥtr (копт. hto).
В целом можно сказать, что, хотя некоторые детали остаются не совсем ясными, индоевропейское происхождение названия (одомашненного) коня в языках древнего Ближнего Востока устанавливается достаточно надёжно.

КОЛЕСО
Индоевропейская транспортная терминология
Для праиндоевропейского языка после отделения анатолийского (4000—3000 гг. до н.э.) достоверно восстанавливаются 10 терминов, связанных с гужевым транспортом (означающие упряжь, оглоблю, иго, воз, вожжи, ступицу, ось и колёса). 3 из этих терминов (означающие упряжь, оглоблю и иго) засвидетельствованы также в анатолийском, отделившемся незадолго до 4000 г. до н.э.
Название упряжи (ига или сочетания ига и оглобли) восстанавливается для ПИЕ в форме *dʰwer- на основании таких его рефлексов, как хет. tūriye- «упряжь», тох. А turs-ko «тягловый бык», тох. В trusk- «упряжь», индоар. dhúr «упряжь» (обычно yugám + īṣā́), dhúrya- «упряжное животное» и гр. θέραψ «слуга, соратник» (если это слово восходит к ПИЕ *dʰwer-ap-, букв. «пристёгнутый к упряжи»). В отличие от *yugóm, слово *dʰwer- является непроизводным корневым именем, в основе которого не лежит никакой известный глагольный корень, поэтому оно может быть более древним.
Рефлексы ПИЕ слова *yugóm «иго» представлены почти во всех ветвях индоевропейской семьи языков — хет. yukan, гр. ζυγόν, лат. iugum, др.-вал. iou, англ. yoke, лит. jùngas, арм. luc, авест. yugam, индоар. yugám и др. Церк.-слав. иго (мн. ч. ижеса) и другие славянские рефлексы восходят к форме *yuges-, которая засвидетельствована также в германском (гот. jukuzi, др.-англ. gycer). Слово *yugóm произведено от ПИЕ глагольного корня *yewg- «соединять, запрягать» и не является по своей морфологии архаичным, однако его древность удостоверяется тем фактом, что оно представлено во всех индоевропейских языках кроме тохарского и албанского, в том числе в таких, где отсутствует исходный для него глагол *yewg- (например, в хеттском).
Обозначавшее оглоблю слово восстанавливается для ПИЕ как *h2éyos (род. п. *h2isós). Его форма среднего рода *h2éyos дала праслав. *oje (род. п. *ojese), от которого произошло слово ср. р. воё (варианты — войé, войё), сохранившееся в южнорусских говорах. Основа косвенных падежей *h2is- его формы женского рода (собирательной) *h2éyōs дала хет. ḫišša- и индоар. īṣā́. К его производному *h2oysá- восходят прагерм. *aizṓ- (> др.-сканд. ār «весло», англ. oar «весло»), прабалт. *aisa- или *aisō- (заимствованное в финский язык как aisa «оглобля») и авест. aēša- «оглобли (плуга)». Как и в германском, в греческом это слово приобрело морское значение — οἰήϊον «кормило» (тж. οἴαξ «петля или кольцо для вожжей»).
Наличие в раннем ПИЕ языке, ещё включавшем анатолийский, слов для упряжи, ига и оглобли свидетельствует об использовании тягловых животных, однако, судя по отсутствию слова со значением «колесо», такие животные запрягались пока только в плуги, волокуши или сани.
В более позднем хеттском колесо называлось словом ḫurki-, восходящим к ПИЕ глагольному корню *h2werg- «вертеться». К тому же корню восходят слова для обозначения колеса в тохарских языках (тох. А wärkänt, тох. В yerkwanto <пратох. *h2wrgi-wnto-on-/*h2wērgi-wnto-on- «имеющий вид колеса»), ср. тж. тох. В yerter «обод колеса» (<*h2wērg-tor-). На этом основании можно было бы восстановить ПИЕ слово *h2wrgis «колесо», однако наличие его рефлексов лишь в двух ветвях индоевропейской семьи и использование разных суффиксов свидетельствуют скорее о независимом образовании в эпоху уже после распада праиндоевропейского языка.
Ранний «бесколёсный» этап ПИЕ можно отнести к V тыс. до н.э. и поместить в область Самарской и Хвалынской археологических культур на Средней и Нижней Волге.
Теперь рассмотрим термины гужевого транспорта, восстанавливаемые для ПИЕ после отделения анатолийского. Этот этап классического праиндоевропейского языка надёжно отождествляется с Ямной археологической культурой, произошедшей из поздней Хвалынской и распространившейся с 3500 г. до н.э. на землях от Урала до Днепра и дальше. Значение «везти» передавалось в нём при помощи глагольного корня *weǵʰ-, рефлексы которого имеются в тохарских, индо-иранских, балто-славянских, кельтских, германских, греческом и латинском языках. Разными способами от него образовывались слова со значением «повозка», одним из которых было *wóǵʰ-o-s, к которому восходят, в частности, русское слово воз и греческое слово (ϝ) όχος «колесница», засвидетельствованное уже микенским wo-ka «колесница». С суффиксом -no- этот корень дал названия повозки в кельтском (др.-ирл. fēn) и германском (нем. Wagen), с суффиксом -tlo- — в индоарийском (váhitram) и латинском (vehiculum).
Везущими повозку животными управляли при помощи вожжей, праиндоевропейское название которых можно восстановить как *h2ensiyo-/*h2ensiya- на основании мик.-гр. мн. ч. a-ni-ja «вожжи», a-ni-jo-ko «возница», букв. «держащий вожжи», др.-гр. мн. ч. ж.р. ἡνίαι, мн. ч. ср. р. ἡνία (дор. ἁνία/ἀνία) «вожжи» (<*ἀνσία), ἡνίοχος «возница» и др.-ирл. мн. ч. ēis (s) i/ēis (s) e «вожжи» (<*ansio-). Сюда же предположительно относится индоар. nāsyam «нахрапник», в котором начальное ān- могло быть заменено на nā- под влиянием слова нос. В более далёкой перспективе это слово родственно ПИЕ *h2ensa- «рукоять» (> лат. ānsa, лит. ąsà), образованному от незасвидетельствованного глагольного корня *h2ens- «держать, править», который может быть также источником ПИЕ слова со значением «правитель, царь» и позднее «бог» (ПИЕ *h2ensus> хет. ḫaššu- «царь», авест. aŋhu-, ahura- «господин, бог, ахура», индоар. asu-, asura- «господин, бог, асура», др.-сканд. ōss, мн. ч. æsir «бог, ас»).
Колёса соединялись с повозкой при помощи оси, называвшейся словом *aḱs-, рефлексами которого являются индоар. ákṣa-, гр. ἂξων, лат. axis, нем. Achse, лит. ašìs, рус. ось и т. д. Имеются его производные на -l- с тем же значением — вал. echel, др.-сканд. ǫxull. Другие производные этого слова на -l- имеют значение «плечо» (ПИЕ *aḱsla-> лат. āla, др.-англ. eaxl), и это значение, по-видимому, является первоначальным, сохранившимся в непроизводном авестийском слове дв. ч. ašayå «плечи».
На ось колесо крепилось при помощи ступицы, называвшейся в ПИЕ языке словом *nobh- (> индоар. nábhyam, др.-прус. nabis, др.-сканд. nǫf, др.-верх.-нем. naba и др.). В некоторых языках (как, например, в прусском) это слово означало также пупок, в других пупок назывался морфологическим производным от него (напр., др.-англ. nafu «ступица»> nafela «пупок»). Очевидно, «пупок» было первоначальным значением слова *nobh-, а после его метафорического переноса на ступицу в ряде языков значение «пупок» стало передавать его производное (точно так же после переноса слова *aḱs- на ось его первоначальное значение «плечо» почти во всех индоевропейских языках перешло к его производному).
Одним из ПИЕ слов для колеса было *kʷe-kʷl-ó-m/*kʷé-kʷl-o-m (мн. ч. *kʷékʷla/*kʷekʷlá) или *kʷó-kʷl-o-s/*kʷo-kʷl-ó-s. Рефлексы первой формы имеются в индо-иранском (индоар. cakrá-, авест. caxra-), германском (англ. wheel и др. <прагерм. *hwehwula) и фригийском (κίκλην «Малая Медведица», букв. «Колесница»), второй — в греческом (κύκλος, мн. ч. κύκλα) и тохарском (в последнем оно стало означать колесницу — тох. А kukäl, тох. B kokale). Это слово было образовано от глагольного корня *kʷel- «вертеться» (присутствующего, например, в русских словах колено и член) по схеме: удвоенный корень + нулевая ступень корня + суффикс (тематический гласный -о-) + окончание числа, падежа и рода (ед. ч. им. п. ср. р. -m или м.р. -s). Подобное образование, означающее буквально «вертун», является для ПИЕ уникальным и представляет собой, по всей видимости, экспрессивный неологизм для нового изобретения.
Праславянское *koles-, от которого происходит русское «колесо», представляющее собой, вероятно, вторично консонантизированную основу (ср. ту же основу без вторичной консононтизации в церк.-сл. ед. ч. коло «колесо», мн. ч. кола «колесница»), отражает другое ПИЕ производное с о-вокализмом от того же глагольного корня *kʷel- — *kʷól-o-s, давшее также гр. πόλος «ось», лат. colus «прялка» и др.-ирл. cul «повозка, колесница». На основании др.-сканд. hvel и др.-прус. kelan «колесо» восстанавливается также форма *kʷel-o-m.
Второе ПИЕ слово для колеса *róth2-o-s засвидетельствовано в индо-иранском (где оно стало означать колесницу — индоар. rátha-, авест. raθa-), латинском (rota «колесо» или «повозка»), кельтском (др.-ирл. roth «колесо»), германском (нем. Rad «колесо»), балтском (лит. ед. ч. rãtas «колесо», мн. ч. rãtai «повозка») и албанском (rreth «обод колеса» <*róth2ikom?). В тохарском от него предположительно было произведено название для (колесничного) войска — тох. А ratäk, тох. В retke (<*róth2ikos). Слово *róth2os было образовано как обозначающее деятеля тематическое имя с о-вокализмом от глагольного корня *reth2- «бежать» (сохранившегося только в др.-ирл. rethim) и, таким образом, значит буквально «бегун».
Наличие в ПИЕ двух слов для колеса с буквальными значениями «вертун» и «бегун» свидетельствует, что племена Ямной археологической культуры были знакомы с двумя разновидностями колеса. Можно было бы предположить, что слово *kʷekʷlom / *kʷokʷlos первоначально означало тяжёлое сплошное колесо, а слово *róth2os — лёгкое колесо со спицами, однако против такого предположения свидетельствует отсутствие в ПИЕ слова со значением «спица» (такие слова индоевропейские языки образовали позднее независимо друг от друга). Кроме того, археологические свидетельства о существовании лёгкого колеса со спицами появляются только ок. 2000 г. до н.э., т.е. значительно позднее распада ПИЕ общности.
Ещё одним ПИЕ названием колеса могло быть *dʰrogʰ-ó-s, отражённое в гр. τροχός «колесо», др.-ирл. droch «колесо» и арм. durgn «гончарный круг» (<*dʰrōgʰon-, с метатезой в первом слоге). Глагольный корень *dʰregʰ-, от которого оно произведено, в греческом языке имеет значение «бежать» (τρέχω), но в качестве более раннего восстанавливается значение «тащить» (лат. trahere, англ. draw и др.). Первоначальным значением слова *dʰrogʰós в ПИЕ, по всей видимости, было «санный полоз», сохранявшееся в др.-исл. drag, др.-швед. drogh и ср.-англ. draye «санки, салазки» (в русских словах «дроги» и «дрожки» оно уже перенесено на колёсные повозки). Изменение значения с «санный полоз» на «колесо» могло произойти как ещё в ПИЕ языке, так уже и в отдельных языках после его распада, поэтому праиндоевропейский статус слова *dʰrogʰós в значении «колесо» менее надёжен, чем у двух предыдущих слов.
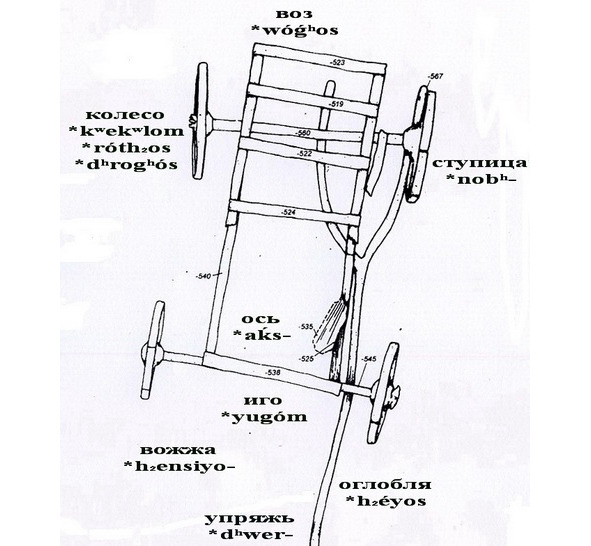
Как мы видим, вся ранняя индоевропейская терминология гужевого транспорта имеет достоверное происхождение из ПИЕ языка. В её составе удаётся восстановить 10 слов, из которых 2 (*dʰwer- «упряжь», *h2éyos «оглобля») являются нетематическими непроизводными именами, 2 (*aḱs- «ось», *nobh- «ступица») являются нетематическими именами, образованными от непроизводных путём метонимии (ось <плечо, ступица <пупок), и 6 (*yugóm «иго», *wóǵʰos «воз», *h2ensiyo- / *h2ensiya- «вожжи», *kʷekʷlom / *kʷokʷlos, *róth2os, *dʰrogʰós «колесо») являются тематическими именами, произведёнными от глагольных корней. Богатство и разнообразие индоевропейской транспортной терминологии отражают напряжённое и продолжительное экспериментирование с колёсами и колёсными повозками, что предполагает их возникновение и развитие в рамках праиндоевропейской языковой общности и исключает их заимствование ею извне. Показательным в этой связи является сравнение с соответствующей терминологией уральских языков, носители которых были ближайшими родственниками и соседями индоевропейцев.
Наиболее распространённое название колеса в балтийско-финских языках (фин., эст., карел. ratas и др.) заимствовано из балтского (прабалт. *ratas). Вепсское kezr «колесо» и его соответствия в некоторых карельских диалектах представляет перенос значения со слова «веретено» или «прялка» (имеющегося в балтийско-финских, саамских и мордовских языках), которое в свою очередь является индоиранским заимствованием. Ливское kȭr «колесо» через скандинавские языки восходит к латинскому carrus. Собственно уральским является финское слово pyörä «колесо» и родственные ему слова в эстонском, ижорском, вотском и карельском языках.
Саамское название колеса juvla заимствовано из скандинавского (ср. швед. hjul «колесо»). Сев.-саам. ráhtis и инари-саам. räätis восходят к фин. ratas, имеющему, как было сказано, балтское происхождение. Колтта-саамское слово kåå‘lez «колесо» заимствовано из русского. Уральское происхождение имеет северно-саамское название колеса jorri, являющееся причастием от глагола jorrat «катиться».
Мордовские языки пользуются древними заимствованиями из иранского (морд.-эрзя čari, морд.-мокша šari <ир. čarx) или более поздними заимствованиями из русского (морд.-эрзя kol’isa, морд.-мокша kal’osa). Название колеса в марийских языках (луг.-мар. orawa, горн.-мар. arawa) заимствовано из тюркского (ср. тат. arba). Пермские языки обычно пользуются русскими заимствованиями (удм. kol’osa, коми kõl’õsa), либо же собственными образованиями (удм. pitran <pityrany «катиться», коми gõgyl <gõg «ступица» и tyregan <tyredny «катиться»). В угорской ветви венгерское слово kerék «колесо» образовано от прилагательного kerek «круглый», а ханты и манси пользуются русским заимствованием kol’os. В самодийских языках слово для обозначения колеса вообще отсутствует.
Как мы видим, в прауральском языке не было названия для колеса. В последующем оно было заимствовано из других языков (чаще всего из русского) или независимо образовано в отдельных ветвях уральской семьи. И это касается не только колеса, но и всех вообще терминов колёсного транспорта. Так, в финском языке все пять самых распространённых названий повозок, названия оси, оглобли, ига и ступицы и даже четыре основных глагола движения представляют собой индоевропейские заимствования. Языковые данные показывают, что колёсные повозки попали к уральцам извне, от индоевропейцев. Точно так же оригинальность соответствующей индоевропейской терминологии свидетельствует о возникновении обозначаемых ею явлений внутри самой индоевропейской общности середины IV тыс. до н. э. Подобный вывод подтверждается данными археологии и генетики.
Изобретение колёсной повозки
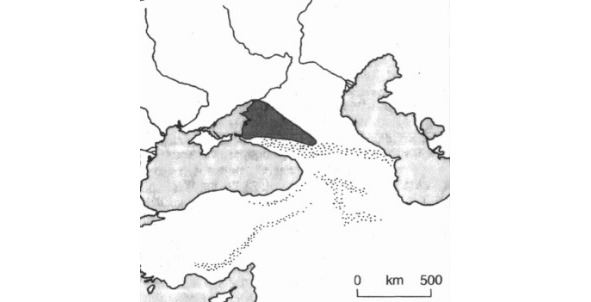
Древнейшие в мире колёсные повозки обнаружены археологами в области Новотиторовской археологической культуры, которая была распространена ок. 3300—2700 гг. до н.э. к северу от реки Кубань. Одна из них, датирующаяся временем ок. 3300 г. до н.э., была найдена в 1985 г. в станице Старокорсунской рядом с Краснодаром. Под курганом высотой 5 м находились 28 захоронений. Одно из их числа (№18) представляло собой яму с деревянным перекрытием, в которой был обнаружен скелет юноши с посыпанной охрой головой. Помимо глиняных сосудов и бронзового шила в загробный мир его сопровождала деревянная повозка, от которой сохранились остатки двух колёс диаметром ок. 60 см со ступицами диаметром ок. 18 см.

Как уже было сказано, повозка из Старокорсунской входит в число самых древних колёсных повозок в мире, все из которых происходят с территории Новотиторовской культуры. Самые древние колёсные повозки, найденные археологами в Передней Азии (которую некоторые исследователи считают местом их изобретения), позже новотиторовских по меньшей мере на полтысячелетия. Кроме того, что область Новотиторовской археологической культуры содержит самые древние в мире колёсные повозки, она содержит и наибольшее их количество в ранний период их существования.
За период 3500—2000 гг. до н.э. археологами найдены в южнорусских степях остатки примерно трёх сотен повозок. Обычно повозка имела прямоугольное основание из деревянных досок около 1 м в ширину и 2 м в длину и съёмные бока, пол мог покрываться циновками. Две оси достигали в длину 2 м, колёса имели 50—80 см в диаметре, некоторые из них были цельными, большинство же делалось из двух-трёх скреплённых частей. Вес такой повозки достигал 250 кг и больше, поэтому тягловой силой для неё должны были служить быки или волы. В захоронения повозки, как правило, укладывались в разобранном виде, колёса ставились по углам могилы.
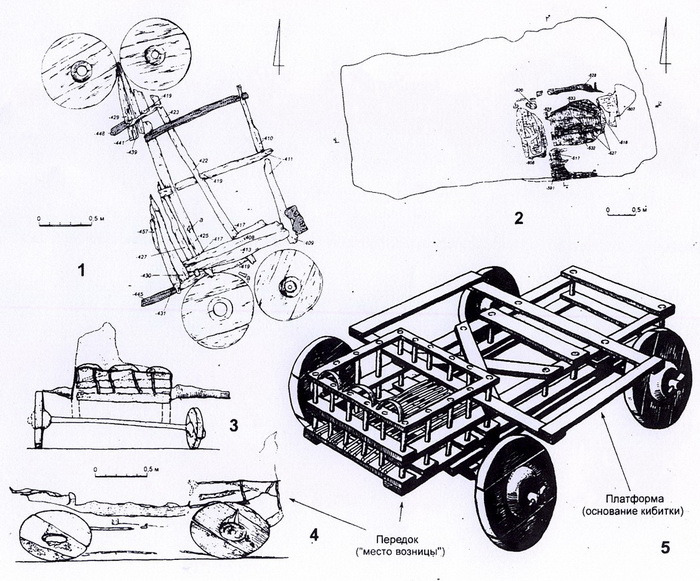
Из трёхсот подобных ранних транспортных средств, найденных в южнорусских степях, около половины приходится на территорию Новотиторовской культуры. Повозки или их части обнаруживаются примерно в каждом десятом из новотиторовских захоронений. По количеству и частоте присутствия ранних повозок в археологических памятниках данный регион значительно превосходит любой другой регион Евразии. Из этого ясно, что он играет ключевую роль в решении вопроса о месте изобретения колёсной повозки и происхождении её изобретателей.
Обычно считается, что Новотиторовская культура представляет собой региональный вариант Ямной археологической общности. Однако некоторые различия между ними позволяли ряду исследователей отделять Новотиторовскую культуру от Ямной и сближать с более южной Майкопской культурой. Решить эту проблему позволило недавнее исследование о генетической предыстории Большого Кавказа. Оно выявило, что уже с конца V тыс. до н.э. существовала чёткая генетическая граница между северными склонами Кавказского хребта и степным Предкавказьем. Люди к югу от этой границы были носителями мужских гаплогрупп L, J и G2, а по аутосомным генами представляли собой смесь местных кавказских охотников-собирателей с неолитическими земледельческими мигрантами из Анатолии. Обитатели же степного северного Предкавказья уже в середине IV тыс. до н.э. были носителями мужских гаплогрупп R1/R1b1 и Q1a2 и по ним, а также по аутосомным генам были очень сходны с представителями более ранней Хвалынской культуры, своими современниками Ямной культуры и более поздними племенами Катакомбной культуры. Столь чёткий генетический рубеж, существовавший на протяжении длительного времени, свидетельствует о строгом патрилинейном клановом сознании и, несомненно, представляет собой также и лингвистический рубеж между носителями кавказских языков к югу от неё и индоевропейцами к северу.

Таким образом, граница по Кубани между Новотиторовской и Майкопской археологическими культурами была также границей между «кавказским» и «степным» генетическими массивами, а тем самым и между кавказскими и индоевропейским языками. Новотиторовцы входили в «степной» массив, и ключевая роль региона их обитания в возникновении колёсных повозок является дополнительным свидетельством в поддержку мнения об их изобретении индоевропейцами. Из южной индоевропейской области колёсные повозки могли быть заимствованы соседними кавказоязычными носителями Майкопской и Куро-Аракской культур, а затем через них распространиться в Переднюю Азию, в пользу чего свидетельствуют лингвистические и археологические данные.
Археологически прослеживается и распространение колёсных повозок из южнорусских степей на запад. Одно из древнейших изображений повозки — с колесом, ярмом и упряжным животным — было обнаружено на металлическом котле из кургана у посёлка Эвдик близ устья Волги. Курган принадлежал Новосвободненской культуре 3500—3100 гг. до н. э. Ещё один древнейший рисунок колёсной повозки происходит с поселения культуры Воронковидных кубков в Броночице (Южная Польша), относящегося к 3500—3350 гг. до н. э. Четырёхколёсная повозка с оглоблей и ярмом была изображена на глиняном горшке, найденном в выгребной яме.
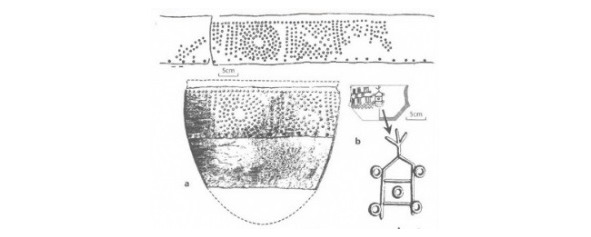
Самые древние в мире модели колёсных повозок, сделанные из глины, были найдены в двух погребениях поздней Баденской культуры в Будакалаше и Сигетсентмартоне (Восточная Венгрия), которые датируются 3300—3100 гг. до н. э. Кроме того, в нескольких позднебаденских захоронениях имеются принесённые в жертву пары волов — по всей видимости, упряжки повозок. В 3200—2700 гг. до н.э. археологи отмечают распространение колёсного транспорта из области Баденской культуры в область культуры Шаровидных амфор в Южной и Средней Польше.
На поселении Хоргенской культуры в Прессехаусе (Швейцария) было найдено колесо, которое по дендрохронологическим данным датируется временем ок. 3200 г. до н. э. Примечательно, что в Швейцарии и Германии отверстия в колёсах для крепления оси были квадратными, ось вращалась вместе с колёсами, а в степном регионе (а также в Нидерландах и Дании) отверстия были круглыми, ось крепилась к корпусу повозки. Это свидетельствует о том, что различные европейские традиции изготовления повозок возникли ещё до 3200 г. до н.э.
Ямная культура и поздняя праиндоевропейская общность
Появление в южнорусских степях ок. 3500 г. до н.э. колёсных повозок вызвало существенные изменения в жизни местного населения. Повозки, на которых можно было перевозить в больших количествах продукты питания и воду, сделали доступными для хозяйственного освоения области, лежавшие вдалеке от речных долин. Существенно увеличилась площадь пастбищ, что вызвало многократный рост стад, за которым последовал рост благосостояния и демографический взрыв.
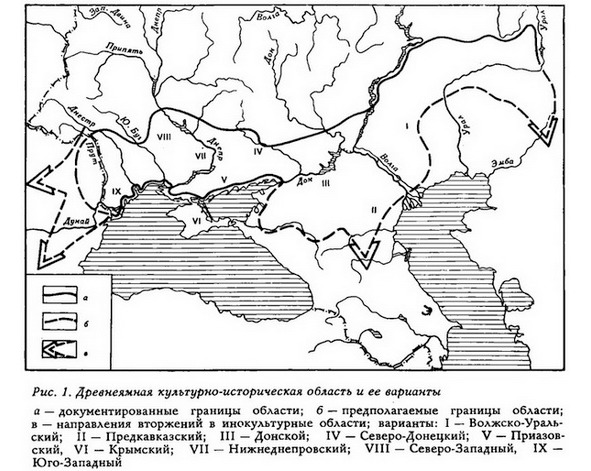
Новое пастушеское хозяйство на основе колёсного транспорта привело к возникновению около 3300 г. до н.э. из поздней Хвалынской культуры Ямной культуры раннего бронзового века (3300—2500 гг. до н.э.), с которой связан поздний период праиндоевропейского языка. Возникнув на Нижней Волге, Ямная культура быстро распространилась на огромных пространствах от Днепра до Урала. Как и их предшественники, ямники хоронили своих мёртвых на спине с подогнутыми ногами, головой на восток или северо-восток, посыпая их охрой. В могилы помещались повозки и части туш крупного и мелкого рогатого скота и коней (в 15% захоронений). В 5% захоронений умерших сопровождали металлические кинжалы или топоры. Над захоронениями племенных вождей возводились курганы и воздвигались антропоморфные каменные стелы.
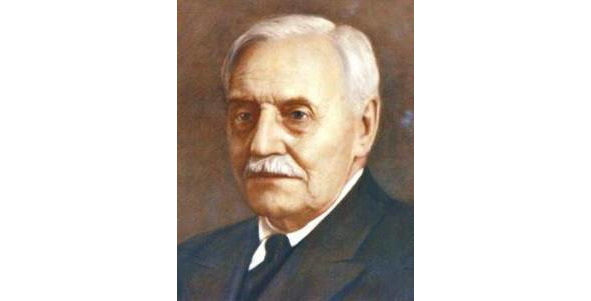
Определяющей чертой Ямной культуры была её подвижность. В этот период в области от Дона до Урала исчезают как долгосрочные поселения, так и отпечатки зёрен на посуде, что свидетельствует об отказе восточных ямников от земледелия и их почти полном переходе к скотоводству. В более западных областях, хоть и в меньшем объёме, но продолжают встречаться долгосрочные поселения и следы земледелия.
У носителей Ямной культуры была довольно высокоразвитая металлургия. Они впервые начали производить изделия из литейной меди, источником которой были местные медные рудники Волгоуралья. Ок. 3700—3500 гг. до н.э. на Северном Кавказе начинается производство мышьяковой бронзы (сплава меди с мышьяком), которое ок. 3300—3200 гг. до н.э. распространяется в южнорусские степи и на нижний Дунай, а к 2400—2200 гг. до н.э. достигает Центральной и Западной Европы.
В поздний период Ямной культуры её носители производят опыты с ковкой железа — задолго до того, как обработка железа началась на Ближнем Востоке. Самое богатое захоронение периода Ямная-Полтавка было обнаружено в кургане 1 могильника Утевка I, представлявшем собой земляную насыпь диаметром 110 м. В центральной могиле покоился мужчина в сопровождении полированного каменного песта, двух золотых колец, медного топора, медного шила, медного кинжала и медной булавки с кованой железной головкой. Также в захоронении уже Катакомбной культуры в Герасимовке на Донце, датируемом временем ок. 2500 г. до н.э., был найден нож с рукоятью из мышьяковой бронзы и железным лезвием.

К настоящему времени в нашем распоряжении имеются генетические исследования трёх групп ямников. Первая происходит с крайнего востока Ямной культуры — из Самарской и Оренбургской областей и включает 7 мужчин и 2 женщин. В неё входят мужчина 45 лет (2910—2875 гг. до н.э.) из могильника Екатериновка Самарской области, женщина (3090—2910 гг. до н.э.), мужчина 35—45 лет (3339—2917 гг. до н.э.) и мужчина 25—35 лет (3305—2925 гг. до н.э.) из могильника Лопатино I Самарской области, мужчина (3300—2700 гг. до н.э.) из могильника Ишкиновка I Оренбургской области, мужчина 25—35 лет (3021—2635 гг. до н.э.) из могильника Лужки I Самарской области, женщина 35—45 лет (3010—2622 гг. до н.э.) из могильника Курманаевка III Оренбургской области, мужчина 15—17 лет (3300—2700 гг. до н.э.) из могильника Лопатино II Самарской области и мужчина 25—35 лет (3335—2881 гг. до н.э.) из могильника Кутулук I Самарской области.
Племенной вождь из кургана 4 могильника Кутулук I был похоронен в центральной могиле под земляной насыпью диаметром 21 м и высотой 1 м, возведённой над притоком Самары рекой Кинель. Мужчина, имевший при жизни рост 176 см, был уложен головой на восток на спине с подогнутыми ногами и посыпан охрой. В его руку была вложена медная булава или палица длиной 48 см и весом 767 г, представляющая собой самый крупный металлический предмет, найденный в ямном захоронении.
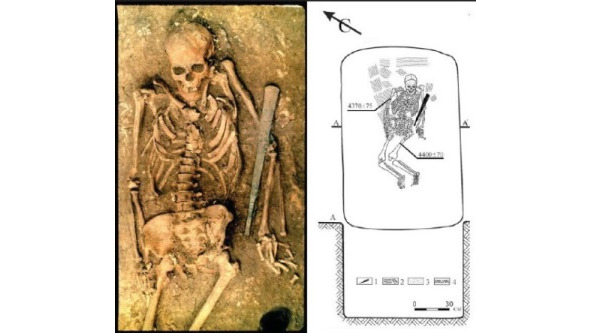
У всех семерых мужчин из самарских и оренбургских ямных могильников была обнаружена мужская гаплогруппа R1b (у пятерых — R1b1a2a2, у одного — R1b1a2a и ещё у одного — R1b1a). Материнские гаплогруппы включали U4a1, U5a1a1 (у двоих), W6, W3a1a, H13a1a1a, H2b, H6a1b и T2c1a2. В частности, у вождя из Кутулукского кургана были определены линии R1b1a2a2 и H6a1b.
Отметим, что в отличие от восточного охотника-собирателя с гаплогруппой R1b, жившего ок. 5600 г. до н.э. на поселении Лебяжинка IV на реке Сок в Самарской области, который не принадлежал к субкладу M269, преобладающему у современных европейцев, все семь мужчин Ямной культуры из Самарской и Оренбургской областей рубежа IV и III тыс. до н.э. к этому субкладу принадлежали. Однако они, в свою очередь, принадлежали не к производному от M269 субкладу R1b1a2a1 (L51), преобладающему в Западной Европе, а к его «братскому» субкладу R1b1a2a2 (Z2103), распространённому сейчас в основном в Поволжье. Судя по современному распространению субклада R1b1a2a2, самарские ямники в западной экспансии заметного участия не приняли. Они в основном остались жить на своих местах, позднее под влиянием миграционных волн с востока перешли сначала на уральский язык, потом частично на тюркский, и в настоящее время их мужские потомки живут среди народностей волжско-уральского региона, прежде всего башкир. Что касается экспансии в Европу, то она была осуществлена силами племён из более западных областей Ямной культуры, где должны были обитать носители субклада R1b1a2a1.

Вторая группа ямников была похоронена в курганных могильниках в районе села Ремонтное на юго-востоке Ростовской области. Двое из трёх мужчин из могильника Темрта IV имели такую же, как у «самарцев» и «оренбуржцев», мужскую гаплогруппу R1b1a2a2 (Z2103), ещё один — R1b1a1a2 (M269), их женскими гаплогруппами были U5a1d2b, U4 и T2a1a. Мужчина из могильника Песчаный V был носителем гаплогрупп R1b1a1a2 (M269) и U5a1i, из могильника Улан IV — I2a2a1b1b2 (S12195) и T2a1a. Последний, возможно, относился уже не к Ямной, а к Катакомбной культуре. Стоит упомянуть, что гаплогруппа I2a2a1b1b была обнаружена также у двух ямников, живших ок. 3000 г. до н.э. на Балканах.
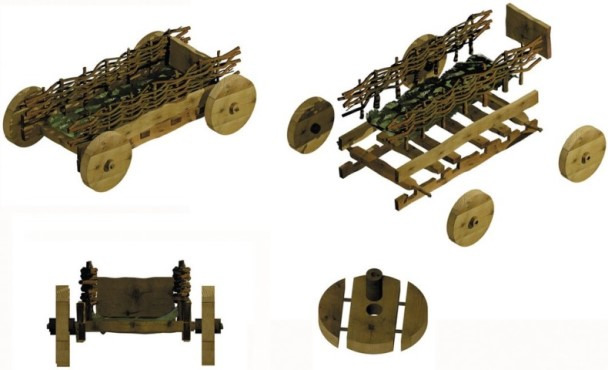
Наконец, о третьей группе из 15 ямников, живших в предкавказских степях, известно только то, что четыре пятых из них были носителями мужской гаплогруппы R1b1/R1, а одна пятая — Q1a2.
Может вызвать удивление тот факт, что большинство из исследованных ямников имели мужскую гаплогруппу R1b и ни у одного из них не была обнаружена гаплогруппа R1a. Однако нужно учитывать, что пока в нашем распоряжении имеются данные только по трём небольшим территориальным группам (Самарская и Оренбургская области, юго-восток Ростовской области и Предкавказье) огромного Ямного археологического горизонта. Гаплогруппа R1a обнаружена у носителей Хвалынской и Среднестоговской культур, из которых возникла Ямная культура, и у носителей Полтавкинской культуры и культуры Шнуровой керамики, в которые она развилась. Поэтому присутствие R1a у определённых групп ямников не вызывает сомнение, и её обнаружение является лишь вопросом времени. То же самое касается и «западного» субклада L51 гаплогруппы R1b, который тоже до сих пор на территории Ямной культуры не обнаружен, но не присутствовать на ней не мог.

Рассмотрев однородительские гены ямников, перейдём теперь к их аутосомам. По аутосомным генам охотники-собиратели с мужскими гаплогруппами R1a и R1b, жившие в середине VI тыс. до н.э. в Карелии и Самарской области, образуют общий кластер, условно именуемый «восточноевропейскими охотниками-собирателями». Ямники рубежа IV—III тыс. до н.э. заметно от них отличаются, потому что компонент восточноевропейских охотников-собирателей в их аутосомных генах составляет всего половину. Ближайший аналог второй половины их аутосомного состава обнаружен у кавказских охотников-собирателей позднего палеолита и мезолита из Западной Грузии, живших соответственно в XII и VIII тыс. до н. э. Первый из них, останки которого происходят из пещеры Сацурблия, имел мужскую гаплогруппу J и женскую гаплогруппу K2. У второго, погребённого в пещере Котиас-Клде, были обнаружены мужская гаплогруппа J2a и женская гаплогруппа H13c. Аутосомные гены людей Ямной культуры выглядят как примерно равная смесь генов восточноевропейских и кавказских охотников-собирателей.
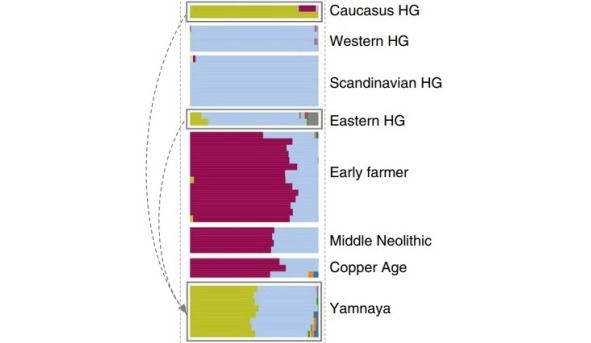
Приток южных генов на Русскую равнину отмечается уже в середине V тыс. до н. э. У трёх людей Хвалынской культуры в среднем три четверти аутосомных генов унаследовано от восточноевропейских и одна четверть — от кавказских охотников-собирателей. У людей Ямной культуры и вышедших из неё культур — Афанасьевской (3300—3000 гг. до н.э.) и Полтавкинской (2900—2200 гг. до н.э.) соотношение составляет уже примерно 50% на 50%.
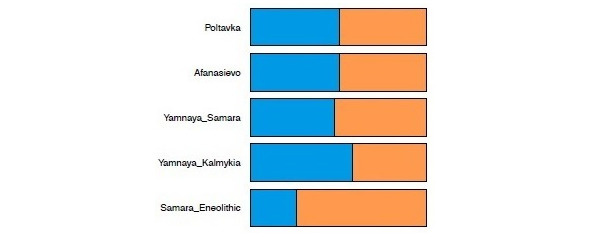
В то же время нам известно, что с конца V тыс. до н.э. и в течение последующих трёх тысячелетий индоевропейские обитатели предкавказских степей и собственно кавказцы составляли два чётко разграниченных генетических кластера. По аутосомным генам индоевропейцы представляли собой смесь восточноевропейских охотников-собирателей с кавказскими охотниками-собирателями, а кавказцы — смесь кавказских охотников-собирателей с ближневосточными неолитическими земледельцами. Эта разница отмечается уже в энеолите. Трое обитателей предкавказской степи, жившие в 4300—4100 до н.э., унаследовали более 60% своих аутосомных генов от восточноевропейских охотников-собирателей, остальные — от кавказских охотников-собирателей, и по генетическому профилю были очень похожи на энеолитическое население Самарской области.
В то же время трое примерно современных им носителей энеолитической культуры Дарквети-Мешоко, останки которых были найдены в Унакозовской пещере в Адыгее, уже представляли собой смесь кавказских охотников-собирателей с ближневосточными неолитическими земледельцами. Сходный генетический профиль был у носителей Майкопской и Куро-аракской культур и населения Армении медного и бронзового веков. Из современных людей к этому профилю ближе всего южные кавказцы (северные кавказцы от него отдалились из-за более позднего притока генов с севера).
Ямники из предкавказской степи (3300—2400 гг. до н.э.) генетически неотличимы от ямников из Самарской, Оренбургской и Ростовской областей, Украины и Венгрии. Такой же состав генов имели носители Катакомбной культуры, жившие в 2600—2200 гг. до н.э. на Кубани, у Каспийского моря и в Предкавказье. Таким образом, вырисовывается единый генетический кластер, состоящий из Ямной, Афанасьевской, Полтавкинской и Катакомбной культур, который характеризуется преобладанием мужской гаплогруппы R1b и набором аутосомных генов, примерно в равных долях унаследованных от восточноевропейских и кавказских охотников-собирателей.
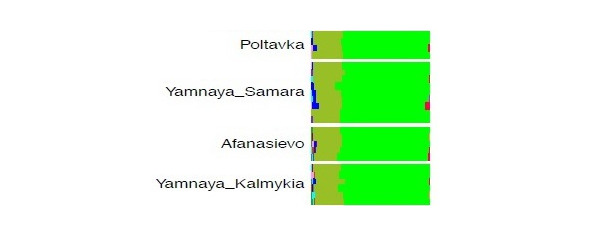
Когда и каким образом гены кавказских охотников-собирателей попали к индоевропейцам? — Индоевропейцы были носителями северных мужских гаплогрупп — R1a, R1b, Q1a2, I2a. У жителей Кавказа набор мужских гаплогрупп был совершенно другим — J2, J1, J, L, G2a, G2b. По всей видимости, характерной для кавказских охотников-собирателей была гаплогруппа J2, а J1, G2a и G2b были принесены неолитическими земледельцами с Ближнего Востока. Мужские линии индоевропейцев и кавказцев практически не пересекались. В то же время ямники и кавказцы имели почти что одинаковый набор женских гаплогрупп. У древнейших охотников-собирателей Восточной Европы преобладали северноевразийские линии митохондриальной гаплогруппы U (в основном U2, U4 и U5). Начало притока женских генов с юга может сигнализировать уже присутствие линии H2a1 у одного хвалынца и одного среднестоговца. У более поздних ямников в изобилии присутствуют разные линии митохондриальных гаплогрупп H, K, T, W, X, I, имеющие явно южное происхождение.
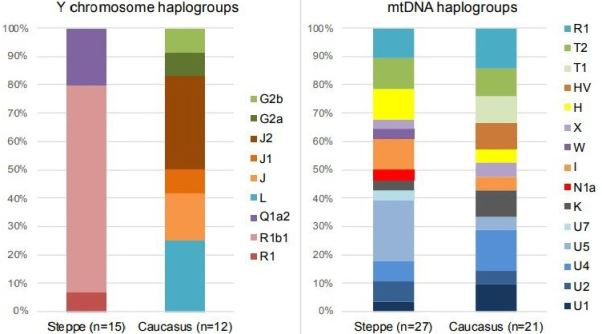
Судя по крайне незначительному присутствию северных аутосом у кавказцев (носители Майкопской культуры происходили на 86,4% от кавказских охотников-собирателей, на 9,6% от ближневосточных неолитических земледельцев и на 4% от восточноевропейских охотников-собирателей), поток материнских генов был практически однонаправленным — от кавказцев к индоевропейцам. Его начало примерно совпадает с распространением скотоводства в южнорусских степях, социальным расслоением и милитаризацией индоевропейского общества и началом экспансии индоевропейцев. По всей видимости, жертвой этой ранней экспансии пала какая-то популяция кавказских охотников-собирателей, жившая в Северном Предкавказье и изолированная от своих более южных собратьев (о чём свидетельствует отсутствие в ней генов ближневосточных неолитических земледельцев). Мужчин этой популяции индоевропейцы истребили, а женщин забрали себе.
Причины успехов индоевропейцев
Идеология
Праиндоевропейское слово *ḱléwos «слава», имеющее отражения в большинстве индоевропейских языков (индоар. śravas-, авест. sravah-, тох. А klyu, тох. В kälywe, гр. κλέ (ϝ) ος, лат. cluor, др.-ирл. clū, рус. слава и т.д.), образовано от глагольного корня *ḱléw- «слышать» и означает буквально то, что слышно.
Важной точкой в исследовании значения этого индоевропейского слова стал 1853 год, когда немецкий филолог Адальберт Кун обнаружил соответствие между индоарийским выражением śrávo ákṣitam, встречающимся единственный раз в «Ригведе», и греческим выражением κλέος ἄφθιτον, которое однократно употребляется Гомером в «Илиаде» и засвидетельствовано у ряда других греческих авторов. В «Ригведе» оно вложено в уста молящихся богу Индре: «Создай нам, о Индра, славу (многих) коров / (И) наград, широкую, высокую, / На всю жизнь, неиссякающую!» (sáṃ gómad indra vā́javad / asmé prthú śrávo brhát / viśvā́yur dhehi ákṣitam) (РВ I, 9, 7). В «Илиаде» его произносит Ахилл: «Если останусь я здесь, перед градом троянским сражаться, — Нет возвращения мне, но слава моя не погибнет» (εἰ μέν κ᾽ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, / ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται) (Ил. 9.412—413).
В «Ригведе» это же выражение встречается ещё три раза в форме ákṣiti śrávaḥ: «Кто жрецу даёт прекрасное добро, / Тот приобретает неиссякающую славу» (yó vāgháte dádāti sūnáraṃ vásu / sá dhatte ákṣiti śrávaḥ) (РВ 1.40.4); «Даже в твердыне он пробивает путь к награде с помощью скакуна. / Он приобретает неиссякающую славу» (sá drlhé cid abhí trṇatti vā́jam / árvatā sá dhatte ákṣiti śrávaḥ) (РВ 8.103.5); «Приди сюда потоком, Сома, / выжатый для Индры, пьянящий / приобретающий неиссякающую славу!» (prá soma yāhi dhā́rayā / sutá índrāya matsaráḥ / dádhāno ákṣiti śrávaḥ) (РВ 9.66.7).
Из двух индоарийских форм ákṣiti- и ákṣita- в первой отрицательная приставка присоединена к имени ж.р. с основой на i kṣíti- (соответствующему гр. φθίσις), а во второй — к причастию kṣitó-. Индоарийское выражение, образованное при помощи второй формы, представляет собой замечательно точное поморфемное соответствие греческому: śrav-as- a-kṣi-ta-m и κλεϝ-ες- ἀ-φθι-το-ν. Их общая индоевропейская праформа может быть восстановлена в виде *ḱléwos ndʰgʷʰitom.
Причастие *ndʰgʷʰitom образовано от ПИЕ глагольного корня *dʰgʷʰi-, принявшего в индоарийском форму kṣi-, а в греческом (с метатезой *dʰgʷʰi-> *gʷʰdʰi-) — форму φθι- с общим значением «погибать». Однако первоначально этот глагол означал «иссякать» и применялся к водным источникам. В этом значении он засвидетельствован как индоарийскими, так и греческими текстами: utsam akṣitam («неиссякающий источник») (РВ 1.64.6), avatam akṣitam («неиссякающий колодец») (РВ 10.101.6), Στυγὸς ἄφθιτον ὕδορ («неиссякающая вода Стикса») (Гесиод. Теогония, 806). Таким образом, выражение *ḱléwos n̥dʰgʷʰitom буквально означает «неиссякающая слава» и содержит в себе метафору славы как никогда не иссякающего источника.
Как уже упоминалось, помимо Гомера, выражение κλέος ἄφθιτον употребляют и другие греческие авторы, например, поэт Ивик в обращении к своему покровителю тирану Поликрату: «И ты, Поликрат, неиссякающую славу будешь иметь, / пока будут песня и моя слава» (καὶ σύ, Πολύκρατες, κλέος ἄφθιτον ἑξεῖς / ὡς κατ» ἀοιδὰν καὶ ἐμὸν κλέος) (PMGF S151.47—48). Оно также встречается у Гесиода (фр. 70.5), Сапфо (фр. 44.4) и в нескольких эпитафиях. В обращении Феогнида к своему любимцу Кирну определение ἄφθιτον применяется к слову ὄνομα («имя»), но в предыдущей строке упоминается κλέος, и общий смысл высказывания тот же: «Слава твоя не исчезнет, о Кирн, и по смерти, но вечно / В памяти будет людской имя храниться твоё» (οὐδέποτ» οὐδὲ θανὼν ἀπολεῖς κλέος, ἀλλὰ μελήσεις / ἄφθιτον ἀνθρώποισ» αἰὲν ἔχων ὄνομα) (245—246) (здесь и далее Феогнид цитируется в основном в переводе Викентия Вересаева).
В «Махабхарате» используется более поздняя форма akṣaya- с тем же смыслом, что у ákṣiti- и ákṣita-, определяющая слово kīrti- (синоним śravas-). Бог Яма обещает царевичу Арджуне: «Неиссякающей пребудет в мире слава твоя» (akṣayā tava kīrtiś ca loke sthāsyati) (Махабхарата, 3.42.22). Пушкара в ответ на благодеяние своего брата Налы желает ему: «Да пребудет же слава твоя неиссякающей!» (kīrtir astu tavākṣayyā) (Махабхарата, 3.77.26)
Царь Васудева предсказывает герою Бхишме: «Пока пребудет земля, / твоя неиссякающая слава будет шествовать по мирам» (yāvad dhi prthivī sthāsyate dhruvā / tāvat tavākṣayā kīrtir lokān anu cariṣyati) (Махабхарата, 12.54.28). Сходная мысль встречается у Феогнида, который обещает, что воспетый в его стихах Кирн останется бессмертным: «Ты по Элладе по всей пронесёшься, бесплодное море, / Полное рыб, перейдёшь, все острова посетишь… / Всем, кому дороги песни, кому они дороги будут, / Будешь знаком ты, пока солнце стоит и земля» (Κύρνε, καθ᾽ Ἑλλάδα γῆν στρωφώμενος, ἠδ᾽ ἀνὰ νήσους / ἰχθυόεντα περῶν πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον… / πᾶσι δ᾽, ὅσοισι μέμηλε, καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή / ἔσσῃ ὁμῶς, ὄφρ᾽ ἂν γῆ τε καὶ ἠέλιος) (247—248, 251—252).
В «Илиаде» выражение κλέος ἄφθιτον используется при описании выбора Ахилла между скорой смертью с последующей бессмертной славой и долгой бесславной жизнью: «Матерь моя среброногая, мне возвестила Фетида: / Жребий двоякий меня ведёт к гробовому пределу: / Если останусь я здесь, перед градом троянским сражаться, — / Нет возвращения мне, но слава моя не погибнет. / Если же в дом возвращуся я, в любезную землю родную, / Слава моя погибнет, но будет мой век долголетен, / И меня не безвременно смерть роковая постигнет» (μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα / διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ. / εἰ μέν κ᾽ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, / ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται: / εἰ δέ κεν οἴκαδ᾽ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, / ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν / ἔσσεται, οὐδέ κέ μ᾽ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη) (Ил. 9.410—416) (здесь и далее «Илиада» цитируется в основном в переводе Николая Гнедича).
Как мы знаем, Ахилл выбирает славную смерть. Судя по тому, что подобные сюжеты встречаются и у других индоевропейских народов, тема выбора героя между славной смертью и бесславной жизнью является общеиндоевропейской героической темой по преимуществу. Об этом говорит в «Махабхарате» герой Карна, употребляя синонимичные śravas- слова kīrti- и yaśas-: «Слава мне дороже всего на свете, (дороже) самой жизни, о Лучезарный! Тот, о ком идёт добрая слава, достигает небес, а утративший честное имя приходит к погибели. Ведь добрая слава в этом мире лелеет человека, как мать, а бесславие хоронит его заживо» (vrṇomi kīrtiṃ loke hi jīvitenāpi bhānuman / kīrtimān aśnute svargaṃ hīnakīrtis tu naśyati / kīrtir hi puruṣaṃ loke saṃjīvayati mātrvat / akīrtir jīvitaṃ hanti jīvato ’pi śarīriṇaḥ) (Махабхарата, 3.284.31—32); «Считая славу наивысшей в мире, я буду стоять в битве или же, убитый врагами, я лягу на поле брани» (yaśaḥ paraṃ jagati vibhāvya vartitā; parair hato yudhi śayitātha vā punaḥ) (Махабхарата, 7.2.15).
В ирландской саге «Похищение быка из Куальнге» юный герой Кухулин, случайно услышав слова друида Катбада о том, что «слава и доблесть будут уделом того юноши, который примет сегодня оружие, но скоротечны и кратки будут его дни на земле», без колебаний решает принять в этот день оружие. На предостережение Катбада «будешь велик ты и славен (animgnaid — букв. „имязнатен“), но быстротечною жизнью отмечен» Кухулин отвечает: «С превеликой охотой остался бы я на земле всего день да ночь, лишь бы молва о моих деяниях пережила меня». После этого Кухулин выбирает себе колесницу и отправляется в бой.
О том, что подобный комплекс идей у разных индоевропейских народов представляет собой общеиндоевропейское наследие, а не результат параллельного развития, свидетельствуют совпадающие элементы поэтического языка, используемые для его выражения, один из которых (*ḱlewos ndʰgʷʰitom) мы уже назвали. Обратимся теперь к другим.
Праиндоевропейский поэтический язык описывал славу не только как «неиссякающую», но и как «нестареющую». В «Ригведе» певец Какшивант воспевает щедрость «ищущего славы» (ichámānaḥ śráva) царя Бхавьи, получающую эту славу посредством награждаемого им певца: «Сто слитков золота от царя, взывающего о помощи, / Сто подаренных коней я получил сразу, / Сто коров — я, Какшивант, от владыки. / До неба протянулась (его) нестареющая слава» (śatáṃ rā́jño nā́dhamānasya niṣkā́ñ / chatám áśvān práyatān sadyá ā́dam / śatáṃ kakṣī́vām ásurasya gónāṃ / diví śrávo ajáram ā́ tatāna) (РВ 1.126.2). Один из ригведийских гимнов Индре провозглашает: «Дочь солнца протянула славу / Среди богов, бессмертную, нестареющую» (ā́ sū́riyasya duhitā́ tatāna / śrávo devéṣu amŕtam ajuryám) (РВ III, 53, 15).
Точно соответствующее индоарийскому выражение мы находим у Еврипида: «Совесть и стыд — мудрецу венец, / Сердцем стыдливый, свой долг узрев, / Глаз уж потом не сведёт с путеводной звезды, / С бурного сердца не снимет узды: / Дом его [нестареющая] слава за то осенит» (τό τε γὰρ αἰδεῖσθαι σοφία, / τάν τ᾽ ἐξαλλάσσουσαν ἔχει / χάριν ὑπὸ γνώμας ἐσορᾶν / τὸ δέον, ἔνθα δόξα φέρει / κλέος ἀγήρατον βιοτᾷ) (Ифигения в Авлиде, 563—567) (здесь и далее Еврипид цитируется в основном в переводе Иннокентия Анненского). Пиндар вместо слова κλέος использует синонимичное ему слово κῦδος (рус. чудо): «Бог / Все исходы вершит по промыслу своему, / Держит на крыльях орла, / Обгоняет в морях дельфина, / Высоколобого гнёт, / А иным дарит нестареющую славу» (θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται, / θεός, ὃ καὶ πτερόεντ᾽ αἰετὸν κίχε, καὶ θαλασσαῖον παραμείβεται / δελφῖνα, καὶ ὑψιφρόνων τιν᾽ ἔκαμψε βροτῶν, / ἑτέροισι δὲ κῦδος ἀγήραον παρέδωκ᾽) (Пиф. 2, 49—52).
На основании индоарийского śravo ajaram и греческого κλέος ἀγήρατον можно восстановить праиндоевропейское выражение *ḱlewos nǵertom «нестареющая слава». Сходный смысл имело выражение *ḱlewos nmrtom «неумирающая слава», прямым продолжением которого является индоарийское śravo amrtam.
Ригведийский гимн к Ушас (Заре) призывает: «Покровителям — бессмертную славу (и) благополучие! / Нам награды, состоящие из коров!» (śrávaḥ sūríbhyo amŕtaṃ vasutvanáṃ / vā́jām asmábhyaṃ gómataḥ) (РВ 7.81.6). Такие же пожелания выражает гимн к Индре: «О Индра, сильнейший истинный повелитель, / Обеспечь воспевателей богатством, / Бессмертной славой и благополучием покровителей» (índra śaviṣṭha satpate / rayíṃ gr̥ṇátsu dhāraya / śrávaḥ sūríbhyo amŕtaṃ vasutvanám) (РВ 8.13.12).
Вместо определения amrtam иногда используется его вариант amrtyu: «Друзья, хорошо доящуюся / Корову пригоните сюда с помощью новой речи, / Подпустите (телёнка к ней,) не брыкающейся, / (К той,) что для толпы Марутов с собственным блеском / Даёт надоить бессмертную славу» (ā́ sakhāyaḥ sabardúghāṃ / dhenúm ajadhvam úpa návyasā vácaḥ / srjádhvam ánapasphurām / yā́ śárdhāya mā́rutāya svábhānave / śrávo ámrtyu dhúkṣata) (РВ VI, 48, 11—12). Слово śravas- «слава» может быть заменено на близкое по значению слово nāman- «имя»: Маруты «получили в удел бессмертное имя» (amŕtaṃ nā́ma bhejire) (РВ 5.57.5), Индра « (своей) мощью, (своим) бессмертным именем / пережил поколения людей» (sá majmánā jánima mā́nuṣāṇām / ámartiyena nā́mnā́ti prá sarsre) (РВ 6.18.7).
В греческом рефлекс *ḱlewos nmrtom имел бы вид κλέος ἄμβροτον, однако второй компонент в этом выражении в какой-то момент был заменён новообразованием ἀθάνατον, и в таком виде это выражение засвидетельствовано у Вакхилида: «И с тех пор от этих трудов / Кто кладёт на жертвенник первовластного Зевса / Цветы, сплётенные славящею Победою, / Тем и вживе, / Пусть хоть немногим, / Золотая сияет слава меж смертных, / А когда тёмным облаком их окутает смерть, — / Бессмертна пребудет слава их дел, / Никаким не колеблемая жребием» (ὃς νῦν παρ] ὰ βωμὸν ἀριστάρχου Διὸς / Νίκας ἐ] ρ [ικ] υδέος ἀν- / δεθε] ῖσιν ἄνθεα, / χρυσέ] αν δόξαν πολύφαντον ἐν αἰ- / ῶνι] τρέφει παύροις βροτῶν /αἰ] εί, καὶ ὅταν θανάτοιο / κυάνεον νέφος καλύψῃ, λείπεται / ἀθάνατον κλέος εὖ ἐρ- / χθέντος ἀσφαλεῖ σὺν αἴσᾳ) (13.58—66). Выражение κλέος ἀθάνατον встречается также у Симонида (Элегия 11, 15 и 28).
Точно соответствуют друг другу выражения mahi śravaḥ в индоарийском и μέγα κλέος в греческом, что позволяет восстановить их праиндоевропейский источник как *ḱlewos meǵ «великая слава» (к которому также восходит др.-ирл. clū mōr).
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.