
Бесплатный фрагмент - Книга рассказов
АРКАДИЙ МАКАРОВ

СВОБОДА СОВЕСТИ
книга рассказов
ЛИЦОМ СРАМИТЬСЯ И РУЧКОЙ ПРЯСТЬ…
1
Безденежье опрокинуло меня на самую низкую ступень социальной лестницы. Падать, правда, было не высоко, но ощутимо больно. Зарплаты мне больше никто не гарантировал, да и гонораров тоже, — рыночные отношения!
Свободное плаванье результативно только при попутном ветре и за отсутствием рифов, это еще притом, что есть хорошие паруса, а так, болтаешься, как некий предмет в проруби.
Вот ведь какие ассоциации приходят в голову, когда выкурена последняя сигарета, а новую пачку купить не на что.
Дом инвалидов и ветеранов труда не такое уж жуткое место, как рисует нам воображение.
Пригородный лес. Осенняя благодать природы! Лёгкий утренний заморозок, как первая сединка в твоих волосах. Темная, но совсем не угрюмая зелень вековых сосен. Стоят, покачивая мудрыми вершинами, разглядывая нас, хлопотливых людишек возле старого двухэтажного раскидистого особняка, где нашла свой последний приют бездомная старость, отдавшая некогда молодые силы и здоровье обескураженной двадцатым веком, дорогой стране. Да и сама эта страна, выпотрошенная вселенскими экспериментами, теперь тоже похожа на убогую нищенку, стоящую у парадного подъезда благополучного запада.
Но, все это — политика, к которой мое повествование не имеет никакого отношения.
Я здесь на шабашке. Разгружаем трубы, сварочное оборудование, нехитрый слесарный инструмент.
В интернате прохудились водоводы, не работает канализация, чугунные гармони отопительных батарей, смонтированные полвека назад, забиты илом и многолетней накипью…
Шабашка тем и хороша, что за свой короткий и угробистый труд можно тут же получить живыми деньгами, а не бросовым товаром по бартеру.
Ухнув, кидаю с кузова трубу, она, ударившись о старый пень, спружинив, отскакивает от земли, и стегает невысокую ограду, ломая почерневший от времени штакетник, из-за которого на высоких колесах выруливает инвалидная коляска с обезножившей пожилой женщиной. Прыгаю с машины, оттаскиваю в сторону трубу, загородившую проезд к дому. Слава Богу, что женщина двигалась неторопко, а то бы стальной хлыст сделал непоправимое.
— Ахмед! — дергает меня за рукав женщина, — Живой?
Я ошалело смотрю на нее. Сквозь темное морщинистое лицо приветливый отблеск глаз, вроде, как просвет в осеннем небе показался и тут же скрылся.
— Ахмед, помнишь, мы в Фергане с тобой в госпитале лежали? Зажила, видать, дыра в плече, вон как трубы кидаешь! А мне вот ноги доктора отчикали, культи остались, зато зимой валенок не покупать.
Думаю, — старая использует мою азиатскую внешность. Разыгрывает. Как теперь говорят, прикол делает.
— Не, я не Ахмед! Я Рома из детдома, цыганской повозки шплинт, —
отшучиваюсь.
Женщина укоризненно посмотрела на меня и, вздохнув, опечаленная покатилась, раскручивая руками колеса, на лесную стежку. «Насладиться одиночеством» — подумалось мне.
В любом интернате, как в солдатской казарме, самое большое удовольствие — побыть наедине с собой.
Взрыв на ферганском базаре забросил эту женщину сюда, под колючие тамбовские сосны доживать отпущенное милосердной судьбой время. Ей повезло, другие маются и бродяжничают, попрошайничая на городских улицах, неприветливых к чужому горю, замерзают в подвалах, отравленные алкогольными, суррогатами.
Я оказался здесь совершенно случайно. Никогда не думал, что рабочие навыки, полученные в юности, помогут мне на время одолеть денежную невезуху.
Иду смурной, смотрю под ноги, чтобы найти ключ от квартиры, где лежат деньги. Вдруг толчок в бок:
— Вчерашний день ищешь?
Поднимаю глаза, вижу — вот она, находка! Передо мной стоит старый товарищ с поднятыми парусами и в каждом сноровистый попутный ветер. Моему товарищу свободное плаванье в масть. Знай, рули, и веслами шевелить не надо. Хороший инженер, изобретатель, имеющий множество патентов, забросил свое хлопотливое дело, и в удачный час организовал акционерное общество с ограниченной ответственностью. Используя первоначальную сумятицу при переходе к народному капитализму, приобретя по бросовым ценам ваучеры, сколотил, хорошие «бабки», говоря новоязом, и теперь процветает махровым цветом. Смеется, протягивает руку, хлопает по плечу:
— Как жизнь?
— Да, как в курятнике, — отвечаю. Кто выше сидит, тому перья
— чистить не надо. Сверху никто не наваляет
— Все пишешь? — спрашивает.
— Пишу, — отвечаю неохотно.
— А, что такой квелый? Небось, гонорарами стенку в туалете
— обклеил?
— Ага, — говорю, — обклеить обклеил, а отодрать обратно не
могу, больно клей хороший попался. Ты чего без «Опеля»? Ноги поразмять решил? — зная его пристрастие к иномаркам, подслащиваю разговор.
— Э-э, чего вспомнил! Я уже третью тачку с той поры поменял, у меня теперь «Мерс» на пристёжке.
— А чего же ты не на колесах? — повторяюсь я.
От моего товарищ исходит запах вина и хорошего одеколона. Лицо розовое, гладко выбрито, ухожено. Не то, что в нашей далёкой молодости. Крутой мужик. Авторитет за квартал светится.
— Гуляю, — говорит мой товарищ. Жену на Азорские острова
— отправил. Холостякую. Вчера тёлку снял в кабаке, до сих пор в
— ушах шумит. Вампир, а не девка! Губы, как присоски у осьминога.
— Пойдем, я тебя опохмелю!
— Не пью! — мотаю головой.
— Давай, рассказывай сказки! На халяву все пьют. Помнишь,
— как мы по общежитиям гудели?
— Ну, это когда было… — отнекиваюсь я.
— Пойдем, пока я простой!
Пошли.
В ресторане молодежь пасется. Девочки соломки для коктейля губками пощипывают. Глазки, как котята мохнатые, пушистые, ластятся: «Погладь — говорят, — погладь…».
Еще не перебродивший хмель делает моего товарища сентиментальным и щедрым. Бутылка сухого мартини и лощёный пакетик солёных орешек располагают к релаксации, к полной расслабленности нервного напряжения, которое полчаса назад давило мой череп отчаянной безысходностью. Теперь бы ароматная затяжка «Мальборои могла возвратить меня в былые обеспечение дни, и я наглею:
— Толян, у тебя хрусты во всех карманах распиханы, отстегни
до первой возможности. У меня в Москве по издательствам рукопись ходит. С гонорара отдам. За мной не заржавеет. Ты же
знаешь!
Товарищ хлопает меня по плечу. Смеется, Взгляд дружеский, обнадёживающий.
Я мысленно уже благодарен ему. Бот, что значит старый друг! Вместе по девкам шлялись, стеной в пьяных драках стояли. На нож шли. Выручит.
— Дать, я тебе дал бы. Но ведь ты мужик строптивый. Мало не возмешь обидишся. А много, я с собой не ношу. Деньги все в деле. Помнишь, как мы е тобой учили по политэкономии: капитал должен работать. Пей, я еще бутылку возьму!
Наливаю полный бокал. Пью. Вино хорошее. Согреваюсь. Мозг начинает плавиться. Волны тепла и света размягчают сознание. Нестерпимо хочется курить. Мой товарищ лет двадцать, как не притрагивается к сигарете. Кручу головой в поисках знакомых, — у кого бы отовариться куревом. Но здесь компания не моя. Лица все чужие, сосредоточение в своих разговорах, увлечённые. Вот оно «племя молодое, незнакомое» — вспоминается классик.
К нашему столу присаживается щеголеватый молодой человек. Мой товарищ знакомит меня с ним, — главный инженер разваливающегося строительного треста. Укачкин.
Фамилия знакомая. Когда-то, после окончания института, я нанимался на работу к его отцу, начальнику монтажного управления. Отец его был стоящий мужик, и, несмотря на мою неопытность, взял меня на участок мастером. Его сын, имея тестя-депутата областной думы, быстро оказался в кресле главного инженера треста «Промстрой». Судя по заносчивому виду этого молодого человека и щегольской одежде, с отцом, прирожденным монтажником и работягой, он мало имел общего.
Несмотря на раздетое до крайности предприятие, главный инженер выглядел вполне преуспевающим человеком. Мягкий костюм из модной ткани, демократическая майка с оглушительной надписью, разумеется, на инглиш, делали его похожим на лобастых парней тусующихся возле игральных заведений. Садиться без пожатия руки, еле заметно кивнув головой, и начинает, не притрагиваясь к выпивке, какой-то деловой разговор с моим товарищем. Берёт быка за рога. Выло видно, что у них давние деловые отношения.
Разговор в данной ситуации для меня становился, не интересен, и я подлил в свой бокал еще вина и выпил. Затем, окончательно обнаглев, потянулся к пачке деликатесных сигарет «Парламент», неосмотрительно положенным на стол новым знакомым, взял пару штук, одну про запас, и закурил, наполняясь блаженством и ленью.
Укачкин быстро посмотрел в мою сторону и продолжил разговор о пиломатериалах, трубах, бетоне. Из разговора я понял, что у него намечается выгодный подряд на капитальный ремонт дома-интерната для престарелых и инвалидов, и теперь ему крайне необходимо найти бригаду скорых на руку ребят для быстрого завершения сантехнических работ.
— Да, чего искать? — указывая на меня, говорит мой товарищ. — Вот безденежьем мается! Он тебе за комиссионные по старым связям целое монтажное управление приведет.
— Ну, управление без надобности, а пару-тройку человек я бы взял, — говорит Укачкин.
Я согласно киваю головой. Для меня найти свободного сварщика и тройку слесарей не составляет никакого труда. Шабашка — есть шабашка! Проведенный по левым бумагам подряд, освобожденный от налогов, сулил хорошие деньги, и Укачкин, теперь уже повеселевший, жмёт мне руку. Мой товарищ заказывает еще бутылку коньяка и мы, припозднившиеся в застолье, расходимся довольные друг другом.
Чего тянуть время? К работам приступили быстро под честное слово Укачкина. «Плачу деньгами за каждый этап выполненных работ» — говорит главный инженер. — Ни каких бумаг! Не люблю бюрократию. Всё отдаю наличманом. Самая лучшая бумага — это дензнаки. Сроки поджимают. Идет?
— Идёт!
Пожимаем, друг другу руки — и расходимся.
Нашёл знакомого сварщика. Тоже сидит на мели…
Тот обрадовался:
— Какой разговор! Работа — деньги. Лучше маленький калым,
чем большая Колыма! — восклицает мой бывший рабочий, а теперь и напарник Гена Нуриев
После ознакомления с объектом работы, мне показалось не совсем этичным брать деньги за посредничество, и я реши их честно заработать в качестве слесаря-сантехника, припомнив свою трудовую молодость. Весь объем можно было выполнить двум рабочим — главное, чтобы не подвел сварщик. И мы, оговорив все условия, приступили с Геной к работе.
…В подвале сыро, смрадно и гнусно. За шиворот с потолка каплет скопившийся конденсат. Пахнет дохлятиной и гнилью. Вокруг какие-то тряпки, куски бинтов, ваты, пищевые отбросы. Из прохудившихся труб напористо бьет вода.
Меняем проржавевший водовод на новый.
— Падла! — крутясь волчком на одной ноге, кричат на меня
Гена Нуриев. Кусок металла белого каленья проваливается ему за
широкое голенище кирзового сапога. — Сука! Держи трубу прямее!
Это тебе не на участке командовать! Инженеры! Бездельники! —
уже миролюбивее обобщает Гена, лучший на монтажном участке, где я когда-то работал, сварщик. — Стыкуй ровнее, пока я не прислюню.
Гена снова берет автоген в руки и делает короткий стежок прихватки.
2
Прислюнил…
Я облегченно отхватываюсь от раскаленного стыка и разгибаю затекшую спину. Труба надежно закреплена. И теперь можно спокойно перекурить, пока Гена будет, неимоверно изворачиваясь, обваривать в неудобии неповоротное соединение. Прорывающаяся сквозь стык упругое пламя ревет в трубе, и я уже не слышу смачных матерков в мой адрес.
Я взял Гену к себе в напарники, зная его усердие и добросовестность.
3
Геннадий Махмудович Нуриев — тоже бывший интеллигентный человек, в свое время с отличием закончивший математический факультет пединститута. Проработав около года за мизерную зарплату учителем в школе, он, плюнув на это занятие, пришел к нам на участок учеником сварщика и быстро втянулся в рабочую лямку.
Полу-таджик — полу-русский он, как сам рассказывал, обладал нестерпимым темпераментом, который сжигал его внутренним огнем. Любимая подружка, узнав, что из учителя он успешно перековался в монтажники, бросила его за свое ущемленное самолюбие. И Гена метался обездоленный, выплескивая передо мной обиду за свою поруганную любовь.
Я, решив над ним подшутить, сказал, что твоя подружка, раз ты так мучаешься, присушила к себе, и надо тебя сводить к «бабке», которая твою «присушку» ликвидирует в один прием, и ты снова станешь человеком. Отчитает тебя, водички наговоренной даст, ты потом свою подружку за километр обегать будешь.
— Своди! — мужественно сказал Гена. — Бутылку коньяка поставлю.
— Ну, ставь!
И я сводил Гену, заранее договорившись, к одной разбитной бабенкой, которая, прочитав над головой моего подопечного какую-то белиберду, окатила его из кружки водой, и оставила у себя отсыхать. Пока Гена «отсыхал» я, потихоньку моргнув веселой вдове, улизнул из дома.
На другой день Гену, как подменили. Ласточкой в руках его летала газовая горелка, производительность пошла в гору.
Так мы с Геной и сблизились. Характера он был незлобивого, а сегодня ругал меня нарочито грубо в отместку за мои сентенции в его адрес, когда он был у меня в подчинении. Шабашка поставила нас в равные условия, и мой напарник не скупился на самые изысканные выражения в мой адрес.
— Ты не обижайся, — говорил он мне в перекуре. — Это все
те же слова, которыми ты когда-то крыл меня, а теперь я их воз —
вращаю по адресу, чтобы ты знал, как с работягами разговаривать.
А-то с утрянки сам, бывало, по-черному матерился. Нехорошо брат!
Вот теперь мне на тебе отыгрываться приходиться.
…Сантехнические коммуникации расположены под дощатым полом первого этажа, где располагается столовая и все службы интерната. Днём вскрывать полы нельзя, люди ходят, обслуживающий персонал и подопечные поселенцы — кто на костылях, кто на колесах. Днем мы отсыпаемся в бытовке, где от храпа моего товарища вибрируют ушные перепонки, и уши приходиться затыкать, за неимением ваты, лежащей тут же паклей для уплотнения резьбовых соединений труб. Сначала неудобно, но потом привыкаешь и спишь, как младенец.
Приходится работать ночью.
— Физдюки! — кричит на нас директор этого богоугодного заведения тучный мужик лет пятидесяти, хватаясь за голову. — Физдюки, вы у моих бабок на целый год охоту ко сну отобьёте. В медчасти все снотворные кончились. Гремите потише. Здесь вам не кузница.
А, как не стучать, коль с металлом работаем.
— Владимир Ильич, — перекрываю я гул автогена, — сон разума
— порождает чудовищ. Там отоспятся!
— Все шутишь! А у меня голова, — во какая! Пухнет. Распряглись,
— — не пройти, не проехать. Я вам сколько раз говорил — зовите
— меня без фамильярности, просто, как Ленина — «Ильич».
Директор этого хосписа с юмором. Смерть у него всегда перед глазами ходит, косой помахивает. Не углядишь, — она в палату, да и прихватит кого-нибудь с собой.
Меланхолику на такой должности никак нельзя — крыша поедет.
Вчера захожу в столярную мастерскую ручку к молотку поправить, а там две ладьи через речку Стикс печальные стоят. Нос к носу. Мужики на крышках посиживают, в домино колотят, «рыба» получается — пусто-пусто. Обвыклись. А я, пока ручку к своему инструменту прилаживал, все пальцы посшибал, соринки в глазах мешались.
Мужики похохатывают веселые, крепкие. Сивушкой попахивают.
Полночь, Дом, как больное животное, спит, беспокойно поджав под себя конечности, подёргивая в краткой дремоте тусклой запаршивевшей кожей. Через лестничный проем слышатся: неразборчивое бормотанье, надрывистый кашель, какой-то клекот и резкие вскрики. Обитателям сниться — каждому своё. Кому распашистая молодость, а кому тягостные образы старческих дум — предвестники затянувшегося конца.
В белой длинной рубахе, раскинув, как в распятье руки, на слабых ногах, ощупывая белёную стенку, движется к нам то ли слепой, то ли в сомнамбулическом сне человек. Он шел так тихо, что мы его заметила у самого провала — освобождая технологический канал для трубопроводов, мы с Геной вскрыли полы. Из подполья тянет крысиной мочой, сладковатым запахом гнили и сырыми слежалыми грибами — плесенью.
Гена, неожиданно увидав деда, матюкнувшись, вскакивает, загораживая ему дорогу:
— Ты куда, дед? Назад! Здесь яма, грохнешься, и хоронить не
— надо.
— Сынки, — трясущимися губами в короткой позеленевшей поросли
— стонет человек. — Мне бы в буфет, хлебца купить. Голодный я, сынки.
— В какой буфет, мужик? — недоверчиво спрашиваю я. — Ты, действительно, есть хочешь?
— Собаки здесь работают, мать-перемать! — переходит он на понятный нам с Геной язык. — Есть, не дают. Заморили. Мне бы хлебца…
Я бегу на кухню, где на тарелке лежали ломти хлеба — остаток от ужина. Набираю несколько кусков пшеничного, сомневаясь, что проснувшийся ночью старик, хочет есть. Ведь сегодня на ужин давали гречневую кашу с разварной тушёнкой и яблочный компот. Может, деду приснились его голодные годы, в которых он прожил почти всю свою жизнь.
Старик слеп. Я сую ему в холодную костистую ладонь хлеб, расстраиваясь, что у нас нет ничего посущественнее — человек хочет есть!
Дед сжимает рукой куски хлеба, кроша и разминая их, поворачивается назад, и снова ощупью поднимается к себе.
Он уже, наверное, забыл свою просьбу. Куски испачканного побелкой хлеба вываливаются из его ладони, он топчет их, и так же тихо, как пришел, уходит.
Мой напарник шумно втягивает воздух, да и я полез за куревом, с удивлением замечая, как быстро здесь кончаются сигареты.
В доме шумно, толчея, тянет волей и чем-то давним, забытым, как в моем прошлом, когда цех, в котором я начинал работать, получал зарплату. Жильцы сбиваются в кучу, что-то радостно обсуждают, гомонят. В разговорах участвуют больше старики, бабки и женщины помоложе, а жертвы несчастного случая и инвалиды детства, тончатся в стороне, иные на колясках прокатываются взад-вперед, с вожделением посматривая на белую закрытую дверь, где находиться касса.
Сегодня пенсионный день. Обещали привезти деньги после обеда, но с утра уже, нет-нет, да и вспыхивают озорные искорки в, казалось бы, давно отцветших глазах.
Обсуждают: кто кому, сколько должен и когда расплатиться.
Инвалидная коляска для обезножившего или разбитого параличом человека, здесь больше, чем личный автомобиль. Утром, перекатив свое непослушное тело в коляску, — ты на коне! Ты на колесах — кати себе в любую сторону. Мобильность! Фигаро здесь, Фигаро там. Многие так удобно влиты в свои коляски, что, кажется, вросли в колеса. Кентавры! Как тут не вспомнить древних: движение — это жизнь.
Навстречу мне, толкая руками маятниковые рычаги, на старом драндулете еще военного образца катится женщина. Наш инструмент и разбросанные обрезки труб мешают проезду, и я подошел помочь ей миновать захламлённый участок, и дальше толкать свою тачку жизни в никуда. Женщина еще не старая. Глаза смотрят на меня с каким-то удивлением, потом выражение лица меняется, она кладет свою тёплую ладонь мне на руку, останавливая благородный порыв. Ладонь по-мужски жесткая, крепкая.
— Вот она, жизнь-то, какая случилась! И тебе, видать, от
новой власти ничего не досталось, писатель.
В словах ее горечь сочувствия.
Я обескуражен. Откуда эта несчастная прознала, что я действительно член Союза писателей России? Женщина провела рукой по моей ветхой испачканной известью и ржавчиной одежде.
— А ведь какой голубь был! Не помнишь?.. Да, теперь меня
разве кто угадает!
Я растеряно улыбаюсь. Стараюсь вспомнить это опечаленное недугом лицо. Может землячка из Бондарей?.. Да нет. В моем селе, вроде такая не жила…
— Да не мучайся! Марья я, Алексеевна, знатная доярка из
Красного Октября! Ты еще в колхозе у нас выступал. Стихи мне
хорошие посвятил. В газете пропечатал.
Я вспоминаю: Марья Ильичева, передовик труда! Как же! — «Над Уметом зима бедовая. Зябнуть избы в иглистой мгле. Вот доярки, гремят бидонами. Разрумянились на заре».
Марье Алексеевне стыдно за свое положение в этом безродном и безрадостном приюте. Мне стыдно за мое положение слесаря-сантехника, такого же, как мой сосед Ерёма, пьяница и скандалист, как сотни российских сантехников стреляющих с хозяина на похмелку за пустячную работу по устранению течи в кране.
— Спился что ль? — жалеет меня бывшая знатная доярка.
— Ага! — говорю, как можно веселее. — Не пей вина — не
— будет слез!
— Да-а, вот она судьба-то, какая! Каждому — своё. Живи —
не зарекайся, — вздыхает Марья Алексеевна, и я осторожно перевожу ее по досочкам в медицинский кабинет на процедуры.
Услышав наш разговор, ко мне заворачивает высокий прямой, как фонарный столб старикан. Вид его необычен. Несмотря на промозглую погоду и сквозняки в протяженном коридоре, на нем только одна майка десантника и войсковые с множеством карманов брюкв. На груди у него поверх майки большой старообрядческий кипарисовый крест на витом шелковом шнуре. На затылке пучок пегих выцветших волос стянутых резинкой от велосипедной камеры. Он протягивает мне узкую, жилистую руку. Знакомиться:
— Арчилов! Бывший полковник КГБ!
Достает какое-то потертое удостоверение и горсть желтых увесистых значков и медалей.
— Вот они молчаливые свидетели моих подвигов! Тайный фронт! Вынужден бежать из Абхазии от преследования. Гарун! T-cс! — полковник боязливо крутит головой. И совсем тихо: — Меня здесь третируют. Никакого уважения. Колхозники! — кивает в сторону директорского кабинета. — Я на внутреннем фронте кровь проливал. Мафия! Я тебе расскажу. Всё расскажу, — шепчет он торопливо — тут осиное гнездо. Все воры. Простыни воруют волки тамбовские! В кашу машинное мыло льют. Нас травят. Я писал — знаю куда. Но мне не верят. Ты напиши. Напиши депутатам, чтоб комиссию выслали! — ссыпает он в карман горстью, как железные рубли, свои награды.- Ко мне дохляка подселили. А мне, по моим заслугам, положено одному жить. Я выстрадал.
За несколько дней работы в интернате, я на короткую ногу сошелся с директором «Ильичём», как он просил себя называть, и подался выяснять: но какому праву здесь обижают полковника вышедшего неопалимым из горячих точек Закавказья. Вон у него, сколько орденов и медалей за боевые действия!
— Да пошел он к такой-то матери! По кляузам этого Арчилова, пять комиссий было. Вот они, бумаги! Им даже в ФСБ интересовались. Смотри! Ильич достает ворох листов из стола. Удостоверение и медали за Арчиловым не значатся. По его собственному признанию оперативнику, он все это купил на базаре в Сухуми. Там еще и не то купишь! Избавиться от него не могу. Обследование делали. Говорят — не шизик. Здоров, как бык! Зимой снегом натирается. С ним в одной палате жить не кто не хочет. Ссыт прямо в валенки. Мочу собирает, а потом в них ноги парит. Вонь страшная! А выселить его не имею права. Безродный! Вынужденный переселенец! У меня для инвалидов мест не хватает. А этот боров ещё на старух глаз метит. Жду, пока изнасилует какую. Может, тогда от него освобожусь. Как чирей на заднице! Дай закурить!
Я протягиваю сигареты, и мы с Ильичом разговариваем о превратностях судьбы.
— Я ведь тоже по молодости писал. На филфаке учился. А теперь забыл все. Здесь такого насмотришься, на целый роман хватит. Горстями слезы черпай! Иди ко мне в завхозы! — хитро смотрит на меня директор Дома Призрения.
Сегодня вечером в коридоре шумно. Обитатели приюта получали им причитающуюся пенсию. За вычетом на содержание, у каждого остается для своих нужд. А у русского, тем более казённого человека, какая нужда! Крыша есть. Кормёжка, хоть и диетическая, а тоже имеется. Надо и грешную душу потешить.
Ко дню выплаты пенсий местные спиртоносы, крадучись, чтобы не заметило начальство, доставляют самогон прямо к месту употребления, в палаты — обслуживание на дому.
— Надоели мне эти компрачикосы! Стариков травят. У него завтра на похмелку инсульт будет, а он пьёт, — имея в виду своих постояльцев, сокрушается Ильич. — Милицию вызывал. Оштрафуют двоих-троих, а на следующий раз другие приходят, в грелках отраву приносят. Хоть охрану выставляй! Пойдем, поможешь бабку до полати дотащить. С катушек свалилась, а все петь пытается.
Мы с Ильичом поднимаем пьяную женщину, пытаясь усадить ее в инвалидную коляску. За женщиной тянется мокрый след. Видать не справился мочевой пузырь с нагрузкой. Протёк. Отвезли бабку в палату. Пошли через коридор к умывальнику руки мыть.
В углу на старых вытертых диванах посиделки. Оттуда слышится протяжная старинная песня: «Мил уехал, мил оставил мне малютку на руках. На руках. Ты, сестра моя родная, воспитай мово дитя. Мово дитя. Я бы рада воспитати, да капитала мово нет. Мово нет…»
Потянуло далеким семейным праздником, небогатым застольем в нашей избе. Здоровая, молодая, шумная родня за столом, покачиваясь, поёт эту песню. Дядья по материной линии голосистые, напевные. Песню любят больше вина. Я лежу на печке, иззяб на улице — теперь греюсь. Слушаю. И не знаю, почему наворачиваются слезы на глаза. Мне жалко брошенной девушки. Жалко малютку на руках, такого же, как и мой братик в полотняной люльке с марлевой соской во рту… Да… Родня… Песня… Детство… А-у!..
4
Беру в руки скарпель, — зубило такое с длинной ручкой, молоток и начинаю долбить кирпич в стене. Здесь должна проходить труба. Кирпич обожженный. Звенит. Бью резко, Скарпель, проскальзывая, вышмыгивает из кулака. Палец краснеет и пухнет на глазах. Гена, буркнув какую-то гадость в мою сторону, подхватывает скарпель и продолжает вгрызаться в стену, пока я изоляционной лентой перематываю ушибленное место. Гнусно на душе. Пакостно. Хочется всё бросить и уехать в город: принять ванну, надеть чистое белье, развалясь в кресле, пить кофе с лимоном, и смотреть, смотреть очередной бразильский сериал, от которого я недавно испытывал только зубную боль. А теперь и он вспоминается с затаенной тоской.
Назавтра — Седьмое Ноября. День согласия и примирения, так теперь, кажется, называется памятная дата начала глобальных экспериментов над Россией, приведшего её к такому постыдному состоянию, когда затюканный народ, чтобы прожить, должен наподобие нищего « лицом срамиться и ручкой прясть».
В Дом пожаловали представители администрации области поздравить неизвестно с чем, собравшихся в маленьком кинозале обитателей, болезненно напомнив им о шумной молодости и дружных демонстрациях в честь Октября — красного листка календаря. До одинокой, неприкаянной старости, тогда было далеко, да и не верили они, хмельные и здоровые в эту самую старость, когда душа становится похожа на дом с прохудившийся крышей, через которую осеннее ненастье льет и льет холодную дождевую воду. А спрятаться негде…
— Безобразие! — выговаривает высокий гость директору, показывая
на нас с Геной, громыхающих ключами возле истекающего
ржавой водой распотрошенного вентиля. — Праздник портят! Сейчас
должна самодеятельность прибыть, а здесь они с трубами раскорячились!
Халтурщики!
Мы с Геной ухмыляемся, переглядываясь, и начинаем еще ретивее греметь железом.
Правда, обещанная самодеятельность так и не приехала. Чиновники, подражая ведущим передачу: «Алло, мы ищем таланты!» вызывали на сцену под бравые выкрики, тоже принявших на грудь ради такого дела, повеселевших старичков с рассказами о героическом начале дней давно минувших. Не обошлось, конечно, и без Арчилова, который и в этот раз клеймил позором неизвестно кого, призывая с корнем выкорчевывать иждивенческие настроения масс.
В этот день и нас тоже не обошел нежданчик.
К вечеру на белом джипе подкатил наш работодатель. Румяный, молодой, в ярком адидассовском спортивном костюме, модным ныне среди «новых русских» на фоне серого обшарпанного здания и нас, замызганных и усталых, среди пергаментных постояльцев Укачкин выглядел молодцом. Король-олень, да и только!
По рукам ударять не пришлось, но поприветствовал он нас вполне дружески:
— Ну, что, мужики, с праздником вас! Работу кончили?
Гена почесал в затылке — больно скорый начальник.
Делов еще на целую неделю, а он уже прикатил.
— Ну, ладно, — говорит он миролюбиво. — Поднажмете ещё. Я, вот,
позаботился о вас! — достает из машины полиэтиленовый пакет. В пакете бутылка водки и румяный батон вареной колбасы.
Ну, вот, теперь и для нас День Революции! Работодатель улыбается:
— Ну, что — со мной можно иметь дело?
— Можно, можно — говорит мой напарник, забирая угощение. — Да
и авансец надо бы выплатить. Работа кипит. Пойдём, посмотрим!
Укачкин идёт за нами. Осматривает сделанное. Доволен. Взгляд хозяйский покровительственный. Было видно, что здесь он имеет свой маленький бизнес, копает денежку, Лезет в карман, достает несколько сотен. Протягивает — берите, берите. Бумаги на получение аванса никакой. Зачем бюрократию разводить. Вот они, деньги! Пластаются на ладонь листок к листку. Пусть пока сумма небольшая — аванс всё-таки!
Мы довольны. Хороший человек! Хороший хозяин. Своих работников не забывает! Бросает ногу на педаль, газуя, лихо разворачивается и уезжает.
Нам с Геной нить некогда. Дела. Потом догоним. Дом без горячей воды. Директор нервничает. Который день не работают душевые и прачечная. «Вы, ребята, пожалуйста, пожалейте стариков…» И мы поспешаем, жалеем стариков — бьём-колотим, гнём-контуем, режем-свариваем, концы заводим.
За полночь к нам подходит дежурная медсестра. Уговаривает не греметь:
— Тише! Человек умер. Хороший дедок был. Аккуратный. Учитель бывший. Пришла к нему укол делать, а он холодный. А этот малахольный Арчилов кричит, что он с покойником вместе спать не будет. Может, в коридор учителя поможете вынести? А?..
Смерть — самое естественное в этом мире, а привыкнуть нельзя. Разум кричит. Как сказал великий поэт, — «Перед этим сонмом
уходящих я всегда испытываю дрожь». И у меня нехорошо сжимается сердце.
Бросаем работу. Гена зачем-то берет обрезок трубы, и мы поднимаемся в палату, где лежит покойник. Арчилов возмущенно размахивает руками, что-то клокочет.
— Замолчи, гнида! — Гена поднимает трубу и Арчилов в подштанниках, взлохмаченный, прихватив одеяло, выбегает в коридор и устраивается в углу на диване.
— Пусть учитель побудет один, — говорю я, и медсестра соглашается.
Накрытый тёмным солдатским одеялом, бывший учитель с неестественно выступающими ступнями страшен в своей неподвижности.
Мы, не выключая свет, уходим.
Арчилов уже храпит на весь этаж беззаботно и отрешенно.
Идём в свою бытовку помянуть учителя.
Утром в маленькой комнатке, служащей чем-то, вроде, домашней церкви, возле бумажных икон горят несколько свечей. Кучка старушек неумело крестятся, глядя на горящие свечи. Их комсомольская атеистическая молодость все еще проглядывает сквозь сухие скорбные лица.
В столярке опять оживленно. Выбирают доски, которые посуше да попрямее на новый гроб. Жизнь идет своим чередом…
А Укачкин так и не заплатил нам за выполнение работы. Говоря по-теперешнему — кинул. Что с него взять? Какое время, таков и человек в нем,
А мне как раз подоспел гонорар из журнала. Так, что с куревом теперь все в порядке. Хотя заразу эту пора бы и бросить» Да все никак не соберусь. Прилипчивая сволочь!
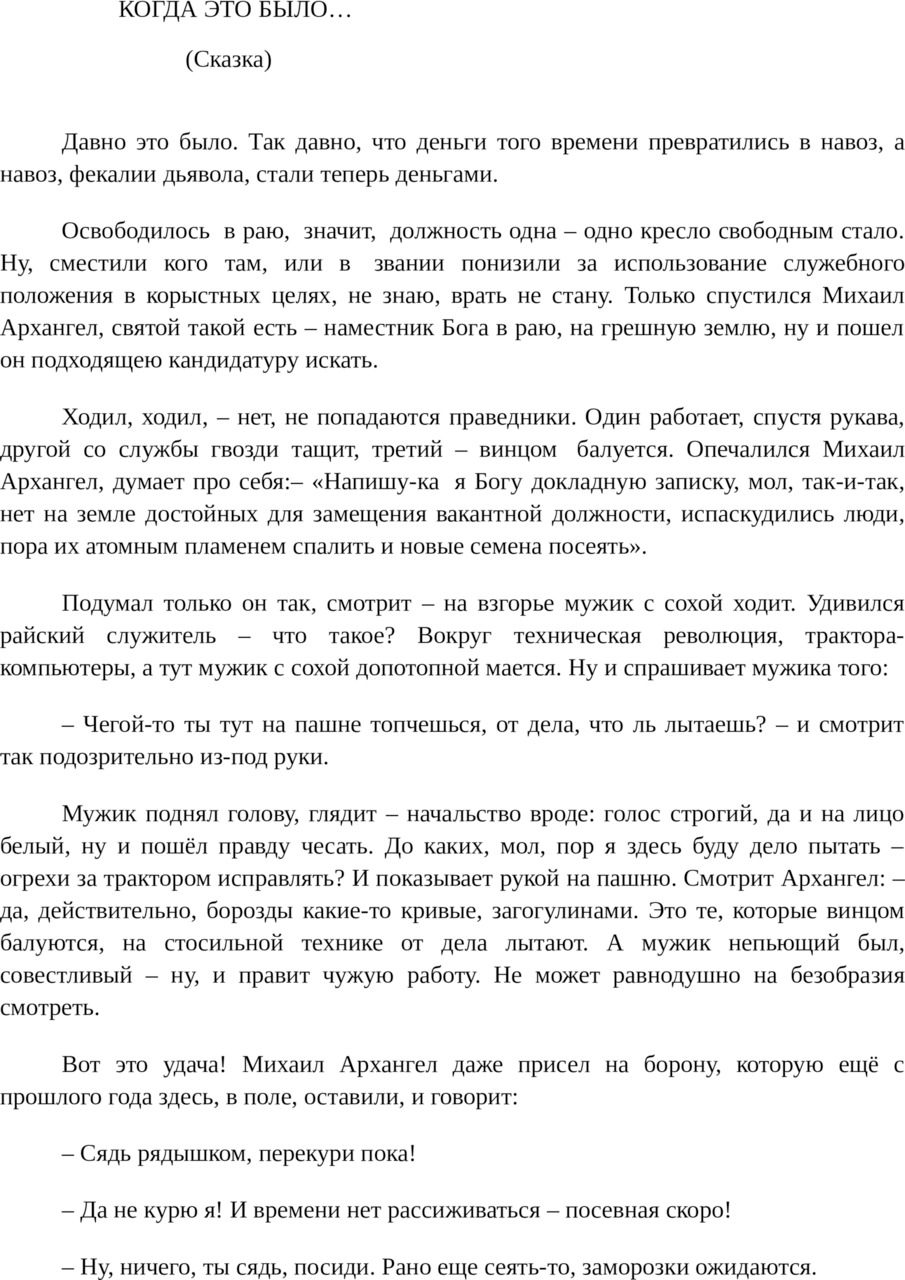
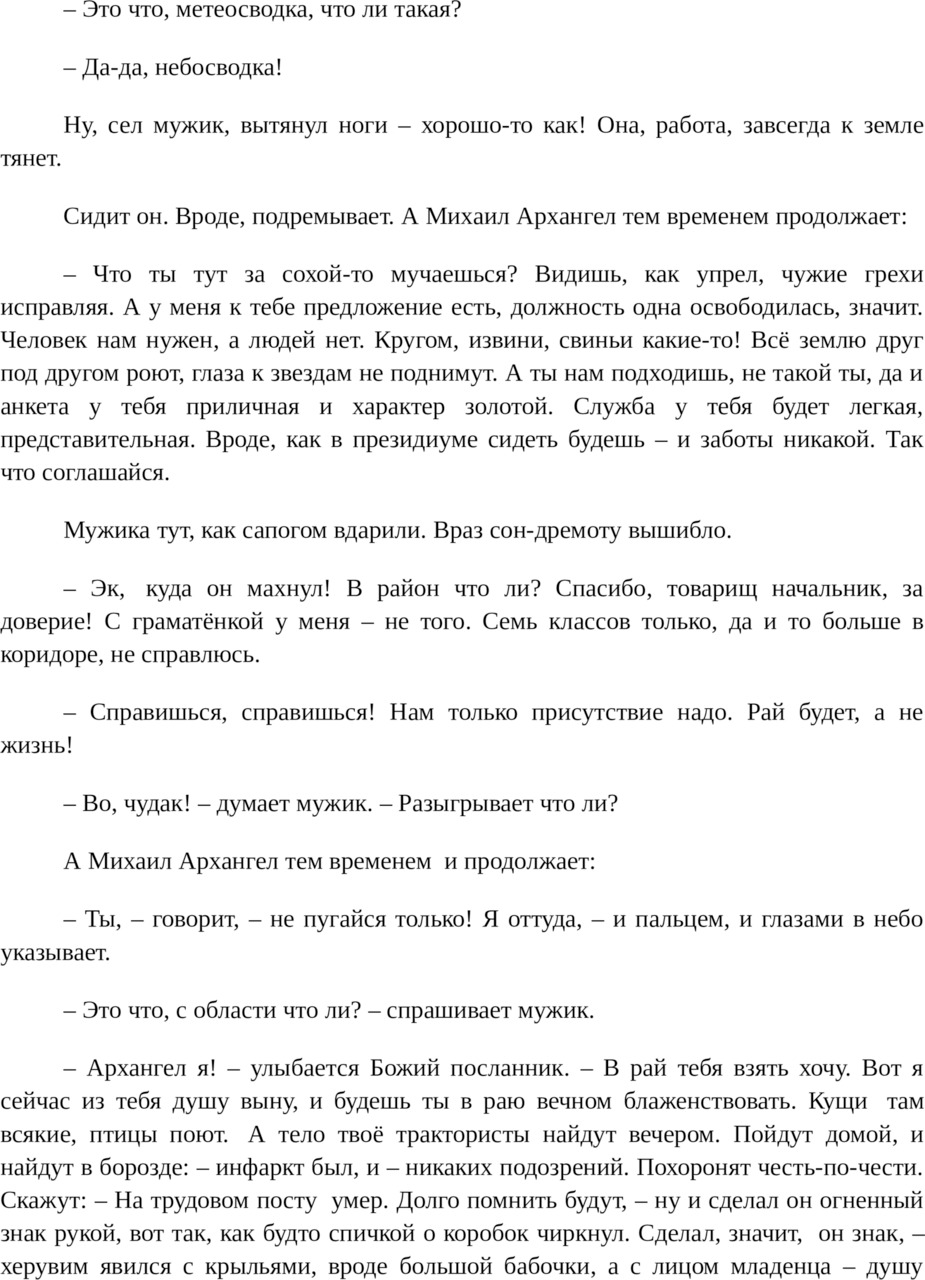
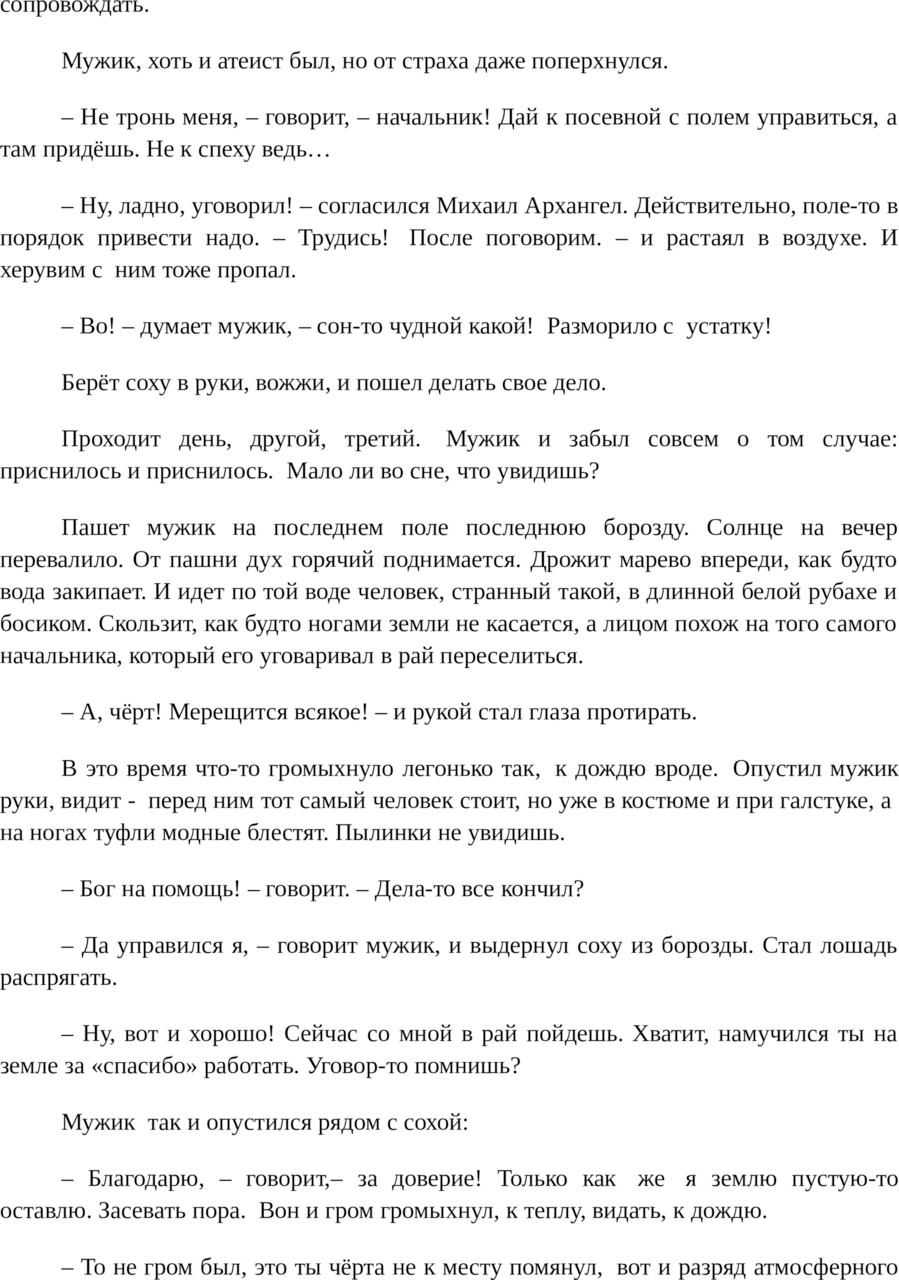
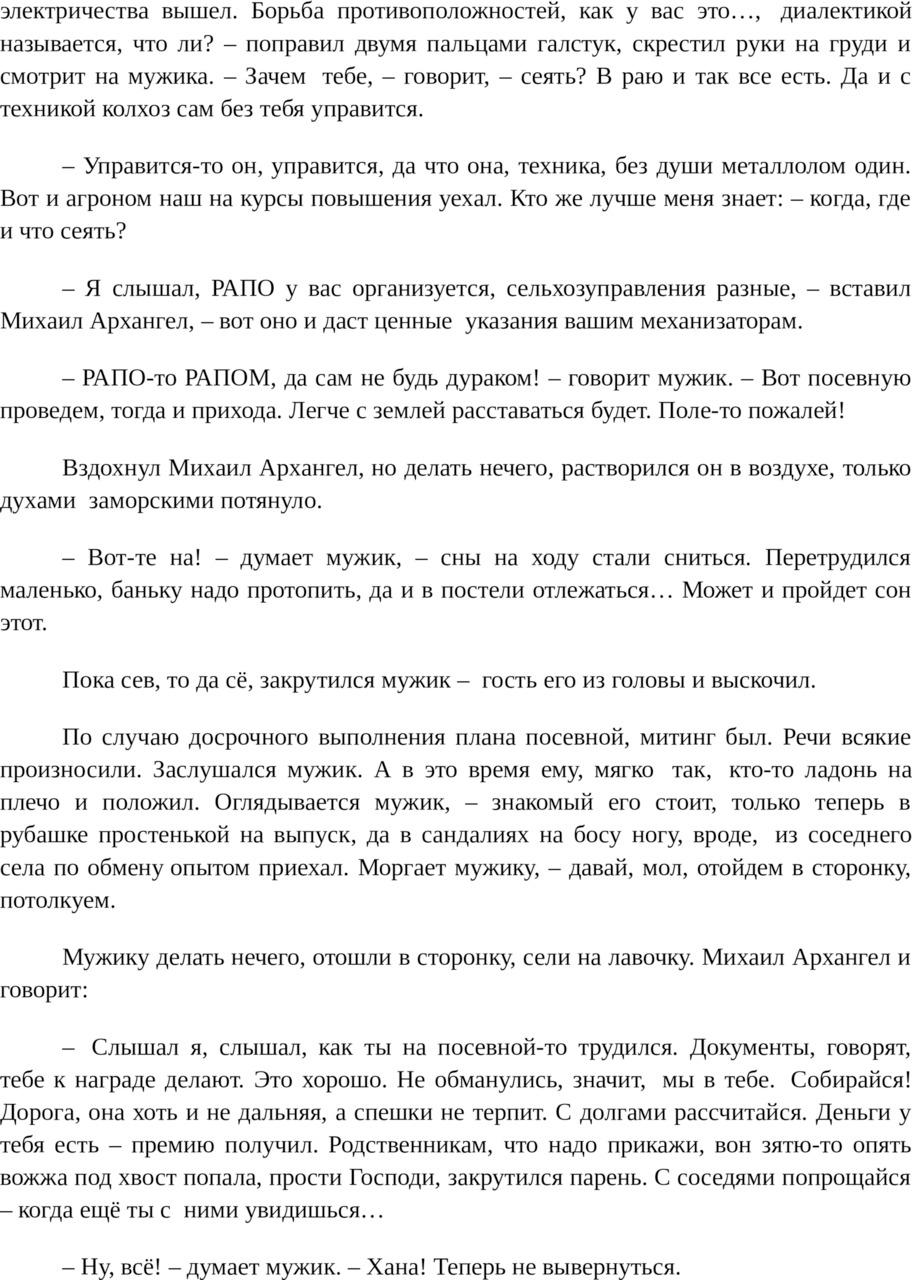
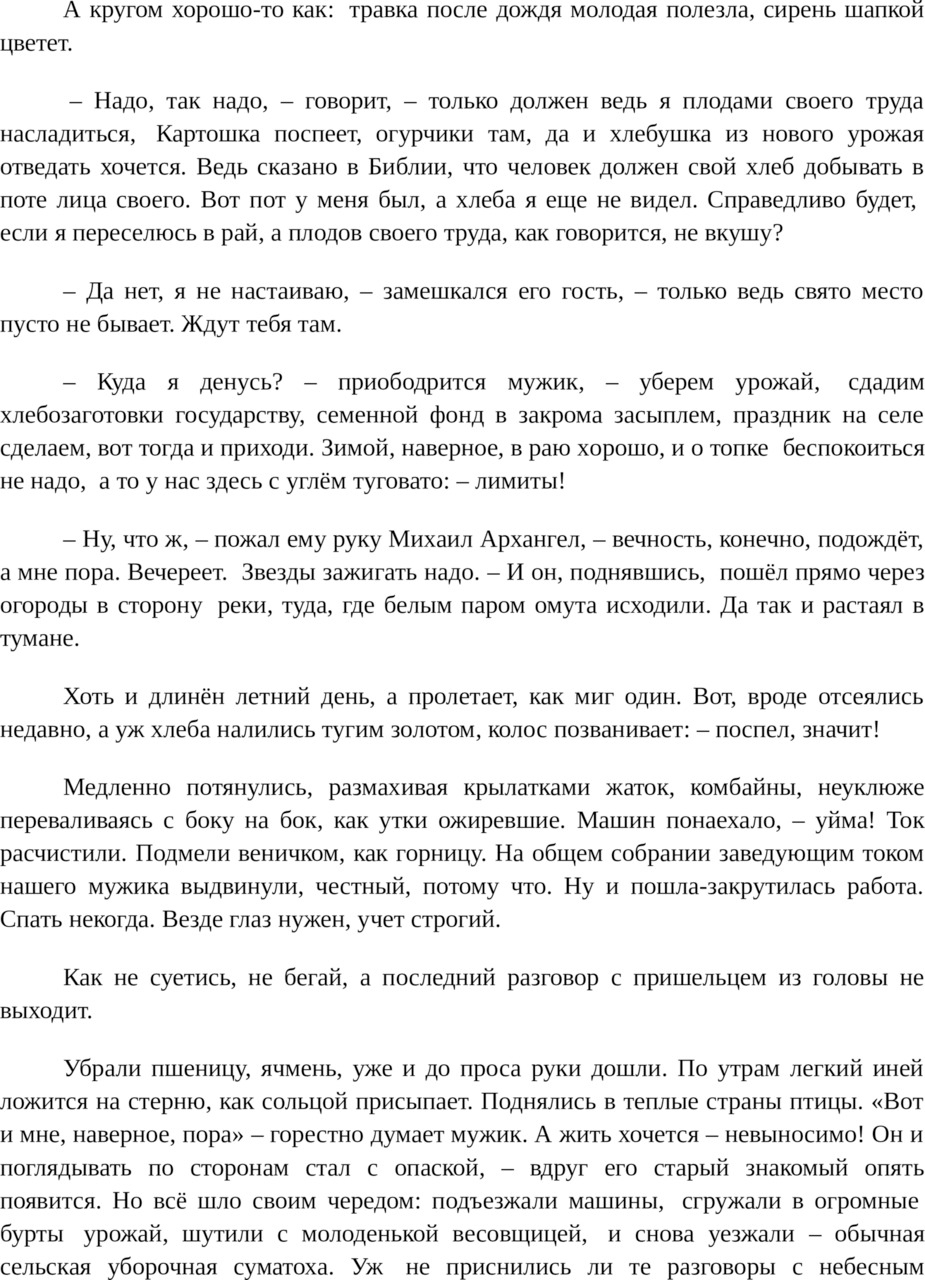
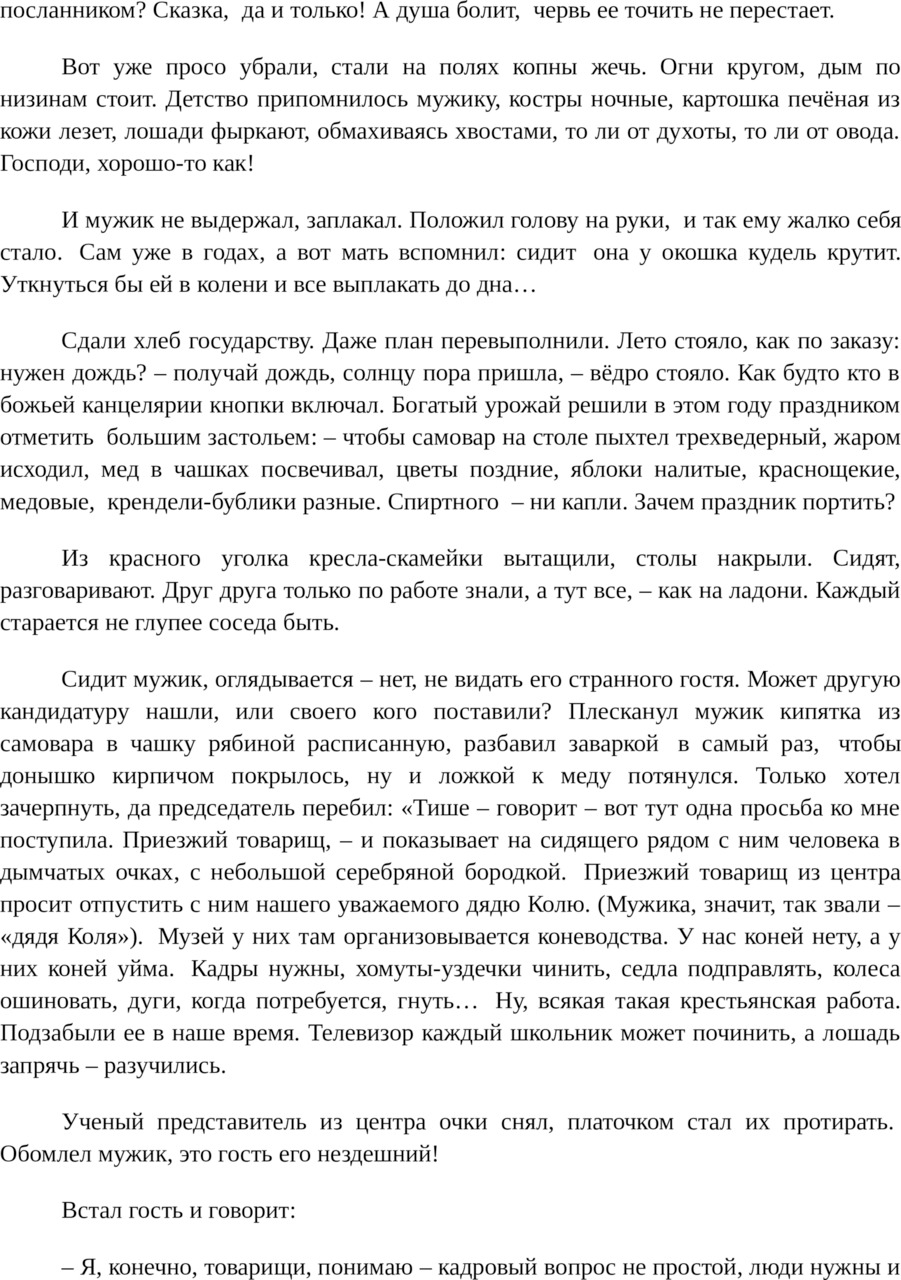
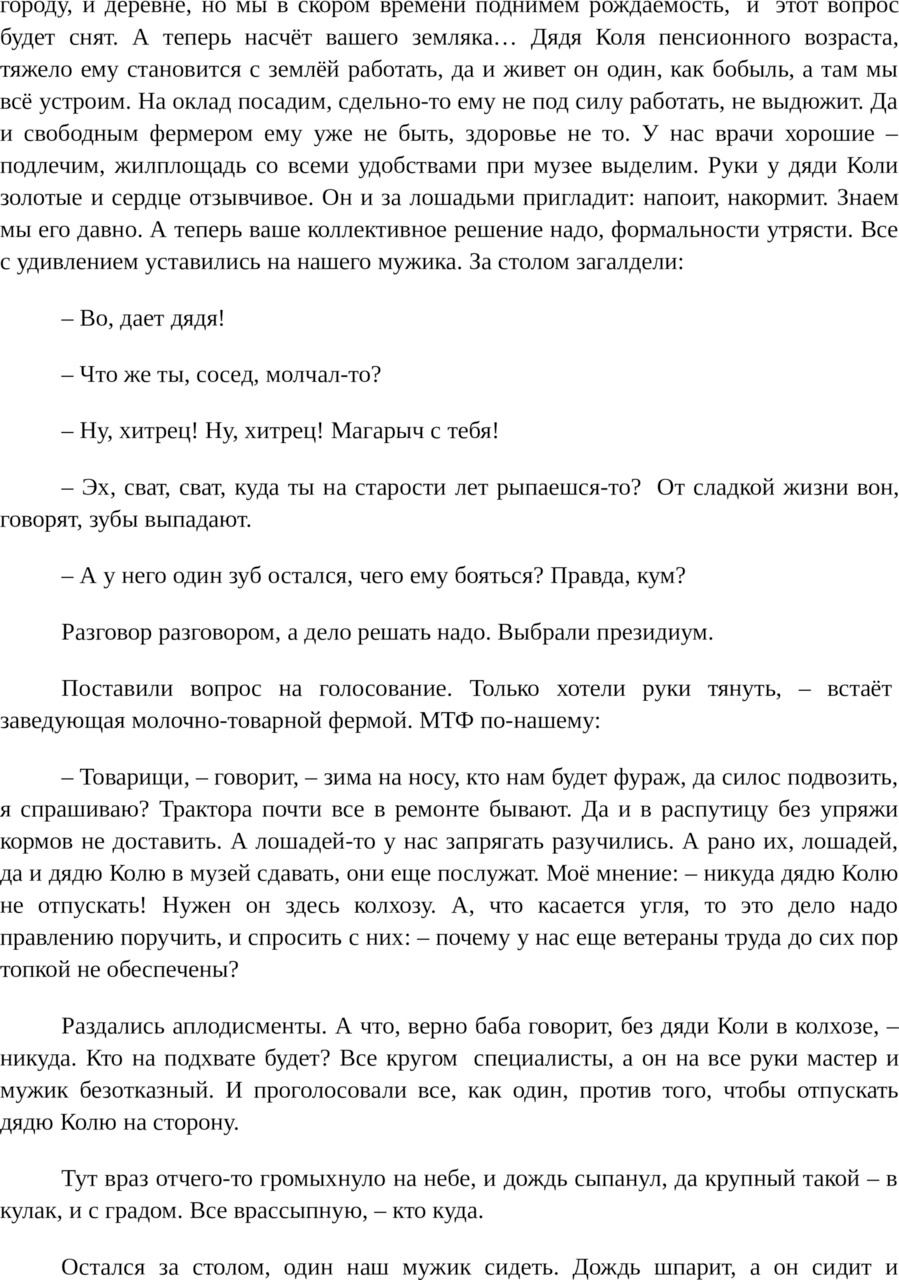
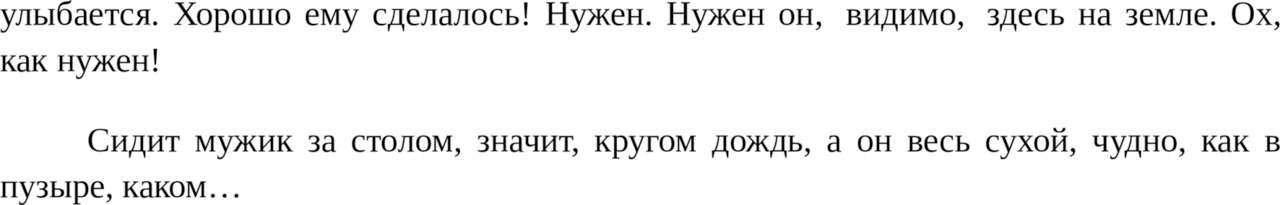
УТРЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
Ранним осенним утром, когда, заблудившийся спросонок ветер, на ощупь зябко перебирает сухие, насквозь проржавевшие листья, и свет электрических фонарей, кажется нелепым и расточительным в наши времена перманентного кризиса, из старой пятиэтажки прошлого времени с облупленной местами штукатуркой вышел молодой человек, оглянулся на еще темные окна, подхватил тачку и заспешил туда, где громыхая железом о железо, сталкивались, скользили и ворочались составы товарных поездов.
Пассажирские здесь не ходили.
Городок отличался небольшим размером своих узких улиц, каждая из которых оканчивалась или лесом, или станцией грузовых перевозок.
Таких городков по Росси множество. Вырубалась тайга, мощные землеройные машины срезали сопки, осушались болота, обводнялись пустыни и все для того, чтобы в одно время привезти сюда будущих насельников с домочадцами и заполнить пятиэтажки из силикатного кирпича молодыми голосами и детским плачем.
Городки такие имели приставку «моно», то есть один. Один — и все тут!
Большие люди за кремлевскими стенами знали, что делают. На один рубль затраченных средств приходилось девять рублей комфортной жизни государства без военной бойни и катаклизмов. Заокеанские ястребы не осмеливались точить когти, свысока посматривая на тучную добычу. Как в русской пословице: хоть видит око, да зуб неймет.
Такие городки жили тихо, особо не высовывались, на карте обозначены не были, вроде их и вовсе нет. Тишина жизни еще не значила, что люди здесь ничего не делали и разговаривали только шепотом: кузнечным грохотом железом по железу в три смены гремели заводы, в тишине лабораторий сопрягая интегралы, дифференциалы, синусы и косинусы ломали голову люди в очках, в конструкторских бюро у кульманов выводили на ватманской бумаге углы, овалы, стрелки, пунктирные и жирные линии молодые, склонные к самоиронии люди. Шла обычная напряженная жизнь во имя Государства, во имя будущего своих детей свободных от власти денег, стяжательства, казнокрадства.
Один вид стяжательства признавался здесь — стяжательство духа.
Но, как известно, дьявол живет в мелочах. Комары задрали неуклюжего государственного медведя. Гнус с арбатских двориков маленькими хоботками прокусывали шкуру великану и сосали, и сосали живую кровь, пока этот государственный медведь не рухнул. «Берите, сколько проглотите!» густо зудел над тушей самый старший гнус, пахан арбатской дворни. И хватали, и жрали, и не давились…
Вместе с Государством стали ветшать, осыпаться прахом его мускулистые силы — моногородки.
Люди в очках, забыв о математических символах, подались в обслугу к своим младшим научным сотрудникам, комарикам, которые, не брезговали поступать принципами и от общего стола урывали столько, что сытный тук вылезал из ноздрей их и даже просачивался чрез ушные перепонки.
Предприятия банкротили, людей отпускали в бессрочный отпуск без сохранения содержания.
Все ценное было растащено на залоговых аукционах. Драгметалл и редкоземельные сплавы ушли за границу. Заводское оборудование на товарняках увозили, как металлолом в Прибалтику. Лаборатории за ненадобностью разрушили. Прах пустота разъедает все скрепы.
Городки стали опустошаться.
Вот в одном таком городке по стечению обстоятельств мне пришлось одно время перебиваться с киселя на воду.
В городке этом одним из детей Арбата был срочно образован приват-банк, ну, не банк в прямом смысле слова, а банчок, если так можно выразиться, с уставным капиталом в несколько тысяч, способным разве только оплатить стоимость судебных издержек.
Но, порядок, есть порядок.
Банку требовались охранники. Имея за спиной некоторые навыки охранной службы и газовый револьвер, переделанный под боевые патроны, я после непродолжительной беседы с учредителем банка Рафаилом Ефимичем Ивановым, был принят на временную работу по охране нового капиталистического заведения.
Капитал живет, где хочет. А я вынужден жить там, где капитал.
Рафик, так все называли хозяина, был человек демократичный, с улицы, и вел себя с работниками банка тоже демократично, разрешал брать мелкие кредиты, но под большие проценты, в самый разгар рабочего дня мог рассказать забористый анекдотец, со всеми вместе попить чайку, побалагурить. У него была одна очень приметная привычка, всколупнуть у сотрудника, пока тот ищет сахар, хлебный мякиш и долго мять его между пальцами, пока свежий мякиш не превратится в настоящий пластилин.
Каждый раз из его горсти выпрыгивали на стол чертики. Всегда только чертики.
Эту привычку я, когда-то в далекой юности, работая в монтажной бригаде, не раз замечал у своего прораба.
Время давнее, послесталинская амнистия, прораб только вернулся с мест весьма отдаленных и тоже лепил в обеденный перерыв, отщипнув у какого-нибудь монтажника мякиш, тоже до бесконечности мял между пальцами, и выпускал чертиков, которые на вольном воздухе быстро каменели и украшали наш скудный стол, сваренный из тавровой балки и листового железа.
Теперь вот этот наш Рафик…
Рафик на работу своих сотрудников смотрел сквозь пальцы, охранная служба не имела четкой инструкции, каждый работал не за совесть, а в прямом смысле, за жизнь. Убийства из-за денег были обычным делом, и Рафик хорошо знал, что без инструкций и особого догляда охрана будет бдить лучше любого пса.
Работали — ничего себе. Рафик платил исправно до той поры, пока наш президент не дал указания службам «не кашмарить бизнес проверками».
Каким-то образом Рафик в Центральном банке получил кредит в несколько миллиардов на развитие «инноваций» и, не долго собирал вещи. Теперь он не на южном берегу Ледовитого океана, как того требует закон, а на северном пригороде Лондона. Теперь он там лепит своих чертиков и за ненадобностью бросает их в Темзу.
Но это случилось гораздо позже, а пока сотрудники банка слушают веселые анекдоты и радуются за такой демократичный подход к работе. Вот и я тоже — пока сижу, вспоминаю анекдоты хозяина и строго оцениваю обстановку — что, если что? Ведь недавно прямо в своем подъезде был застрелян полковник, только что вышедший на пенсию. Он возвращался на своей машине из штаба окрга, где ему должны были уладить квартирный вопрос. Время позднее. Кто-то полковника поджидал, думал, что тот поехал за пенсией — денжишь уйма! А полковник был пустой, пенсию обещали выплатить в конце года. Какие вопросы? «Отдыхай, полковник на гражданке, а нам служить еще, как медным котелкам! — сказали в штабе. — Мы сами без соли…» «А, — сказал полковник! — Я бы вас в Афгане, как горных козлов по ущелья погонял. Сидите, гиморрой мнете, служаки!» — и ушел с таком. Ни с чем, значит. А полковник — душа человек! Слуга отчизне, отец солдатам!
Обманулся бандит. Кроме медалей, у полковника ничего не было. Пробовал искать, все карманы наружу вывернул — ничего! «Ах, бес поп: утал! Прости, полковник! И нам ведь жить надо…»
Следаки теперь стали нелюбопытные. Ну, грохнули одного! Что ж тут такого? Бандит, он и есть бандит. А вот на днях, девочку выпускницу изнасиловали прямо в квартире. Следаки пожали плечами: «Сама виновата! Зачем дала? Созрела, значит!»
Новая власть в МВД своих не оставляет без пайки. Зарплату повысили вдвое, да еще уголовщина им от своего фарта отстегивает. Живут, зачем им в грязи возиться? Они сами из грязи — в князи. Э-хе-хе! Вот коммунизм чем обернулся! Рановато затели его марксисты. Сначала дотянулись бы до настоящего капитализма, а уж потом…
Смотрю в начинающих проясняться рассветных далях со стороны котельной женщина идет с тазом, вроде белье полоскала. Где тут полоскать? Реки нет. Идет, оглядывается. Пригляделся, в тазу уголь. Котельная еще с позапрошлого года разморожена. А уголь сторожат. Его пока еще не пропили. Начальник котельной бдит. Обещал: кто будет воровать — вы… бу! А уголь всегда требуется. Холода не за горами, брр! Пятиэтажка, откуда только что вышел человек, обросла снизу до верху коленчатыми трбами, словно из форточек жильцы руками голосуют за своего президента, который обещает положить голову на рельсы с смотреть всед уходящему поезду.
Кстати — о рельсах. Половину запасных путей уже растащили. Легированная сталь в Прибалтике дорогая. Рельсы режут прямо на месте автогеном. У кого нет автогена режут ножовкой по металлу. Это не так трудно, как кажется: надрезают на одну треть «яблоко», верхняя часть рельса, потом резким убаром кузнечной кувалды бьют по стыку и хрупкая сталь со звоном распадается.
Лесок за станцией свое дело делать не мешает, а ночью на тележке можно хоть тонну до своего сарая дотянуть. Сарайчики за пятиэтажкой ладные. Из кирпича. Командование разрешало. Люди строили на века. Думали — детям пригодиться!
Эти трубы, это утро, эта согбенная женщина с тазом на фоне бледно-серого неба: немыслимой печали картина импрессионистов нашего поколения — мелодия распада.
Эти скребущие по асфальту листья наводят такие воспоминания, что лучше не поддаваться ассоциациям. Подобное я уже видел в своем младенчестве — Война!
ДОРОГОЙ ДЯДЯ РЕДАКТОР…
или с любовью из Украины
Живёт-обывает в сопредельной с нами незалежной стране, в сельце Воскресеновка, маленький наивный хлопец Николка — колядник, щедривник, посевальник, и вообще гарный человечек. Живёт с мамкой в маленькой мазаной глиной хате, чистенькой, белёной голубоватым раствором гашёного карбида. Этого карбида у приезжего сварщика Михася целый жестяной барабан будет.
Михась тот, тоже гарный хлопец. Настоящий парубок: пшеничный оселедец на лобастой, бритой, круглой и крепкой, как перед Николкиной хаткой голыш-камень, голове, усы хоть ещё и жидковатые, но уже свисают двумя косицами с толстой губы, привыкшей держать изогнутую по куньи, трубку-смологонку — настоящую люльку, пропахшую ядовитым махорочным дымом.
Михась квартировал у них в хатке всё лето и Николка пробовал пососать этот деревянный гостинец. Никакой сладости, только голова закружилась.
Михась приехал из Галитчины к самому пану Леху, фермеру из братской Польши, помогать ему возводить хозяйственные и складские постройки на месте сгоревших в одночасье колхозных ферм.
Дом у пана огромный, на два этажа, четыре злющие собаки на четыре угла дома, видеокамеры зорко из-под козырьков смотрят на дорогу, не заехал бы кто невзначай в гости…
Пан Леха, местные называют его по москальски — Лёха, чтобы земля не зарастала дурнотравьем, прибыл помочь селянам в их нелёгкой крестьянской доле; взял в аренду чернозёмы и теперь выращивает для своих заводов в забугорном крае сахарный чудо-бурак, такой породистый, что и говорить нечего. Гнать из него горилку — милое дело!
За работу пан с бывшими колхозниками расплачивается тоже бураком. А, куда мужику этот чудо-бурак девать? Знамо дело, некуда! Вот и приходиться перемалывать его на горилку. Горилка з перцем — хорошее дело! Дёшево и сердито!
Сам пан Лёха, когда ему поднесли на рушнике чарку вёрткие молодухи, пробовал той горилки, да не пошла она ему в горло, вышвырнулась. Прилюдно конфуз вышел, насилу отсморкался пан-хозяин и прогнал молодеек со двора. Сказал, чтобы приходили под хмару, но только без горилки, у него у самого наливок полный погребец, одному пить — мочи нет!
Рабочих у пана много, а сварщик один. Он специалист. Сваривает металл с металлом, как штаны штопает — строчка к строчке.
Попросился Михась к Николке в хату на постой, мамка его и пустила. Ничего — в тесноте да не в обиде! Михась денежек за постой заплатил сразу на весь срок, поэтому учебники на этот год у Николки куплены свои.
Учится этот малой хлопец хорошо. Пусть Николка ещё пока не парубок, но он им будет — ей Богу! Усы станут похлеще, чем у Михася, а вот трубку он в рот брать не будет. Не дурак совсем, чтобы в грудях дым хоронить…
Михась ему друг. Помогал белить хатку со всех концов. Николку мочальная кисть плохо слушалась, поливала едучей карбидной гашёнкой, смывала глину со стены, а у Михася махровая кисть в руках была послушна, и сама металась по стене хатки, как озорная маленькая обезьянка, которую Николка видел однажды в киевском зоопарке, куда прошлое лето ездили на экскурсию всей школой.
Мамка могла бы тоже помогать Николке, да она слегла, — болеет, как только папка их покинул, смахнув с вешалки свой модный из померанцевой кожи жупан.
Ему бы, маленькому украинскому хлопцу, бежать за папкой, ухватиться за жупан и не пускать, а он возле мамки сидит, тихий и слёзы на глазах.
Мамка у Николки красивая, умная. Когда она не болеет, то всегда поёт одну и туже песенку про кошку, грустную-прегрустную: «У окошка сидит кошка, к ней подходит бригадир: — Иди кошка на работу, а то хлеба не дадим!». Попоёт, а потом плакать станет. Руки у мамки мягкие, тёплые. Под ладонями мамки до того хорошо и сладко, что Николка, как маленький котёночек жмурится и трётся о них своим личиком, тоже влажным от недавних слёз.
Мамка училась в большом русском городе на школьного учителя литературы и русского языка. Потом работала, выращивала из бестолковых, орущих в разнобой украинских пацанов, отцы которых делали ракеты и покоряли Енисей, настоящих парубков. Да не все дорожки ведут к Храму. Некоторые мальчиши-плахиши на распутье повернули не в ту степь — попали в услужение к буржуинам, в Раде сидят, пишут законы ломом по воде. И ничего, не подмокают, сухими выходят. И тогда дела сами собой поворачиваются к буржуинам лицом, а к народу задом. Вот как!
Теперь мамка не работает. Русский язык новые власти запретили, и пришлось мамке в своей школе уборщицей стать. А, как мамка захворала, так её новый директор, из жёвто-блакитных, сразу же и уволил.
Теперь в семье денег совсем не осталось. Электричество обрезали за неуплату. Сидят в потёмках. Мамкина пенсия по болезни маленькая, только и хватает на керосин в лампе, чтобы Николка мог по вечерам книжки читать. Охочий он до книг. Они с мамкой читают вместе. Потом долго разговаривают. Мамка тяжело при этом вздыхает. Она говорит Николке, что знала в большом русском городе местных писателей и дружила с ними. Ходила на их выступления. Сама пробовала писать стихи и носила в хороший чудо-журнал «Подолье», что значит равнина, степь… «Помнишь песню, — спрашивала мамка, — «Степь да степь кругом?..»
Как не помнить! Николка много песен знает, ему Михась тоже напевал какие-то странные песни, «железный рок» — говорил. Но слов тех Николка не запомнил, нехорошие какие-то слова! А вот — « Поле, русское поле, я твой тонкий колосок…» помнит наизусть. «Московские вечера» ещё…
Много знает украинских песен. А, может, они тоже русские, но с украинским напевом — «Маруся, раз, два, три калина! Чернявая дивчина в саду ягоду рвала!» Эту песню он слышал от солдат, которые однажды маршировали по Воскресеновке на учениях, как мамка говорила.
А ещё ему нравятся стихи Тараса Шевченко — « Реве та стогне Днипр широкий. Сердитый ветер завыва, до долу вирби гне высоки, горами хвылю пийдима…»
Теперь зима. Брррр! Холодно в хате. Лозинки, которые Николка принёс целую охапку, давно сгорели. Хлопец завернулся в мамкину шаль и сидит у окна. Вечер зимой длинный. Кажется, с утра только встал, а уже темнеть начинает. Скушно. Михась уехал на зиму в свою Галитчину. Пан Лёха отправился на северный берег Австралии. Там чудо-климат. Зимы никогда не бывает. Николке бы там тоже зимовать, а не зябнуть здесь у окна. Николка бы уехал, спрятавшись в багажных коробках пана, да мамку оставить не с кем, жалко мамку. Вон она лежит на постели и тихо вздыхает. Жалко мамку до того, что сердечко сжимается, вот как жалко. Всё бы для неё сделал, только бы она не плакала.
Ей бы что-нибудь почитать вслух, да нечего. Папка все книги с собой забрал.
Сидит славный наивный украинский хлопец у окна и смотрит туда, в лесок за речкой, где белая метель из очёсов пряжу прядёт, да белое полотно ткёт и расстилает. На полотне иногда вспыхивают голубоватые искорки — мамка говорит, что это заяц учиться спички зажигать. Охотники спички растеряли, а заяц их подобрал и вот чиркает по ночам. Балуется.
И-эх! «Чому я ни сокил, чому не литаю? Чому мине, Боже, ты крылья не дав? С земли б я поднялся, тай в небо взлетав…» — опять вот припомнились чудо-стихи!
Что бы такое сочинить, чтобы мамка плакать перестала? Может, колядки, или щедривки, Рождество завтра. Праздник Света Господа нашего Иисуса Христа.
Николка иногда стихи пробует сочинять. Мамка говорит, что это детская желание говорить в рифму, просто графомания, но он такого слова сроду не слышал, а мамка объяснять не стала.
Стихи Николка пишет по-русски, на мове у него плохо получается, не складно и ошибок много, а вот посевальники на святки, или колядки со щедривками хорошо получаются. Он даже завтра попробует по хаткам сходить со своими колядками. Пропеть их по-украински, по москальски нельзя, полицейский в участок посадит, тогда, кто будет за мамкой ухаживать, печь топить, бураки парить. Пан Леха целый воз бураков подарил им с богатого урожая. Богато — это хорошо! Каждый день можно пряники есть, и даже булочки с молоком. Молочка хочется, да коровок всех на селе порезали. Пасти негде. Пан Леха не разрешает. Там его земля теперь. Поля бескрайние.
Вот сочинит Николка несколько щедривок, пропоёт их куме Марье, куму Ничихайло, крёстному своему дяде Петру. Дядя Петро мужик простой, когда выпьет. Крестник ему щедривку пропоёт, глядишь, и гривну в ладонь даст, сальце отрежет ломоть…
Хлопец своей мамки всё принесёт. А если пару гривен наберёт, то и пряников к чаю купит… Хорошо зимой чай пить, если сахар есть и пряники писаные. Да пускай и не пряники, а булка пшеничная с румяной корочкой. Ох, хороша!
Николка сглотнул слюну, прильнул к столу и стал что-то писать на тетрадочном листе. Вывел аккуратно большими буквами «МИР ВСЕМ!». А что будет на том листе дальше, то об этом первым узнает большой редактор «Подолья», журнала того, о котором мамка всегда вспоминает…
2
Толстый литературный журнал «Подолье» помогал организовывать ещё сам комиссар Плешаков во времена Великого Перемола.
Старый журнал. Распашка его страниц была сродни раскинутым крыльям большой птицы, парящей высоко-высоко, так высоко, что можно было невзначай опалить крылья, приблизившись к солнцу.
В журнале, хоть и с лёгкой опаской, но печатались своенравные, удивительные творения Ивана Пришлого, самодостаточные стихи Павла Тулупова. Даже будущего любимца читательских масс Аверьяна Неустроева можно было увидеть на страницах «Подолья» и почувствовать полной грудью запах кизячного дымка стелющегося по донским станицам.
Сам Максим Акулов, и тот не обходил вниманием этот журнал. Такие времена были: суровые, но полные молодецкого размаха и того крутого воздуха, которым дышали подоляне на русском чернозёмном подоле.
Руководители Большого города подарили журналу прекрасный особняк на своей главной улице со светлыми комнатами, конференц-залом, паркетные полы которого так и сверкали отражением широких улыбок его сотрудников.
Хороший журнал. Хорошие писатели. Хороший творческий климат — пиши, работай, завидуй, пробуй!
Каждое время имеет своих героев…
Время «Купи-Продай» обрушило журнал в одночасье.
Проснулся по утру редактор, ещё не успел чайник на плиту поставить, а ему уже звонят сверху, и голос какой-то прокуренный или пропитый. Простой голос, уличный и всё тыкать норовит:
— Эй, ботаник очкастый, греби со своими малявщиками из моего особняка! Я здесь буду бабки строгать! Чтобы к вечеру убрал всю макулатуру, не то рога посшибаю!
Редактор, хоть и родом не из тех, которые соплю из носа не вышибут, но человек интеллигентный: университетское образование, Литературный институт имени М. Горького, член Союза Писателей, от неожиданного хамства чуть зубную щётку не проглотил. Он такие слова даже в детстве не слыхал.
— Да, как Вы смеете? Хулиган! Я милицию позову!
В трубке смачно матернулись, или просто высморкались в кулак:
— Ты, малявщик! Языком динамо не крути! Я с мусорами любой вопрос перетру. А твой бугор в яме сидит. Он у меня теперь с бабками, в трактире «Ямщицкие зори» удила закусывает. Шлея под хвостом. Ему до белой горячки там сидеть. Сам знаешь!
Конечно, знал Редактор в областной администрации куратора по культуре. Как не знать? Местная телепрограмма «Капитал-Шоу» многим ему обязана: играл-поигрывал, хотя не угадал ни одной буквы.
Сказано сделано. Как в сказке — чем дальше, тем страшнее.
И вот оказался редактор со своей командой и чудо-журналом на краю города, в бывшей прачечной купца Калашникова, знаменитого тем, что его праправнук изобрёл автоматический жарочный шкаф для пирожков с ливером соевым. Так и строчит, так и строчит! Каждую минуту — пирожок «Кус-кус» горячий. Вот какой внук у своего прадеда!
Но пирожки, пирожками, а журнал выпускать надо, всё-таки орган, и не какой-нибудь, а словесности. Только вот — как работать, когда в маленькой комнатушке его сотрудники друг у друга на плечах сидят — кто снизу, у того шея болит, а кто сверху, у того голова кружиться.
Прачечная кирпичная, стены в метр толщиной. Постройка старины глубокой, добротная, правда, подоконники ниже уровня земли, но зато — крыша выше человеческого роста. До ската рукой не дотянешься…
Раньше писатели в журнал шубой шли, у порога толпились, толкались локтями, а теперь, когда на гонорар за роман больше дырки от бублика не купишь, стали потихоньку исчезать. Да и писать стало незачем. Кто читать будет? Сверху разнарядка такая негласная спущена, читателя считать за помешанного, за дебила русского, за ботаника.
В школах всех русских классиков, гордость своей нации, изучают скопом за одну неделю: нет занимательности сюжета, игры нет, секса. Разве это литература? Гоголи да Пушкины! Романы какие-то скушные, застенчивые, не раскрученные — от сохи что ли? Где герои публичного, постельного труда? Где любовные бои групповухой? Где конкурсные интриги эротоманок знаменитых количеством одноразовых мужчин? Крови нет. Нету крови! Тьфу — не утрись! Мораль одна! Зря эти классики только бумагу портили. Сколько бы можно было памперсов да прокладок с крылышками наделать! Летай — не хочу! Чего зря народ портить, отвлекать его от священной молитвы золотому тельцу Ваал-Зебулу. Вот она, рука-то, к себе гнется! Одна курочка-дурочка от себя отгребает. Хватай, держи, а не удержишь руками, зубами вцепись. За горло? Да хоть и за горло! Поколение пепси берёт от жизни всё!
А Редактор был человек книжный, да к тому же поэт. У больших знаменитостей своего времени учился. С Колей Рубцовым одну рюмку на двоих делили, Юрия Кузнецова — вот так знал! К студенткам в общежитие мединститута вместе страдания носили. Друг другу ножку не подставляли. А Юрий Кузнецов — это вам не Губер-Бубер какой-нибудь! Поэт невозможного масштаба! На него поглядеть, так шапка свалится. Такой высоты достиг своим талантом, что с Богом мог разговаривать…
Ну, ладно! Это дело прошлых времён, тогда ещё коррупции не знали, жили, если не по совести, но и не по сундучным правилам. За деньги к Сатане в услужение не шли, не до того было! Работали, книжки-журналы читали. В школах тогда ещё правила безопасного секса не знали, а больше математику с физикой, да классиков мировой литературы изучали.
Вот и Редактор, нет, чтобы переводы Камасутры публиковать, а он всё о российских просторах, где нужда с бедой в обнимку живут! И писатели к нему ходят какие-то застенчивые, вроде и не писатели вовсе, а читатели начинающие. Иногда смотришь на такого и думаешь — мать честная, до чего же их рынок довёл! Ну, совсем, как дети малые! Видите ли — крови на бумагу никак не хотят лить, извращений разных, экскрементов плавающих в потоке сознания, клюквы развесистой, чудовищ порождённых глубоким сном разума! Чистюли! Вот и живут, как-нибудь!
Правда, ходит тут один приблудный. Калашников тоже… Но никакого родства с пирожковых дел мастером не имеет. Так, однофамилец! Правда, пули отливает достаточные, и строчит очередями по-матерному. Но ему простительно. Он всю жизнь болты крутил на нефтяных вышках, базу готовил для олигархов, а они его не узнали. Даже руки не пожали. Вот он теперь и пишет запоздалые повествования о том, как рабочему человеку повезло — свободен и без оков. Свободен от денег и обязательств всяких — социалистических и капиталистических, и работать никто не заставляет! Придёт он к Редактору, сядет и всё ждёт чего-то. Может денег за свои сочинения, а, может, выпивон дармовой.
Редактор — человек сам непьющий, никак не войдёт в положение писателя Калашникова. Ну, отдал бы причитающий ему гонорар — и дело с концом!
Отдал бы, да, где деньги взять? Бюджет журнала скудный, авторов на коротком поводке держит, не позволяет расслабляться. Пока придут деньги, Калашников этот до лета в кабинете сидеть будет. А сегодня зима. Правда, в этом году она какая-то насморочная. То дождит, то ветром лютует. Крещенские морозы теперь только в бабкиных сказках остались, да в кабинетах бюрократических от чиновничьего погляда.
В тех кабинетах, наверное, кащеи живут, они бессмертные, им всё равно где кровь студить…
Сидит Главный Редактор и думу думает. Горькую думу. Подписчиков мало, а других — где взять? Люди от литературного нормального слова шарахаться стали, как от заразы, какой! Теперь читают больше судебные сводки с крутым криминалом, а не художественную литературу. Гламурники с гламурзетками в моде, а не судьбы простых россиян, тружеников молчаливых на которых страна держится. И-эх! Доля наша, доля!..
Главный Редактор тоскливо посмотрел в окно, там кто-то с калиткой возится, никак не откроет. Почтальон что ли?.. Во, дела! Калитка от себя открывается, а человек её на себя рвёт, не к добру. Может…
Только поднялся Редактор помочь тому, кто с калиткой никак не совладает, а человек уже в дверном проёме стоит, конверт протягивает, и расписаться в бланке просит.
Опять графоманы! От них никакой мочи нет! Снова стихи, кажется?
В отделе поэзии этими стихами все углы забиты, как прошлогодней соломой, хоть под ноги стели!
Расписался Редактор в бланке, взял конверт и отпустил пришлого человека интеллигентным словом — «Спасибо!». Сам снова сел на стул повертел конверт и положил его, не читая, на стол. Штемпель на нём, подозрительный был, страны сопредельной. Мало ли что там вложили! Может пластикатор взрывчатый! Уж очень в этой стране россиян не любят! Жуть!
Так конверт и лежал бы не распечатанный до неизвестных времён, если бы не вездесущий писатель Калашников. Вломился, как всегда, в кабинет без разрешения и давай глазами по столу шарить, искать писательское удостоверение, которое вчера он в залог оставил, когда на маршрутный автобус денег просил. Он, как увидел на конверте красный штемпель сопредельной страны, так и заорал, как оглашенный:
— А, шоб тебе повылазило! На украинской мове ни одного писменника не читав. Дай потренируюсь!
Редактор от такого панибратства так растерялся, что сам отдал конверт в руки нахалу:
— Читай, чего уж там!
Калашников отпил остаток кофе из редакторской чашки, выпотрошил конверт и, разгладив для порядка несколько выпавших листков, стал читать.
Пока Калашников, спотыкаясь в ударных гласных, читал письмо, лицо редактора стало изнутри светиться, вроде как электрическая лампочка там разгоралась. Ничего не скажешь — чудо-письмо!
3.
«Мир вам!
С любовью из Украины!
Доброго Вам дня!
Доброго Вам такося и здоровьячка, глубокоуважаемый дядя редактор чуда журнала «Подолье»! поздравляю Вас и всю Вашу семью со щедрыми зимними Святками, Новым Годом, Рождеством Христовым и Крещением! От всей души желаю Вам всего самого –най-най-найлучшего, нового, светлого и доброго! Пусть же у Вас всё будет славно и хорошо! Пусть!
Зима — это не только колючие ветры со снегом и морозами… Зима — это ещё и целый парад щедрых Свят: колядки, щедривки, посевание. И мне очень хочется до Вас прийти и поздравить Вас с этим Чудесным Святым Днём Рождения Царя царей Иисуса Христа и пропеть для Вас мою славную Колядочку:
«Нова радiсть стала, — з неба зiрка впала.
Цеже до Вас, дядя Редактор, вона мене прислала,
щоб Вы не журилися, щоб Богу молилися.
I щоб Вам добре всякий хлiб родився!
Щоб на столе богато всякого стояло.
I щоб Вас, Господарю нiщо зле не брало!!!
А за Рождественскими колядками идут уже щедривки, и посевания на старый Новый Год. И мне снова здорово хочется до Вас прийти, щобы посевать Вашу хату, Вашу семью и Вас нашими щедрыми украинскими пшеничными зёрнами. А пшеничные зёрнушки — это же хлеб. А хлебушко — это же сила, мощь и здоровье, а также сало и горiлка. Пусть будет дорогой дядя Редактор всегда сильным, крепким, здоровым, чтобы чарку рука держать не уставала весь этот 2008 год, и ещё — всегда, всегда, всегда от нашего щедрого украинского хлеба-каравая.
Будьте всегда!
А хозяева дарят детям на эти святки гостинцы — это сладости и деньги. А я не хочу от Вас таких сладких гостинцев и денег. Я хочу, и очень, от Вас иного гостинца, особенного, духовного!
Вот, если бы вы да сделали для моей мамы Новогодний Рождественский гостинец-подарок-сюрприз и обрадовали маму, и выслали на 2008 год Ваш чудо-журнал — «Подолье».
Пожалуйста, будьте так добры, сделайте маме радость и счастье быть с Вами и читать Вас. При всей любви к Вам — мама не в силе Вас выписать, так, как мама хворает, не работает, и семью пленило тяжёлое безденежье. А папы у нас нет. Сбежал. Испугался трудностей и сбежал. Мама будет Вас читать и вспоминать Вас добрым словом, от радости мы Вас расцелуем. Пусть же Ваш журнал да будет Вашей духовной и манитарной помощью. А мы заранее сердечно Вам благодаримо за Вашу доброту, чуткость и милосердное сердце доброго Вашего.
Если сможите, — то не откажите. Ладно? Ведь кто же поможет украинскому сельскому обездоленному читателю из глухой сельской глубинки, если не Ваш и мамин журнал, если не наши старинные русские друзья-братья-славяне из России. С большим нетерпением ждёмо Вашей доброй весточки-ласточки, квитанции на подписку любимого маминого издания — «Подолье». Всех Вам благополучий и радостей! С искренним уважением и любовью до Вас — маленький, наивный хлопец из Украины Николка-коляднык-щедрiвнык-посевальник.
Наш адрес: Украина, 62113, Соседская область
Богодуховский район. Село Воскресеновка Заньков Николка.
Ой, чуть не забыл! А, может у Вас остались номера «Подола» за прошлые годы — то обрадуйте, поделитесь с нами. Мама вновь хочет их прочитывать. Так, как мамину подписку забрал, (или сказать прямо — украл, воровал) наш бывший папенька.
Извините.
Спасибо Вам!
Хочу Вам посiвати моiми посiвальниками, рядочками.
…Сiю, сiiю, посiваю,
З Новiм Рокiм Вас вiтаю!
Щоб родило iз землi,
Щоби хлiб був на столi
I в коморi, i в оподолi,
Щоб всього було доволi.
I не знали щоб разлуки
Вашi дiткi i онуки.
Дай же, Боже, у добрый час
Щоб Добро гостило у Вас!!!
**********
…Дай Вам, Боже, здоровья,
Дай Вам, Боже, Любовi.
Хай усе обминов Вас
Що у свiтi негоже!!!
ДОРОГОЙ ДЯДЯ РЕДАКТОР!
Простите меня. Давно написал Вам письмо. А отправить боялся — так неудобно и стыдно: просить, унижаться…
А потом передумал — да ладно уж, отправлю письмо. Будь, что будет!
Извините за нашие злыднi!»
************************************************
Вот такое вот письмо. Прочитаешь — не скоро забудешь. А если забудешь, то ты, уже много поживший в жизни, так ничего и не понял.
Даже писатель Калашников, и тот рукавом утёрся. А редактор стал шарить в пиджаке. Стукнул по карману — не звенит. Стукнул по другому — не слыхать! Тряхнул седой чубатой головой дядя Редактор и пошёл в бухгалтерию в счёт своей зарплаты выписывать гарному хлопцу квитанцию на годичную подписку чудо-журнала «Подолье».
Чудны дела твои, Господи…
Фантомы пожилого возраста
Далее в тексте выделены курсивом
замечательные стихи Анатолия Передреева
«Из юности», на которые автор хотел написать запоздалую рецензию, а получилась вот это…
вместо эпиграфа
Сука — старость! Жабьим слюнявым, склизким и холодным языком вылизывает потрёпаное, исстрадавшееся за жизнь сердце, оставляя только горечь воспоминаний.
Сука, старость, воровка и скупщица краденого в одном безобразном образе! Владычица всемирной энтропии! Она приходит из неоткуда, из тех мест, где нет времени и пространства, где нет ничего. Её породила вечность. Послед, наполненый пустотой, это её логово и пристанище. Сука — старость!
Старость, как и любовь, вечная спутница жизни. Где прошла, пропела, проплясала сладкая молодость, протаптывая дорогу, там не заблудиться та, которую не ждут, но она приходит, вползает змеюкой и беспощадно жалит в голову и пяту, как сказано в Писании. Сука — старость!
Блажен и счастлив, будь, проторивший дорогу той, которую не ждут, но она приходит! Почему, доживший до седин человек, с такой жадностью смотрит на мир, словно открывает для себя нечто, до сих пор не виданное и не узнаваемое? Потому, что приблизившаяся старость, приближает так плотно мир, словно вкладывает в руки увеличительное стекло, тот волшебный окуляр, через который всё видеться в истинном свете, не замутнённом хмельным сознанием юности. Блаженна старость! Приходи с миром…
Весеннее, майское утро по-летнему свежо и румяно, словно молодица, спешащая на свидание.
Хорошо пройтись утром по тихой просторной воронежской улице облитой солнечным светом, чистым, как улыбка младенца, да простится мне литературная банальность образа! На склоне лет пришлось зарабатывать на жизнь ночным сторожем литературного музея Маршака, детского поэта, известного любимца советской пионерии, оттуда и этот обманчивый образ.
Моя ночная вахта прошла, как всегда спокойно, и я, оставив за собой ночь и зелёный парус одинокого вяза во дворе, вышел в солнце, в птичий щебет на автобусную остановку. Господи, хорошо-то как! Полыхает голубое и красное. В ещё не остывшую от жизни грудь, вливается светлое и молодое.
После тамбовской тесноты улиц, где протопала и проплясала моя молодость, я никак не могу привыкнуть к просторным аллеям аккуратных, молодцевато, по-жениховски подстриженых деревьев за которыми отсвечивают витринами множество лавочек и магазинчиков с крикливыми вывесками: похвальба рынка перед расчётливыми и скупыми покупателями. Возьми меня, купи меня, пользуйся! — голосят витрины. Маркс гениален в своём цинизме. Всё видел. Всё расчленил. Всё препарировал. Товар — деньги — товар!
Я взял бы, купил, да возможности нет. Моя пенсия точь в точь расчитана правительством только на прожиточный минимум. Мне до сих пор не понятна составная часть моего довольствия. Вроде и жил с самого юного возраста в труде, который хорошо оплачивался, и стаж имею более пятидесяти лет, и стана необъятна в своих богатствах и просторе, а результат — прожиточный миниум! Вот и приходиться прирабатывать к этому минимуму ещё малость: ЖКХ, аптека, хочется мясца, винца, хлебушка с маслом…
Но я не о социальной ущербности своего государства, я о тех фонтомах, которые не дают спать, о соловьиной поре человека. Блажен, кто смолоду был молод!
Городской транспорт Воронежа надо премировать за неукоснительное соблюдение графика движения. Вот, ещё не успел оглядеться, а, уже, шурша шинами по асфальту, как ручной, подкатил вместительный автобус, где места хватит всем.
Усевшись поудобнее в кресло, заглядываю в окно, где необыкновенно опрятная и чистенькая белоснежка, нет, дюймовочка только что спрыгнувшая с цветка, делает нетерпеливый жест рукой, чтобы водитель подождал её несколько секунд.
В руках дюймовочки был небольшой, но бокастый пластиковый пакет довольно плотно упакованный. Дюймовочка так спешила, что с её маленькой ещё по-весеннему белой, не успевшей загореть ножки, соскочила одна туфелька, и она быстро подхватив её свободной рукой, вспорхнула в уже закрывающуюся дверь автобуса.
Движение её было так стремительно и порывисто, что пакет, зацепившись за какой-то выступ в двери, распахнулся настежь, вывалив, почти всё содержание на железный настил пола.
Дюймовочка, весело ахнув, присела на корточки и кинулась собирать выпавшие вещи. Я, помня ещё свою мужскую сущность, стал помогать.
Лицо дюймовочки, несмотря на конфуз происшедшего, было так счастливо, что светилось ярким светом, словно там, под розовой кожей горела электрическая лампочка в сто свечей.
Пакет был безнадёжно порван, и дюймовочка растеряно посмотрела мне в глаза.
Запас — не гвоздь! По дороге всегда можно прикупить продукты! Я, торжествуя вытащил из кармана совершенно новенький пакет с красочным изображением тропического пейзажа морского побережья.
У моих ног, как мне показалось, было всё приданное этой феи: розовые шнурочки-бретельки: то ли бюстгальтера, то ли трусиков, которые она тут же спрятала в кулачок, завязки, кофточки, какие-то кружева, и ещё что-то бельевое. Пакет был быстро собран, и каждая вещь нашла в нём своё место. Сосредоточенная расчётливость говорила об аккуратности вероятной студентки перебирающей из общежития, куда-нибудь на квартиру.
Дюймовочка, кивком головы поблагодарила меня и беспокойно уселась напротив. Мобильник, очевидно, мешал ей расслабиться, она то и дело радостно приникала к нему ласковой щёчкой и щебетала, и щебетала. Было очевидно, что на другом конце, кто-то бесконечно желанный и необходимый держал её в счастливом возбуждении.
Я впервые в жизни видел такого счастливого человека, тем более дюймовочку. Нехорошо было, так в упор, разглядывать её достоинства. Настолько она была вся на виду, что мне ничего не оставалось, как опустить глаза.
Её маленькие ступни в босоножках с раскрашенными ноготками жили отдельной жизнью: они неспокойно пританцовывали на месте, тёрлись одна о другую и, казалось, вот-вот сбегут от хозяйки. Меня поразила правая ступня необыкновенной татуировкой: сверху из-под укороченных летних брюк стекала голубая цепочка с православным, тоже голубым, крестиком, который лежал прямо на ступне. «Свет стопе моей!» — сразу припомнилось Священное Писание…
Мы ехали долго, и мне не терпелось узнать, кто же тот счастливчик, которому она обязана своей хрустальной, чистой радостью и женской покорностью?
Воронеж город большой, водители хорошей выучки, и наш автобус то и дело плавно подкатывал к очередной остановке и бесстрастный автоматический голос объявлял следующую.
На тот равнодушный голос дюймовочка реагировала резким поворотом головы, пристально вглядываясь в окно и прислушиваясь к голосу, боясь пропустить свою остановку, заветную, заученную наизусть. Было видно, что дюймовочка ещё недостаточно знает город, из чего можно предположить, что она не местная…
«Точно студентка! Судя по опрятности, так несвойственной современной молодёжи, вероятно из мединститута! Точно, будущий хирург! — утвердился я в своём предположении, незаметно приглядываясь к её тонким беспокойным пальчикам без колец и маникюра. — Наверное, хирург или кардиолог!» У меня почему-то самое большое уважение вызывают хирурги и кардиологи. Хотя каждый врач на своём месте необходим. Но, дела сердечные… Мне страстно хотелось, чтобы всё у неё получилось. Уж очень она переполнена своим счастьем и — беззаботна. А невыносимое, большое счастье зачастую является спутницей разочарований…
«Не догорев, заря зарёй сменялась, /Плыла большая круглая луна, /И, запрокинув голову, смеялась, / До слёз смеялась девочка одна.»
Было дело. Было… И на моей улице был праздник. Девочка, подросток, выпускница встречала меня на кочковатой, пыльной жизненной дороге. Дорога порошила глаза, и мне не удалось разглядеть её чистое, распахнутое любови и молодости лицо. Теперь-то, за далью времени мне видится, что оно было прекрасно. Да, оно было прекрасно! И преданные, доверчивые руки ласкали меня по-детски, совсем неумело. И в каждом её движении была неопытность и какая-то все сокрушительная отвага.
За околицей, за последней избой, ещё крытой соломой, меж крутых, обрывистых берегов упрямо рыла чернозём маленькая речка с гордым названием Большой Ломовис.
Речка дышала распаренной за день осокой, влагой, и тем неуловимым запахом счастливой рыбалки, когда эта речка ещё была молодой и вольной, когда её не загаживали химикатами и жизненными отходами нагрянувшие со всех неперспективных сторон, неперспективные жители, когда в широкой пойме шумел камыш и гнулись деревья, когда жалобно пели и плакали тростинки о загубленной человеческой любви, я приходил сюда на свидание с девочкой, простушкой, ещё почти школьницей, выпускницей мечтающей о высоком, чистом и недоступном.
Школьные программы тех времён будили в подростках героическое начало, то, чем славились их отцы и деды, чем жила страна после разрушительной бойни с мировым фашизмом, и в этой девочке тоже жила несокрушимая справедливость, которая меня, прошедшего уроки жёсткой действительности, озадачивала и даже пугала. Вместе с тем, особенно пугала её какая-то, ещё детская беспечность к себе самой: моя репутация была не совсем подходящей для свиданий со столь юным созданием.
Встречались на узенькой тропинке, быстро говорили что-то совсем незначительное, пустое, хватались за руки и ныряли от любопытного взгляда огромной, ополоумевшей от одиночества луны, в чёрную, густую тень скрипучей ветлы. Ветла была стара, горбата, ветви её полоскались в воде, и напоминали длинные волосы припозднившейся для купания женщины. Только плеск воды. Только обжигает ухо резкий, прерывистый, задыхающийся шепот: «Люби меня! Люби меня! Люби меня…»
Ночь обнадёживает. Луна ничего никому не расскажет. Глубокие лощины меж высоких, поседевших от времени холмов на правом берегу, истекают парным молоком тумана. Холмы напоминают огромные груди огромной спящей женщины. Глухое, молчаливое село затаилось в сладострастном ожидании. Молодость, молодость, молодость… В чёрной воде нет-нет, да и всхлипнет, причмокивая слюнявыми губами водяной, оплакивая своё одиночество: омута не те, нет, не те омута, никто не тонет, и русалки все до одной перебрались в районный клуб, где каждую ночь можно всласть поиграться щекоткой с местными рукастыми парнями. Горе одному!
Ночь обнадёживает. Всё скрыто, всё за семью печатями. Сладость поцелуев ещё не предполагает их горечи. Девочка счастлива… " Она была веселой и беспечной,/ И каждый вечер верила со мной/ Она любви единственной и вечной,/ В которой мы признались под луной.
Всё было так. Иначе и быть не могло под одуряющим светом луны. Сельская ночь короче воробьиного носа. В городе этого не замечаешь. Не до того вроде. Там и луны-то никакой нет. Дома, дома, дома. Стены, стены, стены. А здесь всё не так. Не успел зажечь спичку, чтобы прикурить, как робко на цыпочках босиком по воде уже пробежал ветер. Очнувшись от обморочного сна, по-младенчески над головой залепетали продолговатые, серебристые на исподе листочки нашей впавшей в беспамятство ветлы. В помятой траве завозились, заскрипели, зашелестели её бесчисленные жители. В камышах спросонья плюхнулась в набежавшую волну лысуха, селезней присуха. Небо по горизонту стало вскипать облаками. Розово полыхнуло по небу. То ли от потока зари, то ли от небесной голубизны и глуби, истончилась и стала таять, словно брошенная в кипяток льдинка, высокая, выше самого неба, луна.
Динь-динь-динь! День, день, день!
Короткое лето, а отпуск ещё короче. Снова «кузнечный гром завода», снова — дни получки и гул рабочего общежития. «Нам денег не надо, нам славы не надо. Работать, давай!»
Монтажные дороги-перепутья. Пыль застит свет, разъедает глаза. Работа, работа, работа…
— Ты, работа, нас не бойся! Мы тебя не тронем!
— Работа не член… правительства, постоит!
— Яблон, беги за водярой!
— Сбегал бы я, да очередь твоя!
— Ну, ладно. Подвинься. Я сгоняю!
…Приехала. Стоит в дверях. В руке пакетик. Как только её родители отпустили? Плащик голубой, новенький. Маленькие ножки в туфельках. Смущённо улыбается. Вроде, виновата в чём…
…Ну, так получилось… Не встретил… Телеграмму забыл на вахте… Вот пьём, гляди! Садись, я — щас!
Обиделась. Бросила пакетик с домашними гостинцами. По лестнице туфельки: тук, тук-тук-тук! Убежала…
Надо было бы догнать. Прижать к себе. Вытереть девичьи слёзы. А тут — ребята… Водка… Бригада «Ух!»…
…Давным-давно мы навсегда расстались,/ О том, что было, не узнал никто…/ И годы шли,/ И женщины смеялись,/ Но так смеяться не умел никто…
Долго, очень долго длинными ночами во сне — «Ааа!» — кричал я в прогорклую темноту барака и хватал воздух горстями, но в руках оставался только горький дым девичьих обид и ничего более.
Мне кажется, что посреди веселий,/ В любых организованных огнях,/ Я, как дурак, кружусь на карусели,/ Кружусь, кружусь на неживых конях.
Занесло, закружило и выбросило далеко-далеко…
А где-то ночь всё догорать не хочет,/ Плывет большая круглая луна,/ И, запрокинув голову,/ Хочет,/ До слёз хохочет девочка одна…
ЛЕТЯТ УТКИ…
Александр Михалыч Акулинин
Сам рукаст, широк и крепкогруд.
В бороде, как в зарослях полыни,
Воробьи весёлые живут.
Что и говорить, писатели при коммунистах пожили, как дай Бог пожить в нынешнее время каждому. Бывало, заскучает творческая личность, затужит, да и спешит к заведующему Бюро по пропаганде художественной литературы договориться о выступлении в каком-нибудь дальнем районе, где и люди попроще, и начальство не прижимистое, хотя тогда ни денег, ни ещё чего начальники не жалели, и то сказать — не своё, общественное. Была бы причина, а остальное всегда найдётся.
Надо сказать, что в то время у нашего заведующего Бюро по пропаганде художественной литературы во всех районах партийные секретари по идеологии были людьми своими: с одними он учился в институте, с другими имел общих знакомых, с третьими пил. Так что взять трубку и позвонить в райком по вопросу организации творческой встречи писателя такого-то или группы писателей, — дело пустяшное. На том конце провода радость — можно, используя рабочее время, оттянуться по полной программе, обеспечить писателям соответствующую атмосферу, чтобы, не дай Бог, оказаться менее гостеприимными, чем их соседи. А у тех соседей — известное дело, как говорил один поэт, — и мясо в щах и хруст в хрящах. А писателям что? Они, известное дело, люди отвязные, привыкшие к разным вольностям и радостям жизни…
Да, писатели при коммунистах пожили! А при нынешней вороватой власти что? Раньше в обком только покажи членский билет — мухой влетай! А вот на днях я попытался пройти в здание областной организации, называемой администрацией, как будто другого слова в русском языке не нашлось? А — не тут-то было! Развернув свой красный складень, я по привычке смело шагнул за турникет, но тут же был грубо остановлен розовощёким крепышом-милиционером, привратником в чине сержанта, чтобы упаси Господи!, какой-нибудь писака не проник в святая-святых, в этот чиновничий улей мавзолейной архитектуры.
Когда я пытался объяснить крепышу, что я член писательской организации России, то привратник заухмылялся: « А я тоже член! Да ещё какой! Если встанет вопрос, то я сам вручную или на машинке его решу. Показать?
Порекомендовав ему быть повежливей и не хамить, я пошёл в бюро пропусков, где этот вопрос, не без трудностей, но всё же с кем-то согласовав, уладили. Допустили до самых верхов, порекомендовав долго не задерживаться — чиновник занят.
— О чём разговор! Я же к нему не с бутылкой иду! — не выдержав назиданий, я тоже забыл вежливость.
Весь этот разговор веду к тому, что писатели при Советской власти жили так, как я сам себе того желаю. А за это всего-то и надобно было показать в своих творениях борьбу хорошего с ещё более лучшим, где передовое непременно побеждает. Литература должна быть партийной — и вся недолга! Правда, не каждый мог поступиться принципами, потому и не каждого печатали, а то и того хуже, — повяжут — и в загон!
…По-моему, Александра Михайловича Акулинина я знаю всю свою сознательную жизнь, настолько он мне понятен и близок. Мы оба из деревни, как говориться, от сохи. Он пораньше, а я попозже впитывали в себя наше голодное послевоенное время, когда с утра и до вечера, как от Рождества Христова до Пасхи. Ждёшь — не дождешься, как в ладонях запляшет, засмеётся рассыпчато картошка в мундире — ужин на сон грядущий, а потом провалишься в чёрную бездну сна, как мать, жалеючи тебя, уже тормошит за плечо: «Вставать давай, рассвело уже, бригадир опять ругался, что ты спал в бистарке, а бабам воду на бахчи не привёз. Смотри у меня! Жрать-то зимой что будешь? Вчерашней палочки на трудодень нет. Отработай сегодня за вчерашнее. Упроси бригадира. Скажи, — мать к празднику бутылочку поставит. Дрожжи у неё есть. Как время найдет, так и поставит…»
Такой, или примерно такой разговор я слышу в своём сердце, читая замечательную повесть Александра Акулинина «Шурка-Поводырь». Ярко, зримо и образно описано Шуркино детство и его быстрое взросление в тяжелейшее для страны время — разруха, разруха, разруха и ещё раз — разруха. А когда в России не было разрухи?..
Но, я сегодня не о творчестве Акулинина, ни о его литературных способностях и пристрастиях, для этого у нас есть свои критики, это их хлеб.
…Разгар лета. В воздухе висит знойный звук то ли тяжёлого, шершавого шмеля, то ли далёкого самолёта, сразу и не разберёшь, тем более что ни шмеля, ни самолёта не видно. Ветви берёз над головой утомлённые солнцем безвольно обвисли, и не один листочек не встрепенётся равнодушный к окружающему миру и к нам, не понимая; зачем собрались здесь, на траве люди и заговорили о чём-то на своём непонятном и чудном языке. В такое время лучше помолчать в сладкой дрёме, а они, эти люди, разгулялись…
Наверное, так думает березняк, обступивший нашу компанию со всех сторон. Жарко. А нам хорошо. На огромной брезентовой кошме, в зелёном холодочке нежимся в обществе партийных и хозяйственных руководителей, для которых такие застолья вошли в обиход, а для нас, писателей, они ещё не совсем привычны. В двух больших обливных тазах томятся коричневой хрустящей корочкой вымазанной в сметане, только что выловленные и запеченные на решётках широколистые караси, отобранные — один к одному. Небольшое ведёрко пунцовых раков лежащих теперь уже смирно. Рядом эмалированный таз с крупной, но слегка перезревшей вишней — яркие струйки кое-где обрызгали белую кромку таза. На большом деревянном ящике из-под хлеба, метровые шпаги с большими кусками баранины, ещё не остывшей, ещё фырчащей, когда над ними раздавишь увесистый гранат, обливая пальцы его кисло-сладким багряным соком. Водка прозрачней родниковой воды ещё пока до времени заперта в бутылках покрытых зябкими мурашками — сразу видно, — из холодильника. Но команда дана, и парторг колхоза молодой, из бывших трактористов парнишка, приступил к стягиванию белых кепочек с узкогрудых озорных бутылок. Сразу же наступила гробовая тишина, — только лёгкое бульканье в стаканы.
Хорошо сидим!
Вместо хлеба, ещё тёплые щекастые пышки из пшеничной муки собственного помола, вкусные и крепкие. Это не городской батон недельной свежести!
Жир, стекающий по рукам, сочная мякоть баранины, пучки пряной зелени и первая порция водки к разговору ещё не понукают, но настроение уже приподнятое. Дай Бог вам такого настроения в текущее время!
Но вот всё бойчее слетают с бутылок бескозырки, всё громче смешки и мягкий беззлобный матерок, который так сдабривает русскую речь, как сдабривает вон тот стручок красного перца жирный кусок баранины — приправа!
Самый зенит застолья, его полдень, базар-вокзал, когда все говорят, и никто никого не слушает. Егорова мельница — тамбовский говорок! Хо-рош барашек! Хо-рош карась! Водочка зубы ломит. Похрустывают огурчики. С помидорами целуемся взасос…
Разговор не то чтобы уменьшился, но стал как-то более приглушенным, более доверительным и откровенным. Так могут сидеть и говорить только русские люди.
Публика созрела для песни. Наш человек, кто бы он ни был и какой бы пост он не занимал, а всегда подтянет задушевной печальной и протяжной песне, над которой сидели, обхватив головы руками, столько поколений дедов и прадедов, что мелодии этих песен вошли, уже в генетическую память русского народа.
Я сидел готовый обняться со всем миром, с большими начальниками, которые оказывается тоже люди, и точно так же справляют большую и малую нужду, как и все. Вон сидит, обнимая Александра Акулинина, секретарь райкома — ни стали в глазах и не железа в голосе — обыкновенный мужик, немного одутловатый от излишеств, а так — ничего себе. Они прислонились головами друг к другу, как кровные братья, потихоньку пробуя голос, чтобы на двоих что-нибудь спеть. У Акулинина голос высокий, тонкий, он нарочито пробует эту песню не свойственным ему бабьим голосом, как того требует песня, а у партийца наоборот, — низкий и глуховатый голос, как будто немного обиженный: «Ооох, летят утки, летят утки…»
Надо сказать, что Акулинин, как несомненный художник, чувствует слово, его полновесную сущность. Вот и сейчас он, качая головой, так вытягивает эту русскую песню, что они, эти бесхитростные, в общем-то, слова, приобретают, как бы крылья и парят над нами уже нагруженными порядком хмельными мужиками, поднимая и нас, отяжелевших, с этого материального и не всегда справедливого мира, туда, ввысь, где парят только души и птицы.
Я смотрю на своего друга, на его широкую бороду цвета августовской полыни и любуюсь им, его русскостью. Он сейчас удивительно похож на Врублевского Пана, языческого бога природы, или лесовика, по-нашему. В его глазах светит добрый отблеск то ли отражённого неба, то ли внутреннего тихого голубого огня, которым пронизано всё его творчество. Этот огонь присущ только настоящим художникам. Кстати, в его кабинете висит портрет, написанный одним из наших писателей, где в глазах Александра Михайловича точно такие же голубые огоньки. Значит, не я один заметил их и восхитился.
Летят утки,
летят утки
И два гуся.
Оо-ох, кого люблю,
кого люблю
не дождуся…
Мы тоже подхватили эту песню:
Мил уехал,
мил уехал
За Воронеж.
Его теперь,
его теперь
не догонишь.
Выдохнули десяток мужицких глоток.
Оо-ох, как трудно,
Ох, как трудно
Расстаются.
Оо-ох, глазки смотрят,
глазки смотрят,
Слёзки льются…
Наши русские женщины, наверное, самые несчастные в мире и много слез, они пролили на свою землю, возможно по этому наша угрюмая северная земля так плодородна, как ни одна земля на свете. Когда же, ох когда же наши женщины привыкнут смеяться и быть такими же обольстительными, как скажем француженки или там итальянки — «Я и лошадь, я и бык. Я и баба, и мужик».
Ни в одной стране, кроме России, на тяжёлых, каторжных работах не вламываются женщины. Это только у нас — разнорабочие на стройках, на шахтных отвалах, на дорогах с совковыми лопатами в удушающем чаде асфальта горячего и липкого как смола, они, цвет нашей нации — женщины, но как трудно не только цветку, а и сорной траве пробить бетонное полотно, асфальтовую коросту нашей насущной жизни.
Оо-ох, летят утки,
летят утки.
И два гуся.
Оо-ох, кого люблю,
кого люблю —
Не дождуся…
Их, наших дорогих жён, дочерей и матерей предавали, бросали, растаптывали, растлевали и вытирали о них ноги. Ни одна женщина в мире не была так поругана, как русская женщина. Даже само слово «любить» у нас заменено коротким грязным матом.
Оо-ох, как трудно,
оо-ох, как трудно
Расстаются.
Оо-ох, глазки смотрят,
глазки смотрят,
Слёзки льются…
Парторг колхоза, молодой паренёк, только что закончивший сельхозтехникум заочно, — ему бы в агрономы, или в зоотехники увеличивать благосостояние колхоза, а не заниматься пустым делом — «идеологическим обеспечением зимовки скота», всхлипнув, шмыганул лицом по рукаву. Видно ещё и не всё вытравила марксистская диалектика, и он вспомнил, что-то своё, сокровенное.
Председатель, тяжёлого нрава мужик, заслуженный фронтовик, по-отечески погладил его по голове. Человеческие слёзы, как и смех, всегда заразительны. Вот и у меня что-то защипало в глазах, защемило у самого сердца, и я полез за куревом. Секретарь райкома, мотнув головой, снял руку с плеча Акулинина, по-мальчишески шмыгнул носом и потянулся сам разливать по порожним стаканам. Я видел, как по заросшей щеке Александра Михайловича медленно сползала блестящая бусинка, чтобы потом затеряться, запутаться смущённо в густой бороде. Мои глаза заполнила влага, и её было трудно остановить.
Восплачте други!
Я не знаю, о чём плакал молодой парторг с руками механизатора, я не знаю о чём шептала, теряясь в седых волосах, светлая бусинка Акулинина, но моя слеза была о моей жизни, о поруганной чумовой юности, о несбывшихся надеждах, о тяжком бремени потерь. Которые так неизбежны в нашем скоротечном мире. Я отвернулся к берёзке и тут вдруг увидел, меж светящихся стволов скользит по зелёной траве, почти её не касаясь, молодая женщина, наверное, хозяйка полевого стана, чьими кулинарными способностями мы наслаждались, или это была своя деревенская, по-праздничному одетая молодуха в тоненькой блузке, сквозь которую торкались клювиками два невозможных голубка. А может быть, мне это всё только показалось. Наверное, показалось…
Рядом, почти у самого уха, фыркнула лошадь. Я испуганно оглянулся — привезли в дубовой бочке набитой льдом шампанское, длинные горла, которых в белых воротничках торчали из ледяного крошева. Бутылок было столько, сколько надо, чтобы привести себя основательно в порядок.
На речной запруде. Около которой мы сидели, взбивая крыльями воду, поднялся утиный выводок. Летят утки…
ИЗ-ЗА ЛЕСА, ИЗ-ЗА ГОР ЕХАЛ ДЕДУШКА ЕГОР…
— Э! Ты вот слухай. Слухай сюда! — Лешка Моряк, как давят окурок в пепельнице, ржавой железной щепотью всё тыкал и тыкал меня в грудь, настойчиво требуя к себе внимания.
Под ярким зимним солнцем снег искрился и сиял так сильно, что щекотал ноздри, вызывая нестерпимое желание чихнуть. Наконец, не выдержав напора, я огласил бесконечную белую равнину резким, как выстрел, чохом, отчего из-под саней прыснули в разные стороны очумелые воробьи, которые выбирали из тёплой прели конского навоза распаренные овсяные зерна. Лошадь была накормлена, и тихо стояла, кивая мордой, вроде как соглашалась с доводами разговорившегося возницы. Водочка и мороз поигрывали в моих жилах, стараясь, перебороть друг друга. Игра была на равных.
В канун Рождества я наконец-то надумал поехать в Бондари, навестить своих родителей, своим присутствием скрасить им праздник. В те времена асфальта до моего села ещё не было, и добираться приходилось, — как придётся. Чаще всего ехали на поезде до станции Платоновка, а потом, если повезёт, на почтовой попутке или в санях, когда на дороге большие заносы.
До вчерашнего дня всю неделю мело, поэтому, не надеясь на машину, я, похрустывая свежим снежком, двинулся до Бондарей самоходом. Для дурака тридцать километров — не крюк. Погода хорошая, сила есть, часиков за пять-шесть, авось, дойду — куда спешить? И я в ботиночках — чики-брики, по плотному, как бетон, свею, наступая на свою тень, напрямик: — через Союкино, Кёршу, Татарщино, Прибытки, а там, глядишь, вот они — Бондари! Несказанная радость родителей, широкая, как русская баба, печь с лежанкой, на лежанке, непременно, кот-обормот, на загнетке — картошка-рассыпуха, на столе — соленья, у бати в загашнике озверелый самогон, да со мной пара пузырей — заняться будет чем, — подгонял я сам себя.
Вначале было хорошо, потом — не очень, а потом — ещё хуже.
То ли мороз во вкус входил, то ли ещё по какой причине, но стало как-то сомнение брать: — идти дальше, или назад воротиться пока ещё элеватор станции за горизонтом не скрылся…
Мой, этот пресловутый вопрос — быть или не быть, запросто решил Лёшка Моряк, старый потомственный бондарский почтарь.
Бочком-бочком, как на лодочке, он саданул меня крылом саней под колени, отчего я сразу же повалился на ворох бандеролей, посылок и мешков с письмами. Почтовая связь тогда ещё работала исправно, — люди писали, жаловались, посылали друг другу поздравления к празднику и дням рождения, одаривали посылками со всякой всячиной и просто поддерживали между собой добрые отношения…
Ошалелый, ещё не зная что со мной, я вскочил, яростно матерясь с большим желанием набить морду шутнику. Рванув за ворот тулупа возницу, я опрокинул его на спину, и передо мной, нахально выставив неряшливую бороду, щерилось весёлое лицо Лёшки Моряка. Он был лет на десять старше моего отца, и Лёшкой Моряком я его назвать, ну, никак не мог, а по-другому — не знал как.
— Эх, Ромка, — Лёшка Моряк меня всегда почему-то называл Ромкой, — эх, Ромка промеж ног фомка, отпусти старика-то, задушишь, чёрт! Я ведь тебя, бродягу, ещё на Платоновке приметил, когда почту сдавал. Еду обратно, а тебя на станции уже нет. Ну, думаю, пешком потопал — ничего, молодой, пусть воздушком подышит, догнать я его завсегда успею. Зашёл в буфет, оскоромился, ещё раз оскоромился, еду — глядь — ты трусишь. Всё налегке, налегке, а отец-то ждёт. Ой, как ждёт! Водочки-то, небось, взял? — покосился он на мой спортивный рюкзачок.
— Да, есть чуток! — в тон ему ответил я.
Лошадь, то ли от моего матерка, то ли почуяв слабину вожжей, сразу перешла на рысь, и сани заскользили по Великой Русской равнине, пугая побирушек-ворон, которые в любое время года, вприпрыжку или, раскорячившись и переваливаясь сбоку на бок, собирают скудные пожитки по сельским дорогам.
Лешка Моряк, не выпуская вожжей из рук, выполз из казённого рыжего тулупа, предоставив его в моё полное распоряжение. Тулуп был большой, широкий и резко пах лошадиным потом, наверное, он не раз выручал и нашу почтовую кобылу. Укрытые густой овчиной, ноги сразу стали оттаивать, и меня тут же потянуло в сон.
Сколько я проспал — не знаю, но очнулся мгновенно. Было легко и весело. Лошадь всё так же резво бежала, и я закурил, глотая большими порциями горьковатый на морозном воздухе дым. Мой благодетель, часто оглядываясь, скалился в улыбке, что-то крича мне, всем своим видом давая понять: что, мол, вон он какой! Сам пропади, а товарища, ни-ни, выручай!
Вдруг без видимых причин лошадь враз встала, как вкопанная, отчего наши сани, скрипя по насту, пошли юзом, и меня шваркнуло в сияющий на солнце сугроб. Путаясь в тулупе, я перевалился обратно в сани и с недоумением посмотрел на возницу.
— Вот, сволочь настырная! Теперь ни за что с места не стронется! У тебя что, махорки нет что ли? — Лёшка Моряк задумчиво покрутил в пальцах протянутую мной сигаретину.
— Какая махорка! Кури заграничные!
В ту пору среди начинающих курильщиков в особой моде были болгарские сигареты «Витоша» в красивой хрустящей пачке с изображением заросшей ельником горы.
— Не, это солома хоть и пшеничная! Тут махорка ядрёная нужна. Придётся свою тратить… — Лешка Моряк нехотя полез в карман. Повертел в руках большой плотно набитый кисет из самодельной замши.
Признаться, — я про себя тогда ещё подумал: « Ну, ты и жадён! На дерме сметану собираешь!»
Дед, искоса поглядывая на кобылу, вытянул из-за голенища валенка свёрнутую гармошкой газету. Оторвал полоску во всю страницу и стал мастерить огромную «козью ножку», отсыпав в неё полкисета.
Я с удивлением поглядывал на съехавшего с ума деда. После такой затяжки сдохнуть можно.
— Помоги-ка! — Лёшка Моряк, прихватив губами цигарку, показал глазами, чтобы я зажёг спичку.
Ну ладно, накуривай шею до мосла! Я поднёс зажженную спичку к толстой, как кукурузный початок скрутке на которую пошло половину листа самой правдивой газеты мира — «Правды»
Дед попыхтел, попыхтел, раскуривая свою скрутку и, отплёвываясь, пошел к лошади.
— На, зараза, кури, а то мы до вечера здесь зимовать будем!
Я поражённый вытянул шею, заглядывая, с кем это дед разговаривает?
Кобыла затанцевала на месте, охлеснув себя несколько раз жестким в изморози хвостом.
Каково же было моё изумление, когда животина, пошлёпав в нетерпении губами, подхватила из рук деда цигарку и задымила, разбрасывая горящие крупинки махорки на снег.
Лешка Моряк с показной невозмутимостью снова повалился в сани, словно угощать табачком лошадь обычное дело, — чего ж тут удивляться?
— Варежку-то закрой! Ворона залетит!
— Дед, ты что делаешь? Никотин лошадь убивает!
— Ты поменьше читай, а больше нас, стариков, слухай! Щас «Мурка» покурит, и тронемся. Она ж расконвоированая! На неё, как амнистия пришла, так сразу к нам на почту и служить прислали. Зона, она вон — Лёшка Моряк указал рукавицей в сторону обнесённого колючей проволокой поселения с весенним названием «Зелёный», где с недавних пор было образовано заведение исправления и наказания.- Кобылу зеки курить приучили. Она как учует табачный дым, так и встанет, бей-не-бей, с места не стронется, пока ей покурить не дашь. Она же, сволочь, полпачки моршанской махорки в две затяжки выкуривает. На одной махорке разорит! Теперь бы и нам размяться… — Лёшка Моряк так сильно потёр жёсткие, как рашпиль, ладони, что мне показалось, — из них во все стороны посыпались искры.
Хотя я и был ошарашен увиденным, но мне вдруг стало стыдно перед дедом, и я молча указал глазами на свой рюкзачок.
Намёк был понят мгновенно. Лёшка Моряк сглотнул слюну.
Стащив зубами перчатки, я стал развязывать тесёмки на своих гостинцах.
Дед нетерпеливо поглядывал — чегой-то у него там в рюкзаке?
Бутылку я поставил на фанерный ящик посылки. Закуски у меня не было, и я сказал, что можно начинать, а закуску — прости, нету! Почтарь молча пошарил за пазухой и откуда-то из-под мышки, достал бумажный сверток, в котором оказался хлеб и толсто нарезанное домашнее сало.
— Нам не надо ни славы, ни чины — была бы водочка простая, да кусок ветчины — философствовал он, колдуя над свёртком. Потом почтарь, сопя, вытащил из кармана и поставил на ящик толстый губастый стакан граммов эдак на двести пятьдесят. Таких стаканов теперь не выпускают, потому что молодёжь пьёт всё больше не по-нашему, по маленькой, щепотками, но часто, отчего, правда, количество выпитого в суммарном отношении не изменилось.
После Лёшки моряка я свой стакан тянул долго, с трудом проталкивая едкую жидкость в озябший желудок, да и водка была настолько холодной, что при всём желании за один раз стакан не выпьешь.
Мой сосед, недовольно морщась, накрыл ломтём сала хлеб и сунул мне в руку.
Хорошее сало и хлеб сделали своё дело, и я уже более сноровисто добрал остальное в стакане.
Лешка Моряк одобрительно крякнул, будто не я, а он только что хватил эту убойную лошадиную дозу.
Стало гораздо лучше. Всё, что меня заботило, уплывало на задний план, оставались только — снег, солнце, голубое небо, да дед-балагур, вёрткий, как подросток.
Лёшка Моряк никогда на море не был, он и воевал-то в пехоте, а вот, поди ж ты, нелепая кличка пристала.
— Слухай сюда! — тыкал дед меня в грудь. — Баба — что? Баба — зараза. В них, как в этой бутылке — весь смак внутрях.
Я так и не понял, когда же это у нас с ним разговор перекинулся на баб? Но тема была интересной.
— Не знаю, как в нонешнее время, а в старину баба в кого хошь оборотиться могла, в разную скотину. Им нечистая сила помогает. Эта сила, тьфу! И сама не прочь в бабу обернуться, чтобы нас православных в грех вводить. Не веришь что ль? — дед с подозрением посмотрел на меня. — Все вы такие! — обижено протянул он. — Кому не расскажешь — не верят. Вот и ты такой же. Меня с того разу, как вспомню, так жуть берёт. Не знаю, как ещё жив остался? Ты Петьку Жучка знаешь? — неожиданно обратился он ко мне с вопросом. — Как же, Жучок ещё с твоим отцом ездил по сёлам кино крутить. Немое кино было… Ну вот, — знаешь. Дело было давнее, но после войны уже. По осень. То ли в сентябре, то ли в октябре. Ещё на полях солому жгли. Вот гляди-ка, народу не отдадут, а уничтожить — уничтожат. Лиходеи. Ну, ладно. Спускаюсь я, значит, с вердеревщинского бугра, ну, где мосток был. От него теперь только дубовый частокол остался. Вот спускаюсь к мостику, гляжу, под бугром Петька Жучок переборы играет, вроде выпимши маленько. Он ведь, ух, какой хороший гармонист был! Царство ему небесное! А выпимши…, так он завсегда был выпимши, чего ж тут удивительного? — оправдывал Лешка Моряк своего дружка. — Вокруг Жучка девки прибасают, частушки поют, и все — с картинками, похабные, то есть — объяснил мне собеседник. — Мне бы, дураку, подумать, — хмыкнул он, — Какие девки? Время-то далеко за полночь, а у Петьки жучка своя баба внимания требует, да детей трое… С чего бы ему веселиться, да девок забавлять? А у меня память, ну, как рукой отшибло. Забыл, что нам с Жучком годиков-то уже за сорок с гаком, а вот примнилось, понимаешь ли, что мы с ним в ребятах ещё ходим… Ну я, вроде, бочком хотел пройти, а Жучок мне кричит: «Заходи, Моряк, не серчай! Все девки теперь наши будут!» — И всё — бля да бля, бля да бля. Я говорю: «Жучок, ты чего посармой-то кроешь? Вон девки с тобой, а ты блякаешь?» А девки, как загогочут, ну и давай подолы заворачивать, и свои голые тузы показывать. У меня даже в глазах потемнело, и рябить стало. И так, где-то там внизу, сладко-сладко заныло, что я, прости Господи, как жеребец стал ногами перебирать и к ним, к этим тузам подлаживаться. А Жучок всё наяривает, всё наяривает на гармошке, да чудно как-то, не по-нашему — то ли цыганочку, то ли страдания какие? Никак не пойму… Дай закурить своих пшеничных! — смущённо кашлянул дед, перебив разговор.
Я протянул ему всё ту же начатую пачку, других сигарет у меня не было. Он поковырял, поковырял целлофановую оболочку заскорузлыми толстыми пальцами, да так и не смог открыть. Я ударил щелчком по торцу пачки и выбил ему одну сигарету.
— Ишь ты! — восхищённо сказал Лешка Моряк. — Ловкач! Я бы так не смог.
Следом я протянул ему зажжённую спичку. Затянувшись, дед с непривычки закашлялся и выбросил сигарету в снег.
— Нет, городское курево вонючее, душа не принимает. Я уж лучше своего самосадику — но закручивать цигарку не стал.
— Вот я и говорю, — почесал дед в бороде, — баба, она кого хошь одурачит. Стою я так под бугром, чую — мне кто-то ладонь на плечо положил, тихо так, и в затылок холодком дышит. Оглянулся — девка какая-то ненашенская, ласково из-за плеча мне в глаза заглядывает. Цыганка — не цыганка, а волосы по плечам распущены, и вроде цветочек в волосах такой красненький, как уголёк тлеет. Темно вот, а уголёк в волосах тлеет, и вроде как светло от него. А девка эта шепчет быстро-быстро несуразицу какую-то похабную, у меня даже…, ну сам понимаешь что. А она всё зовёт, тянет в сторонку, мол, чего тут со всеми торчать? А кустики, — вот они, рядом. Взяла за руку и повела, как барана под нож. А у меня сердце за пазухой так и прыгает, так и прыгает, как котёнок глупый за мотком шерсти. Зашли мы, значит, за кустики. Она мне руки на плечи положила, и всё в глаза смотрит. Смотрит и смотрит. Смотрит и смотрит. Темно кругом, а я лицо её вижу, и глаза такие жадные, как будто она сто лет под мужиком не была. Потом отошла в сторонку и стала из платья вылезать. Извивается так по змеиному, и выползает, и выползает. Гляжу — он уже голая стоит, и вся белым светом изнутри светится, знаешь, как лампочка матовая, только сиськи и лобок потемнее, а так — вся белая. И кивает мне головой, мол, чего ты стоишь, деревня? Давай, раздевайся, видишь — мне уже невтерпёж — это она мне говорит. Ну, я, это, по-солдатски — раз-два и — вот он! Только ладошкой срам прикрываю. Она — хоть и баба, а всё же — женщина. Голым под одеялом хорошо, а так вот, — как-то и стыдно. Мне, дураку, опять невдомёк, что осень уже, ночи-то холодные, по утрам иней на траве, а я стою голый и мне тепло так, как в избе натопленной. Стою я, а она меня рукой к себе подзывает: « Ну, чего заробел-то? Иди — не мальчик ведь! Я тебе всё сделаю, что ты в жизни со своей женой не видел. Иди!» Ну, я и кинулся в неё головой вперёд, как в речку. Чую — ожгло меня чем-то, как будто в кипяток сунулся. Очнулся — вода кругом до подбородка стоит, да ледяная такая, аж, ноги судорогой сводить стало. Я — к берегу. Взлетел на кручу, и озираюсь. Никого нету, тишина стоит. И за бугром небо синеть зачало. Вдалеке только петухи кукаречат, избы темнеют — Бондари значит. Зубы, то ли от страха, то ли от холода, «барыню» пляшут. Я — шасть по кустам! Какое там… Одежды нету. Туда-сюда — нету! Ты вот смеёсси, а мне, каково было? Голый в деревню не зайдёшь — стадо скоро выгонять будут. Спешить надо. Ну, я, что есть мочи, по стерне — задами да огородами. Бегу, а сзади меня свист страшный и хохот такой, что волосы дыбом поднялись. Через забор перемахнул, а меня своя собака не узнаёт — ощерилась, и давай цепь рвать. Я — за щеколду! Моя, как открыла дверь, так и загремела с подойником. Раскорячилась на полу, и давай икать. Я её за плечи трясти — испугался, а она от смеха давиться начала. У меня в сенях шуба висела. Я её — с крючка! Закутался и гляжу по-чумовому. Уж это после, как кипяточку попил, начал своей бабе синяки показывать. А синяки почему-то по всему телу — тьма-тьмущая, которые в пятак, а которые и в тарелку будут. Вот, — говорю бабе, — шёл от кума, а меня трое с топорами встретили, и давай мутузить, а потом раздели — телогрейку и галифе, в каких с войны пришёл, сняли. Вот голый и прибежал… Спасибо, совсем не убили, а то бы тебя в расход ввёл — лапшу гусиную на поминки варить. Ну, — и так далее.
А моя-то, как отошла от икоты, так и давай меня резиновым сапогом охаживать:
— Паразит ты такой! Ври да не завирайся. А кальсоны с тебя — эти, которые с топорами, то же сняли? Пропойца чёртов! До белой горячки допился! Всю жизнь мою изуродовал! Я бы теперь, коль не ты, как барыня с Петькой Жучком жила! Он поперёд тебя ко мне сватался, да я ему, дура, отказала… Кровопийца чёртов!
Озверела баба, но она не права была, что у меня белая горячка, я перед этим дня три в рот не брал, не на что было…
Лёшка Моряк замолчал, вздохнул как-то тяжко-тяжко и полез за табаком. Кисет он держал, как и всё остальное — за пазухой.
Пока дед возился с цигаркой, я вылил остаток стылой водки в стакан и протянул рассказчику. Доза была вполне приличной. Дед, как будто бодаясь, мотнул головой
— Не! Только после тебя! Лёшка Моряк никогда сукой не был. Пей!
Я прислонил стакан к губам, делая вид, что пью.
Дед, то ли не заметил, то ли постарался незаметить мою хитрость. Опрокинув стакан, он раскраснелся, морщины его разгладились, выражение лица стало глуповато-беспечным.
— Ё-ка-ле-ме-не… — дед зашарил возле себя руками, словно искал в соломе закуску. — А, вот он где! — Лёшка Моряк вытащил из-под себя что-то тяжёлое и чёрное.
Я с ужасом увидел у него в руках длинноствольный щекастый наган с барабаном и большим, как отогнутый кукиш, курком. Наган хищно уставился на меня своим чёрным и глубоким, как колодезь, дулом, затягивая мой взгляд в бездонную пропасть.
Дед, увидев мой испуг, дурашливо хмыкнул и сунул свою пушку туда, за пазуху, откуда он несколько минут назад доставал табак и сало.
Уже было видно, что Лёшка Моряк поплыл, и поплыл, кажется, довольно далеко, к неведомым берегам. Он ткнулся лбом в угол посылочного ящика и замолчал.
Надо было что-то делать.
Так получилось, что я, хоть и рос в селе, но никогда не держал в руках упряжи. Мои родители не были колхозниками, а в нашем хозяйстве, кроме кур да кошки, другой живности не было.
Управлять лошадью — дело нехитрое, и я натянул длинные из брезентового ремня вожжи. Обкуренная лошадь, наверное, устав топтаться на месте, мотнула шеей и радостно затанцевала. Но с места не тронулась. Я догадался слегка шлёпнуть её вожжами, одновремённо отпустив их, и наша «Мурка», кобылка ещё в теле, тут же торопко побежала по снежному полю.
Сколько времени мы с дедом проболтали, я не знаю, но солнце уже стало сползать с макушки под бугор, а зимний день, как известно, короче воробьиного носа.
Надо было спешить, и я, время от времени, зычно покрикивал на кобылу и подгонял её вожжами.
Снег был плотный, и после метели проторённой дороги ещё не было. Я правил санями, ориентируясь по редким кустикам и солнцу. Лошадь бежала бойко, и мне ничего не оставалось, как предаваться своим мечтам. Я представил себя заправским почтовым ямщиком на прогоне. Знаете: «Когда я на почте служил ямщиком…», ну и так далее. Лёшка Моряк помалкивал, уткнувшись носом в солому.
Да, я не сказал ещё одной причины, которая торопила меня в родное село. Я был молод и удачлив, и не без основания надеялся, прежде чем попаду домой, отогреться в очень жарких объятиях одной приветливой особы. Какой, — говорить не стану. Но спешить в Бондари стоило. Меня туда звал терпкий вкус женщины молодой и опытной, а что может быть сильнее этого? Только вкус собственной крови — и больно, и язык сам тянется слизнуть выступившую из ранки кровь…
К женщине, которая меня ждала в Бондарях, я особой привязанности не имел, но время от времени чувствовал в ней неодолимую потребность. Она пугала и притягивала к себе доступностью и откровенностью своих ласк, по-деревенски безыскусных, но не становящихся от этого менее порочными.
Но что такое порок и, что такое добродетель?! Её добродетель заключалась в утолении моих бунтующих желаний, невыносимых и острых, как зубная боль. Порок же её заключался лишь в том, что она не навязчиво, но и без лишних церемоний распахивала передо мной всё бесстыдство и всю невыразимую притягательность женского естества. Всегда, после свиданий с ней, я ещё долго носил в себе пугающую опустошённость убийцы, чувствующий весь ужас содеянного. Если молодость бы знала, если старость бы могла…
Проходило время и меня снова неудержимо тянуло окунуться в её объятья. Вот и теперь, хотя я боялся сам себе в этом признаться, меня влекла домой не столько радость встречи с родителями, сколько пошлая встреча даже не с женщиной самой, а с её роскошными телесами.
Что не говори, — материя первична!
Тем временем солнце уже коснулось красной раскалённой щекой снегового среза на горизонте, окрашивая всё вокруг нежным розовым цветом, переходящим в синий. День шёл к концу, а я всё ехал и ехал по бесконечной снежной равнине. Ни деревеньки, ни домика, только редкие кустики бурьяна со стайками; то ли воробьёв, то ли ещё каких мелких птиц, стремящихся побыстрее, пока не наступили потёмки, отужинать чем Бог послал на сегодняшний день и отправиться на ночлег.
«Ну, ничего, ничего, — успокаивал я себя, — в объезд даже короче будет. Авось, скоро бондарская церковь покажется, её крест виден далеко-далеко, километров за десять-пятнадцать. Так что дотемна доберёмся…». Я стеганул кобылу длинным ремённым кнутом, и она снова прибавила ходу по утрамбованному вчерашним ветром снежному настилу.
Вдали, и правда, вдали что-то обозначилось; вроде, как над сугробом тонкая птичья лапка показалась. Крест! Точно крест! Я радостно ещё раз огрел кобылу, и она вынесла меня на кручу, с которой в низине вдруг открылось село, а на краю села — красавица-церковь с большим голубым куполом и сквозной колокольней над ним, через которую просвечивало холодное зеленовато-синее небо уже вчерашнего дня. На правом крыле креста ослепительным белым репьём светилась одинокая тихая звезда. Звезда полей.
Но это было не наше село. Я с удивлением разглядывал незнакомое село, ещё не осознавая, что минут через десять-пятнадцать стемнеет, а в какой стороне Бондари — мне невдомёк.
Стало ясно, что я заблудился и, как всякий заблудившийся человек, поддался панике. Сгоряча, резко дёрнув на себя вожжи, я попытался развернуть лошадь, но она, рванувшись, вдруг забилась по самое брюхо в снегу, колотя передними ногами, снежный завал перед оврагом в который мы попали. Сани дёрнулись. Что-то затрещало, и большой обломок оглобли, прыгнув вверх, чуть не размозжил мне челюсть. Все мои восторженные мечты о предстоящей встрече в жарких объятьях тут же улетучились. Я выскочил из саней и стоял, не зная, что делать. Только орал очумелое — «Тпру!!!»
Лошадь, наверное, была умнее меня, перестала биться и только мотала большой головой опушённой возле губ колючим инеем.
От резкого толчка, или от моего крика, Лёшка Моряк поднял голову, мотнул ею, как лошадь, и тупо уставился на меня. Потом тряхнул головой ещё раз и, матерясь, на чём свет стоит, выбрался из саней.
Враз оценив обстановку, он, проваливаясь в снег, стал распрягать лошадь, успевая ласково похлопывать её по шее, что-то приговаривая при этом. Затем, ухватив лошадь за уздцы, он осторожно вывел её из ямы, подошёл к саням, вытащил из них полотняную суму с овсом и надел её на шею кобыле так, что её морда почти по самые глаза была в этом мешке. Кобыла довольно фыркнула и принялась увлечённо хрумкать овсом.
— Ты зачем, сучий потрах, в Рождественское угодил? Смотреть надо! Отсюда до Бондарей километров двадцать будет — он показал рукавицей туда, где уже вовсю полыхал на снегу закат.
«К морозу» — почему-то пронеслось у меня в голове, хотя мороз и теперь стоял — будь здоров! Лёшка Моряк ещё пару раз матюкнулся и стал развязывать гужи на сломанной оглобле. Ругань была безобидной, и я, чувствуя свою вину, кинулся услужливо помогать деду.
Невидимая рука уже погасила огромный костёр заката — и пришла ночь.
Упираясь плечами в загнутые дубовые полозья, мы кое-как развернули сани по ходу, в обратную сторону.
Пока лошадь дожёвывала остатки в суме, дед соорудил из концов ремней, что-то вроде тяги взамен сломанной оглобли, и мы мирно закурили. Но, каждый — своё.
Большие звёзды на ясном небе, припушённые морозом, были так близки от нас, что казалось, подпрыгнув, можно сшибить одну из них рукавицей.
Разогревшись от работы, я стоял, затягиваясь резким на морозе сигаретным дымом. Мне было хорошо, и только чувство вины не давало насладиться маленьким приключением и этой тихой звёздной ночью.
Однако, Лёшка Моряк, наверное, думал совсем по-другому. Он, сердито сопя, кружился возле саней, что-то перекладывал и перекладывал, роняя красные искры из самокрутки.
Зная по себе, что никакого удовольствия похмелье не приносит а, скорее — наоборот, я, чтобы как-то задобрить деда и смягчить свою вину, стал убеждать Лёшку Моряка в том, что граммов несколько погоды не сделают, а здоровье поправят наверняка, и потянулся за своей перемётной сумой.
К моей затее дед отнёсся как-то флегматично:
— Вино пить, — не брёвна пилить. Можно. Только починать жалко. Отцу-то чего привезёшь?
Я сказал, что у бати и самогонка не хуже заморского бренди. Не замерзать же, в самом деле?!
— Ну, коль так, так налей на пятак, — дед ощупью отыскал в соломе стакан и передал его мне. Я, хватаясь зубами за козырёк и пришкваривая губу к пробке, снял её, и протянул бутылку деду.
— Ну-ка, посвети! — попросил Лёшка Моряк.
Я зажёг спичку. Бутылка опоражнивалась медленно, в стакан лился беловатый густой сироп. То ли мороз припёк, то ли водка была некондиционной и промёрзла, но такую смесь пить было нельзя.
Я с огорчением посмотрел на открытую бутылку. Как известно, мы единственная страна в мире, где выпускали пробки «пей до дна». Уж коли, открыли посуду, обратно не закроешь, теперь это уже не посуда, а стеклотара.
Лешка Моряк подержал, подержал стакан в руках, посмотрел на него сбоку и протянул мне:
— На, держи! — а сам, опять пошарив в санях, достал жестяное ведро, из которого всегда поил лошадь. Махнул рукавицей по днищу. — Лей суды!
Я с огорчением вылил стакан в ведро, — лошади мало, а нам было бы как раз.
— Лей остальное! — он подсунул ведро под бутылку, которую я держал в левой руке. Скрипя сердцем, я вылил всё содержимое бутылки. «Ну, сдурел дед с похмелья, кобылу удумал водкой поить для скорости» — я понимающе подхихикнул.
— Ловко ты придумал! — решил я потрафить деду. — Теперь твоя лошадь, как Пегас, на крыльях полетит!
— Сам ты Педас фуев! — буркнул Лёшка Моряк. — Давай солому!
Я протянул ему скользкий как шёлк пучок, ещё не понимая — зачем?
Дед поставил ведро на соломенную подстилку и зажёг спичку. Костёр вспыхнул.
— Сыпь ещё!
Я протянул ему целую охапку. Дед стал подсовывать солому в костерок. Вокруг нас заплясали весёлые тени: я, Лёшка Моряк, кобыла, сани… И — ночь, ночь, ночь.
Минуты через две-три ведро запарило. Почувствовался характерный запах, который ни с чем не спутаешь.
— А ты говоришь… — дед снял ведро с пламени. — Давай стакан! — он нацедил на половину и подал мне. — На-ка, попробуй!
Стакан приятно грел замёрзшие ладони. Но водка была омерзительной. Тёплая и грязная от ржавого ведра она вызывала тошноту. Закусывать уже было нечем, и я стал судорожно хватать из-под ног снежные комья.
Дед, не торопясь, чтобы не пролить ни одной капли, накатил почти полный стакан и долго, с явным удовольствием, тянул его, потом громко выдохнул, сказав, — «хы!», и стал занюхивать пучком соломы.
— А ты говоришь! — повторил он. — Коктейля!
— Грог, дед, а не коктейля!
— Что ещё за гроб, твою мать? Мы ещё поживём — живы будем!
По всему было видно, что Лёшка Моряк вошёл в норму, да и меня подогретая водка ударила сразу и основательно. Стало как-то всё равно — доберёмся ли мы до Бондарей или заночуем здесь.
Но дед своё дело знал туго. Поставив лошадь под упряжь, он стянул ремнями одну оглоблю, а вместо сломанной, приладил свою гибкую тягу.
В ведре ещё было. Куда денешь? Как говориться, — лучше в нас, чем в таз!
Ну, мы и остальное пригубили по-братски.
Кобыла уже нетерпеливо напоминала нам, что пора и честь знать — хватит прохлаждаться. Только мы взобрались в сани, как она понесла нас безо всякого понукания.
Ну, теперь было гораздо легче и веселее. Мы с Лёшкой Моряком сидели рядышком, как отец с сыном, укрывшись одним тулупом. С весёлым матерком мы въехали в какую-то рощицу, которую я, давеча проезжая, наверное, не заметил.
— Давай споём, — где-нибудь играют! — толкнул дед меня в бок. — Чёрт склада не любит, абы рёв шёл! — и он заорал так, что кобыла подумала угрозу себе и рванула ещё бойчее.
Дед орал:
— Воскресенья мать старушка
К варатам тюрьмы пришла,
Сваяму родному сыну
Пиридачу принесла.
Пиридайте пиридачу,
А то люди говорят,
Что по тюрьмам заключённых
Сильно с голоду морят.
Эта старая русская каторжная песня была слезливой. Я слов не знал и, подтягивая деду, плакал. Особенно в том месте, где охранники сказали матери, что сына только что расстреляли «у тюремной у стены», и где мать говорит охранникам:
— Я купила передачу
На последние гроши.
Передайте передачу
На помин его души.
Это было пределом. Слёзы горячо обжигали мои стылые щёки, и всё текли и текли…
Нашу горькую песню испортила неожиданная тень, стелющаяся сбоку, метров в десяти от нас, похожая на большую чёрную собаку.
Мы с Лёшкой моряком увидели эту странную тень одновременно и переглянулись. Дед, не мешкая, полез за пазуху и вытащил оттуда свою пушку.
В то время волки на тамбовщине были не в редкость, несмотря на то, что года три-четыре назад, закончился их массовый отстрел с самолётов и боевым оружием, в основном, автоматами ещё военными, хорошо обстрелянными. Уничтожение волков вели опытные охотники.
Один из таких отстрельщиков одно время жил у нас на квартире всю зиму и очень хорошо мне запомнился. После своих кровавых дел он, он приходил к нам в избу, ставил к печке обледенелый автомат с большим круглым диском, тот самый ППШа, вынимал сразу из рюкзака две-три бутылки водки и, усевшись по- хозяйски за стол, пил и угощал отца, и снова пил, и горланил партизанские песни, воняя на весь дом мокрой шерстью и псиной.
Волков после войны в наших местах было столько много, что их всех отстрелять было практически невозможно. Они снова размножались, а новое поколение было более осторожным, нахрапом не лезли как раньше, но всё-таки хоть и редко, а забегали в сёла, особенно в холодные крутые зимы. Если не повезёт овцу добыть, то собаку наверняка зарежут.
В такое время голодный волк страшен своей непредсказуемостью. Перегрызть горло здесь в поле нашей кобыле — ему ничего не стоит. А там, глядишь, и нас с дедом поваляет.
Хмель — хмелем, а живот смерти боится.
Короткий вспышка и — выстрел, как плетью огрел меня по ушам. Потом ещё и ещё раз. Меня оглушило, а тень, как бежала, так и бежит, только теперь стала обходить нас спереди, вроде как забегая за лошадь. Лёшка Моряк сунул мне наган в руки:
— Глаза слезой застилает. Ничего не вижу. Ну-ка, ты помоложе!
Раньше мне приходилось в школе раза два на уроках военного дела стрелять из пистолета Макарова, а вот такой револьвер пришлось держать впервые.
Лошадь, от присутствия ли зверя, или от выстрелов, понесла, и сани то и дело стало заносить и швырять на сугробы так, что мы катались в санях с одного края на другой.
Одной рукой я ухватился за изогнутый передок полоза, а другой стал целиться в эту летящую тень, пока она снова не забежала к морде нашей бедной коняги. Ход курка был тяжёлый, и я медленно, стараясь ровнее держать ствол, спустил курок. Отдачу в руку я не почувствовал, как будто выстрела кроме вспышки и не было. Тварь, резко взвизгнув, кувыркнулась через голову и пропала из виду.
Наша кобыла после моего выстрела, так рванула, что тяга, связанная из постромков, лопнула, сани прыгнули, и я в потёмках потерял шапку. Шапка была из ондатры, дорогая, я после долго тужил о ней, форся по морозцу в кепчёнке. Знатная была шапка… Но это так, к слову.
Взбесившаяся кобыла нас бы вышвырнула из саней и унеслась в ночь, если бы не яркий свет ударивший прямо навстречу нам. На вопрос — откуда взялся свет, я сам себе не успел ответить. Меня кто-то так шарахнул по голове, что всё — и ночь, и кобыла, и дед пропали.
Утро было тяжёлым и муторным. Страшно болела голова. Боясь открыть глаза, я понял, что нахожусь где-то в казённом месте: хлопанье дверьми, резкие, отрывистые голоса. Осторожно сквозь ресницы взглянув, я похолодел. Прямо передо мной стояли торчком железные прутья решётки. Я медленно огляделся.
Клетка, её в народе зовут «зверинец», располагалась посреди дежурной части милиции, а мы — внутри этой клетки. Сидевший за столом у телефона сержантик был не наш, не бондарский, да и весь антураж дежурки мне был, в отличие от нашего бондарского, не знакомый.
Лешка Моряк, по-детски свернувшись рядом со мной калачиком, сопел сном праведника. Было жалко будить его…
— Ну, что, стрелок грёбаный, зеньки разул?! Щас тебя хозяин обует… Щас обует… — сладострастно, как все служители этих органов, тянул милиционер.
Я с ужасом вспомнил вчерашнее, и мне стало неуютно здесь, в железной клетке. Я боялся не за себя, а за деда: «Всё! Ему хана! Хранение оружия, да ещё боевого — пять лет, как минимум!»
Я растолкал своего, теперь уже, подельника. Он вскочил не по возрасту быстро, и тоже зашарил глазами.
Сержант загремел ключами и выпустил нас из клетки.
— Руки, гад! — пнул он меня кулаком в бок.
Я, помня из фильмов, как это делают заключённые, положил руки на гудящий затылок, и сцепил пальцы.
— За мной!
Мы пошли следом, понуро склонив головы.
— Разрешите? — сержантик робко приоткрыл обитую коричневым дерматином дверь. Мы оказались посреди большого кабинета. В промежутке между двумя окнами стоял массивный дубовый, каких теперь уже не делают, стол. За столом сидел усатый майор, и что-то писал и писал. Со стола, с отстёгнутым барабаном укоризненно смотрел на нас дедов наган. Сержантик робко на цыпочках вышел.
х х х
О чём с нами говорил начальник милиции города Рассказово — я передавать не стану. Но говорил он долго и выразительно. Оказывается — мы вчера застрелили его лучшую охотничью собаку.
На наше несчастье, или счастье, начальник в тот вечер на служебном «Уазике» носился по полям за зайцами. Вот мы и наскочили на него.
Я боялся за наган. Но с наганом всё было в порядке — почтовым экспедиторам, которым, как раз и работал Лёшка Моряк, полагалось оружие. Ведь почту могли и ограбить. Так что наган образца революционного времени дед носил вполне законно. С этой стороны претензий к нему не было. С другой стороны — у меня была разбита голова, и майор по своей душевной простоте, и чтобы с нами больше не связываться, выпустил нас на волю.
Ах, воля!
С первым автобусом я вернулся обратно в Тамбов. К родителям я так и не попал. Не знаю, как Лёшке Моряку, а мне было плохо…
Да, кстати, город Рассказово, куда мы были доставлены милицией, находиться в тридцати километрах от Бондарей — и в другую сторону.
Одним словом — Россия…
КАНАВА
ЗАПИСКИ ИЗ ПРОШЛОГО
Пискунов Георгий Сергеевич, а попросту Гоша, был самым, что ни на есть, демократом, но не той, первой волны, высокой и светлой, смывающей тину и залежалые остатки болотных водорослей, волны молодой интеллигенции — писателей, учителей, библиотекарей, а второй или даже третьей, которая в свою очереди смяла и писателей и врачей и библиотекарей и даже рабочих, обозначив им место на последней ступеньки общественной лесенки — посторонись! Хотя лестница эта вела в никуда, но Георгий Сергеевич ещё об этом не догадывался. Вообще-то Гоша, Георгий Сергеевич, человек был неглупый, и цепкий за жизнь. Он все время полагал, что социальная справедливость нарушает его Богом данную свободу. Равенство и братство, которое проносили от век великие мыслители человечества, сковывают его личную свободу, права, наконец. «Вот взять бы, хотя, моего соседа, Кольку Гвоздева — никудышный, зряшный человек, — ломал голову в минугы гордых раздумий Георгий Сергеевич, — вроде институт кончал сосед, образование высшее, соображать должен, а он все равно, как дитё малое. Свою выгоду знать не хочет. Поэтому и живет кое-как. Прораб, он и есть прораб. Мотается по стройкам месяцами черти те знает где. Жену без пригляда оставляет. Девчонка, вон, у него в невесту вымахала, а он её всё лапушкой зовет. Тьфу! — вспомнив про дочь Гвоздевых, Георгий Сергеевич расстраивался. — Девчонка у Николая, конечно, красавица. Тоже в отца пошла, в институт бегает… А моя, — Гоша стыдливо примаргивал, — только и знает в дискотеках да в кабаках с осенними подранками, хилыми от доз, упражняться, да женскую науку осваивать, мать ее так!
Гоша ни институтов, ни даже техникумов не кончал, но всё равно вся его жизнь прошла на плаву. После десятилетки как молодой общественник, он был направлен секретарем комитета комсомола в строительное управление, где молодежь, в основном собранная с миру по нитке из пригородных сел, приучалась к индустриальному труду заметно отличавшейся от колхозной повинности смягченной простительной мелкой вороватостью помогающей одолеть бескормицу.
Молодежь — есть молодежь. Она и управления-то никакого не требовала. Кучковалась сама по себе, копеечные взносы платила безропотно, а комсомольскому секретарю оставляла уйму свободного времени, которое Гоша тратил безрезультативно. Ему бы учиться, а он только и делал, что организовывал бесконечные ударные субботники и воскресники да поставлял очень задумчивых девиц всяческим инструкторам да уполномоченным приезжающим в строительный трест с бесконечными, не дающими результативности, проверками.
Так и жил он, и старел потихоньку, пока не вышел по возрасту в тираж. Делать он ничего не умел, поэтому его избрали, теперь уже, председателем местного комитета профсоюза. Работа-та же: взносы да организация культпоходов в места общественного пользования — в областной театр, который, не смотря на мировые репертуары, так и оставался областным, билеты принудительно распространялись по трудовым коллективам, в кино на бескассовые сеансы, иногда на лыжные прогулки для особо приближенных к начальству передовиках. К раздаче путевок на курортное лечение и ордеров на недосягаемые квартиры Георгия Сергеевича Пискунова, конечно, не допускали. Этим занимались люди у руководства, а он только подписывал решения согласных на всё, членов месткома.
В начале девяностых годов, во времена контрреволюционного отката, Георгии Семенович стал просто Гошей. Профсоюзы рассыпались, как горстки сухого песка по ветру, заняться было нечем, хотя профком по бумагам ещё существовал, и его председатель исправно получал жалование, которое никак не скрашивало Гошино существование без ежедневной, хотя и пустопорожней, занятости.
«У, дермократы! — стенал Гоша, глядя в бумажные, теперь уже никому не нужные, закоулки — Страну развалили, сволочи!» Но потом, послушав главбуха, своего давнишнего приятеля, с которым они выпили не одну «цистерну» водки, он стал приглядываться — что будет дальше? А дальше, — как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Дальше были козырные карты Чубайса — ваучеры.
«Пустая бумага, она даже на подтирку не годится» — сокрушался Гоша, получив желто-коричневый лоскуток казенной бумаги обещавшей некую долю собственности в призрачном измерении.
Всё бы так и прошло, скинул бы он этот жухлый безнадежный, как осенний листок, ваучер, если бы не многодумный Иосиф Яковлевич, все тот же Гошин приятель, главбух.
— Ты, — говорит Иосиф Яковлевич Гоше — мужик хоть и русский, но пронырливый, специальности у тебя никакой, а запросы большие. Как жить будешь? В рыночных отношениях между классами, твое место промежуточное.
— Яклич, это как же? — не понял Григорий Сергеевич. — Промежность что ли?
— Ха-ха-ха! Ну, развеселил ты меня, Гоша! Да-да, промежность! Место тоже неплохое. Всегда тепло и дух хлебный. Ты зря психуешь — Иосиф Яковлевич закрыл на ключ кабинет, подошел к усадистому, плечистому стальному сейфу старинного изготовления, на вид не меньше полутонны веса, с места — не сдвинешь, два раза повернул в узкой шелочки длинный замысловатый ключ и массивной брони — дверь со вздохом открылась. Внутри большого сейфа, находился другой сейф, размером с письменный ящик. Ну, вроде, шкатулки, но тоже под замком. Посопел, посопел Иосиф Яковлевич и шмякнул перед непонятливым Гошей завернутый в газету кирпич. Вот, — хмыкнул он, — на нервной почве заработанные. Все до копеечки! Ты что, Яклич? Деньгами, зачем швыряется? Я ведь не
БХ СС, какой, чтобы тебе откупиться. За такие деньги и средь бела дня почки отобьют. Ребята теперь, при новой власти, никого не боятся. Ты окна-то занавесь, чтоб не подсмотрели. Береженого — Бог бережет.
— Эх, Гоша, Гоша, какие это деньги! Больших денег ты не видел, какие они. Подожди, через годок-другой увидишь, если все по маслу пойдет с реформами. Подожди. А вот этими надо распределиться правильно.
— Яклич, ты в уме что ль? Разве их все пропьешь? Нам с тобой здоровья не хватит.
— Я всегда думал, что ты дурак, Пискунов, но не до такой же степени! Ты — человек из народа. Плоть и кровь его, как говорили раньше. У тебя с этим всё в порядке. А у меня, сам знаешь, проблемы от рождения. Ступай в люди, и на этот кирпич ваучеры достань, сколько сможешь, пока твой народ в чувство не пришел. Десятая часть твоя будет, согласно законам Моисея.
— Не, Яклич, дурак ты оказывается, а не я! Tы что, на Чубайсовы бумаги такую килу денег хочешь ухлопать? Очнись, Яклич, ты же еврей! У тебя жила от самого Каина идет. Ты что, совсем с ума сполз? Мало ли что этот рыжий Толян обещал. Курочка в гнезде, а яичко неизвестно где…
«Яклич» намек насчет Каина, мимо ушей пропустил. Ну, Каин, так Каин. Он тоже человек был. Но «Яклич» на Гошу посмотрел сурово:
— Так! Вот тебе расписка на получение тобой у меня денег. На всякий случай. Я тебе доверяю. Расписку я заранее составил. Распишись и молчи в тряпочку, Я тебе потом, после, объясню, в чём ты профан. А пока, у профсоюзного руководства состоишь. У руля, значит. Рабочие твои, члены эти, через день пьяные на работу выходят к станкам да ключам гаечным, Они, Гоша, святые люди, а Богу не молятся? Вот та их на эти самые ваучеры и штрафуй. Товарищеский суд нам тут не поможет, отдай ваучер — и свободен! Трудовая книжка чистая. Если упираться будут, возбуждай дело об увольнении по статье за систематическое пьянство, за употребление спиртных напитков на рабочем месте. Они люди; сознательные. Им такие записи-то к чему? А ваучеры для таких людей — бумага, — и приспособить некуда. Так они думают. Одним словом, — курочка в гнезде. А я к этим рыжим курочкам петушков приставлю, у власти которые. Посмотришь, какие золотые яйца будут! Ну, иди!
Взял Гоша бумажный пакет неказистый, засунул за пазуху и, почесав в недоумении затылок, пошел «в народ». А народ у нас, известное дело, какой, зачем ему журавль в небе, когда: синица в руках?
И стал Гоша выщучивать простаков разных. Вынюхает кого: — « Давай ваучер! Я не жадный. Бери! На! Бутылку на похмелку покупай, Я человек свой, не злопамятный. Иди, похмелись!» А. у другого — и так возьмет. Прижмёт к стенке — а ну, дыхни! И пойдет тот человек счастливый. Ваучер разгладит рукой и отдаст Гоше.
Ваучеры безымянные, спасибо Чубайсу! На то и рассчитали, что русскому человеку эти бумаги в острастку. Как облигации. Толку не жди. На! Возьми, пожалуйста! Только на бутылку дай!
Нежданно-негаданно приватизация подоспела. Наверху тоже решили — «На! Бери, сколько проглотишь!». И брали, и глотали. И не подавились…
Вот тогда-то Георгий Сергеевич Пискунов, Гоша, по-настоящему стал демократом. Даже за Ельцина семью свою сагитировал проголосовать. А как же? Генеральным директором «000 Жилищная Инициатива» Иосиф Яковлевич оказался. И Гошу взял в совет директоров. Ваучеры почти задарма достались. Много бумажек этих, которые в одно мгновение стали золотыми, Гоша по Моисееву закону десятую долю себе ваял. Тоже хватило! Хотя и не на контрольный пакет, но достаточно, чтобы по всем правилам новой демократии оказаться в Совете директоров.
Прошлый начальник пугливый. Перед самым собранием акционеров, почему-то сразу под самосвал угодил. Хороший был начальник. Деловой очень. Поехал на песчаный карьер обстановку выяснять. На растворо-бетонный узел песок перестал поступать. Ну, приехал. С экскаваторщиком, подвыпившим, строго поговорил. А тут звонок на его мобильник из управления. Экскаватор гремит, «КамАЗ» этот, самосвал гарью чихает, соляркой. Отошёл начальник в сторонку, прильнул ухом к мобильнику, увлекся разговором с главбухом о дебитной задолжности. А тут, как раз, самосвал груженый, уже, задом от экскаватора сдавать начал. И проутюжил начальника. Шофер трезвый был, как стеклышко, опытный. За что ему сидеть? Дело сразу и прикрыли. Начальник сам виноват, что у шофера зеркало заднего обозрения не оказалось. Наверное, еще в гараже сняли. Не надо было шофера в рейс выпускать.
Поохали сотрудники. Иосиф Яковлевич похоронами руководил. Похоронили честь-по-чести. Начальник — человек советский был, но крест ему всё же сварили. Хороший крест. Из нержавейки. Век стоять будет — думали. Да сняли тот крест с могилы на второй день. Цветмет. За него теперь деньги дают. На пару бутылок хватило и еще на закуску осталось, говорили. Зачем мертвому символы? Ему и без символов за жизнь ответ держать. Кто же уйдет от разговора с Богом? Даже Иосиф Яковлевич, и тот не уйдет.
Но тогда, об этом ещё никто не думал: ни сам Иосиф Яковлевич, ни Гоша. Они тогда ещё живы были. Думали о разном. Один о двойном гражданстве, а другой о незадачливом соседе, Коле Гвоздеве с его дочкой. На свою Гоша уже рукой махнул — пусть гуляет! А вот дочка у Николая хороша… Может ей персональную стипендию назначить? Отблагодарит или не отблагодарит она, студентка, бедолага нищая, его, Гошу. Он ещё ничего мужик! В пиджаках широких стал ходить, иномарка на четырех колесах, как олень резвая, должна, вроде, отблагодарить.
Бедствуют соседи. Николай гордый, без работы мыкается. Приглашал его Гоша к себе в «Жилищную инициативу» начальником производства. Проработал Николай недолго. Сметную документацию требовал по факту. Геодезию какую-то на новые объекты. Въедливый человек! Скандальный. Умного из себя строил. Пришлось разойтись. Вот и думает Гоша, чем бы помочь дочке его? Хорошая очень…
Думал и «Яклич» о своей исторической родине. Гошу дочка Гвоздевых вряд ли отблагодарит, a Иосиф Яковлевич более везучий был, сквозняком махнул в Израиль, передав Гоше управление. У Гоши теперь денег уйма. Он и сам не знает — сколько. Счета в банке постоянно обновляются.
Разные они люди — Гоша и Иосиф Яковлевич, да и шли теперь далеко друг от друга, а умерли в один день, как счастливые любовники.
Иосифа Яковлевича Либермана психованный палестинец в автобусе взорвал, а вот с Гошей случилась совсем другая, но тоже рядовая по современной жизни история.
То, что Либерман Иосиф Яковлевич отправился на свою историческую родину — понятно. Ну, не любил он русские березы, под сенью которых, более двух веков назад, его предки нашли себе приют от пристрастной Европы. Не любил «Яклич» просторы российские. Ему смоковницы ближе, пески Синайские, кипарисы с олеандрами, пальмы всякие…
А вот зачем Пискунов Григорий Сергеевич по кличке «Гоша», (ну, как же без клички? Модно теперь в бизнесе к имени собственному кликуху прилагать. Все деловые люди так делают. Вот и Пискунов, босс строительный, на «Гошу» откликается) зачем этому Гоше было на говорливом Кавказе свой филиал открывать? Бес наживы попутал!
Гость с гор прибыл. Кружился чёрт прошмыгливый возле Григория Сергеевича. Выгодный подряд обещал Джибраил Муратович. Говорил: — « Зови меня Гавриилом, если по-русски. Мой дом — твой дом! Мой бизнес — твой бизнес! У тебя Гоша «Инициатива» а у меня дэньги! Твои модульные, сборные дома бедном у горскому народу, ой, как нужны!» — Джибраил Муратович полоснул тыльной стороной ресторанного ножа себе по горлу, показывал тем самым, как остро стоит жилищный вопрос в разорённом междуусобицами крае.
Хорошо они тогда сидели. Вино пили. Закусывали. Шашлычки из барашка зубами рвали. Ты — брат, я — брат! Договор подписывали — в ладони били. Горец Гаврюша, ну, Джибраил этот, аванс крупный выдал и всё наличными. «Доверяю, брат!» — говорил. Опять в ладони друг другу стучали. Налоги платить с наличных, — кто будет?
Эшелон на юг Гошины снабженцы комплектовали уже без своего генерального директора. Работа по поставке конструкций и материалов была отлажена, как часы швейцарские. Аванс на руках. Какой вопрос? Клиент щедрый, и работал по понятиям. Беженцы в палатках живут. Удобств никаких. Разве это жизнь? Женщины с кувшинами: в кустики ходят. Жалко женщин! Нехорошо! Ой, как нехорошо! У тебя жена есть, у меня две жены есть. Нэхорошо!
В горах, слава Аллаху, теперь почти спокойно. Россия, говорят, большие деньги, транш выделило, чтобы беженцы в домах жили.
— Панимаешь, Гоша?
— Понимаешь, Джибраил?
— Ну, вот и хорошо! Значит мы люди понятливые! Забирай деньги! Что они? Бумага одна! А дружба крэпче стали! Поедэм на место, строительные площадки будэм смотреть. Нулевой цикл под монтаж принимать.
Поехали…
У Гоши машина — зверь. Джип-внедорожник. Дорога дальняя. В багажнике, как в гастрономе, — всё есть. Неутомительно ехать.
Прибыли на место. Всё — чин-чином. Фундаменты по струнке стоят с подведёнными коммуникациями. Гошиных поставок дожидаются. Месяца через три здесь целый поселок вырастит. Больше самого аула, который по ошибке, то ли федералы, то ли сами себя моджахеды подорвали вместе с аулом. Жители все до единого в соседнем ауле праздник справляли. Плов кушали, Сациви кушали. Халва дэти ели. Все, слава Аллаху, живы. Теперь вот денги федералы за ошибку выдали. Новый аул будет. Сакли-макли из камня в два этажа под чинарой густой…
Худой мир лучше хорошей ссоры.
Григорий Сергеевич доволен. Акт приёмки под сборку и монтаж с размаху подписал. Русские, если они такие, как Гоша, с любым локоть в локоть жить будут. Ай, какие нэхорошие люды ссоры устраивают!
Гоша согласно кивает головой. За длинным кавказским столом Джабраиловы родственники. Много — родственников. Все за столом не уместятся. Во дворе стоят, прохлаждаются. В ножички, как дети, играют. Хорошие родственники! Понятливые!
Среди родственников один Гошин земляк даже оказался. Все норовил Гошу под руку взять:
— Ну, ж набрались вы, Григорий Сергеевич, под завязку. Пойдем. Пойдем к нашим! Ну, их, чурок этих! Пошли к нашим.
Долго шли. Потом ехали. Землячок говорил, что к бабам едем. К бабам — это хорошо! По дороге еще выпили. Правда, без закуски. И опустился Гоша в сумерки. Вернее, в провальную тишину. Черно всё. Руки и ноги онемели, а потом и голова с плечей свесилась. Очнулся — сыровато как-то. Зябко. Наверху клочок неба синеет. Рассвело уже, наверное. « Ух-ты, ё-мое! Как же я сюда попал? В колодец, что ли по пьянке угодил?» Крикнул — нет ответа. Ещё крикнул — тишина кругом. Словно вымерли все. Царапает Гоша каменья осклизлые. Выбраться хочет. Да, куда там! Яма глубже возможностей оказалась. Только ногти на пальцах обломал. Бьется Гоша о стену. Пить нестерпимо хочется. Слизывает Гоша влагу с известнякового камня. Да разве этим напьешься? В горле песок один. На зубах скрипит. В полутьме какую-то тряпицу отыскал…
«Эх, канава, ты канава! Ты канавушка моя!» — как назло припомнились горестные слова, которые любил повторять отец Гоши перед самой смертью. Вот и самому Гоше выпало в полном объёме. Тряпицу мягкую ощупал — телогрейка вроде. Прилёг. Отдышался. И снова отключился. Очнулся от зычного, как у всех на Кавказе, голоса:
— Мужик, с тебя выкуп причитается! Если долго жить хочешь.
Бросили в яму бумагу с авторучкой.
— Пиши письмо домой! Жена-баба, дети ждут. Пиши. Скажи: «Дэньги давай!» Дорого не возьмём. Ты дороже стоишь, большой человек!
…Письмо пришло вовремя. Без почтового штемпеля. Без адреса. Прочитали дома: — «Господи! Разорят нас оглоеды чёрные! Это же почти всю наличность отдавать придётся!» Пошли в милицию. Там письмо, как водиться, к делу пришили. А дел у милиции: всегда хватает. Подождут там, небось. А там, небось, не подождали.
Зачем Дусе, жену так Гошину звали, в милицию заявлять было. У горных орлов связь хорошо налажена. Узнали, Выводят из ямы Гошу. Отвели за камни. Один психанул, как тот палестинец, что «Яклича» подорвал, да и полосонул Георгия Сергеевича сгоряча по горлу кинжалом, как водится. Обожгло гортань, словно Гоша кипятку на далёкой станции, как тогда, в детстве, когда от войны бежали, хватил. И покатился огрузшим мешком в чёрную щель каменную. Кто найдёт? А — найдёт, не скажет. Все гордые. Все мужчины.
Да и кто искать будет? Одним словом — канава!
ПОГОСТ
Не в силе Бог, а в правде
Александр Невский
Грустно, что лето осталось где-то там далеко-далеко, откуда нет возврата. За сеткой долгих и нудных дождей незаметно, как вражеский лазутчик, короткими перебежками подкралась осень. Над бондарским погостом кружат большие беспокойные и крикливые птицы. Как только я ступил за ограду кладбища, они тут не снизились и расселись по крестам, внимательно наблюдая за мной. Когда я двинулся дальше, птицы, соскакивая с крестов, услужливо засеменили впереди, будто показывая дорогу к печальному и родному месту. За небольшой, сваренной из стальных прутьев оградой нашли вечное пристанище мои незабвенные родители: на крохотном бетонном обелиске фотография смущенно улыбающейся матери, а рядом, слева, на жестяном овале горделиво взирающий на этот мир отец. Я тихо прясел на врытую в землю скамью. Всё это — мой дом и моё отечество…
Резкие, скрипучие звуки бесцеремонных пернатых не давали мне поговорить с родителями.
Птицы, христарадничая, расположились возле меня. Из-за своей всегдашней недальновидности я пришёл на кладбище без гостинцев, — так получилось. Поднявшись со скамьи, вывернул карманы, показывая черным монахам, что у меня ничего нет. То ли испугавшись моего резкого жеста, то ли действительно поняв, что от меня ждать нечего, они разочарованно взлетели и, снова ворча и переругиваясь, закружили над тополями и зарослями буйной сирени, плотной, упругой стеной отгораживающей старую часть погоста от новой. Там, на старом кладбище, тогда еще так буйно не заросшем сиренью, мы, пацанами играли в любимую игру тех лет — войну, прячась в старых, полуразрушенных склепах, давным-давно построенных именитыми людьми Бондарей.
Во время гражданской бойни и коллективизации эти-убежища спасли не одну жизнь. Здесь мой дядя, ныне здравствующий Борисов Николай Степанович, двенадцатилетним подростком несколько дней и ночей сторожил семейный скарб от большевистского разграбления. Дядя рассказывал, как, холодея от страха, он задами и огородами сносил и прятал в один из склепов не очень уж и богатые пожитки. Комбед подчищал все. Когда к моему деду пришли описывать имущество, часть его была уже надежно припрятана. Это и дало возможность пережить зиму моей матери с семьей. Дядя Коля еще говорил, что разъярённый председатель комбеда Иван Грозный, так звали у нас на селе одного из самых жестоких борцов за чужое добро, сорвал с гвоздя понравившийся ему ременный кнут и, когда мальчишка, плача, вцепился в него всей детской силёнкой, доблестный коммунист, черенком кнута, борясь за правое дело, размозжил мальчику губы. Ho…, это другая тема. Всё минуло и заросло быльём, как кладбищенской сиренью. Такой сирени я нигде больше не встречал. По весне, голубыми и розовыми шапками наряжалась она, встречая печальные шествия, и прощально покачиваясь, провожала в последний путь очередного бондарца. Вон их, сколько тут улеглось молчаливо и безропотно в родную землю, которую они ласкали и холили при жизни, а теперь вот накрылись ею — и не докричишься. Слабые и сильные, правые и неправые, все они тут рядышком, посреди колосистого поля, на островке скорби. Кресты, кресты, кресты…
Правда, на некоторых могилах встречаются и звёзды — судьба сама распорядилась: кому под крест, кому под звезду…
Неподалёку от моих родителей под высеченной на чёрном мраморе звездой нашёл успокоение профессиональный партийный работник, отчим моего друга, — Косачёв Иван Дмитриевич. Да будет ему пухом земля наша! Учился на актера, а вот, поди, ж ты, пришлось играть на партийных подмостках в театре абсурда. В раннем детстве он познакомил меня с тогда ещё запрещённым Есениным, и я всю жизнь благодарен этому партийцу за это. Со мной, мальчишкой, он говорил всегда, как с равным, и тогда ещё пробудил во мне страсть к поэзии и литературе. А сколько потом в затяжных застольях было разговоров о политике, о жизни, об искусстве! Я всегда, когда бываю здесь, захожу к нему поклониться и, вздохнув, вспомнить прошлое.
За зеленой стеной сирени, возле задернённого вала, отделяющего погост от поля, теснятся высокие, ещё не тронутые осенней позолотой, деревья. Эти тополя были посажены в шестидесятых годах на заброшенной и неприбранной братской могиле сердобольными женщинами, среди которых была и моя мать.
Прислонившись плечом к тополю, над братской могилой стоит слегка покосившийся, кованный из полос стали чёрный крест. Его делал мой дядя, тот исхлестанный любителем цыганских кнутов. Красный бондарский царь Иван Грозный с партийным благословением на разбой яро защищал права местной, почему-то всегда нетрезвой, голытьбы, не забывая при этом и о себе. Но не про то сегодня. Не про то…
Под этим плоским, черным, с остроконечным распахом — крестом лежат в земле невинные люди, попавшие под Серп и Молот большевицкого Молоха. На жестяной дощечке, прикрепленной к кресту, черным по белому написано:
Здесь покоиться прах рабов Божьих,
Убиенных в 1918 году
24 человека:
иерея Алексея,
иерея Александра,
диакона Василия,
ктитора Григория,
раба Михаила,
Фёдора, Антипа,
И других неизвестных рабов.
Мир праху вашему.
Спутник, отдохни,
Помолися Богу,
Нас ты помяни.
И я пришёл сюда, чтобы помянуть их в своём очерствевшем под жизненным ветром сердце. Мир праху вашему, рабы Божьи! Ктитор Григорий и раб Михаил — мои кровные родственники по матери. И нашей кровью умывала руки большевистская сволочь в ноябре 1918 года, нагрянувшим в Бондари карательным отрядом.
2
Бондарцы народ хитроумный и недоверчивый, Потомки беглых людей, с северных губерний России посмеиваясь и пошучивая, восприняли сообщение о большевистском перевороте в Питере. «Не, далеко Петроград, сюда не дойдут! — самонадеянно говорили они, занимаясь своим извечным ремеслом. Что им Революция? Мастеровые люди, занятые фабричным и кустарным делом, жили своим трудом. И жили ничего себе, об этом свидетельства моих стариков-односельчан. «Если есть голова и руки, то всё остальное приложится» — говаривали они.
Бондарская суконная фабрика, построенная еще в 1726 году и исправно действующая после все время, вплоть до семнадцатого года давала возможность местным жителям хорошо зарабатывать. К тому же большие, богатые базары помогали торговым людям и местным мастерам-умельцам держаться на плаву.
Бондари славились своими кожевниками, кузнецами, шорниками, ну, и, конечно, бондарями. Крепкие дубовые бочки под разносолы, схваченные коваными обручами, ценились высоко.
— Не-е, не дойдут! — по-бондарски растягивая слова, упрямо твердили они на тревожные и страшные вести приезжих людей.
Даже тогда, когда салотопщик и пропойца Петька Махан ходил по селу, поигрывая бомбами на поясе, они всё посмеивались, показывая пальцем на Махана и дразня его.
Выхваляясь, Петька грозился взорвать фабрику и половину Бондарей спалить — лавочников и мещан грёбаных!
— Обожди, обожди! — хрипел он. — И на нашей улице будет праздник!
И его праздник пришёл.
Стылым осенним днём, кидая ошмётья грязи на чистый утренний снежок, на штыках карательного конного отряда в Бондари ворвалась новая власть. «Чё за гостёчки ранние?» — боязливо отдергивая занавески, поглядывали бондарцы на верховых».
Казенные люди для русского человека — всегда опаска. А тут их вон сколько! И все с ружьями и при саблях. « Нешта немец до Тамбова дошёл?» — спрашивали друг у друга.
Тамбов для немца был действительно далековато, но смерть уже застучала костяными пальцами по окнам. Перво-наперво в революционном порыве были арестованы все служители храма вплоть до сторожей и приживалок при церкви. Потом начались погромы продуктовых лавок и трактира. Бондарцы недоуменно пожимали плечами: «Как же так? Средь бела дня грабят, а им нету никакого окорота! Что же за власть такая?..»
Мой родственник, «раб Михаил» из того черного списка, пришёл в лавку купить дочери сосулек — леденцов по-теперешнему. Лавка была распахнута полки чистые, ходят какие-то пришлые люди, хозяйничают. Михаил стал возмущаться: вот, мол, пришли порядки — сосулек купить надо, а лавки пустые.… Загребли и его — так, для счёта. Может, система у них была поголовная — чем больше, тем лучше. Загребли даже одного приезжего из Саратова — навестил больную малолетнюю дочь, которая гостила в Бондарях у родственников. Его, Свиридова Фёдора Павловича, загребли только за то, что человек не местный и заартачился быть понятым при шастаньях по чужим закромам, — думал порядки старые, царские, — ан нет! Новая власть оказалась обидчивой — после избиения привязали его зa руки к седлу, и погнал потехи ради красный кавалерист лошадь галопом. Так и тащили его с Дуная (Дунайской улицы) до самой церковной площади по мёрзлой кочковатой земле, как был, в одной рубахе и кальсонах — знай наших! Неча по больным дочерям ездить! Тоже — родню нашёл!
Большевистские рыбари приличный улов сделали — с одного села более двадцати человек буржуев и пособников империализма зацепили…
Мой дядя — Борисов Сергей Степанович, ныне тоже здравствующий, со своим сверстником тайком, из-за угла скобяной лавки, поглядывали на скучковавшихся возле церкви людей. Жители попрятались по домам, зашторив окна. Дядю Серёжу, то есть двенадцатилетнего пацана, мой дед Степан послал поглядеть: Чтой-то будет делать новая власть с Михаилом да Григорием? Пацаны и поглядывали украдкой за страшным делом. Потому-то, со слов очевидца, у меня достоверные данные о кровавой расправе над ни в чём не повинными людьми.
Они никакими действиями не оказывали сопротивления так называемой пролетарской диктатуре. Не богачи и не белогвардейцы — такие же рабочие, мещане, служители Господу — словом обыватели. Ещё не было и года советской власти, и такое злодейство!
Коммунисты оказались скоры на руку. Чего там судить? Всего и делов — то, что шлёпнуть!
Когда несчастных людей вели на расстрел, к красноармейцам цристал-да-пристал один дед глуховатый. Был такой в Бондарях, безродный дед Пимен, почему-то в списках он не обозначен. Списки делали в шестидесятых годах полулегально, по памяти, потому и выпал дед.
Так вот, новая власть могла и благодушно пошутить. Дед всё спрашивал: «Куда-то, сынки, людей ведёте?» — «В баню, дед, в баню!» — «Ой, хорошо-то как! И я попарюсь, небось, слава Богу! Вшей пощёлкаю!» — « Пошли, дед, за компанию! Намучился, поди, по свету шастать?» Воткнули пулю и ему. Дед стоял, понимающе улыбался: — «Во, шутники, прости Господи!..»
Расстреливали у северной стены храма, чуть левее колоннады. Дело привычное. Уронили всех сразу. Только иерей Колычев Александр, крутясь на одном боку, всё норовил вытащить из груди раскалённую занозу. Один из стрелявших по доброте своей сжалился над ним. Подойдя поближе, он резким движением с оттяжкой опустил кованный железом приклад винтовки ему на голову. «Хрустнула, как черепушка!» — вспоминая, говорил дядя Серёжа.
Убитые долго ещё остывали на свежем, только что выпавшем снежке. Оставили так, для острастки — попужать. Потом, сняв с них кое-какую одежонку, — небось, пригодиться, — сволокли в дощатый сарай пожарной команды, и они лежали там ещё долго за ненадобностью. А куда спешить? Дело сделано. Морозец на дворе — не протухнут. Да и застращать надо…
Хоронить на кладбище по христианскому обычаю родственникам не разрешили. Свезли их на подводе за кладбище, как навоз, какой! Вырыли одну общую яму (большевики всегда имели слабость к общаку), покидали их окоченевших, полунагих, как, попадя, засыпали стылой землицей, докурили самокрутки, поплевали под ноги и пошли думать свои государственные думы.
Вот тогда-то и поверили бондарцы, что новая власть пришла всерьёз и надолго. И затужили. Куда подевались смешки и подначки? Враз скушными стали. По всему было видно, что власть пришлась не ко двору. Отношение бондарских мужиков к ней, этой власти, было глумливо-ироническое. Уже в моё время, я помню, как отец в трудные минуты, вздыхая, приговаривал: «Эх, хороша советская власть, да уж больно долго она тянется». Или взять слово «колхоз», давно уже ставшее синонимом бесхозности и разгильдяйства. А чего стоят одни анекдоты! Ну, никакого почтенья к Великой Революции и вождям пролетариата!
…А Петька Махан всё-таки не натрепался — и фабрику взорвали, и пол-Бондарей извели.
3
Резко вскрикнув, как от боли, какая-то птица вернула меня к действительности. Над густыми тополями собирались тучи. Надо было идти в село. У меня там остались в живых двое дядьёв по материнской линии — дядя Серёжа и дядя Коля. Два ствола одного дерева, от корней которых пошёл и мой стебель.
Обычного застолья не получилось. Дядя Серёжа недомогал, как-никак — возраст к девяносто приближается, а дяди Коли дома не оказалось. Надо было бы посидеть, выпить, погоревать, поохать — вспомнить некогда многочисленную родню, плясунов и певунов. Хорошие певуны были! Но что поделать? На этот раз песни не получилось. Не получилось песни…
ВОЛЯ
из сборника «дети войны»
Жил у нас в Бондарях странный человек по имени Воля. Может у него кличка такая была — не знаю, но он всегда называл себя «Волей», хотя его, неизвестно каких кровей опекунша, кликала Валей. Валентин, значит. Так и жили они двое: чужая пожилая женщина, похожая на большую черную ворону в своих чудных широких одеяниях и приемыш — маленький серый воробышек Воля.
Женщина привезла Волю с собой откуда-то со стороны. Говорили, что она, уходя от немецкого злодейства, остановилась у нас в селе, очарованная малыми «карпатскими» горками за тихой речкой с громким названием Большой Ломовис. Откуда такое название для мелководной реки в центре черноземного края никто не знал: местные жители запамятовали, а пришлые и вовсе не интересовались. Речка — она и есть речка. Течет, и ладно!
Для нас, мальчишек, речка эта была вроде большого океана, вся жизнь проходила на ее берегу. Там-то мы и познакомились с Волей.
Распластавшись на горячем песочке, он пространно рассказывал о своей прошлой жизни, о скитаниях по поездам и подвалам на территориях занятых немцами, о побегах из-под охраны, когда его вместе с евреями вели на расстрел к Бабьему Яру, как он хоронился в придорожной канаве, пока фрицы делали свое дело.
Рассказы его были страшны и живописны так, что и до сих пор
вызывают во мне ужас и ненависть к немцам, как к нации каннибалов. Я знаю, что это не так, но ничего не могу с собой поделать — память детства несокрушима.
Воля был гораздо старше нас, школьников, чьи жизни обнаружили себя уже после войны, или немного раньше,
Но Воля почему-то всегда дружил с нами: уже не детьми, но еще и не юношами. Ровесники его не интересовали.
Воля был мал ростом, так мал, что встретив его на улице большого города любая мало-мальски сердобольная женщина, оглянется беспокойно назад — как без сопровождения взрослых гуляет такой мальчик в толпе пешеходов?
Маленькая, узкая головка, стиснутая с боков, вызывала ощущение, что она, голова эта, смятая какой-то чудовищной силой, стала плоской и даже уши казались приклеенными.
В то время ему было не менее шестнадцати-семнадцати лет, но впечатление он производил малолетки. В битком набитом городском автобусе ему бы могли уступить место, если бы не рыжеватая редкая поросль под всегда мокрым носом и на узком клинообразном подбородке.
Воля приходил к нам в школу, подолгу ждал, когда закончатся уроки, тихо интересовался: у кого есть какая-нибудь денежная мелочь, «денег нет, хоть вешайся!», просил одолжить. Потом щедро угощал махоркой, учил крутить самокрутки, поощрял, когда получалось, когда не получалось, — интересно и складно матерился и предлагал для пробы сделать пару затяжек.
Нам было лет по десять, курить мы не умели, но очень хотелось также затянуться, картинно выпустить дым из ноздри и при этом не закашляться.
Карманная мелочь водилась редко, курить у нас тоже не получалось…
Для меня и теперь загадка, — что могло интересовать Волю в нас, сельских вполне домашних детей, обыкновенных мальчишек.
Воля был одержим воровской романтикой. Рассказывал о заманчивой, богатой жизни вольных блатняков, о воровском слове, за которое идут на нож, но один раз данное слово обратно не берут.
Говорил он медленно, с растяжкой, присвистывая шипящие звуки: «Я фрица на перо, как жар-птицу посадил, когда он на мамку вс-собрался…»
От этих слов, от этих шипящих звуков становилось как-то не по себе, хотелось убежать, спрятаться, закрыться руками.
Воля в нашей школе не учился. Да и учился ли он вообще, я не знаю. Он как-то говорил, что не школа делает человека человеком, а тюрьма. Во всяком случае, про Робин Гуда он не читал, иначе, хотя и без явных угроз, но всякую карманную мелочь у нас он бы не вымогал своим тихим, с потаенным смыслом голосом. В открытой драке его можно было легко одолеть, но вступать с ним в конфликт никто из нас не решался.
Однажды он появился в школе в совершенно пьяном состоянии, улегся в дверях учительской и уснул. Здание милиции было напротив школы, Волю унесли в отделение, где он преспокойно проспался и отделался легким шутливым напутствием — всегда закусывать.
Посещение милиции на Волю подействовало оглушительно. Теперь при каждой встрече он неимоверно гордился тем, что «тянул срок». Рассказывал о пыточном подвале «ментовки», где ему заламывали руки, отбивали почки, но он «сука буду!» никого не заложил, и вы, пацаны очковые, можете спать спокойно: за вами не придут и не повяжут.
За что нас «повязывать», мы, конечно, знали и были Воле благодарны, что он не раскололся.
«Денег нет, хоть вешайся!» — сказал он, как всегда, присвистывая и пустив сквозь передние зубы длинную пенистую струю. Пришлось опоражнивать карманы, вытряхивать заначки: «Воле надо опохмелиться!»,
Воля опохмелялся своеобразно: на те нищие деньги, что он смог у нас наскрести, можно было купить, разве что порошки в нашей районной аптеке, куда мы носили собранную на колосьях ржи спорынью, которая тогда высоко ценилась.
В школе нам говорили, что этот крошечный паразит способен уничтожить урожай зерновых за кроткое время, и задача пионеров и школьников на хлебных полях собирать затерявшуюся в колосках спорынью и сдавать в аптеку. За спорынью в то время хорошо платили и мы с удовольствием выбирали из тощих колосков черных паразитов, чтобы потом, скооперировавшись, отнести в аптеку и получить деньги за свой детский труд.
Грибок этот крошечный, больше похожий на блоху, чем на гриб. Чтобы собрать чайный стакан этого паразита, надо было ходить по полю целый день пионерскому отряду и неизвестно, кто больше вредит урожаю: спорынья или мы.
Полученные деньги тратились по назначению на нужды пионерии, но часть денег получали на руки и мы — на кино и на морс.
Морс — напиток детства мы пили с большим удовольствием.
«Клапана горят!» — морщась, сказал Воля и отправился в аптеку за углом.
Какие клапана и почему они горят — нам было любопытно, и мы потянулись за Волей.
Через несколько минут Воля вышел из аптеки, оглянулся по сторонам и, увидев нас, широким жестом достал из кармана пузырек с какой-то жидкостью, свинтил пробку, картинно закинул голову, вливая в себя содержимое склянки.
— Тише, Воля лечится! Лечится Воля! — пронеслось среди нас.
— Падлой буду! — подошел, сплевывая под ноги наш общий друг.
Было видно, что похмелка ему пошла не на пользу: лицо его искривилось и выражало крайнюю степень отвращения.
— Фанфуик, сука, не тот! — сблевав под ноги, спокойно утерся рукавом Воля. — Я эту богадельню, — указал он на аптеку, — когда-нибудь сделаю!
Как он будет «делать» аптеку, мы не знали, но все-таки интересно. Надо посмотреть…
Аптеку он, конечно, не «сделал», мощей не хватило, но кое-что ему удалось.
Воле у нас в глухом черноземном селе воровать и вести блатную жизнь полную романтики и приключений негде, масштабы не те. Самое большое событие для местных органов правопорядка была кража самогонки у тети Фени, бабы вдовой и острой на язык. Если прицепилась, вырезай с кожей, иначе не отвяжется. Еще ходила такая поговорка: «Пошел ты к едрене Фене!» В смысле — иди, куда шел!
Так вот милиция эту кражу повесила на самою тетю Феню, мол, сама выплеснула в огород самодельный алкогольный продукт, чтобы уйти от ответственности.
Какие в Бондарях воры? Какие блатхаты? Какие малины? На все Бондари один малиновый куст и тот в милицейском палисаднике. Как пожгли за время войны сады, так и пустуют задворья, некогда сельчанам баловством заниматься, да и некому. Остались бондарские мужики на чужих полях, укрытые лебедой да молочаем…
Но это к рассказу о Воле никакого отношения не имеет. Так, вспомнилось и осталось…
Воле блатовать негде и не с кем. Может быть, он перегорел бы в своих желаниях, да тут, как на грех, завезли в кинобудку индийский фильм «Бродяга». Вот это жизнь! «Я буду грабить, воровать и убивать!» — красиво говорил, поигрывая ножом Джага, настоящий индийский вор в законе. Вот это романтика!
Фильм крутили больше месяца, и на каждом сеансе, сжимая от восторга маленькие кулачки, сидел Воля, в котором жили и выжигали сердце Джага и русский Жиган. Мы тоже тянулись в клуб за Волей и тоже с восторгом пели: «Авара я, абара я! Никто нигде не ждет меня. Не ждет меня…»
Ничего не скажешь — хороший фильм, с танцами, с песнями, с индийской экзотикой и с индийской же сентиментальностью. Добро побеждает!
Но, как показали последующие события, Воля понял фильм совершенно по-своему. Он даже жесты и мимику главного героя перенял. Воля, как будто даже подрос. Одним словом — фильм нашел своего героя.
В Бондарях все было или старалось быть, как в городе. На центральной улице располосовавшей районный поселок на две ровных части стояли торговые заведения на все случаи жизни: перво-наперво чайная — головная боль местных женщин, магазин скобяных товаров, продуктовый магазин, магазин промышленных товаров и на отшибе, в низком, старинной каменной кладки, здании с маленькими окнами-бойницами находился книжный магазин в котором мы покупали разные школьные принадлежности.
Магазин этот в летний зной заманивал к себе устоявшийся прохладой, полумраком в котором стройными рядами теснились еще не прочитанные нами книги, под стеклом витрины поблескивали перочинные ножи всевозможных видов, в продолговатых коробочках лежали авторучки — мечта каждого школьника, нам в то время разрешалось писать только стальными перьям, которых здесь было также неисчислимое множество разных видов. Перья часто ломались, терялись, проигрывались в разные игры, поэтому школьники были здесь самыми многочисленными покупателями.
Мне там так понравилась записная книжка в красной кожаной обложке, что я однажды скопив деньги, с утра пораньше, перед самым открытием магазина поспешил туда, мало ли кому может тоже понравиться это чудо. К тому времени я уже вовсю писал стихи, вдохновленный Алексеем Кольцовым и Иваном Никитиным, почти моими земляками. Рифмовал все подряд: кошку с ложкой, ложку с мошкой. Получалось вроде складно, а ребята смеялись и обзывали меня рифмоплетом, поэтому до поры до времени я решил записывать стихи в такую красивую книжицу, а потом на литературном вечере в школе получить за это первое место.
Была, была у меня в ту пору заветная тайная любовь, ради которой стоило бы постараться написать талантливо и получить приз.
Возле магазина в тревожном ожидании толпились люди.
Два милиционера с собакой лишь только усиливали чувство тревоги — что-то случилось? Я подошел поближе. Один из милиционеров так подозрительно посмотрел на меня, что я, съежившись под его взглядом, хотел было повернуть обратно, но он гнутым прокуренным указательным пальцем требовательно поманил к себе.
Я, робея неизвестно от чего, подошел к нему на ватных ногах.
Он, обхватив меня руками, несколько раз повернул вокруг себя, потом достал из синих галифе складной метр и стал обмерять мои плечи, потом голову, потом дотянулся до крохотной, как в скворечнике, врезанной в старинную дубовую раму форточке, обмерил ее и легким пинком под зад проводил меня домой:
— Физдуй, пацан, отсюда! Не мешай работать!
Поползли страшные слухи, что воровская банда «Черная кошка» из Тамбова делает налеты на районные центры, грабят всех подряд, вырезают целыми семьями. Вот, говорят, на днях проиграли в карты молодую девушку и зарезали прямо днем на рынке. Сунули нож в живот, и повели ее, вроде, пьяная она. Мол, видите, бабоньки, водки нажралась и домой идти не хочет, тварь! А девонька та студенткой была, одна у матери, хорошенькая… Воры отыгрались, несчастную, убиенную ни за что, похоронили, а мать в сумасшедший дом поместили. От горя рассудком тронулась. Такие вот дела за грехи наши тяжкие! Теперь вот магазин обокрали. Говорят, будут дома поджигать по нечетной стороне улицы. Сгорят Бондари! Как пить дать, сгорят! Вот она, беда-то! Война, почитай, мимо прошла, а от банды не спасешься! Проиграют в карты, и — на нож, или подпалят! А, милиция? Какая, милиция! Она их сама боится!
Слухи поползли — один страшнее другого. В нашем тихом селе ничего подобного никогда не происходило. Обокрасть магазин мог только представитель «Черной кошки», о которой в то время много говорили. Эта банда, раздутая молвой, в Тамбове давно уже не существовала. Всех или перебили, или пересажали. Последнего вытащили из склепа на городском кладбище, где он прятался, сразу после войны, так что слухи о возвращении банды были напрасными.
Слухи слухами, но ведь кто-то действительно ограбил магазин школьных товаров. Украли, правда, немного: десятка два авторучек, три перочинных ножа, две записных книжки, да еще зачем-то унесли готовальню для чертежных работ. Сам начальник милиции, присланный недавно в район, долго ломал голову: что это за вор такой? Взял на десять рублей, а наследил на все сто…
Но следствие вести надо.
Воля в эти дни был счастлив, как никогда. Пришел к нам в школу в чистой рубахе и с подарками. Мне досталась та заветная записная книжка для гениальных стихов и перочинный ножик, другие тоже что-то получили. На вопрос: где это он все взял? Воля загадочно улыбался, мол, подождите, потом узнаете!
Мы со страхом догадывались: Воля! Воля ограбил магазин!
Ходили тоже гордые, тоже причастные к великой воровской тайне.
— Меня скоро заметут! — мечтательно говорил на другой день начинающий воровскую карьеру бондарский подкидыш.- Зуб даю, заметут! — выразительно цеплял ногтем большого пальца острый, как у мышки, зубок и резко проводил ногтем по горлу: — Заметут!
Действительно, в обед к школе подъехала милицейская машина, хотя милиция была напротив, и погрузили Волю по всем правилам в фургон.
Подарки, которые он нам дарил, служители порядка велели принести в отделение милиции самостоятельно, и гнусаво посигналив, благополучно отбыли.
Начальник милиции, увидев Волю, наконец-то расслабился:
— Ну-ка, покажи свое мастерство!
Маленькая форточка в отделении милиции была точно такой же, как и в книжном магазине. Воля показал глазами, чтобы ему развязали руки.
— Развяжите! — приказал начальник.
Воля спокойно подошел к окну, посмотрел, легко вспрыгнул на подоконник и рыбкой нырнул в узкий квадратный проем форточки. Один из милиционеров рванулся было на улицу — убежит негодяй! Но начальник остановил его рукой:
— Не убежит!
Воля радостно вернулся в дежурку:
— Видали?
А-то нет! — сказал начальник и велел поместить Волю в единственную камеру, освободив ее от разного хлама, оставшегося еще с тех давних времен, когда вместо милиции здесь находился магазин хозяйственных товаров, потому в милиции всегда пахло дегтем и ржавым железом.
Волю судили открытым судом. По такому праздничному случаю нас освободили от уроков и коллективно проводили в районный клуб, где состоялось выездное заседание суда. Было многолюдно, но тихо. В те времена к суду было особое отношение, наполненное государственным страхом и чрезвычайной осторожностью. Память еще живо реагировала на всякое казенное слово.
В клубе, кажется, собралось все село. Вытянув шеи, смотрели на сцену, где блаженствовал Воля. Чувствуя свой звездный час, он ликовал. Охотно и с подробностями рассказал, как проник ночью в магазин как на ощупь взял с витрины, что попало под руку, и не спеша вылез обратно.
На вопрос: крал ли он у тети Фени флягу с самогоном? Воля с достоинством на весь зал ответил, как прочитал по газете:
— В краже спиртных напитков не участвовал!
За что получил неуместные аплодисменты некоторых бондарских мужиков.
Когда зачитывали приговор, определяющий на пять лет судьбу Воли, он даже привстал со скамьи, улыбаясь во весь рот — наконец Воля что-то значит для закона!
Все разошлись по своим делам. В пустом зале районного клуба еще долго сидела в горьком одиночестве под черной накидкой та пожилая женщина, с которой жил Воля, громко выговаривая какие-то незнакомые слова на чужом языке.
Но Воле за решёткой долго сидеть не пришлось. Полное досрочное освобождение он получил благодаря неизлечимому туберкулезу, полученному в лагере. Слабый организм не смог побороть палочку Коха, постоянного и вечного сокамерника всех мест заключения.
Волю похоронили на бондарском кладбище рядом с его сердобольной хозяйкой. Не дождалась она своего приемыша, но теперь они навсегда вместе под одним православным крестом, поставленным несмотря на атеизм властей, кем-то из местных жителей.
Так вот…
ЗАДОНСКОЕ ПОВЕЧЕРЬЕ
…И от сладостных слёз не успею ответить, к милосердным коленям припав.
Иван Бунин
В Богородческом храме светло. В Богородческом храме солнышко играет. Поднимешь взгляд — зажмуришься. Певчие на хорах в канун праздника Иоанна Предтечи ему славу возносят, — как хрусталь поёт. Двери храма распахнуты. Вечерний воздух столбом стоит. Свечи горят ровно, пламя не колышется. Высок купол — глаз не достаёт. Дышится легко и радостно. Велик храм. Богат храм. Золота — не счесть! Тонкой работы золото, филигранной. Одежды настоятеля серебром шиты, новые. Нитка к нитке. Где ткали-шили такую красоту — неизвестно. Женская рука терпелива. Тысячи серебряных ниток вплести надо, узор вывести. Серебро холодком отдаёт, голубизной воды небесной, свежие и чистые ключи которой из-под самого зенита льются, душу омывают. Всякую пену-мусор прочь относят.
Богородческий храм при мужском монастыре стоит. Угловым камнем при том монастыре, отцом основателем которого был Господень угодник, чудотворец Тихон, на земле Задонской просиявший. Вот и реликвии его здесь — рака с мощами, одежды ветхие церковные, икона Его — с виду казак, борода смоляная, глаза острые, пронзительные; всё видят, каждый закоулок сердца, как рентгеном просвечивают. Спрашивают: «Кто ты? Для чего в мире живёшь? Какой след после себя оставишь? Как по жизни ходишь — босиком по песочку белому донскому, или в кирзовых сапогах слякотных — да по горенке?..»
Стою, смотрю, душа замирает!
Монахи в одеждах чёрных, вервием опоясаны — и старые, и молодые, но молодых — поболее, взгляд у них посветлее, не печальный взгляд затворника-старца, а человека мирского — не всё ещё улеглось, умаялось.
Вон невысокий плотный парень, скуфья на нём тесная, ещё не застиранная, тело на волю просится… Стоит, перебирая чётки с кистями из чёрной шёлковой пряжи с крупными, как мятый чернослив, узлами. За каждым узелком — молитва Господу. Рука у монаха широкая, пальцы синевой окольцованы, видно не одну ходку сделал в места, далеко не святые. Татуировочные кольца замысловаты и узорчаты. А взгляд чистый, умиротворённый, наверно сломал в себе ствол дерева худого, неплодоносящего, сумел сжечь его, лишь седой пепел во взгляде просвечивает, когда он, видя мою заинтересованность собой, посмотрел на меня и, вздохнув, отвернулся, продолжая передвигать узлы на чётках, и что-то шептать про себя.
У Христа все — дети, и нет разницы между праведником и мытарем. Простил же он на кресте разбойника, утешил, не отвернулся. Раскаявшийся грешник, — что блудный сын для отца своего, вернувшийся в дом свой. Как говорил апостол Павел в послании к Коринфянам: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом… Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины».
Не знаю, долго ли пробудет сей монах в послушании, но знаю точно — в новые меха старое вино не вольётся. Причастность к высшему разуму выпрямила путь его, поросший терниями.
Двери храма нараспах, как рубаха у казака в жаркий сенокосный день. В алтаре Христос-Спаситель на верховном троне восседает. Вседержитель.
Глаза тянутся смотреть на Него, прощения просить за жизнь непутёвую, за расточительство времени, отпущенного тебе, за содеянные неправедности. И сладко тебе, и стыдно, и горько за утраты твои. Неверным другом был сотоварищам, нерадивым был для родителей. Не согрел старость их, слезы мать-отца не отёр, в ноги не поклонился… Суетился-приплясывал. Рукоплескал нечестивому, в ладони бил. Просмотрел-проморгал молодость свою, весну свою невозвратную. Цветы срывал, раскидывал. Разбрасывал на все стороны. Руки не подал протянутой тебе. Со старыми — неугодливый, с молодыми — заносчивый…
Горит храм. Пылает огнём нездешним, неопалимым. Свет горний, высокий. Оглянулся — отец Питирим стоит, преподобный старец тамбовский, земляк мой. В руке посох сжимает. Укор в глазах. Серафим Соровский рядом, борода мягкая, округлая, взгляд милостивый, прощающий. Он не укоряет, а ласково по голове гладит ладонью незримой тёплой, мягкой. Хорошо под ладонью той, уютно. Сбоку ходатай перед Господом за землю Русскую, за отчизну ненаглядную — Сергий Радонежский, прям и горд, как тростинка над речным покоем.
Молельщики и утешители наши, отцы пресветлые, просветители, как же мы забыли заповеди ваши? Землю свою, Родину ни во что ставим. Ворогу славу поём, щепки ломаем…
Так думал я, стоя в Богородческом храме Задонского мужского монастыря. До того у меня о Божьей Церкви было иное представление: полумрак, старушечий шепоток в бледном отсвете лампад, чёрные доски икон, прокопченные плохими свечами, тленом пахнет, мёртвой истомой, а здесь — торжество воздуха и света, торжество жизни вечной — «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его»…
Стою, а свет по плечам льется из просторных окон цветными стеклами перекрещённых Торжество во всем, величие веры православной!
Местных прихожан мало, все больше люди приезжие, в современных одеждах. Задонск как раз расположен на большой дороге, соединяющей юг России с Москвой. Люди рисковые, серьезные, милостыню подают не мелочью. У самых ворот монастыря бойкие «Фольксвагены», респектабельные «Вольвы», даже один белый «Мерс» подкатил, когда я замешкался у входа. Высокий парень лет тридцати, потягиваясь, лениво вышел из престижной, даже в наших вороватых властных структурах, «тачки». Нищенка к нему с протянутой рукой подбежала. Парень порылся, порылся в широких карманах, не нашел наших «деревянных» и сунул ей долларовую бумажку зеленую, как кленовый лист. Та радостно закивала головой, и стала мелко-мелко крестить в спину удачливого человека, который даже не оглянулся — напористым шагом пошел в монастырь.
Бабушка не удивилась заграничному листочку, на который разменяли Россию, и тут же спрятала в пришитый к байковой безрукавке, в виде большой заплаты, карман. Она не удивилась американской денежке, как будто стояла у стен Вашингтонского Капитолия, а не в заштатном городке Черноземья, возле тяжелой и всё повидавшей монастырской стены, где сотнями расстреливали удачливых и неудачливых, и просто тех, кто подворачивался под горячую руку.
Задонск поражает приезжего человека обилием церквей, большинство которых после десятилетий безверия весело посверкивают своими куполами, и вряд ли найдется какой русский человек, будь то хоть воинствующий атеист, которого не тронули бы эти столпы православия. И я, кажется, на уровне генной памяти почувствовал свою принадлежность к некогда могущественному народу, великому в его христианской вере. Ни один агитатор-пропагандист не в силах сделать того, что делают эти молчаливые свидетели истории. Они даже своими руинами кричат за веру в милосердие, к которому призывал две тысячи лет назад плотник из Назарета.
Вечер под Ивана Купалу каждым листочком на придорожных деревьях лопотал о лете, и я, присоединившись к группе паломников, по-другому их не назовешь, отправился к Тихоновской купели под зеленую гору, по соседству с которой встает из праха и забвения еще один монастырь, но уже — женский.
Дорога туда столь живописна и притягательна, что речи о транспорте не могло и быть, хотя мы приехали на «Волга» приятеля.
Царившая днем жара спала. Кипящее знойное марево потянулось вслед за солнцем, а оно уже цепляло верхушки деревьев, проблескивая сквозь листву красками начинающего заката: от голубого и палевого до шафранного и огненно-красного, переходящего в малиновый.
Заря вечерняя…
Выйдя на пригорок, я закрутил головой в разные стороны, упиваясь представшей панорамой русского пейзажа. Взгляд ласточкой скользил над полями созревающего жита, взмывая вверх к дальнему лесному массиву, где в лучах закатного солнца на темной зелени бархата огромным рубином алела куполообразная кровля вероятноещё одного строящегося храма, поднимающегося из пучин забвения на месте былых развалин..
Спускаясь в тенистую долину, я ощутил на себе объятия благодати и торжественности того, что мы всуе называем природой.
Каждый трепещущий листок, каждая травинка были созвучны моему нравственному подъему после изумившей меня вечерни в Богородческом храме.
Душа моя плескалась в этой благодати. Мириады невидимых существ несли ее все выше и выше, туда, в купол света и радости.
Когда-то здесь Преподобный Тихон Задонский построил свой скит, освятив это место своим пребыванием, своей сущностью святой и чудотворной. Утешитель человеков — здесь он утирал слезу страждущему, здесь он поил иссохшие от жизненных невзгод души из своего источника добра и милосердия, И я чувствую здесь своей заскорузлой в безверии кожей его прохладную отеческую ладонь.
Дорога была перекрыта. К знаменитому источнику и купели прокладывали асфальтовое полотно, стелили, как утюгом гладили, и мы остановились, окруженные странными людьми: пожилые и не очень пожилые дети махали руками, что-то говорили на своем детском языке, смотрели на нас детскими глазами, восторженными и печальными, беспечными и озабоченными. Одного не было в их взгляде — угрюмости и ожесточенности. Они лепетали, как вот эти листочки на раскидистом дереве, В их лепете слышалось предупреждение, что дальше машины гу-гу-гу!, — что дальше дорога перекрыта и — руки, руки, руки, протянутые с детской непосредственностью в ожидании подарка, гостинца от приезжего родственника.
Рядом расположен интернат для умственно-неполноценных людей, безнадежных для общества. Но это, как сказать! Пушкин в «Борисе Годунове», помните: «Подайте юродивому копеечку!». Недаром говорили в старину русские, что на убогих Мир держится. Они ваяли на себя страдания остального здорового и довольного жизнью человечества, чтобы я или ты могли наслаждаться литературой, музыкой, искусством, любовью, наконец. Вдыхать аромат цветов и любоваться красками заката. Как сказал один из великих русских поэтов: «Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве…»
Я не знаю, случайно или нет, выбрано место для дома скорби, но символично, что именно здесь, под сенью святителя Тихона Задонского, под его неусыпным покровительством в этом животворном уголке России нашли приют убогие и страждущие, нищие духом, вечные дети земли.
Протянутая рука по-детски требовательная, и я в эту руку, пошарив по закоулкам карманов, высыпал мелочь, символичные деньги — со стыдом и смущением все, что у меня нашлось.
В дыму и гари от кашляющей и чихающей техники, от грейдеров самосвалов, бульдозеров, следуя за всезнающими попутчиками, бочком, бочком, забирая влево от грохота и скрежета железа, асфальтного жирного чада, я оказался, как у Господа в
горсти, в зеленой ложбине, под заросшей вековыми деревьями горой, из сердца которой бьет и бьет неиссякаемый ключ.
Почему-то всплывают в памяти слова из Евангелия от Иоанна: «…кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек: но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Так говорил плотник из Назарета.
Из сердца горы бьёт и бьет неиссякаемый ключ. Вода в ключе настолько холодная, что, опустив в неё руку, тут же выдергиваешь от нестерпимой ломоты в костях. Отфильтрованная многометровой толщей песка и камня, вобрав в себя живительные соки земли, она чиста и прозрачна. Целебные свойства этой воды известны давно, и сюда приходят и приезжают с бутылями и флягами, чтобы потом по глоточкам потчевать домашних и ближних чудесной влагой задонского источника, который в долгие часы одиночества наговаривал святителю Тихону вечные тайны жизни и смерти.
Вера в чудотворную силу этой воды заставила и меня зачерпнуть пригоршню, припасть губами и медленно, прижимая язык к нёбу, цедить эту влагу, сладчайшую влагу на свете.
После жаркого дня ледяная вода источника, действительно, вливает в каждую клеточку твоего тела силу и бодрость. Вон пьёт её большими глотками разгорячённый тяжёлой физической работой в оранжевой безрукавке дорожный рабочий. Вода скатывается по его широким ладоням, по синеватым набухшим жилам, скатывается на поросшую густым с проседью волосом грудь и капельки её в светятся холодными виноградинами в пыльной и мятой поросли.
Рядом, напротив источника, как таёжная банька, в которой однажды в далёкой Сибири выгоняла из меня опасную хворь старая кержачка, срублена небольшая купальня, где переминалась с ноги на ногу очередь желающих омыть своё тело этой живительной ключевой водой.
Веруй, и будет тебе!
Вода источника обладает чудодейственной силой и может снять бледную немочь с болезного и страждущего по вере его. Трижды осени себя трёхперстием и трижды окунись с головой, — и, как говорят люди в очереди, сосущая тебя отрицательная энергия поглотится этой влагой и потеряет свою губительную силу.
Не знаю, как на самом деле, но, как говориться, голос народа — глас Божий, и я тоже стал в очередь.
Стоять пришлось недолго — в купальню, как раз, заходила группа мужчин, и женщины впереди меня, подсказали, что можно и мне с этой группой.
Неумело, скоропалительно перекрестившись, я нырнул во влажный полумрак избушки.
На уровне пола тяжело поблескивала тёмная вода в небольшом проточном бассейне, по бокам — маленькие, как в общественной сауне, раздевалки, открытые, с гвоздочками вместо вешалок.
Скидывая летнюю не громоздкую одежду и торопливо крестясь, прыгали с уханьем, а выныривали из бассейна с глухим постаныванием на вид совсем здоровые мужики, обнаженные и загорелые.
Тысячи маленьких стальных лезвий полоснули тело, когда я со сдавленным дыханием ушёл с головой на дно, и вода сомкнулась надо мной. Трижды поднявшись и трижды опустившись на бетонное ложе бассейна, я, путая слова, читал про себя забытую, с детства не простительно забытую молитву каждого христианина, католика и православного, всякого исповедующего веру в Христа — «Отче наш». Суставы заломило так, что я, пробкой выскочил из воды, непроизвольно постанывая.
То ли от чудодейственной силы Тихоновского источника, то
ли от его ледяной свежести, действительно, каждый мускул моего тела радостно звенел подобно тугой пружине. Легкость такая в теле, что кажется, я навсегда потерял свой вес. Словно ослабело земное притяжение, и я, вот-вот взмою к потолку.
Быстро натянув рубашку, я вышел из купальни на воздух, на
вечер. Темная зелень деревьев стала еще темнее, еще прохладнее,
еще таинственнее. Грохот машин и железа унялся, воздух очистился от смрада выдыхаемого десятками стальных глоток равнодушной техники. Слышались отдаленные голоса людей. Кто-то кого-то звал. Кто-то не подошёл к туристическому автобусу, плутая в тихом вальсе вековых стволов могучих деревьев, — свидетелей Тихоновских таинств и чудотворения. Было довольно уже поздно, и надо было возвращаться в село Конь-Колодезь соседнего района, где я по воле случая с недавних пор проживал. Шофер на белой стремительной «Волге» ждал меня на спуске к источнику, и наверняка уже, нетерпеливо посматривает на часы. У него хозяйство, земля, жук колорадский, паразит, замучил, свиноматка на сносях… Жизнь! Жрать все любят!
Я поднял руку, чтобы посмотреть время. Но на запястье часов не было, — таких привычных, что их обычно не замечаешь. Дорогие часы, японские, марки «Ориент». Игрушка, а не часы. Хронометр. Автоматический подзавод, водонепроницаемые. Стекло — хрусталь, бей молотком — боек отскочит, чистый кварц. Браслет с титановым напылением. Жалко!
После меня в купальню прошла большая группа женщин, а эту заграничную штуковину я повесил в раздевалке на гвоздик, на видном месте, за тот самый матовый титановый браслет, забыв как раз, что хронометр пылеводонепроницаемый. Наверное, он пришелся впору на чью-то руку. Жалко…
Ждать, пока женщины покинут купальню? Вздохнув, я направился к машине.
Ну, да ладно! Забытая вещь, — примета скорого возвращения, что меня несколько утешило. Мне, действительно, очень хотелось побывать здесь еще, надышаться, наглядеться, омыть задубелую в грехе душу, потешить ее, освободить от узды повседневности, будней, отпустить ее на праздник.
Позади я услышал чей-то возглас. Оглянулся. Меня догнала немолодая запыхавшаяся на подъеме женщина. Догнала и взяла меня за руку. Я в смущении остановился. Денег у меня не оставалось, и мне нечего было ей дать. Но женщина почему-то у меня ничего не просила, а лишь вопросительно заглянула в глаза и вложила в ладонь мою заграничную игрушку с текучим браслетом. Непотопляемый хронометр! Броневик! Моя похвальба перед друзьями!
— Господь надоумил. Часы-то, никак, дорогие!
Мне нечем было отблагодарить старую женщину, и я прикоснулся
губами к тыльной стороне ее ладони сухой и жухлой, как осенний лист.
Женщина, как от ожога отдернула руку, и часто-часто перекрестила меня:
— Что ты? Что ты? Христос с вами! Разве так можно? Дай вам
Бог здоровья! Не теряйте больше. До свидания!
В лице ее я увидел что-то материнское, и сердце мое сжалось от воспоминаний. Я никогда не целовал руку матери. Да и сыновней любовью ее не баловал. Молодость эгоистична. Поздно осознаешь это. Слишком поздно… Вопреки ожиданиям, мой приятель сладко спал, на спине поперек салона «Волги». Ноги, согнутые в коленях, свисали в придорожную полынь, золотая пыльца которой окропила его мятые джинсы.
Самая медоносная пора. Мне было жаль будить друга. Я огляделся по сторонам. Уходящее солнце затеплило свечку над звонницей Богородческого храма. Кованый крест ярко горел под голубой ризницей неба — свеча нетленная…
ШИБРЯЙ
— Во, малец-оголец! — дед Шибряй красной клешнёй, крепкой, как пассатижи, ухватил гранёный стакан водки, и медленно, чтобы не расплескать, двигал его по сухой пыльной траве к деревянной ноге, выструганной из круглого полена, с седёлкой на толстом конце для пристыковки культи. Нога была отстёгнута, и дед Шибряй сидел на ней, как на брёвнышке. Культя, выпроставшись из тесной расселины, медленно шевелилась свекольно-красная, наслаждаясь свободой. Она тихо жила отдельно от тела, не подчиняясь ему. По крайней мере, у меня было такое впечатление, что дед Шибряй сам по себе, а культя, сама по себе.
Шибряй вскидывал руки, торопливо глотал водку, чмокал, сосал губами воздух, сморкался, а в это время культя блаженно разгибалась и сгибалась в коленном суставе. Теперь, спущенная на культю обвислая, просторная штанина, подметала землю. Культя в штанине продолжала шевелиться, слепо тычась в потёртую ткань, как поросёнок в мешковину.
Давняя война покалечила Шибряя, откусив у него полноги и почти всю кисть правой руки. Полевой хирург из остатков кисти сгондобил полуживому бойцу Красной Армии, что-то наподобие ухвата, рогача то есть.
Не раз с благодарностью вспоминал бывший солдат своего спасителя. «Насчёт работы — не знаю, а за конец и стакан сам держаться будешь!» — смеясь, говорил врач, когда Шибряй, ещё плохо соображая, очухался после лошадиной дозы наркоза.
Вернувшись, домой изувеченным, но живым, Шибряй всегда отшучивался, если речь заходила о его клешне: « Обидно вот — говаривал он, баб щупать нельзя. Чувствительность потеряна, а так, ухват, как ухват, горшки сподручней в печку ставить».
Всегда хмельной, встречая нас, пацанов, он выставлял клешню вперёд, и с криком: «Забадаю-забадаю! « — бросался к нам. И мы с визгом разбегались врассыпную кто куда; уж очень страшны были эти два красных рога.
Теперь мы с Шибряем сидим на берегу Большого Ломовиса, вкушая радость жизни и свежий чистый воздух. К вечеру от реки тянуло прохладной влагой и умиротворённостью. Разрушенный мост, с брёвнами, схваченными ржавыми железными скобами, покачивался сбоку отражением на волнах. Изломанные брёвна проезжей части моста грустно мокли в воде, как чёрные кости доисторического Ящера.
Дело в том, что однажды весной, мост был взорван пьяными подрывниками. Одна из льдин, на которой находился глиняный горшок с аммоналом, огибая «быки», поднырнула под мост, Огонь бикфордова шнура достал детонатор. Взрывчатка сработала. Я, ещё школьник, был свидетелем, как медленно падали с неба обломки досок и большие куски льда.
Хорошо ещё, что на мосту в это время никого не оказалось…
Мост восстанавливать не стали, льдины больше никто не подрывал, а за селом забухала свайная машина, загоняя железобетонные столбы в илистый берег, готовя опоры под новый мост.
Наша река — Большой Ломовис, как-то незаметно обмелела, истончилась и запаршивела. Невесть откуда приехавший люд, понастроил по берегам реки дома. Не имея здесь корней, раскопал под самый обрез чернозёмы под огороды, заваливая берег бытовым мусором и всякой прочей дрянью.
Местная власть на это смотрела сквозь пальцы, а старожилы села только покачивали головами, да грустно причмокивали, вспоминая какой поилицей и кормилицей была «тады» река.
Теперь Большой Ломовис, как и всё вокруг, хирел, покрывался паршой, а некогда белую песчаную косу пожрали чертополох и сочная канадская лебеда — «американка», от которой воротила морду, даже всегда голодная и ненасытная общественная скотина.
Когда-то в чистых струях Большого Ломовиса водились раки, круглые жирные пескари, а так же такая привередливая к чистой воде рыба, как ёрш. Сейчас всё больше попадались на крючок прудовые породы рыб: небольшие в ладошку, карпята, или тощие, с изъеденной водяной молью чешуёй, плоские караси, перешедшие на полуводный образ жизни, откормленные крысы, резвясь, гоняли утят.
Каждый уважающий себя человек, рыбачить в Большом Ломовисе не осмеливался, и только Шибряй, по прозвищу «Клюкало», не изменял своей давней привычке уходить от семейных ссор и неурядиц, прихватив незамысловатую удочку, на тихий бережок гибнущей речки, пытать рыбацкое счастье.
Прозвище «Клюкало» прикипело к нему, как холщовая потная рубаха.
Кличка имела двоякий смысл: говорила о его склонности хорошо выпить, а по возможности и опохмелиться, и о его деревянной ноге.
Правда, Шибряй ходил всегда без клюки, припадая на правую сторону, как землемер во время работы. Издалека казалось, что он, считая шаги, отмеряет себе дорогу.
Свою деревянную ногу он не раз использовал в пьяных побоищах. Приём у него был простой; когда случалась свалка, он падал спиной на землю, быстро выпрастывал ногу из ремней и, ухватив её здоровой рукой за железом окованный наконечник, ловко орудовал ею, как былинный богатырь палицей, за что пользовался огромным уважением у сельчан.
В таких делах равных Шибряю во всём селе не было.
С Клюкалой, как водиться, мы сошлись совершенно случайно. Здесь у старого взорванного моста, поодаль от села, речка имела более пристойный вид. Главное — не было такой загаженности, и можно уютно посидеть у воды, спрятавшись за сваи.
Сюда меня привели сердечные дела — вожделенная встреча с местной красавицей, которая вчера благосклонно приняла мои ухаживания.
Всё было незатейливо и просто. Распалённая в теснине маленького чуланчика, где за тонкой перегородкой, скрипя и покашливая, чутко спала её мать, она легкомысленно пообещала мне назавтра у этого старого моста вдалеке от любознательный глаз, жадных до чужих тайн.
Не дожидаясь потёмок, я был уже в полной готовности, прихватив на всякий случай бутылку водки, с большим трудом отоваренную (водку давали в то время по талонам) у знакомой продавщицы, подруги моей пассии.
С нею, то есть с бутылкой, меня и попутал старый Шибряй, забредший сюда после очередных баталий с женой.
Привычно отстегнув ногу, он уселся на неё и забросил удочку в тихий омуток. Дед был явно чем-то расстроен, и по рассеянности даже не насадил на крючок червя
Я подошёл, поздоровывался с ним, и напомнил ему про это. Он, почему-то обрадовавшись, ударил себя клешнёй по голове:
— Во! Ё-ка-лэ — мэ-нэ! Совсем худой стал — и весело матюкнувшись, стал медленно насаживать большого и красного, как обмякший фаллос, дождевого червя, косясь намётанным глазом на мой отягощённый карман.
Что делать? Брошенный на меня взгляд говорил о многом, и я не устоял. Пришлось расстёгивать на бутылке тонкий алюминиевый поясок на узком горлышке зелёной бутылки. Стакана не было, и я вопросительно посмотрел на Шибряя.
— А у меня аршин завсегда здесь! — он вытащил из расселины в деревяшке ватную засаленную седёлку, воткнул в дупло руку и вытянул оттуда старинный щербатый стакан с тяжёлыми гранями, дунул в него, выметая соринки, и поставил возле меня. — Во, — заначка! — захвалился дед. — Бутылка со стаканом входит — и молчок! Даже моя бабка до них не достучится. Не веришь? Давай сюда бутылку, сам увидишь.
Но бутылка была уже расстёгнута, а Шибряю, на этот раз, можно было верить не глядя.
Летний вечер долог. Дотемна было далековато, да и хмель в любовных делах сваха хорошая.
Приняв водочки, мы с дедом разговорились.
Известно, что когда собираются пить французы, то заводят разговор о девочках, американцы — о бизнесе, немцы — о машинах, ну, а если пьют русские, то начинают наперебой говорить или о работе, или о политике. Это уж точно.
— Ты что, демократ или как? — осторожно прощупывая меня, спросил Шибряй.
— Да, как сказать? Вроде коммунистом никогда не был.
— Во-во, я тоже так думаю, — дед сглотнул слюну. — Демократы — оно, конечно… Что говорить?
Закуски у нас не было и, налив ещё по половинке стакана, мы потянулись к куреву. Мои папиросы были настолько паршивы, что я попросил у старика махорки. Набив самокрутку самосадом (сама садик я садила, сама буду поливать…) я похвалил деда за табачок. Он, не спеша, в это время мастерил из газетного листа козью ножку, ловко помогая себе языком. Жёлтые крупки табака сыпались сквозь его клешню на землю.
— Я табачок в козьем молоке вымачиваю. Козье — весь дёготь в себя забирает, а медок остаётся — поучал он меня.
Разговор о политике как-то сразу смолк. То ли дед имел, что против демократов, то ли ещё по какой причине. Самодельный поплавок, сделанный из обломка гусиного пера, давно ушёл под воду, и какая-то неразумная рыбёшка устала, наверное, ждать, когда её снимут с крючка.
Схватив клешнёй удилище, дед не вставая, выкинул прямо к моим ногам, приличных размеров белого карася. Светясь чешуёй, карась пружинисто приплясывал возле меня на траве.
— Ах, ты хрен моржовый! Бери его за зебры, за зебры хватай! — нервничал Шибряй.
Карась был, наверное, настолько голоден, что крючок ушёл почти до самого заднепроходного отверстия. По крайней мере, освобождая леску, я вывернул наизнанку все карасиные внутренности. Измученная рыба, наконец-то освобождённая от крючка, лениво шевелила жабрами, выталкивая кровавые сгустки прямо в мои ладони.
— Хе-хе! Вот она, закуска-то — подло посмеивался дед, — курятиной (имея в виду курево) сыт не будешь.
Шибряй схватил карася, подбросил его клешнёй вверх и ловко поймал здоровой рукой.
— Не жалко вина-то? — заботливо спросил дед, глядя, насколько поубавилось в бутылке. — У Машки, что ль Косматки разжился? Ты, малый, с ней поаккуратней. Она мужика, как вот этот карась, в заглот берёт.
Я налил деду остаток водки и протянул стакан.
— Вот таких уважаю! Ты-то ещё своё выпьешь, а моё дело к концу идёт. Стариков завсегда почитать надо. Может быть, вот последний остатний разок вино принимаю…
— Ты что, дед, пить бросаешь, никак?
— Нет, бросать в моём возрасте вредно, Подшипники поплавишь, — дед подержал перед носом стакан, грустно вздохнул, отпил половину, остальное протянул мне. — На, держи! Я не жадный…
Маленько поскоблив карася жёлтым, как рог, ногтём, старик перекусил его, положил одну долю мне на колено, а вторую стал аппетитно жевать. Было слышно, как захрустела под его, ещё крепкими зубами, голова незадачливой рыбёшки.
— Солитёра не боишься? — осторожно намекнул я.
— Это пусть лучше солитёр меня боится, я его в вине утоплю, — похвалялся дед.
Вечер остывал. Свежо и зябко трепетали узкие, как ланцеты, серебристые на исподе листья ивняка. Медленно ворочая крылом, бесшумно проплыла низом большая чёрная птица. Оставляя на песчаной кромке маленькие крестики следов, возле самой воды, выставив острое шильце клюва, пробежал маленький куличок. На том берегу, прячась, в зреющих хлебах, принялся точить ножницы неугомонный коростель. В тёмном небе, неопознанным летающим объектом, повисла одинокая яркая звезда. Не мигая, она весело смотрела на убогое наше пиршество.
Пить, — не работать! Спина не болит. Я растянулся на ещё тёплой, начинающей вянуть траве.
— Ты мне деньжонок не дашь взаймы? — невзначай поинтересовался Шибряй.
— Чего, дед, корову собрался покупать? — пошутил я.
— Корову, не корову, а молочка из-под бешеного бычка принёс бы. Я такие места наизусть знаю.
Эх, какой же русский остановится на полдороги! Особенно если есть на то причина и возможности.
К нескрываемому удивлению и радости моего сотрапезника, деньги у меня нашлись. Достав две десятирублёвки, я протянул их деду.
Сунув ногу в деревяшку, как в разношенный валенок, Шибряй быстро, не по-стариковски вскочил.
— Ты погоди, погоди пока, я мигом! — и заспешил, ковыляя к притихшим поодаль домам.
Моя зазноба, наверное, поостыв, одумалась, что дала такое опрометчивое слово. И теперь, управившись с делами, сонно позёвывая, смотрит, рассеяно телевизор.
Одно воспоминание о её тесном халате, оживило мою изощрённую фантазию до такой степени, что мне захотелось тут же окунуться в воду.
Тёплая, ещё не успевшая остыть, чёрная вода обняла меня, покачивая, как плавучий бакен. Покой и умиротворение. Умиротворение и покой. Нет никакой перестройки, пожаров и революций. Нет заблудившейся по дороге России, а есть мир и тишина. И эта высокая и чистая звезда, как лампада у Господа в горсти, освещает меня и мою малую родину, свернувшуюся калачиком на мягком ложе земли…
У обреза берега, на фоне синеющего неба, заслонив лохматой головой звезду, вытянулся тёмный силуэт Шибряя.
— Ах, ты мля! Всех карасей, поди, испугал! — Радостно возник дед.
Выскочив на траву, я мигом залез в одежду. Сухая и тёплая, он сразу же заслонила меня от зябкого вечернего воздуха.
Вдали от посторонних глаз, я, разумеется, купался нагишом, и теперь наслаждался шелковистым и податливым импортным трикотажем моего спортивного костюма.
Шибряй шумно отстегнул ногу, сунул мне её под нос:
— Во, — смотри какой загашник!
В деревяшке, горлышком вниз, плотно, как патрон в патроннике, сидела она, родимая.
Дед куражился:
— Жалко ногу узковато отесал, двустволки не получилось, а то можно было бы дуплетом стрельнуть.
Потянув за металлический козырёк и сняв кепочку с бутылки, Шибряй, теперь уже на правах хозяина, налил первый стакан мне.
— На, дёргай!
Водка была тёплой, противной на вкус, Но, что поделаешь? С чего начали тем, и кончать надо.
Дед же пил медленно, со знанием дела, и с большим достоинством. Да и куда спешить, когда спешить некуда?
— Ты вот давеча намекнул про патрон в патроннике, а сам, поди, и автомата в руках не держал, — отдышавшись, ввернул Шибряй.
Я служил три с половиной года в Германии, и мне, конечно, приходилось и не раз держать в руках боевой автомат, и даже стрелять по бегущим целям, на полигоне, естественно. Я об этом сказал деду.
Узнав, что я служил в Германии, дед оживился:
— Эх, и побили мы этих гадов в своё время!
— Да и нас они, вроде, тоже не жалели, сказал я. — Тебе где ногу-то оттяпали?
— Это уж потом, у мадьяр под Секешфехерваром — накатано выговорил, не споткнувшись, это трудное название венгерского города, Шибряй. — Вот где вина попили! Страсть! Рванёшь, какой никакой погребок гранатой, а там бочки с вином, старые до того, что плесенью все бока обросли. Подумаешь — дрянь какая-то, а из этих бочек вино хлещет ну, как кровь из борова. Сладкая, и сразу на задницу сажает… Я ведь до войны-то и вкуса этой заразы не знал. Думал, и почему это люди так жадно вино глотают? Лучше бы морс пили. Я всего в своей жизни насмотрелся. Когда раскулачивали, я ещё пацаном был, ну, так лет десять-двенадцать. Жигарь тогда нас всех под монастырь подвёл. Побираться заставил. Зверюга был, а не человек! Ну, ты его знаешь. Он еще и деда твоего к стенке ставил за то, что мой отец у вас в риге хоронился, когда свой дом-пятистенок поджёг, — дед Шибряй что-то вспомнив, горестно вздохнул. — А дело было на Рождество. Ты знаешь сам, праздник большой. Церква-то тогда позакрывали, а у нас вон какой приход был, а и то храм под МТС отдали. Ну, власть властью, а народ-то куда денешь? Народ Бога ещё помнил, и праздники отмечались, — дед поперхнулся. — Как живых вижу. Мать чугунок из печки вытаскивала, мясо парилось. Жили-то ещё, слава Богу, ничего. Отец за чистой скатертью сидел, порядок знал. Только встал перед иконами перекреститься, тут кто-то дверь в сенях ногой вышиб. А это Жигарь, он тогда ещё коммунистом был, со своими шестёрками. Наган — в руки и орёт, как припадочный: «А, сволочи! Мясо жрёте! А комбед картошку пустую, со щами лопать должен. Щас я вас сделаю!» — и бумагу какую-то отцу под нос суёт, мол, имущество ваше описано, а дом под сельский совет приспособим, и, чтобы со всеми сучонками до вечера помещение освободили. У отца моего, царство ему небесное, хоть и спокойный был, а вот-то
голова и задёргалась. Он сгрёб Жигаря и выкинул его с крыльца головой в сугроб. Зашёл в избу и трясётся весь. Мать в голос завыла, запричитала. На улице тихо стало. Вдруг из печки дым повалил. Едкий, такой, дышать нечем. Мы из дома-то и высыпались. Кто что успел прихватить. Это Жигарь трубу соломой забил, чтобы сподручней нас выкуривать было. Ворота открыты и скотина по — дурному орёт. Почуяла беду, наверное. До-олго ещё комбед гулял, по всему селу запах мясной шёл. Стоим мы, значит так перед домом, жмёмся, друг к другу, а дым из открытых дверей клубами выходит, вроде дом горит, а это ещё печка не погасла. Дрова дубовые были. Отец, как сквозь землю провалился, нет его с нами и всё. С тех пор я отца так и не видел. Он, говорили, ещё долго застреленный у церковной стены лежал. Хоронить не велели, народу острастка нужна. Мать, а у неё трое детей было, в чужое село ушла. В своём жить у родственников никак не хотела. Сёстры побираться пошли, а я маленько подрабатывать начал кому дрова нарубить, кому воды натаскать. Хлеба с картошкой в то время люди ещё не отказывали. Так и жили мы у одной старухи. Света не видели. Эх, да что вспоминать! Слёзы одни! А ты говоришь… Давай лучше по глоточку!
Мы с Шибряем молча выпили и затянулись цигарками. Каждый думал о своём. Река, как сторожевой пёс, тихо ластилась у ног.
— Хорошо, хоть война началась. Я до сыта только на фронте и поел, — прокашлялся Шибряй. — А война — она что? На войне тоже живут. Я себя там человеком почувствовал — одет, обут, сыт — чего ещё? Начальство о тебе заботится. А смерти я нет, не боялся, уж очень жизнь паскудная была. Повоевал я так недельки две, сидя в траншее, а потом команда к отступлению была. Вы, говорят, товарищи на провокацию и панику не поддавайтесь, отходите организованно. Ну и подались мы к лесу, а там, в засаду попали. Все и разбежались, кого не покосили. Я с перепугу, чего греха таить, в какую-то чащу забухался, выйти не могу. Кружил, кружил, да так и уснул под корягой. Замаскировался. Винтовку трёхлинейку между ног сунул. Куда же я без неё? Я с ней, как с невестой, так и проспал. Утром очухался — лес. Ни души единой. Только какая-то птица по дурному кричит. Дней пять или шесть я вот так и кружил по лесу. Жрать захотелось, страсть как! Где рябинки, где листик, какой прихватишь — и всё. Я уже слабеть начал. Винтовку, как собаку на привязи, за собой таскаю. Вдруг однажды за деревьями говорок какой-то услышал. Вроде наши. Подобрался, смотрю, — мужики одни, одеты — кто как, а за плечами автоматы немецкие и охотничьи ружья. Я тогда про партизан ещё ничего не слышал. Ну, и увязался за ними наподдалеке. Подойти страшно, а одному в лесу подыхать не хотелось. Стою я так за стволом дерева, гадаю: подойти — не подойти… И вдруг вроде веточка обломилась, и что-то трахнуло меня по голове, как будто бревном каким сшибло. Глаза кровью залило, ничего не вижу, и оглох сразу. Очнулся я какими-то вожжами скрученный. А это меня хохол один, Незовибатько звали, Фамилия у него такая была, прикладом по шее грохнул. Зашёл сзади и заломил. Мы вместе с ним потом на немца ходили. У меня с его лёгкой руки голова всего с месяц дёргалась и гудела, как столб телеграфный. Но, ничего, прошло… Придурок, а не злой был. Вот теперь бы с кем выпить — и в гроб. Ох. И дела мы с ним проворачивали! — дед в потёмках набулькал в стакан на слух и, шумно причмокивая, долго пил водку.
— Накось, поддержи старика! — Шибряй, дотронувшись клешнёй, расплескивая, сунул стакан мне прямо в лицо.
Деда явно уже повело, да и я чувствовал, что натощак пить вредно.
— Слышь? — встрепенулся мой собеседник. — Фамилия, какая, — Незовибатько. У них, у хохлов, все фамилии какие-то… Чудак был человек. Ежей любил. Вспорет ему, бывало, брюхо, и вытряхнет из шкурки. Мясо — жарить. А шкуру, как рукавицу, натянет на руку, и, смехом так, сзади по плечу или по спине и похлопает. Весёлый был! Ему за это не раз по морде перепадало, а всё — за своё. Как поймает ежа, оденет его на руку, — да исподтишка, исподтишка… Вот обожди, случай какой расскажу, — пьяненько хихикнул дед. — Мы с этим Незовибатькой фрица одного заарканили. Командиру сведенья нужны были. Вот и послали нас двоих в деревню за языком. Приметили мы дом один, где немцы квартировали, ну и притаились на задах, за огородами. Дело-то к ночи было. Осень. Примораживать стало. Сидим, ждём. Он, хоть и немец, а перед сном тоже на двор ходит, оправляется. А какие тогда в деревне уборные, — одна крыша, да и то — небеса. Ждём, значит, у кого живот послабее. Долго ждали, аж, ноги занемели. У них, известное дело, галеты — не скоро дождёшься. Матюкаюсь я так потихоньку, вдруг вышел один. Только он стал приспосабливаться, — так я ему сзади шнурок на шее и передёрнул. Он опрокинулся на землю, — и молчок, Вроде, как похрапывать стал. Ну, мы его за руки, за ноги и поволокли к кустам прямо так, со спущенными штанами. А там, в кустах наше прикрытие сидело. Я шнурок чуть приспустил, а мой напарник ему в это время кляпом рот и забил. На плащ-палатку завалили немца, как барина, и — бегом к лесу. Километров так пять или шесть волокли, а потом на ноги поставили. Штык в спину и — «шнель, шнель». Скорее, значит. Ну, доставили мы его прямо к землянке — честь по чести. Командир нам за это на радостях по фляжке спирту выдал, Знающего человека привели. Ну, они там с переводчиком начали шпрехать, а мы со своим дружком Незовибатько, с фляжками — да на кухню! У нас ведь тогда немецкое довольствие было. Не довольствие, а — одно удовольствие. Как что подбирается, так мы сразу дозоры по дорогам расставляем. Интендантский обоз пасём — пять минут испугу, и жратвой обеспечены. Галеты, конечно. Сосиски в баночках. Шоколад, кофе. Ну, и спирт, конечно… — дед шумно сглотнул слюну, и зашарил по карманам. — Вот, мля, где-то семечки были! — но ничего не обнаружив, стал, рассыпая махорку, крутить козью ножку. — Да, были времена, как на жеребце стремена, вскочишь и не знаешь, то ли понесёт, а толи из седла выбросит… Ты как, сосиски немецкие пробовал? — поинтересовался Шибряй. Видно закуска у него не выходила из головы.
— Да приходилось, иногда в самоволке в гаштет заглянуть, дупелёк-другой опрокинуть. У них этого товара на каждом шагу. Только вот горчица какая-то квелая, как детский понос. Сунешь туда сосиску, а на языке преснота одна.
— Вот и я говорю, как солома. Нашему брату этих сосисок надо вязанку, чтобы в животе их почуять. Ну, мы, это, отвлеклись. Немец-то наш жидкий оказался. Всё сразу начальству и выложил. А начальству он на другой день, как сопля на рукаве, — не нужен. Куда его приспособить? Сам подумай! За собой таскать не будешь… Не, пленных мы сразу в расход пускали. Что на них, молиться что ль?
— Да, — поддержал я деда, — действительно, куда его, немца девать? Если бы собака была, то на цепь посадить можно. А-то ведь человек…
— Ну, вызывает на следующий день командир, — продолжает уже порядком захмелевший Шибряй, — а у меня морда не просохла. Голова, как колун. Иду. Стучусь в дверь. Прибыл, мол, партизан Шибряев по Вашему приказанию! Командир улыбается. В хорошем настроении, значит. «Вы — говорит, — товарищ Шибряев и Незовибатько, этого немца нашли, а теперь его потерять надо. Отведи этого Ганса куда-нибудь в сторонку, и билет ему на тот свет потихоньку выдай. Этот фриц, мужик хоть и хороший, а дела мы с ним все сделали, и управились быстро, так что ты его сразу и сделай. Понял?». «Об чём разговор?! — отвечаю.
Я эту задачу уже предвидел, когда мы с Незовибатько с таким нетерпением за сараями его ждали. А этот фриц, ну, никак из землянки уходить не хочет. Пригрелся. Хоть и немец, а понятливый был. Достаёт из кармана фотографию и говорит: — «Хаус! Хаус! Фамилия» — семья, значит. А на фотографии немчура сидит: воротнички белые, чистые, опрятные, и улыбаются все, как на празднике каком. Ну, этот фашист слюни и распустил. Плачет: -«Нихт шиссен! Нихт шиссен!» — вроде как, — «Не стреляй!», если по-нашему. И всё –«Хаус, хаус! Фамилия!» — дом, семья, по-ихнему. И адресок командиру суёт. Напиши, мол, — где и что.
Ну, я его, немца-то, немного встряхнул, чтобы в порядок привести. Пора, мол, и на отходную. Загостился ты здесь.
Вышли мы из землянки, солнце в нос шибануло, аж, чихать я стал. Морозец такой. Лес. Тишина, На сосне иней лёгкий, дунешь, — как с одуванчика. Ну, и пошли мы с фрицем к овражку. Ещё летом мы там завсегда ежевикой баловались. Думаю, — хлопну я его здесь. Зима на носу. Небось, не протухнет. А к весне мы всё равно лагерь снимать будем.
Иду я, значит, так с немцем в затылок, а неподалеку наши ребята дрова на баньку пилили. Суббота, вроде, была, — банный день. Смеются: — «Веди, — кричат, — своего немца, нам подсобить, Дрова попилить, поколоть. Пусть перед смертью разомнётся. Грех свой фашистский искупит честным трудом!»
Ну, подошли мы с фрицем, а ребята ему в руки пилу суют. На, мол, потолкай-потяни её туда сюда. Ну, немец заартачился, никак пилу в руки брать не хочет. «Ах, ты — думаю, — падла фашистская! Буржуй недорезанный! Руки-то, вон пухлые какие! Да белые. Как у бабы. Небось, и пилы-то никогда от рождения в руки не брал. Не держал. А здесь как раз Незовибатько очутился. Похмелёный уже. Морда красная, как варежкой натёртая. Сияет весь. «Я. — говорит, — эту курву немецкую щас на козлы раком поставлю!» Ну, хватает его, вроде как, шутя, и заваливает на козлы, на бревно, значит. А ребята ему мигом под козлами руки-ноги связали. И стоим, курим. Гадаем, — что делать? «А чего думать! — орёт Незовибатько. — Давай мы эту блядь немецкую пополам перепилим. Они моих батьку с ненькой из-за меня живых в доме сожгли!» Ну, и затрясся весь. Хватает пилу, и суёт один конец мне в руки: — чего стоишь, подсоби, мол.
Вообще-то я к чужой смерти привычный, а тут — закрыл глаза, и рванул пилу на себя. Немец сразу обмяк весь, только как-то ойкнул нехорошо. А Незовибатько от меня пилу на себя тянет. Не пила — бритва! Я её сам точил-наводил. На это дело мастер во, какой был!
Ну, дёргаем мы пилу, а из этого фашиста мокрота сразу так и пошла. Много мокроты было. Подёргался он так на козлах, вроде, как рыдать стал, а уж половина его с бревна съехала… Оттащили мы этого фрица к оврагу. Да так с обрыва и спустили.
Я быстро зашарил по траве, ища бутылку.
— Чего искать, чудак? Вот она!
Я задавлено протолкнул в себя тёплую мерзость содержимого.
Дед за мной доделал бутылку до конца.
Две бутылки на голодный желудок сделали своё гнусное дело. Сбиваясь с разговора, Шибряй запел какую-то героическую песню, перемежая слова матерщиной. Я пытался его поддержать.
Мы материли власть, войну, коллективизацию, проклятых фашистов коммунистов и демократов.
Молча стояли за спиной ночь и та яркая немигучая звезда, осветившая чью-то дорогу.
Дед вдруг сразу повалился навзничь и, булькая горлом, захрапел.
Темнота и меня, толкнув в грудь, опрокинула на траву. Звёзды, кружась, как мошкара, облепили мне лицо. Последнее, что я помню, — были слова: «Эх, ты, грёбарь!», и белые брыкучие груди, которые мне никак не удавалось зацепить губами…
А потом был сон тяжёлый и страшный.
Снилось мне: утро, трава под ногами, изба деда Шибряя. «Хаус! Хаос, хаос» — на немецкий лад тараторит дед, показывая, на слепые от раннего солнца два крестовых, в наличниках, окна. На крыше Шибряевой избы, прямо на коньке верхом, сидит комбедовец Жигарь, прилаживая огромный красный флаг, но это ему никак не удаётся, — мешает большой чёрный наган, который он никак не хочет выпускать из рук. Сам Шибряй сидит на завалинке. Босиком. Обе ноги здоровые. Мне видно, как в траве шевелятся его белые и упругие, как грибы, пальцы. Дед держит в руках двуручную пилу. Ну, совсем, как гармошку, От пилы разлетаются красные, огненные брызги. Дед двумя руками, растягивая и сжимая пилу, блаженно улыбаясь, перепиливает себе ноги. Руки у деда в крови. Кровь стекает у него по штанине и, журча ручейком, бежит в заросший крапивой овраг. Напротив деда стоит тот несчастный немец, плачет, тянет к деду, тоже испачканные кровью руки, и умоляет отдать ему пилу — он тоже на ней хочет попилить-поиграть. «Gib mir! Gib mir! Дай мне!» — настойчиво твердит он…
Cherchez la femme
Осень была неряшлива и безобразна. Она стояла за окном, как плаксивая пьяная баба, назойливо заглядывая своими водянистыми глазами в мою неприбранную душу. Грязные, нечесаные космы, свисающие кое-как с низкого неба, цеплялись за деревья, унося за собой последние листья. Листья отчаянно цеплялись маленькими коготками за тонкие голые ветви, трепеща от страха — улететь. Что делать? Всему свое время — время сеять и время собирать посеянное.
Ни на что не надеясь, я сидел в маленьком гостиничном номере, какие бывают в наших районных городах: комната — два на три метра, у стены — деревянная узкая кровать с продавленным матрацем, стол в винных подтеках, на столе графин закрытый щербатой рюмкой без ножки — пей до дна!, рядом с койкой шаткий скрипучий стул, сидение и спинка которого обтянуты коричневой потертой клеенкой. Вот и весь антураж. Но это временное пристанище и вся убогая обстановка, в тот момент, были дня меня милее всех дворцов и палат. Мне не хотелось уходить отсюда туда, в неизвестность, которая может обернуться для меня чем угодно, но только не благополучием. Я сидел и ждал. И, если говорить по правде, трепетал, как тот одинокий листок на зябкой ветке. Я ждал, что меня повяжут. Вот так, придут и повяжут, и пойдешь не туда, куда сам хочешь, а куда поведут…
Дело в том, что я оказался в этой гостинице не по своей воле. Около месяца назад, меня прислали сюда, возглавлять здешний монтажный участок, В такую поганку и глушь порядочного человека не направили бы, да он и сам бы не поехал.
Участок, где я должен исполнять обязанности начальника, пользовался дурной славой, хотя по всем производственным показателям он был самый благополучный. Как это удавалось Шебулдяеву, бывшему начальнику участка, — для меня оставалось загадкой. Наверное, прежде всего надо сказать, что начальник тот, был человек крутой, с уголовным прошлым, сиделец, то ли за воровство, то ли за крупную растрату по подложным документам, что, в сущности, одно я то же. Конечно, без покровительства сверху, такого человека к руководству участком и близко бы не подпустили.
С Шебулдяевым я знаком не был, так, как-то раз видел его красную, подпитую морду в приемной нашего управления, где он, нахально развалясь в кресле, отпускал банальные шуточки нашей секретарше Соне, и не упускал возможности потрогать ее мягкий зад, пока она шныряла мимо в кабинет и из кабинета начальника. Значит очень крепко стоял на ногах этот Шебулдяев, если вот так шумно и при людях оказывал свое недвусмысленное внимание карманной игрушке Самого.
Что делать? Сам — есть Сам, его приказ — закон, не дуть же против ветра! И я, молодой специалист, но уже, как мне казалось, наученный жизнью, старался не конфликтовать с начальником и не очень-то высовываться в среде своих сослуживцев. Эдакий, маленький Премудрый Пескарь!
Работал бы я и работал, себе, инженером в отделе главного механика, перекладывал бумажки исходящие и входящие, если бы не эта злополучная командировка.
На мое несчастье, Шебулдяев на этот раз запил, и запил крепко. Все бы ничего — он, по разговорам, и раньше не просыхал, но на этот раз его пришлось отозвать в ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий для тех, кто не знает.
В припадке алкогольного психоза он во время очередной планерки кинулся с монтажкой, — металлическим прутом на куратора стройки, видного партийного работника-товарища.
Времена тогда были суровые, коммунисты, известное дело, шутить не любили, и шутку товарища Шебулдяева многие не поняли. Был вызван наряд милиции, но Шебулдяев, пользуясь заступничеством Самого, вместо тюрьмы, оказался в ЛТП.
Лечением, конечно, эти профилактории не занимались, а кое-какая польза от них все же была. Во-первых, человека изолировали и ломали его волю, а во-вторых — бесплатная рабочая сила на особо тяжелых производствах. Одним словом — каторга.
Но, я, кажется, отвлекся… Моя новая должность и командировочное удостоверение давали мне право на отдельный гостиничный номер, а, не как обычно, койку в общежитии.
Этот, ставший для меня роковым, участок был задействован на монтаже оборудования сахарного завода. Как и все горячие стройки, эта так же кишела народом, приехавшим сюда чуть ли не со всех концов страны. Партком был завален и идеями, и персональными делами. Когда я пришел встать на учет, на меня там посмотрели, как на, помешанного.
Бестолковщина — спутница всех комсомольских строек, сначала сбила меня с толку, но потом я быстро адаптировался, благодаря моему возрасту и раннему производственному опыту. Труднее было с бригадой. Участок, разбитый на звенья, требовал постоянного присутствия и надзора, тем более, что технологическая цепочка была сложной, а за этим сбродом нужен был глаз да глаз.
Монтажники — народ своеобразный, свободный, всегда в разъездах, без женского внимания и семейных тягот. А такой народ более всех склонен к пьяному разгулу и безобразиям. Не мудрено, что большинство из них были, или сидельцами, или уже на подходе к этому. Сидельцы — люди обидчивые и злопамятные — промаха не прощают. Попробуй, споткнись, и они тебя тут же повалят.
Приход свежего человека в любой коллектив настораживает. К новичку всегда с подозрением приглядываются, и, как говориться, всякое лыко вставляют в строку.
Первое, что я сделал после размещения в гостинице, это пошел на стройку, разыскал своего бригадира, и велел ему собрать весь участок в одной из бытовок. Был, как раз, обеденный перерыв и люди потихоньку стали подходить один за другим, с явным любопытством приглядываясь ко мне: «Что это еще за козел вонючий прибыл к нам в начальники?» Рабочие всегда к начальству относятся, как это ни парадоксально, свысока и снисходительно. Мол, да что там! Видали мы вас в гробу! Мы одни, а вас, придурков, до… и более.
Но, что самое интересное, каждый начальник, для виду, старается с рабочим заиграть, подладиться под рабочего, простачка из себя показать. И, чем длиннее дистанция, тем примитивнее подыгрывание — советская выучка!
Дистанции у меня не было, и подыгрывать мне было некому. Я играл самого себя.
Все началось с того, что меня не представили. Эта, на первый взгляд, маленькая деталь и определила ко мне все дальнейшее отношение участка. Рабочие очень чувствительны ко всем подобным нюансам. «Не представили — значит, не посчитали нужным, значит и цена ему — рупь в базарный день. Что с него взять? Придурок, он и есть придурок!» — угадывал я в их, с тайным подвохом и угрозой, взглядах. «Не ко двору пришелся…» — мелькнуло у меня в голове.
Тем не менее, работа — есть работа, и, ознакомившись с каждым монтажником по табелю и лично, я провел инструктаж, как того требуют правила техники безопасности, и попросил бригадира, невысокого хмурого мужика в рваной брезентовой робе, составить мне компанию для ознакомления с производственным объектом. Тяжело посмотрев на меня исподлобья, он сделал знак головой — идти за ним.
Само качество труда и организация рабочих мест, конечно, оставляли желать лучшего, и я напрямую сказал об этом своему проводнику. Тот, вроде как, весело хмыкнул, и не проронил в ответ ни слова.
Его невозмутимость злила меня, и я стал читать ему азбучные истины: о качестве исполнения, об организации и тщательном соблюдении технологии монтажа, о строительных нормах и правилах и о еще чем-то для него обидном. Мне хотелось вызвать в нем аналогичную ответную реакцию. Но он, видимо, вовсе и не слушал меня, только катал и катал носком сапога валявшийся тут же обрезок трубы.
Накопившееся неудовольствие требовало немедленного выхода, и я, со всего размаха пнул пустую картонную коробку из-под электродов, всем своим видом давая понять — кто здесь хозяин, и — нечего захламлять рабочее место разным мусором!
От моего удара коробка не сдвинулась с места, а я, приседая, со стоном ухватился за ушибленную ногу, — перед этим, какой-то шутник в коробку сунул чугунину в надежде хорошо посмеяться. Я не думаю, что это было сделано специально для меня. В самом деле, откуда весельчаку было знать, что я, непременно, буду здесь, и, непременно, ударю по этой злосчастной коробке.
Как бы то ни было, но шутка удалась, боль в ноге была невыносимой. Бригадир тут же участливо подхватил меня под руку, но я зло отмахнулся от него. Надо отдать должное его хладнокровию и выносливости — торжествующего смеха я от него не услыхал.
Припадая на правую ногу и матерясь про себя, я повернул обратно в бытовку с намерением провести необходимый техминимум по организации рабочих мест.
Открыв дверь, я остолбенело уставился на стол: перед моим уходом на столе, кроме разбросанных костяшек домино и обсосанных окурков, ничего не было, а теперь торчали: бутылок пять-шесть водки, газетный кулек с килькой, буханка хлеба и еще что-то съестное.
Все это, ну, никак не входило в мои планы по организации и наведению должного порядка на участке.
Тогда я придерживался одной истине — не пей, где живешь, и не живи, где пьешь. Она звучит так, если немного перефразировать известную мужскую поговорку.
Что в моем положении оставалось делать? До конца рабочего дня еще далеко, а эта посудина на столе ждала своего освобождения, и — немедленного. Я сделал, на мой взгляд, самое умное, что можно было в этой ситуации сделать: повернувшись, молча вышел из бытовки, слыша за спиной неодобрительный гул.
Что это? Провокация, или искреннее желание, таким образом, с водочкой отметить знакомство с новым начальником? Не знаю. Я ушел, и формально был прав, а так…
Потерянный день не наверстаешь, и я, покрутившись, для порядка на стройплощадке, подался обратно в гостиницу. «Ничего! Ничего! — уговаривал я сам себя, — Завтра будет день и будет пища. Надо затянуть гайки. Я знал, что они распущены, но не до такой же степени!»
Моему возмущению не было предела, хотя здравый голос мне говорил, что не надо пороть горячку. Надо во всем разобраться. Может быть, они от чистого сердца решили меня угостить, а я полез в бутылку?
Как бы там ни было, но злость и обида не проходили. К тому же мозжила разбитая нога.
Присев на лавочку у палисадника, я расшнуровал ботинок и осторожно вытащил из него ступню.
Освободившись от носка, я увидел, что большой палец ноги был лилово-черным и распух, он стал похож на большую черную виноградину. При попытка помассировать его, я дернулся от боли — футбольный удар был, что надо! Хорошо, если не сломана фаланга, а то еще долго мне костылять на манер шлеп-ноги. Обратно сунуть ступню в ботинок, было делом мучительным, и я, проклиная себя за то, что разулся, вытащил шнурок из ботинка, кое-как втиснул туда ногу и пошел, прихрамывая, к центру города.
Обычно, при случае, я люблю бродить по глухим местам наших малых городов районного масштаба. Эти места поистине полны всяческих неожиданностей: то попадется какой-нибудь старинный особнячок русского мещанина с ажурными, резными наличниками, с замысловатыми башенками на высокой железной крыше, с узорным крыльцом, хотя и покосившемся, но не потерявшим прелести русской постройки, то встретится каменное гнездо служилого уездного чиновника, — двухэтажное, с большими арочными окнами, с кованой оградой перед домом, с бывшим когда-то парадным входом, этими парадными в наше время почему-то не принято пользоваться — дверь облуплена и кое-как заколочена ржавыми скобами, или костылями нам ближе черный ход, в который можно незаметно, по-крысьи, по-мышьи прошмыгнуть и притихнуть в своей конуре — молчок!, то привлечет внимание незатейливый пейзаж с одинокой водокачкой на отшибе, то какая-нибудь лавка в каменном подвальчике, непременно в каменном, бывший владелец которой давно уже сгнил на суровых Соловках, или до сих пор лежит бревном в вечной мерзлоте Магадана за то, что был ретивым хозяином и не хотел быть холуем.
Такие вот уездные, районные города меня всегда приводят в умиление. Дома, обычно, одно, реже двухэтажные, деревянные — крашеные зеленой или коричневой краской, кирпичные — беленые известью. Улицы по обочинам поросли травой муравой вперемежку с упругим, двужильным подорожником. Возле водопроводных колонок зелень всегда гуще и ярче. Сочная трава радует глаз. Колонки эти, стояще по пояс в траве, издалека похожи на писающего мальчика в бескозырке, выбежавшего поозорничать к дороге. Из колонок почти всегда тонкой струйкой бежит вода — российская бесхозность. Среди дня на улицах бывает пусто и тихо — мало, или совсем нет приезжих, а местные люди трудятся, где кто. Маленькие фабрички районного масштаба, мастерские, конторы, да мало ли где можно заработать копейку на то, чтобы не дать нужде опрокинуть себя. К вечеру, на час-два, улицы оживляются — пришел конец рабочего дня. То там, то здесь увидишь спотыкающегося человека — успел перехватить где-нибудь за углом с приятелями и теперь несет свое непослушное тело домой, во власть быта. Женщины — непременно озабочены и всегда с поклажей, скользнут по тебе безразличными глазами и — в сторону. Сама обстановка говорит за то, что здесь нет места легкомыслию, а тем более пороку. Но это только так, с первого взгляда. В таких городках, как и везде, бушуют бешеные страсти, и непримиримы порок и добродетель, кто кого — вечная борьба.
Боль в ноге не давала мне полного удовлетворения от созерцания местных достопримечательностей, но все же одно здание меня заинтересовало. Высокие окна стрельчатого типа показывали почти метровую толщину стен, в которые были вделаны стальные решетки из кованого квадрата искусно скрученного по оси. Эти решетки на перекрестиях были перевязаны, тоже коваными железными лентами, что говорило о давности происхождения. Над окнами, в таких же стрельчатых нишах из красного кирпича, выложены барельефы крестов. Было ясно видно, что здание это — обезглавленная церковь. Потому оно было непропорционально высоким и венчалось нелепым фонарем, то же кирпичным, с узкими, как бойницы, окнами забитыми, за ненадобностью, фанерой. Вероятно, эта кирпичная надстройка служила когда-то звонницей и собирала православный люд к молитве и покаянию.
Теперь покаяние — это забытая нравственная категория, и потому церковное здание стало приютом зла и порока. В нем размещался РОВД — районный отдел милиции далекий от духовных исканий человека и жертвенной добродетели.
Впрочем, тогда еще обезглавленное здание церкви мне ни о чем не говорило, но какая-то скрытая угроза, как от всех милицейских учреждений, от него исходила.
Ну, подумаешь, милиция! Милиция — она и везде милиция. У входа дежурил в постоянной готовности бежевый «уазик» с характерной синей полосой и решетками на окнах. Такой вот малый «воронок». Его функция известна — взять и оградить.
Брать меня было не за что, и я спокойно зашел в продовольственный магазин, расположенный тут же, напротив милиции. Как говориться, война войной, а кушать надо.
Прихватив вареной колбасы, хлеб и бутылку кефира, я повернул в гостиницу. Пустой номер встретил меня бездомностью и неуютом. После наспех проглоченной колбасы и кефира, стало сыро и зябко, отопительный сезон еще не начался, и ледяные батареи усугубляли чувство неустроенности и заброшенности.
Заняться было нечем, да и не было желания, и я, быстро скинув одежду, нырнул в стылую постель, как в воду, сжался там по-детски калачиком, и завернулся с головой в одеяло. Мне стало невыносимо жаль себя, такого маленького и одинокого, лежащего на самом дне глубокого омута. Так я и уснул со своей печалью и грустью.
Но утро — мудренее вечера. С помощью бригадира вчерашний вопрос был исчерпан, и я потихоньку стал втягиваться в уже забытый мной ритм стройки с ее неразберихой, пьянством и неизбежными авралами. Регулярно, раз в неделю, я ездил в управление на планерку, сдавал отчеты, привозил материалы и оборудование, матерился по-черному с заказчиками, и мне, в общем, стала даже нравиться такая жизнь без начальственного окрика и взгляда, если бы, если бы…
Отсюда, с высоты тридцати метров, громоздкая фигура Фомы казалась приплюснутой, как будто ему откусили ноги. Он что-то говорил подошедшему бригадиру, жестикулируя непропорционально длинными руками.
Сюда слова не долетали, но я знал, что Фома говорит про меня что-то веселое, потешаясь над своей, как ему казалось, остроумной выдумкой.
С этой высоты, где я теперь стоял, я должен загреметь однозначно, а почему не загремел, Фома так и не понял.
Фомин — Фома, как его называли ребята, по своей наивности считал меня «придурком», а «придурка» надо было наказать, да так, чтобы потом и следственные органы не догадались, почему это, прораб вдруг сорвался с такой высоты и разбился насмерть.
Падение с этой отметки, да еще на груду железа, смертельный случай гарантировало, на что и рассчитывал Фома. Надо сказать, что его выдумка быта изощрённой — если бы я сорвался, то вся вина лежала бы на мне — соскользнулся, и вот он — лови! Неосторожность и отсутствие опыта — налицо, да еще налицо нарушение техники безопасности. Кто бы стал вникать в детали? Винить рабочего? Такое у нас ранее не наблюдалось.
Как и большинство уголовников, прошедших школу в зонах, Фома был злопамятен, как хорь. Со всегдашней приговоркой, что не школа делает человека человеком, а тюрьма, он был, говоря откровенно, мне неприятен, но — не более того. На меня же он всегда смотрел с ненавистью и затаенной угрозой, стараясь их скрыть за лагерными усмешичками и прибаутками.
Я не знаю, что заставило Фому пойти на эти исчерпывающие меры? Может быть его, приобретенная в лагерях, ненависть к удачливым людям /в глубине души я себя, как раз, и относил к таковым/, или еще что-то такое, чего Фома мне простить не мог. До этого у меня с ним открытой стычки не было. Конечно, я и теперь сделал вид, что ничего в этой игре не понял. Что все — путем! Но у каждого дерева есть свои корни…
Вечернее одиночество, да еще в чужом городе, провоцировало меня на редкие, но результативные вылазки в дискотеку, которая по средам, субботам и воскресеньям устраивалась в местном неказистом ресторане, где я и столовался.
Дискотека давала мне отдушину в однообразной череде дней, серых и безвкусных.
В тот вечер я сидел, как и положено одинокому приезжему холостяку, за маленьким столиком с голубой пластиковой столешницей в самом дальнем углу ресторанного зала. Тощий ужин бил съеден, водка была выпита, и только бутылка местного, дешевого, со вкусом перегорелого сахара, вермута, по-товарищески разделяла со мной этот омерзительный осенний вечер.
Танцы-шманцы еще не начались, и я уже было засобирался в свою нору, как вдруг за окном, в свете фонаря, увидел спешащую к дверям ресторана, молодую женскую фигурку в ярко-красном плащикае и под таким же ярким импортным зонтиком. Скользнув в дверной проем, фигурка погасила зонтик, тряхнула, им раза два, и вошла в гардеробную, Оттуда послышался ее торопливый веселый щебет, и, нет-нет — глуховатый голос гардеробщицы.
Я с интересом стал поглядывать в ту сторону, ожидая, что незнакомка скоро появится в зале, и тогда можно будет забросить наживку. Авось клюнет.
Прошло много времени. Нетерпение охотника и вермут, который уже подходил к концу, еще больше подогревали мое желание. Я заглянул в окошко гардеробной — на меня уставилась вопросительная образина неряшливой старухи, которая по всем признакам была в подпитии.
Вытащив из накрашенного слюнявого рта изжеванную «беломорину», она, игриво осклабившись, спросила, что мне надо? Я молча повернул к своему столику.
За раздевалкой, в приоткрытый дверью проем, просматривался буфет, в буфете с расшитой короной на голове, какие бывают у официанток в провинциальных заведениях общепита, в белом школьном фартуке стояла она и что-то протирала салфеткой, — выпускница на практике!
Чтобы войти в равновесие, я решил еще побаловать себя бутылкой сухого вина, которое и пьется хорошо, и с ног не валит. Я завернул в буфет, который обилием вин не отличался, но на мою удачу среди водочного избытка я приметил зеленую бутылку «Монастырской избы» — не знаю, как сейчас, но раньше это было вино отменного вкуса. После тошнотворного вермута — настоящий бальзам.
Весело хмыкнув, я протянул молодой буфетчице последнюю оставшуюся у меня купюру, за которую можно было взять пять таких бутылок. Она, повертев в руках деньгу, сунула ее в большой карман фартука и вопросительно на меня поглядела.
— Да, вот, старый монах-отшельник хочет прикупить себе избенку, — съерничал я, показывая глазами на вино.
Она строго погрозила тонким, как сигаретина, пальчиком с огненно-красным коготком:
— Это не тот ли монах-отшельник, что из «Декамерона»?
Я искренне удивился ее начитанности.
— Да-да! Он самый, который умеет загонять дьявола в ад, чтобы тот не бодался
Моя явная наглость и откровенная похабщина, ничуть не привели ее в смущение, напротив, она недвусмысленно мне подмигнула, сказав, что для таких, как я грешников, и стража на вратах ада не помеха. Чествовалось, что молодуха с явной охотой включилась в мою игру.
— А стражника ада зовут Аня-да? — протянул я по слогам.
Она удивленно подняла свои, по-мужски густые, темные брови. Эти шмелиные бархотки на ее лице будили всяческие фантазии, говорили о природном естестве натуры, о ее потаенных закоулках, вызывая желание близости.
Я показал глазами на фартук, где крутой вязью было вышито — «Аня».
Моя новая знакомая тут же весело рассмеялась.
— Метод дедукции! — поднял я с дурашливой значительностью указательный палец.
Она потянулась к полке буфета, привстав на цыпочки так, что обрез платья, поднимаясь, обнажал розовые, без единого изъяна ноги почти до самого основания, до белой косыночки трусиков.
Жарко! Я, мотая головой и захлебываясь воздухом, расстегнул пуговицу на рубашке.
В руках у Аннушки оказалась тяжелая толстого стекла бутылка. Бутылка, соскользнув, повалилась боком на прилавок.
Я легонько толкнул горлышко посудины, и моя «Монастырская изба» закрутилась вокруг своей оси на скользком пластике.
— Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к Аннушке — задом.
Но бутылка, вопреки моей просьбе, обернулась ко мне своим толстым вогнутым дном.
— Ну, что, красавица, целоваться будем, или как?
Аннушка сказав: «Или как», подхватила бутылку, ловко ввернула штопор, и резким движением выдернула пробку, которая при этом издала характерный звук крепкого поцелуя.
Пить в одиночку — это все равно, что играть с самим собой в подкидного дурака — скучно. Я взял из рук Аннушки посудину и наполнил два стоящих рядом больших фужера. От электрического света вино в фужерах отсвечивало теплым янтарем, невольно вызывая чувство жажды.
На мое предложение выпить за знакомство Аннушка отрицательно покрутила головой, и показала пальцем наверх, давая понять, что начальство не разрешает.
Я знал, что в таких заведениях особых строгостей не наблюдается, и само начальство смотрит на это сквозь пальцы.
— А, что начальство? Начальству нужны мани-мани, — потер я указательный палец о большой.
— Ты так думаешь, да? — она, поколебавшись, ущипнула тонкую ножку фужера, и поднесла его к губам.
Мягкое вино ложилось лекарством на мой обожженный водкой и плохим вермутом желудок. Аннушка, не допив, поставила бокал на стойку.
Здесь в буфете было хорошо и уютно. Я пододвинул стоящий рядом тяжелый табурет, и примостился на него, весело поглядывая, как Аннушка орудует, принимая заказы от официанток и разливая водку в маленькие стеклянные графинчики. Желтые тюбетейки пробок так и взлетали из-под ее руки. «И в воздух чепчики бросали» — вспомнился мне не к месту Грибоедов.
Как пьяный дебошир в дверь, колотил по барабанным перепонкам резкий звук тяжелого рока. В этом бедламе слова били пустой тратой сил — все равно не услышишь, и я, долив Аннушке бокал, знаками предложил выпить еще.
Она, махнув рукой, — а, была — не была! — снова двумя пальчиками ухватила ножку бокала и поднесла его к губам. На этот раз вино было выпито до дна.
Промокнув губы бумажной салфеткой, Аннушка скомкала ее и бросила в рядом стоящую коробку из-под вина, затем достала с полки пачку «Мальборо», и, вытащив из нее две сигареты, одну отдала мне. Она пододвинула ко мне объемистую стеклянную пепельницу, уже полную окурков и мы, весело переглядываясь, продолжали с ней молчаливый разговор.
И третий, и четвертый бокал были выпиты, и я с воодушевлением, наклонившись над стойкой, уже кричал моей новой знакомой нежности известного назначения.
Она в ответ вскидывала свои пушистые ресницы и, заливаясь смехом, обнажая белые чистые зубы, обдавала меня дыханием, смешанным с молоком и мятой.
Когда, стараясь перекричать невообразимый грохот музыки, я прислонялся к ее уху, то норовил щекой потереться о ее мягкие волосы, и у меня от этого дыхания, выпитого вина и ласковых прикосновений, как у мальчишки, закружилась голова. Да и у нее — щеки раскраснелись, пальцы теребили мою руку, и грудь за тонкой тканью держала мой взгляд на привязи. Бусинки сосков намекали на невозможное.
Аннушка смеялась, откидывая назад голову, то и дело всплескивала руками над моей очередной шуткой. Я следил за каждым ее движением, отмечая раз за разом все новые и новые прелести. Ладони ее были шелковисты на ощупь и прохладны, я подносил их к губам, остужая себя и от этого еще больше распаляясь.
Я был уже почти влюблен в нее, и в этот ставший сказочным вечер никак не хотел с ней расстаться. Да и Аннушка чувствовала, по-моему, то же самое.
Я и не заметил, как вторая бутылка вина похудела наполовину, и мне стало необходимо кое-куда выйти. Я с неохотой поднялся со стула. Аннушка вопросительно посмотрела на меня, а потом, видно поняв, в чем дело, с улыбкой помахала мне ладошкой из стороны в сторону, как протирают окна. Я кивнул ей в ответ и вышел.
В туалете было, как в туалете — сыро и мерзко. Изъеденные известью и мочой бетонные полы сочились, выделяя из пор дурную влагу.
Подняв глаза, я увидел стоящего спиной ко мне у писсуара Фому. Его тяжелый загривок, поросший коротко стрижеными волосами, покраснел от напряжения — человек делал свое извечное дело. Вступать в разговор с ним мне вовсе не хотелось, и я, не узнавая его, встал рядом. Но Фома уже повертывал ко мне голову.
— Ну, что, начальник, тоже полный член воды принес? — скалился он в пьяной улыбке.
Чтобы уйти от его рукопожатия, я быстро занял свою позицию, кивнув ему головой. Ладонь, на секунду повиснув в воздухе, медленно опустилась. По его неряшливому виду я понял, что Фома весь день круто гулял, а теперь еще пришел накинуть, так сказать, на сон грядущий. Так вот почему Фома сегодня отсутствовал на работе! Прогулом его, конечно, не удивить, но завтра попугать надо.
Если бы я знал, что потом случится, я бы не думал так уверенно.
Встряхнувшись для порядка, как мокрый пес, Фома остановился, поджидая меня. Его присутствие рядом раздражало, но что поделать? Я, вздохнув, повернулся к выходу — Фома за мной.
Пока в вестибюле приводил себя в порядок перед зеркалом, Фома куда-то исчез. Облегченно вздохнув, я направился снова в буфет.
От Фомы можно было ожидать все, что угодно, но только не это! В буфете он, сграбастав в свои широкие объятья Аннушку, лез к ней целоваться. Она, двумя руками упираясь ему в грудь, откинулась назад, явно противясь. На ее лице были написаны то ли гнев, то ли страх перед Фомой — я так и не понял.
Увидев меня, Аннушка от неожиданности уронила руки, и Фома тут же всем телом накрыл ее, заодно смахнув с прилавка всю посуду, а с нею вместе и мою недопитую бутылку.
Оглянувшись — в чем дело, Фома осклабился, и полез поднимать рассыпанную стеклотару.
Аннушка, поправив прическу, покачивая готовой, стояла напротив.
Фома, разогнувшись, посмотрел на свет мою, теперь уже пустую бутылку и поставил ее передо мной. Промычав что-то оскорбительное то ли на меня, то ли в адрес Аннушки, он, покачиваясь, вышел, не поднимая скандала, вероятно из-за находившейся в зале милиции.
Аннушка торопливо стала объяснять мне, какой негодяй этот Фома и, как он не дает ей прохода. Жениться обещал. Но, что ей с этой пьянью делать? А то она лучше не видела!
В том, что она видела мужиков и получше Фомы, у меня сомнений не было — вот и я перед ней уже почти готов.
Тот вечер был скомкан, но он имел далеко идущие последствия. И последствия не заставили себя ждать, — я, придерживаясь за парапет, гляжу вниз, прикидывая, чтобы со мной, минуту назад, могло случиться…
Фома все рассчитал верно. В тот день он занимался сварочными работами на площадке обслуживания, на самой верхотуре. Туда можно было добраться только по вертикальной лестнице, и — через лаз в настиле.
Площадка уже была покрыта листовой сталью, и теперь эти листы следовало приварить к несущим конструкциям — попросту, балкам. Работа была самая простая, и Фома сидел наверху и, как дятел, все стучал и стучал электродержаком по металлу. Это меня раздражало. Наверное, электроды были отсыревшие, плохого качества и электрической дуги не держали. Конечно, сварка — одно мучение. Не то, чтобы облегчить работу Фоме, а проконтролировать — чего это он все там стучит? — я взял, заодно, из прокалочной печи еще горячие электроды и, завернув их в лоскут от старой спецовки, полез наверх к Фоме.
На этот раз, как на грех, на голове у меня не было защитной каски — от нее устает голова, и при каждом удобном случав её хочется где-нибудь забыть.
Одной рукой я держал электроды, а другой, перехватываясь за лестничные перемычки, поднимался наверх. Влезать было неудобно, а Фома предвидел это. Он опустил в проем лаза кабель с электродержателем, который, разумеется, был под током. Так как руки у меня заняты, да и лаза над собой я не мог видеть, то наверняка должен был коснуться головой не изолированной части держака, и, таким образом, замкнуть сварочную цепь.
Кто попадал под действие тока, тот знает его результат. Удар неминуемо должен был меня сбросить вниз и, как говорил Фома, — ваши не пляшут! Крышка. Да и если бы я вдруг увидел держатель, то инстинктивно должен был бы отвести его рукой в сторону, чтобы просунуться в лаз. И в этом случае эффект тот же — наши не пляшут!
Но, как говориться, человек предполагает, а Господь Бог располагает…
С Аннушкой я встречался почти каждый день, но все как-то наспех, да наспех, вовсе и не думая, что скоро Фома положит конец моей неожиданной и странной увлеченности.
В тот поздний промозглый вечер в городе было зябко и неуютно. Порывистый ветер, как грязный бомж, шарил на ощупь по закоулкам, выискивая старые газеты и афиши, шуршал ими, выкатывая из разных углов замусоленные окурки. Редкие фонари, лохматясь в темноте, желтым светом подметали улицу. Все порядочное человечество в такую погоду уже давно спит, утомившись, кто от дел, кто от любовных затей. Пусто.
Мы с Аннушкой, не сговариваясь, повернули в сторону гостиницы. Больше всего на свете мне хотелось очутиться с этой женщиной теперь, где-нибудь в тепле и уюте.
Пройти мимо дежурной в свой номер с посторонней женщиной — это сложновато, но я был уверен, что как-нибудь все утрясется. Главное, чтобы дежурная не стала сразу кричать и звонить в милицию, а там посмотрим…
Аннушка, хотя одна ее рука была занята хозяйственной сумкой, то и дело прижималась к моему плечу, сторонясь очередной лужи. Ее тепло проникало в меня сквозь тонкую ткань куртки, тревожило своей доступностью, предвосхищая и торопя события.
Мы то и дело останавливались, прижимались друг к другу, целовались, и моя подруга не должна была не чувствовать всю мою готовность к продолжению. От частых прикосновений, она тоже торопила события, с каждым разом все крепче и продолжительнее прижимала к себе мою голову, хватала губами мочку уха, делая влажно и горячо за воротником куртки. В этот вечер нас уже было не разъять никаким способом.
Несмотря на то, что город еще не отапливался, маленькая котельная в гостинице на сей раз, клочкасто дымила на фоне абсолютно черного неба. Дым, то уходил вверх, то ложился на желтую от фонарного света крышу, сползая вниз рваной ватиной. Пахло, как из преисподней — серой и жженой шерстью.
Сквозь незанавешенное окно было видно, как очкастая дежурная клевала носом какую-то бумагу лежащую на столе под ярко-красным абажуром настольной лампы. «Нет, с этой кочергой мне, наверное, не справиться?» — подумал я.
Тяжелая скрипучая дверь швырнула нас с Аннушкой прямо пред светлые очи ночного директора. Несмотря на заспанные глаза, стекла ее очков весело поблескивали, вселяя надежду.
Дежурная, встряхнувшись — как ни в чем не бывало, бодро стала листать что-то перед собой. Я сделал унизительно-просительное лицо, показывая кивком головы в сторону номера. В это время Аннушка, распаковав сумку, положила на стол дежурной какой-то сверток. Что было в нем, я не знаю, но что-то хорошее было. Дежурная тетя, то ли сконфузившись оттого, что мы ее застали спящей, то ли от подношения, понимающе улыбаясь, сняла ключ с гвоздя, и с высочайшего позволения мы нырнули во вседозволенность одиночного номера.
Нашарив выключатель, я надавил на него, и тусклая лампочка без абажура осветила наше временное прибежище.
Сдвинув на край стола всю непотребность, которая накопилась за все время моего проживания, Аннушка вытащила из сумки свертки, и разложила снедь на столе. Коньяк и бутылка вина, как генерал с денщиком, замерли по стойке «Смирно!», намекая на предстоящий праздник и мирное решение всех вопросов. К ногам генерала припали еще не остывшие котлеты, брусок отварной говядины, большая подкова колбасы, кофе «На утро!» — сказала мне благодетельница, батон белого хлеба, лимон и два яблока.
При сём антураже можно было и не торопиться — все остальное обождет.
Вытряхнув из стакана изжеванные окурки на пол, я, для профилактики дунул в граненое стекло и поставил стакан на стол. Потом, немного помучившись с коньячной пробкой, плеснул Аннушке приличную порцию в мутную посудину. Она поглядела стакан на свет, покрутила его и тут же вылила содержимое в цветочный горшок, стоявший на подоконнике. Сухая, кочковатая земля в один момент заглотила драгоценную жидкость. Горшок стоял без цветка, так — на всякий случай. По всей видимости, постояльцы, как и я, выливали туда всякую гадость.
Ополоснув, таким образом, стакан, моя подруга поставила его на стол, взяла из моей руки бутылку с коньяком, плеснула себе на самое донышко, и вопросительно посмотрела на меня. Увидев мое недоумение, Аннушка увеличила первоначальную дозу вдвое.
То ли от коньяка, то ли от нахлынувшего возбуждения ее глаза масляно отсвечивали, придавая лицу выражение томного удовольствия. Как говорят теперь, — она ловила кайф. Я свою порцию выпил по-плебейски быстро, хотя коньяк требует иного подхода.
Столового ножа не было, и мне пришлось доставать свой, с узким выкидным лезвием, нож армейской выделки. Подобные ножи с заморским клеймом теперь продаются повсеместно, да только — не то! Лезвия у них сырые, сделанные из плохой стали с некачественной пружиной. Надежность такого ножа сомнительна. А у меня был нож — подарок десантника-афганца, с лезвием, сделанным из полотна саперной лопаты. Этим ножом запросто можно было рубить гвозди. Нож-защитник, нож — боец, для которого западло выступать в роли дамского угодника, и крошить какую-то закусь. Таких ножей я ни у кого не видел, да и сам больше не имел.
После котлет и мяса захотелось выпить еще. Мало, но пила и моя Аннушка. Она громко смеялась, лицо ее сделалось пунцовым, пуговка на кофточке расстегнулась, выпуская наружу пару чистокровных белогрудых голубей с розовыми клювиками. Голуби ворковали, терлись друг о друга, просились покормить их с ладони — всех вместе и каждого в отдельности. И я кормил их, моих голубок с ладоней и с губ кормом, сладостней которого не бывает на свете! И голуби эти торкались в щеки, нос, глаза, подбородок сытые и благодарные.
Сжав пальцы у меня на затылке, Аннушка тихо постанывала, как от легкой боли, прижимая мое лицо к себе. Сквозь тонкую кожу я чувствовал, как рвется ее дыхание, как воздух резкими толчками выходит из ее гортани, рождая характерные звуки любви.
Моя ладонь, почувствовав волю, нырнула, куда ей следовало, и стала ласково тереться о паутину колготок, заставляя мою подругу все чаще и чаще, изгибаясь, пульсировать.
Вдруг Аннушка, ни о того, ни с сего встревожено ойкнула и резко вскочила со стула. Лицо ее вместо любовной истомы выражало испуг и растерянность. Она стала, как-то нервно и суетливо застегивать кофточку. Пуговица то и дело не попадали в петельки, руки ее дрожали.
Повернувшись к окну, я услышал, как что-то звякнуло о стекло, и резко задергалась освещенная ветвь дерева, а дальше — ночь, чернота и больше ничего.
— Да, брось ты! — попытался я прижать к себе недавно такое близкое и податливое тело, но теперь оно стало каким-то деревянным и чужим.
Я одной рукой дотянулся до бутылки, и знаком предложил Аннушке выпить, но она отрицательно замотала головой. Не утруждая себя стаканом, и предчувствуя пустые хлопоты, я выцедил оставшийся коньяк до донышка и, подойдя к окну, швырнул бутылку в форточку. Было слышно, как она, звякнув о камешек, мягко покатилась в сад.
Аннушка уже запакованная стояла у двери. На все мои уговоры остаться она категорически отказывалась.
Что могло так подействовать на мою спутницу? Тень в окне? Там росло раскидистое дерево вяза, и ветки его, нет-нет, да и, царапая стекло, пытались вломиться в оконный проем, для своего со мной знакомства. Но, не на столько же у моей подруги развито воображение, чтобы испугаться присутствия дерева в наших упражнениях. А начало было многообещающим! Я, когда еще мы шли сюда в мое логово, уже прокрутил в голове все мыслимые и немыслимые сюжеты наших батальных сцен. Как жаль!
Меня швырнуло к столу, и я чуть не опрокинул стоявшую там и уже, когда-то початую бутылку вина. Аннушка стала меня останавливать, чтобы я не шел за ней следом, но мне, почему-то, неудержимо хотелось туда, на воздух.
Взяв со стола нож, я убрал лезвие и сунул нож так, на всякий случай, в карман. Аннушка помогла застегнуть мне куртку, и мы вышли в ночь.
Порывистый дождь, как будто кто хлестнул меня по лицу кнутом, сразу отрезвил меня. Я с недоумением оглянулся вокруг. Рядом никого не было. Ночь. Темные дома с угрожающими провалами окон. Гостиница осталась где-то там, позади, отсюда ни огней, ни тубы котельной видно не было. Только впереди за дальним фонарем, то, пропадая, то, возникая на свету, торопливо уходила то ли женская, то ли детская фигурка, держась за зонт, как за воздушный шарик.
Зонт порывами ветра трепало в разные стороны, и в разные стороны металась фигурка в плаще. Я боялся, что она вот-вот улетит в черноту неба, и я ее больше не увижу. Исхлестанная дождевыми струями фигурка отчаянно металась от лужи к луже, и мне стало жаль ее.
Вдруг, у железной, решетчатой ограды стадиона, теперь я стал понимать, где нахожусь, большая черная птица, откуда-то сбоку, хищно кинулась к фигурке, и та громко вскрикнула.
В широком распахнутом плаще, человек похожий на птицу схватил ночную странницу за плечи, задергался головой, что-то зло и резко крича, словно хотел расклевать свою добычу.
Я, ни думая, ни о чем, ринулся к ним. Зачем — я и сам в то время не знал. Чтобы защитить ночную гостью? Не думаю. Просто подогретый недавним выбросом адреналина и парами алкоголя, мне надо было действовать, непременно надо.
Услышав мой топот, человек-птица, выпустив из когтей свою добычу и стелясь над землей, ринулся ко мне. Два черных распахнутых крыла победно трепетали за его спиной. Птица хотела взмыть надо мной и не могла, это последнее, что я хорошо помню.
В припрыжку, как все большие птицы, она закружила около меня и, вскинувшись, ударила своим, как мне почудилось, железным крылом.
Удар пришелся вскользь, в шею, между плечом и ухом, и я оказался на четвереньках. Хорошо, что железяка попала в мягкую ткань, а то бы лежать мне с развороченным черепом на местных черноземах. Обрезок толстой арматуры, наверное, и до сих пор еще валяется там, у забора, где все произошло.
Потом я специально ходил туда, держал этот шкворень и все удивлялся, и благодарил судьбу, что шкворень, в тот злополучный момент, сжимали нетвердые руки.
Сбитый на землю, я имел право на защиту, каким образом — неважно, но защитить себя я должен.
Если бы я в то время был трезв — единственным способом защиты от озверевшего, нетрезвого и явно сумасшедшего нападающего, было бы бегство. В этом я и теперь не вижу ничего постыдного. Как говорят в народе, пьяного и безумного сам Бог стороной обходит.
Убеги я, то этим все и закончилось бы — ночной странницы все равно рядом уже не было, она исчезла, размазалась по этой сырой и тяжелой, как глина, темноте. Но во мне бушевали хмель и страсть, и чувство бесконфликтного самосохранения не сработало.
Мгновенно вспомнив про армейский нож, рука тут же сама инстинктивно выбросила его вперед. До конца я не осознавал свои действия. Беда в том, что я не видел перед собой человека, — была какая-то опасная преграда, и ее надо было одолеть.
Только я выкинул нож, как меня тут же накрыла своими черными крылами тень, и я снова, еще не разогнувшись от первого удара, юзом сполз в наполненный жижей кювет. Что-то хрустнуло у меня под рукой, и я выпустил рукоятку ножа.
Неожиданно, как будто натолкнувшись на неодолимое препятствие, черная тень переломилась пополам, замерла, затем закружилась на месте. Я услышал только какой-то зловещий животный хрип и кинулся к спасительной ограде.
Вот тут-то, наверное, и сработал инстинкт самосохранения, — до меня еще не дошел весь ужас содеянного. По-кошачьи вспрыгнув на узкий поясок ограды, я, ухватившись за острые кованые пики, подтянул вверх тело, и опрокинулся на другую сторону, прямо на беговую дорожку стадиона.
Краем глаза я видел, как человек-птица, вскинувшись, тут же взлетел на ограду, и я, не разбирая дороги, ринулся прямо поперек игрового поля, не оглядываясь и ни о чем, не думая, туда, к парку, где были выход и укрытие.
В одно мгновение, перемахнув стадион и парк, я выскочил на освещенную центральную улицу города. Там, вдалеке, за желтым журавлиным клином фонарей я увидел дымящуюся трубу нашей котельной.
Дежурная мирно посапывала, положив на стопку бумаг свой выгнутый подбородок. Дверь моей комнаты была полуоткрыта, и я проскользнул в нее. Тупо болела шея и левая сторона груди. Вылив оставшуюся бутылку вина в себя, я повалился на кровать, на ходу стаскивая с себя набухшую одежду. Сон опрокинул меня, и я провалился в его тяжелые испарения.
Но сон кончился так же быстро, как и начался. Меня качнуло и я, застонав, открыл глаза. После вчерашнего не хотелось жить. Хотелось превратиться в песчинку, в молекулу, в атом, забыть себя насовсем и растаять в мироздании…
— Фому грохнули! — почему-то радостно закричал надо мной, неизвестно откуда взявшийся, бригадир. У меня внутри все так и оборвалось. — Его нашли там, у стадиона, я ходил на опознание, — частил утренний гость. — Лежит навзничь в плаще каком-то чудном, весь в грязи и руки враскид. Голова запрокинута, а на шее дыра — кулак влезет, черная вся, жуть!
Я хотел встать, но не смог даже пошевелить пальцем, тело сделалось вялым, как тесто, и не слушалось меня, я только горестно охнул.
— Да не расстраивайся ты, начальник, его все равно когда-нибудь пришили бы. Больно он залупаться любил, особенно по-пьяни. Ты лечись — он с пониманием глянул на безобразие стола. — Ты лечись, лечись. Я сегодня сам покомандую — и ушел так же неожиданно, как и пришел.
И вот, наскоро ополоснув лицо, я стою у окна и безнадежно молюсь о несбыточном: «Господи! Что я наделал?!». Меня охватил ужас и отвращение к происходящему — к вину, к женщинам, к самому себе, и даже к этому небу в окне, тяжелому и косматому. Сама эта похотливая бабенка казалась мне сосредоточием зла и грязи, — Боже мой, почему я раньше не думал об этом?..
Конечно, моя ночная гостья была здесь совсем не причем, только ведь человек всегда такой, — когда прижмет, ему легче свалить вину на кого-нибудь, чем виноватить себя.
Я ждал. Но днем за мной никто не пришел. Не пришли за мной и ночью. А наутро я с первым поездом уехал к себе в управление, не попрощавшись даже с бригадиром. Только страшно и жутко было мне проходить мимо того места у стадиона, где все и свершилось. Толстый витой обрезок арматуры лежал никем не замеченный, тяжелый, как сама вина.
В управлении, когда я пришел с заявлением об освобождении с должности, мне пригрозили уволить по статье за самовольный уход с рабочего места без уважительной причины, но я, оставив заявление на столе у начальника, не дослушав его угроз, вышел. На другой день меня все-таки уволили, правда, статью не вписали. Пожалел меня начальник…
А Фоме не повезло. Обозленный ревностью и моим сопротивлением, с порезанной рукой, кинулся он за мной на железную ограду. Но, то ли я был ловчее Фомы, то ли его подвела водка и скользкая глина на сапогах, — Фома, соскользнув, наткнулся подбородком на пиковину ограды, и повис на ней. Так его и нашли в этой страшной и беспомощной позе, с раскинутыми руками и с тяжелыми гирями сапог.
Больше никогда я не был в этом городе, да, наверное, и не буду. Не вписался я в ту жизнь, или не захотел вписаться. А, все-таки незачем мне было соглашаться ехать туда, — не случилось бы этой страшной истории.
КРАСНЫЙ СОК СМОРОДИНЫ
Хорош город Тамбов! Хорош. Лучше не бывает. Дымы фабричные рукавом по небу. Улицы мощеные. Дома со ставнями. Не как у нас в селе, где все нараспашку — гуляй ветер…
Иду я себе, посвистывая, на вокзал к автобусу, чтобы снова вернуться в Бондари — скоро в школу.
Хорош город Тамбов, а Бондари лучше: пыль на дорогах помягче, да и люди все свои — здравствуй, дядя Федя! Здравствуй, дядя Ваня! Здравствуй, тетя Клаша!..
Тапочки, подаренные дядей, я снял и сунул их в сумку с бабушкиными гостинцами. «На тебе на мороженое!» — дядя, похохатывая, но после болезни как-то реже и глуше, положил мне в руку бумажку. Теперь денег на дорогу у меня — ого-го! сколько. Сразу не потратишь.
Взяв с первого же лотка в поджаренном, как хлебная корочка, стаканчике мороженое, я, поглядывая по сторонам, важничал, на ходу слизывал языком сладкую снежную пену, надкусывал краешек хлебного стаканчика и похрустывал, похрустывал, изнемогая от необыкновенного вкуса.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.