
Бесплатный фрагмент - Караван
Исторический роман. Том I
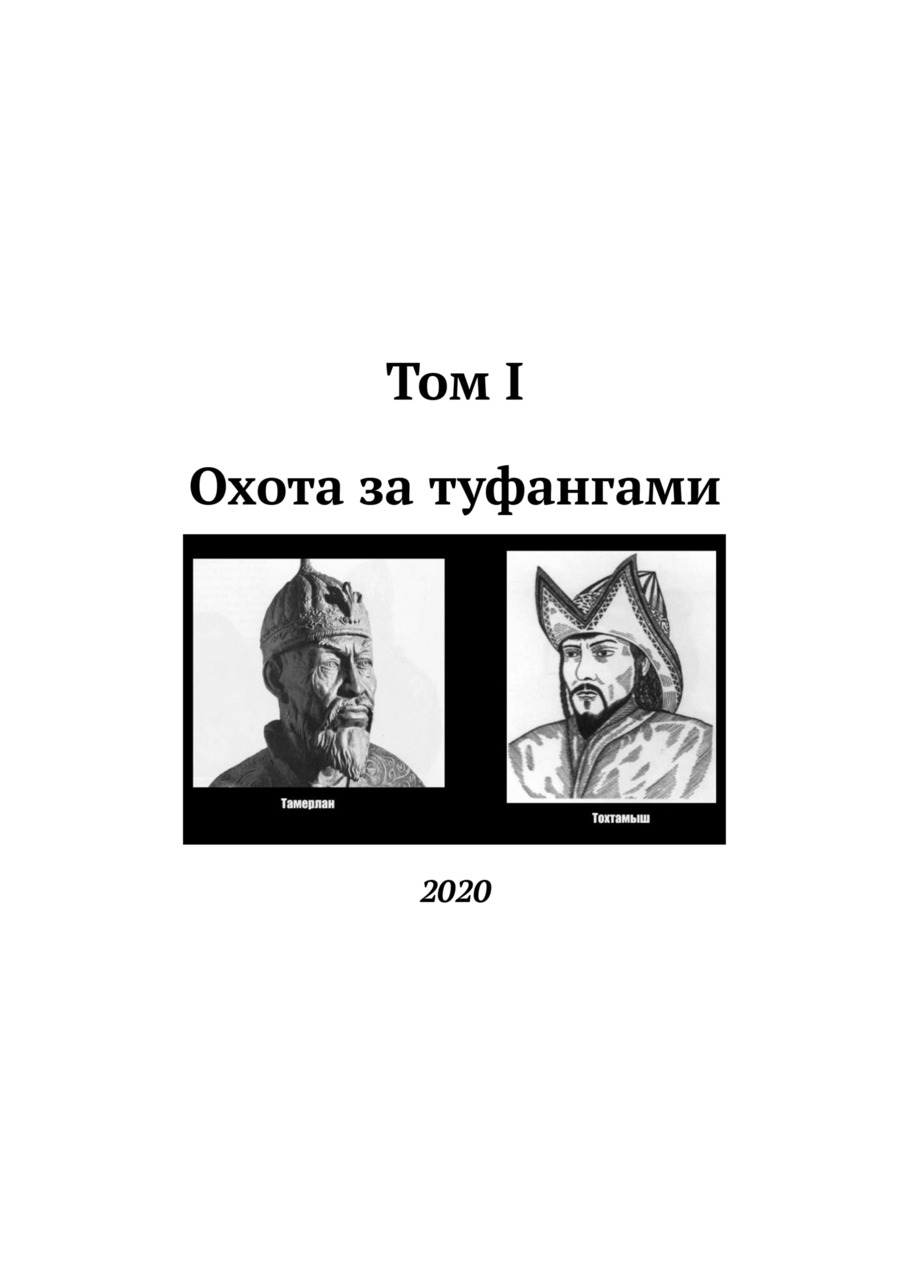
Об авторе и замыслах его книги
Федорцов Валерий Викторович, родился в 1957 году в селе Залесянка Самойловского района Саратовской области. В 1983 году окончил Саратовский юридический институт. Более 25 лет прослужил в органах внутренних дел УВД (ГУВД) Волгоградской области, из которых 17 на оперативной работе. Затем 15 лет пребывал на государственной гражданской службе в Администрации (Правительстве) Волгоградской области. Ветеран МВД, подполковник в отставке. По выходу на пенсию занялся написанием книги (исторического романа) «Караван». В ней повествуется о причинах противоречий между великими державами средневековья, Золотой Ордой (Улуг-Улусом*) и империей Тимура (Тамерлана) (Тураном*), приводившим к конфликтам между ними. В частности, рассказывается о борьбе правителей этих стран за транзит товаров по одной из ветвей (северной или южной) трансконтинентального торгового маршрута, связывавшего страны Европы, Малой Азии и Северной Африки с Индией и Китаем, известного в истории как Великий шелковый путь. Пересекая территорию одной из этих держав, каждая из названных ветвей приносила в казну соответствующей страны немалые доходы. Попутно, автор пытается раскрыть роль личностей в истории, на примерах деятельности лидеров данных государств, и отобразить систему факторов, повлиявших в дальнейшем на гибель этих держав. Идея написания произведения у автора возникла ещё в 1986 году, в период его служебной командировки в Узбекистан. Там, по воле случая, автор познакомился с некоторыми историческими документами конца XIV века по данной тематике. Впоследствии, по мере возможности, им продолжал осуществляться сбор необходимых материалов и информации из различных источников, в целях написания настоящей книги.
Главные герои романа, посланцы известного средневекового правителя и полководца Тимура (Тамерлана). Так, в те годы, назывались его лазутчики (шпионы), которые под прикрытием торговцев, служилых людей, различного рода миссионеров и т.п., проникали во все сферы жизнедеятельности, как Золотой Орды, так и других стран мира, внося немалый вклад в победы названного завоевателя. Деятельность этих людей подтверждена историческими фактами и документами, а методы их работы не менялись ещё со времён «египетских фараонов». Они используются и современными спецслужбами многих стран мира. В романе много реально живших исторических персонажей, а образ ряда героев взят из образов реально живших в те годы и ныне живущих современников, в том числе, имевших отношение к описываемой деятельности. О её особенностях, методах и значении автору известно не понаслышке. Он многие годы сам имел непосредственное отношение к подобной деятельности в процессе оперативной работы в системе органов внутренних дел.
Автор благодарит специалистов (прежде всего ВГСПУ, ВолГУ, ВАГС), литературоведов, историков и простых граждан, которые по мере возможностей и различными методами помогали ему в работе по сбору материалов и информации, а также оказанию методической и консультативной помощи в процессе работы над настоящей книгой.
Вопросы связанные со стилистикой изложения, а также наименованиями названиями, обозначениями, произношениями и терминологией использоваными автором, в работе над настоящим произведением
В прошлом, я никогда не занимался ни писательской, ни журналистской деятельностью. В отличие от истории с географией, в течении первых тридцати лет своей жизни, мною не проявлялось особого интереса ни к литературе, ни к филологии в целом. Кроме школьных сочинений, а впоследствии небольших рассказов и очерков, мне, в течении прожитых лет, писать других более серьёзных творческих трудов в области литературы, не приходилось. Зато, в силу специфики прежних профессий, мною, в своё время, было написано неисчислимое множество различных по объёму и смысловому значению: обзоров, трактатов, рефератов и прочих «произведений тогдашней обязаловки», поручаемых для исполнения в «добровольно-принудительном» порядке, различного рода партийно-политическими и кадрово-воспитательными структурами тех ведомств, в которых осуществлялась моя служебно-трудовая деятельность. В зависимости от политических настроений в обществе на определённом временном этапе, этими органами, как правило, в ежеквартальном режиме, регулярно давались «общественные поручения» по подготовке вышеупомянутых «произведений». Как следствие, их тематика отражала запросы соответствующей общественно-политической системы, существовавшей на определённом этапе времени в нашей стране. Соответственно, самыми распространёнными тематиками предлагавшихся для выхода в свет данных работ, были в основном такие, как: «социалистические реализм и законность», «прогрессивность идей научного коммунизма», «неотвратимость торжества принципов западной демократии» и прочая «ахинея», без которой, как тогда считалось, невозможно полноценное выполнение сотрудниками наших ведомств, вменяемых им в обязанности, основных служебных задач. Конечно, впоследствии этот «бред» никто и никогда не читал, даже сами его «заказчики». Тем не менее, это никак не мешало им давать на данные «бестселлеры» в основном положительные отзывы и рецензии. На качество же выполнения служебных задач, данный «мартышкин труд» не влиял вовсе. Скорее наоборот, так как вся эта «бестолковщина», отнимала значительную часть и без того скудного внеслужебного времени. Тем не менее, справедливости ради следует отметить, что от той, в целом негативной «общественной принудиловки», остались и некоторые положительные плоды, в частности, для меня лично. Я научился логичнее мыслить и вести диалоги, общаться с окружающими не только на служебном, «казённом» и бытовом языках, но и в значительной степени, на литературном тоже. Вместе с этим, у меня заметно улучшилась стилистика изложения в прозе и куцльтура речи в целом. То есть, говоря простым языком, я, хотя и не в полной мере, но научился писать.
С учётом изложенного, вполне вероятно, что в свете названных причин, некоторые представители пишущей публики будут высказывать в мой адрес критические упрёки и замечания по поводу моих писательских способностей. Вынужден буду соглашаться с ними заранее. Специально всему этому, в своё время не обучался. На протяжении своей жизни, я занимался другим делом, где профессионально сумел овладеть иными, необходимыми для моей прежней деятельности навыками. В подобных случаях, к таким как я, обычно используется общеизвестное и достаточно меткое выражение — «кто на что учился».
Вместе с тем, как было упомянуто выше, с историей и географией у меня дела обстояли значительно лучше. Эти предметы я полюбил с самого детства, и такое отношение сохранил к ним на всю жизнь. Вероятно поэтому, где бы я ни был (а командировки по стране и региону у меня в своё время занимали значительную часть рабочего времени), я, помимо выполнения своих прямых служебных обязанностей, всегда находил возможность для ознакомления с историей и географией края или населённого пункта по месту пребывания. Если позволяли обстоятельства, я старался привезти оттуда какие нибудь исторические или географические нарративы* и артефакты*. При этом, многие исторические материалы, приходилось впоследствии дорабатывать самому. Всё дело в том, что к одним из названных письменных исторических документов уже имелись соответствующие переводы на русский язык, на другие они отсутствовали, и приходилось переводить самому при помощи словарных фондов волгоградских библиотек. Однако, учитывая дефицит некоторых фондовых материалов данных учреждений, и недостаток собственных навыков их использования, не исключаю наличия неточных (приблизительных) переводов ряда нарративов*, особенно с так называемых «мёртвых» языков»*. Но это никак не повлияло на мои увлечения и устремления в названном направлении в целом. Данная деятельность осуществлялась мною, как в период прохождения службы в системе органов внутренних дел, так и в период пребывания на государственной гражданской службе. По возрастному выходу на пенсию, часть из имевшихся нарративов* и артефактов*, мною были переданы в различные исторические и краеведческие музеи своего и других регионов России. Другую же часть, я пока решил сохранить и оставить себе, в целях использования в качестве необходимых материалов для написания историко-литературных произведений, к которым относится и настоящая книга. Испробовать же себя в качестве писателя, автора исторических романов, я планировал давно, делая наброски отдельных фрагментов и глав своих предполагаемых произведений, но недостаток времени не позволял заняться данным направлением литературной деятельности всерьёз. С выходом на пенсию такая возможность представилась. Идея же написания именно настоящего произведения, у меня возникла в 1986 году. На тот момент я находился в служебной командировке в Узбекистане, входившем тогда в состав нашего общего государства СССР в качестве союзной республики. Там, как и везде, я стал проявлять интерес к исторической тематике этой части Азии, и местные коллеги по службе ознакомили меня с соответствующими материалами о деятельности своего рода «оперативных сотрудников» времён империи Тимура (Тамерлана), называвшихся в те далёкие времена посланцами. В этих документах повествовалось о тимуровских «рыцарях халата, чалмы и кинжала» осуществлявших свою негласную деятельность в различных регионах мира и в частности, в столице и других населённых пунктах Улуг-Улуса («Золотой Орды»). Они внесли немалый вклад в победы своего властелина, всемирно известного средневекового полководца Тимура (Тамерлана), над этой могущественной державой средневековья. Так как на тот момент подавляющее большинство советских историков придерживались версии о расположении столицы «Золотой Орды» на месте нынешнего Царёвского городища (Ленинский район Волгоградской области), то есть недалеко от моего места жительства, у меня уже тогда возникла идея собрать соответствующий исторический материал и написать о тех событиях книгу. Однако, в последующие годы, в процессе сбора необходимых исторических нарративов* и артефактов*, я, к собственному удивлению, и возможно сожалению, обнаружил, что версия о месте расположения столицы «Золотой Орды» в границах названного Царёвского городища, противоречит многим историческим свидетельствам и географическим ландшафтам местности. К этому моменту, данный вопрос и между учёными-историками с археологами уже становился предметом дискуссий. В данной стадии он продолжает оставаться и до настоящего времени. Но к тому моменту, возникшее обстоятельство уже не смогло серьёзно влиять на моё страстное желание до конца разобраться с начатой тематикой, и мною продолжался сбор необходимых материалов из различных источников, хотя и не столь интенсивно, как ранее. Сожалею, что ослабил эту работу в так называемые, нулевые годы, иначе данная книга была бы написана гораздо раньше. В тот период, этому поспособствовала и ещё одна причина. Настоящее произведение я планировал написать последним, как завершающий этап своей творческой деятельности. Однако впоследствии, в связи с возникшими жизненными обстоятельствами, эти планы пришлось скорректировать. С этого момента, работу над данной книгой, я посчитал первостепенной из всего того, что запланировал осуществить, если получится, в оставшиеся годы, которые мне суждено ещё прожить.
Теперь о некоторых проблематических вопросах, касающихся методики написания непосредственно данного произведения.
Работая над материалами настоящей книги, мне постоянно приходилось сталкиваться с лабиринтом из разного рода сложных терминов, малопонятных обозначений, наименований и названий, а нередко и отсутствием таковых. В этом отношении средневековые Центральная Азия с Поволжьем представляют собой сплошные «минные поля». Это касается названий стран, городов, географических объектов, наименования народов, людских имён и т. д. Авторы различных изданий, писатели и учёные пользуются самыми неясными произношениями в обозначении и наименовании одних и тех же стран, населённых пунктов, объектов и героев. Так, хорошо нам известная, одна из самых крупных средневековых евразийских держав «Золотая Орда», данное наименование получила гораздо позже описываемых в книге событий, только лишь в XVI веке в России. В описываемый же мною период, она имела самоназвание «Улус Джучи» или Улуг-Улус (Улу-Улус). В средневековой Европе это государство тогда называлось «Комания» или «Тартария"*, а общее название проживавшего в нём населения было соответственно команы (куманы) или татары. Куманами их звали и в империи Тимура (Тамерлана), которая, в свою очередь, также не имела определённого названия, так как Мавераннахром именовалась лишь центральная часть этой страны. Тем не менее, авторами многих научных и художественных изданий данное название используется и в отношении всего этого государственного образования, то есть империи Тимура (Тамерлана). Сам же Тимур, в 1391 году в Карсаклайской надписи на горе Алытау, во время похода на «Золотую Орду», назвал свою страну Тураном. Одновременно, во многих странах, как Европы, так и Азии, и жителей империи Тимура также называли тем же общим наименованием — татары. Однако, это название изначально было дано Чингисханом тюркоязычной части его войска, взамен им же ранее истребленного племени степняков с аналогичным наименованием. Впоследствии этот термин распространился на многие народы Азии и Восточной Европы. В России длительное время татарами назывались все тюркоязычные народы, а также народы, исповедующие ислам. Однако впоследствии данный термин, закрепился, как этноним, лишь за волжскими булгарами и ещё незначительной частью некоторых малочисленных тюрских народов кипчакского (кыпчакского) происхождения. По этой причине, в настоящем произведении, термин и этноним «татары», мною используется не часто.
В целом, терминология тех лет в Центральной Азии слишком сложна, и придерживаясь точности многих её формулировок, можно запутывать их ещё больше. Во избежание путаницы, я в настоящей книге решил использовать термины, знакомые простому читателю, в связи с чем, унифицировал многие наименования и обозначения. Так в отношении государства «Золотая Орда» мною используется термин, просто Орда, который использовали и её современники. Жителям этого государства, я дал общее наименование — ордынцы. В качестве наименования империи Тимура (Тамерлана), я закрепил малоизвестное, но также имеющее место в её истории название — Туран, данное этому государству самим Тимуром и с его подачи одобренное на съезде степной аристократии (курултае) его страны ещё в 1370 году. За жителями этой средневековой державы, мною закреплено общее наименование — чагатайцы. Оно происходит от названия основного государственного языка империи Тимура (Тамерлана) того времени (больше известного как староузбекский, который в настоящее время является «мёртвым»*, наряду с более известным латинским), а столетием ранее, существовавшего на территории этого государства, одноимённого улуса одного из сыновей Чингисхана с похожей аббревиатурой. С этой же целью, в книге широко использована современная терминология многих достаточно известных географических названий и ряда наименований уже известных населённых пунктов. На современный лад упрощены имена ряда героев произведения. Кроме того, как я упоминал выше, во время изучения имевшихся в наличии документов описываемого периода истории, у меня нередко возникали проблемы их точного перевода. По этой причине, некоторые словосочетания, могут быть истолкованы мною не совсем верно. В связи с этим, а также повышения интереса читателей к данной тематике, в произведении достаточно часто используется терминология из кипчакского (государственный язык «Золотой Орды»), чагатайского (государственный язык империи Тимура) и некоторых других языков того времени (с соответствующими сносками, разъяснениями и переводами в конце каждого из томов). До минимума сокращена религиозная тематика и упрощена средневековая манера общения между героями. Повествование ряда вызывающих сомнение исторических фактов, которые в настоящее время являются предметом дискуссий между учёными, преподносятся мною в форме диалогов между героями. Описания событий, происходивших в городах и селениях «Золотой Орды», точные места нахождения которых к настоящему времени остаются не установленными (таких как, столица «Золотой Орды» город Сарай ал-Джедид (он же Сарай-Берке, он же Новый Сарай, он же просто Сарай), крупные ордынские города, такие как Гюлистан, Сарай аль-Махруса (он же Сарай-Бату, он же Старый Сарай, он же Иски-Сарай, он же Эски-Сарай), Бездеж и другие, и также являющиесяся предметом подобных дискуссий между учёными, производились мною без конкретных привязок к определённым географическим местам их нахождения и ландшафтам. Но, тем не менее, в описаниях вышеперечисленных золотоордынских городов, в произведении просматривается их отождествление с соответствующими современными географическими и историческими памятниками, такими например, как: Селитрёное (Харабалинский район Астраханской области), Водянское (Дубовский район Волгоградской области), Царёвское (Ленинский район Волгоградской области) и Красноярское (Красноярский район Астраханской области) городища, что сделано мною исходя из изучения и анализа имеющихся исторических, географических, археологических и криминалистичесих факторов. Однако, данное отождествление я считаю лишь своим, сугубо авторским мнением, не претендующим на «истину в последней инстанции». Мною также использован ряд других приёмов и методов облегчающих широкому кругу читателей знакомство с повествуемыми событиями того промежутка средневековой эпохи. В настоящей книге использованы персонажи легенд и народных сказаний, имеющих отношение к тому далёкому времени, средневековые названия некоторых рек, ландшафтов, транспортных маршрутов и других наименований, которые могут вызвать интерес у читателей произведения.
Часть I:
Причины посланческой миссии Тимура на север и первые шаги Тохтамыша к возрождению орды
Глава 1: Вторжение Тимура в Хорасан
Утренний рассвет начинал приходить на смену тихой прохладной ночи. Окружённый со всех сторон неприступными каменными стенами, хорасанский* город Фусандж ещё безмолвно спал. Лишь ночной караульный на бастионе главных крепостных ворот, дремая, потирал полусонные глаза. Протяжно зевнув, он неожиданно несколько раз взмотнул головой и стал вслушиваться в утреннюю тишину. Чутьё не подвело старого воина и спустя какой-то момент, караульный услышал доносивщийся со стороны дороги, ведущей к городу с северо-востока, топот конских копыт. Этот звук быстро нарастал и вскоре к месту, куда опускался перекидной мост, на резвом коне подскакал всадник. Разглядеть подъехавшиго было сложно из-за ещё не рассеявшихся утренних сумерек.
— Ты кто такой будешь? — крикнул караульный, — Назови пароль.
— Пароль мне не известен, — отозвался всадник, — Но тебе придётся срочно вызвать ко мне своего караульного амира*. Передай, что с ним хочет говорить Кара-Кончар, таваджи* Гияс ад-Дина*. У меня для него и вашего чурибаши*, да и всех вас тоже, срочное и важное известие.
О случившемся, караульный тут же сообщил своему амиру*, а тот, в свою очередь, велел приоткрыть ворота и опустить мост через ров. Далее, несмотря на то, что подъехавший всадник был в одежде самаркандского воина и не назвал караульному пароля, амир* проследовал по мосту на другую сторону рва, и обнажив свой килич*, стал приближаться к уже успевшему спешиться всаднику.
— Снимай и брось на землю оружие, — скомандовал он незнакомцу.
Тот послушно снял свой клинок и вместе с ножнами бросил к ногам амира*. Затем незнакомец посмотрел по сторонам, ещё раз окинул взглядом амира*, и поёжевшись, словно от холода, тихо произнёс:
— Из Самарканда нынче дует сильный ветер!
Амир* удивлённо посмотрел на незнакомца. Тот назвал пароль, который должны были знать лишь дозорные, посланные им вечером из крепости для наблюдения за сакмой*, связывавщей Герат с Самаркандом.
— А вот в Герате, вновь нещадная жара! — протяжно, будто нехотя, ответил амир*, что являлось установленным отзывом на данный пароль. После этого, он протянул незнакомцу руку, возвращая тому оружие.
— Торопишься амир*, — продолжил незнакомец, принимая от того назад свою саблю, — Знаешь, откуда мне известен ваш пароль?
— Пока не знаю. Но ты же, только что назвался Кара-Кончаром? Таваджи* Гияс ад-Дина? Да и лицо мне твоё откуда-то уже знакомо. Мы раньше нигде не встречались?
— Правильно! Я и есть Кара-Кончар. А мы с тобой действительно уже знакомы. Два года назад я сопровождал в ваш город своего саида* — Гияс ад-Дина*. Он тогда, кажется, вручил тебе за доблесть именной килич*. А зовут тебя Бешим, если не ошибаюсь. Не так ли?
— Ас-саляму алейкум*! Я тебя тоже вспомнил. Всё так и было. А то наградное оружие и теперь при мне. И зовут меня именно так, как ты только что сказал.
— Ва-алейкум ас-салям*! Кажется, разобрались, слава Всевыщнему! А для дальнейшего разговора, нам следовало бы найти более укромное место. Мне нужно сообщить тебе кое-что важное, и как можно скорее.
Бешим подал знак караульному, и дежурившие на главной башне дозорные пропустили обеих без лишних формальностей, закрыв за вошедшеми массивные ворота. Подойдя к караульному помещению, Кара-Кончар привязал к коновязи свою лошадь и вслед за амиром* вошёл в одно из свободных помещений этой караулки.
— Ну, теперь рассказывай, о чём ты хочешь нам поведать, — обратился к нему Бешим, присаживаясь на топчан.
— Ваш пароль я узнал накануне от вашего же дозорного, — присев напротив амира*, начал свой рассказ Кара-Кончар, — Твой аскар* назвал его под пыткой, перед самой своей смертью. А самого того дозора больше не существует, впрочем, как и других, которые вы выставили на сакме* накануне вечером.
— И куда же они делись? — удивлённо спросил Бешим.
— Этой ночью мы их просто всех вырезали, — ответил приезжий, — Спать на постах им надо было меньше!
— Как тебя понимать? — удивлённо спросил Бешим, — Ты только что сказал мы? Под словом мы, ты кого имеешь в виду?
— Мы, это таваджи* самаркандского правителя Тимура, а точнее, его самого верного амира* Сейф ад-Дина Нукуза*. Тимур, со своим войском, несколько дней назад вторгся в Хорасан*. На данный момент колонны его аскаров* движутся в направлении Фусанджа с дальнейшей целью взять Герат. Но главная цель вторжения, свергнуть Гияс ад-Дина* и полностью захватить Хорасан*, присоединив нашу страну к Мавераннахру*. Поэтому, по пути движения чагатайцев*, таваджи* Сейф ад-Дина*, в числе которых был и я, последние ночи, словно боха-дуры*, осторожно рыскали впереди самаркандского войска и уничтожали хорасанские дозоры. Это было не сложно, так как ваши дозорные на сакмах* по ночам спали, словно сурки в своих норах. Поэтому, теперь все ваши дозоры уничтожены, а не подсуетись я вовремя, воины Тимура вскоре и вас застигли бы врасплох, как это делают беркуты, с дремлющими на солнышке сурками.
— В таком случае, мне не совсем ясно? Чей же ты на самом деле таваджи*, Гияс ад-Дина, или Сейф ад-Дина? — до конца всё ещё не совсем осознав ситуацию, продолжал распрашивать приезжего Бешим.
— Получается, что и того, и другого, — ответил Кара-Кончар, — Раньше я был таваджи* Гияс ад-Дина. Но более года назад он послал меня в Самарканд, велев наняться гулямом* к амиру* Тимуру. Находясь у того на службе, я должен был тайно собирать и сообщать своему саиду* сведения о чагатайском* войске, что мною весьма успешно и делалось. А чтобы их яргу* не раскрыли моих целей, мне и Тимуру приходилось служить усердно и честно. Мои старания оказались не напрасными. Это не осталось незамеченным его самыми приближёнными амирами*. Там меня даже произвели в таваджи* его самого верного амира* Сейф ад-Дина. А до сегоднешней ночи, я даже умудрялся считаться одним из лучших жангчи* этого амира*, за что мне поручали самые ответственные задания. Одним из таких, являлось уничтожение дозоров противника чагатайцев*, по пути следования войска Тимура, во время его походных маршей.
— Получается, ты уничтожал своих же? — c явным раздражением в голосе спросил хорасанский амир* Бешим, — А теперь мне же, об этом так спокойно всё рассказываешь, и в том числе, как убивал одних из лучших моих дозорных? Да ещё делишься со мной почему-то тайной, которую кроме Гияс ад-Дина, в Хорасане дозволено знать единицам. Ты отдаёшь себе отчёт в том, что …?
— Вполне, — перебил его Кара-Кончар, — Ты же тоже входишь в эту единицу. Мне известно, что кроме того, что ты амир*, ты ещё и яширин* яргу* Гияс ад-Дина в Фусандже. Ты, как и я, был его таваджи*, но готовясь к войне, он намеренно разослал вас по всем крепостям Хорасана для присмотра за своими же ненадёжными асосий амирами* и их хаваши*.
— Ты провокатор, — стал терять самообладание Бешим, — Откуда у тебя взялись подобные хабары* о нас, таваджи Гияс ад-Дина?
— От хабаргири* Тимура, а точнее, его главного амир-ал-яргу* у которого я непосредственно служил, — попытался сгладить назревавший словестный конфликт Кара-Кончар, — А горячиться тебе амир* не стоит. Лучше дослушай меня до конца, а потом рассуди всё сам. К примеру, возмём ситуацию с твоими дозорными. Что мне оставалось делать? Я ведь снимал эти дозоры не один. Рядом со мной всегда находились другие таваджи* из хабаргири* Тимура. Если хочешь знать, то откровенно говоря, это не люди вовсе, а скорее дикое зверьё. Хабаргири*и яргу* у Тимура, набираются в основном из барласов* или урянхайцев*. Но если первые приняли ислам и стали нам единоверцами, то другие этого делать не стали. К тому же, некоторые из них позволяют себе непочтительно надругаться над нашей верой, в том числе Кораном*. Тимур же, хоть и считается правоверным, но на подобные выходки этих язычников старается не обращать внимание. Он до сих пор разрешает им, как впрочем, и другим чагатайцам*, заплетать косы, а ещё совершать некоторые обряды, недозволенные в исламе. О дикой же жестокости урянхайцев ты наверняка наслышан. Кроме этого, мне суждено было служить как раз под непосредственным началом самого амир-ал-яргу*, которым является соплеменник Тимура, и его ближайшей родственник по имени Бури, отличающийся особой жестокостью даже среди этих тимуровских извергов. В Бури вообще трудно разглядеть что-то человеческое. Это просто бешеный волк, готовый порвать любого, заподозренного в нелояльности к Амир-ал-умару*, как зовут Тимура его приближённые подданные. Однако, при отправке в Самарканд, Гияс ад-Дин* строго-настрого наказывал мне вести себя там таким образом, чтобы мой куч*, не вызывал у яргу* чагатайцев*, ни малейших подозрений в связях с Хорасаном*. Я обязан был заслужить полное доверие, в первую очередь, у наиболее приближённых к Тимуру чагатайских* амиров*, и особенно, того самого Бури. Гияс ад-Дин* считал, что представляемые мною оттуда, даже самые скудные сведения, оправдывают необходимость того, что в этих целях мне, возможно, придётся приносить в жертву, в том числе и жизни наших аскаров*. Особенно, это касалось тех случаев, если их гибель могла являться ширмой для обеспечения успеха моих действий в стане чагатайцев*.
— В таком случае, ты хоть понимаешь, что наделал? — удивлённо, но с долей внутреннего воодушевления перебил собеседника Бешим, так как сказанным, тот предоставил ему дополнительный положительный аргумент в завязавшемся нелицеприятном диалоге, — Ведь твоё оставление войска Тимура, может Хорасану* очень дорого стоить. Твои действия никак не оправдать даже принесённой сюда тобою вестью? А твоё дальнейшее пребывание в стане душмана*, особенно теперь, для нас с Гияс ад-Дином куда важнее, чем принесённые тобою известия. К Герату, например, Тимур полюбому бы не прошёл незамеченым, не захватив Фусанджа? Да и нас ему здесь врасплох не застать. Ворота в городе без надобности не открываются. А если открываются, то только днём, когда видно любого приблизившегося из тех, кому необходимо открыть. И наконец, главное! Ты в любом случае не должен был раскрывать мне подробностей своего эш якширина* в Самарканде? Самое многое, о чём ты мог мне поведать, так это кто ты. А я бы, в любом случае нашёл возможность переправить тебя в Герат. Что бы ты там делал дальше, меня не волнует. Ты видишь меня всего второй раз в жизни, и совершенно не знаешь. Если вдруг я, решив поквитаться за гибель своих воинов, сообщу о твоих своеволиях Гияс ад-Дину*, в лучшем случае ты останешся без головы, а худшего, мне даже представить сложно!
— Ты абсолютно прав. Спору нет. Но ты опять меня не дослушал до конца. Принимая это решение, я рассчитывал, и Фусандж с Гератом предупредить о начале вторжения Тимура в Хорасан*, и своевременно в его стан вернуться. Но вероятно на этот раз фортуна от меня просто отвернулась окончательно, и я сам того не желая, отрезал себе путь к возвращению назад.
— И чего же ты опасаешься? — с едва заметной иронией спросил Бешим, — Что долго находился в отлучке? Так мало ли может быть обстоятельств? Нарвался, например, ещё на один дозор хорасанцев, или ещё что либо. Давай вместе подумаем, как вернуть тебя чагатайцам*. Ты и так вон нас без дозоров оставил. Значит пожертвуем и ещё десятком своих аскаров*, чтобы обеспечить твоё «достойное» возвращение, которое не вызывало бы подозрений у чагатайцев*?
— Рад бы что-то сделать, но боюсь, что мне уже ничего не поможет. Я до конца пока не рассказал тебе всего того, что произошло дальше, — продолжил Кара-Кончар, — Есть ещё одно, сквернейшее обстоятельство, закрываюшее мне обратную дорогу к Тимуру.
— Тогда дорасскажи до конца, что тебе так мешает? — опять не терпелось вклиниться в изъяснение, придирчивому Бешиму, — Я слушаю тебя внимательно.
— Мешает мне следующее, — продолжил Кара-Кончар, — Перед самым выступлением в поход на Хорасан*, у меня произошла ссора с одним из таваджи* Бури, урянхайцем* по имени Тохуджар. Этот таваджи* был любимчиком Бури наравне со мной, хотя и не являлся нам единоверцем. В тот день он безпричинно обозвал нас, мусульман, каками*. Урянхайцы*, как я те6е говорил, часто позволяют себе высказывать в отношении не только мусульман, но и других иноверцев, такие мерзости, от которых становится не по себе даже барласам*, соплеменникам Тимура и Бури. Я, в присутствии Бури, потребовал от Тохуджара извинения, за что получил от него ещё одно оскорбление. Теперь он обозвал меня ахмок* куйкором* и нагло улыбаясь, предложил поблеять, словно куй*. Тут и я не сдержался, обозвав его в ответ паршивым чиябури*. Видевшего всё Бури, наша ссора подзадорила, но вместо того, чтобы разобраться по справедливости, он предложил нам выяснить отношения смертоносным поединком на киличах*. Мы оба согласились. Я знал, что Тохуджар сильнее и быстрее меня. У него красивые прыжки по валунам с камня на камень, как у горного така*. Но и я перед ним не такой уж «безоружный». Я лучше любого таваджи* Сейф ад-Дина владею приёмами защиты и нападения с клинковым оружием в руках. Это искусство не раз приносило мне победы в боях и спасало жизнь. Зная об этом, некоторые мои сослуживцы, среди которых были и барласы, перед боем попросили меня сразу не убивать Тохуджара, а вначале измотать, сделав тот поединок подольше и поинтереснее, и лишь потом прикончить его. Я согласился, и через некоторое время Тохуджар уже еле стоял на ногах. Он обессилено и неуклюже бросался на меня, но я без труда выбивал у него из рук оругие и ногой толкал под орку*, после чего тот просто падал носом в зумлю. Окружившие от души хохотали от этого зрелища, в том числе, и сам Бури, и таваджи* урянхайцы*. Однако, Бури поединка не останавливал, хотя мне казалось, что он вот-вот сделает это. Но тут непонятно откуда появился сам Сейф ад-Дин и потребовал остановить «представление». Бури стал уверять его, что поединок заслуженный и проходил честно, поэтому он должен обязательно иметь завершение. Видать, выходки Тохуджара надоели и Бури. Тогда Сейф ад-Дин сказал, что поединок обязательно будет завершён, но только после взятия Герата, если мы оба с Тохуджаром останемся к тому моменту живы. Он также велел Бури включить меня с Тохуджаром в один караул* боха-дуров*, и в качестве манкылы*, послать впереди войска чагатайцев* уничтожать дозоры хорасанцев, что мы и делали до этой ночи. Шансов победить меня, у Тохуджара не было никаких. Но человек он из тех, у которых не может быть, ни чести, ни совести. Поэтому, я все эти дни ждал от него разного рода подлости, хотя и действовали мы с ним на редкость слаженно и разумно. Но развязка должна была наступить не то, что до Герата, до Фусанджа, и она наступила так, как я не мог и предполагать.
Кара-Кончар замолчал и мутными глазами уставился в пол.
— Договаривай быстрее, у нас мало времени, — прервал молчание Бешим и легонько толкнул того ногой.
— Да! Да! Конечно, — как бы снова очнувшись, продолжил Кара-Кончар, — Когда я обдумывал план действий на сегоднешнюю ночь, то рассчитывал и вас предупредить, и с Тохуджаром разделаться, и к Тимуру вовремя вернуться, свалив возможную задержку после вашего посещения именно на урянхайца. Я хотел представить дело так, будто напал он на меня подло и неожиданно, в связи с чем, между нами и состоялся незавершённый в Самарканде поединок. Тогда бы я точно не вызвал серьёзных подозрений у чагатайцев*. Но, как я говорил, фортуна от меня на этот раз отвернулась. Как всегда, последний ваш дозор мы вырезали вчетвером. Когда всё закончили, я решил, что это самый подходящий момент отлучки в Фусандж. Мне осталось лишь отправить на тот свет тех самых таваджи*, что были со мной. Тогда и Тохутжар бы мне больше не мешал, и я бы спокойно сделал все свои дела. При возвращении от вас, я бы соврал Бури, что во время выполнения задания, мы нарвались на усиленный дозор хорасанцев, в стычке с которым погибли двое моих спутников, а Тохуджар мол, воспользовавшись моментом, пытался свести со мной счёты. В данной ситуации, Бури безусловно бы мне поверил. В совершенстве владея киличом*, я покончил с двумя таваджи* сразу, но с Тохуджаром оплошал. Я ему объявил, что хочу закончить с ним начатый поединок здесь же, заодно поквитавшись с ним за пролитую кровь моих братьев хорасанцев, а также оскорблёных ранее мусульман и главное, своего рода, осквернение масхари шерифа*. Я это ему сказал, будучи абсолютно уверенным, что бой между нами пройдёт честно. В тот момент я надеялся на то, что волею Всевыщнего обязательно одержу над ним заслужинную победу. Тохуджар вызов хоть и с неохотой, но принял, и поединок между нами начался. Но здесь, мой противник старался со мною не драться, а постоянно убегал от меня, прыгая с камня на камень. Хоть я его и ранил, но тот сумел от меня убежать как последний трус, нарушив все правила честных и достойных поединков при выяснении споров, которые негласно всегда соблюдались в войске Тимура. Теперь он наверняка уже успел сообщить о случившемся не только Бури, но и самому Сейф ад-Дину.
— Нарушил неписаные законы не Тохуджар, а ты, — вновь перебил его рассказ Бешим, — Потому-то, от тебя здесь и отвернулся сам Всевышний. Разве боха-дуры должны вести войну по каким-то «мифическим» правилам, выдуманным неизвестно кем? Ты не простой аскар*, а таваджи* самого Гияс ад-Дина. Мало того, ты ведь боха-дур* в первую очередь именно его хабаргири*, и уж потом Тимура. Во время войны, боха-дуры* не должны придерживаться никаких правил или законов. Для боха-дура* на войне один единственный закон, любыми путями и средствами, не считаясь ни с чем, и не щадя ни своей, ни чужой жизни, выполнить повеление своего амира*. К чему ты затеял это лжеблагородство с душманом*?
— Но я хотел показать неверному, что мусульманский воин, это воин чести, чему меня когда-то учил мой отец, — как мог, оправдывался перед Бешимом Кара-Кончар, — Я хотел по справедливости закончить честно начатый нами поединок. Я считал, что Всевыщний обязательно знает и наблюдает за нашим поединком, чтобы он закончился честно и достойно.
— И закончил …! — заключил Бешим, — Тем самым подставив под удар душмана* сразу всех, и нас, и Гияс ад-Дина, и в целом весь Хорасан. Знаешь кто ты после этого? Ты последний юлэр*, хуже любого хыянэтче* или айгокчи*. Ты заслуживаешь самой лютой казни!
— Вот и казните меня прямо здесь и теперь, только очень прошу тебя, выполни мою последнюю просьбу, — попросил Кара-Кончар, — Я думаю, что заслужил её хотя бы прежней безупречной службой?
— Ладно, говори какую? — брезгливо посмотрел на своего собеседника Бешим.
— В Фусандже, у своей родни, на данный момент гостят моя жена с маленьким сыном. Я хочу переправить их в Герат. Городские стены там выше и крепче ваших, да и защитников крепости больше. Хоть за семью мне будет спокойнее. Вы ведь не станете вымещать зло на ни в чём не повинных женщине с ребёнком? А меня потом можете предать самой лютой смерти, какой я заслужил перед вами и Всевышним.
— Ты такой же таваджи* Гияс ад-Дина, как и я, и казнить тебя может только наш с тобой саид*, то есть Гияс ад-Дин, — немного успокоившись, продолжил Бешим, — Пусть он и сделает с тобой всё, что посчитает нужным. Собирай семью. А в Герат поедешь вместе с ними сам. Раз ты себя чересчур считаеш воином чести, то по дороге не сбежишь. Да и куда тебе теперь бежать? Для нас, ты безмозглый юлэр*, достойный смерти, а для Тимура, айгокчи* и хыянэтче*. Так что выбор у тебя невелик. Когда, по твоему, Тимур подойдёт к Фусанджу?
— По моим расчётам, — призадумался Кара-Кончар, — Тимур у стен Фусанджа будет не раньше вечера. Думаю, что в течении дня можно успеть всё здесь поделать, собраться и уехать. Ты абсолютно прав, что за самовольное оставление стана* Тимура, Гияс ад-Дин меня не простит и обязательно казнит. В этом деле, мне никакие оправдания не помогут. Я не должен был этого делать даже ценой гибели Фусанджа со всеми вами здесь живущими, в том числе своей семьи. Получается, что я и из-за них смалодушничал. Теперь все начнут говорить, что я сбежал от Тимура ради спасения жены с сыном. Чтож, может и в этом был свой смысл. Но для Хорасана я хыянэтче* никогда не был. Юлэром* и ахмоком*, да. Именно из-за этого, я и допустил непростительное легкомыслие, надеясь лишь на преславутое, «а вдруг повезёт». Плохой с меня тагнуул* вышел, вот и поступил я так, как поступил. Не рассчитал всё до конца. А кроме всего прочего, я в первую очередь думал как одновременно и боевую задачу выполнить, и спасти собственную семью, что не всегда совместимо. Не просчитав всё до конца, я в первую очередь бросился сюда предупреждать вас об опасности и одновременно спасать собственную семью от неминуемой гибели. Что из этого теперь получиться, известно лишь Всевыщнему. Своей же собственной смерти я никогда не боялся и не боюсь. Я ведь воин, хотя настоящим до конца, похоже, так и не стал. Пусть мой саид* Гияс ад-Дин предаст меня любой казни. Его ведь понять не сложно. Возможно, что эта война с Тимуром затянется надолго. А как воевать с таким душманом* как Тимур без «глаз и ушей» в его стане*? Ведь теперь не только в их стане*, во и всём чагатайском* войске, нашех тагнуулов* просто нет. Зато у Тимура, во всех гарнизонах Хорасана, этих «глаз с ушами» в избытке. Чагатайцы* абсолютно всё о нас знают. Я в этом сам убедился, находясь рядом с Бури, но так и не смог разузнать что либо, хоть об одном из таких. Кстати, у вас в Фусандже, также имеются немало айгокчи*. Имейте это в виду. Тебе же я всё о себе рассказал лишь только потому, что если вдруг погибну не добравшись до Герата, то ты, если выживешь, станешь единственным человеком, способным донести до Гияс ад-Дина истинную правду о случившемся. А это уже многого стоит.
— Ладно, расплакался, — опять вмешался Бешим, — Думаешь, я с тобой плакать начну? Не дождёшься! А вот насчёт того, чтобы о твоих «подвигах» рассказать Гияс ад-Дину, можешь не сомневаться. И всё же, может стоит тебе ещё раз подумать и попробовать поискать хоть какую-то возможность вернуться к Тимуру? Совершенно очевидно, что без твоего там присутствия, Гияс ад-Дин, как и все мы, останемся без «глаз и ушей» в стане нашего главного врага, да ещё в самый критический момент войны с ним. А за жену с ребёнком тебе волноваться не придётся. В Герат мы их отправим немедленно сами, заодно и чопара* с известием ждать Тимура туда пошлём. Пойду, распоряжусь готовить к отъезду всё необходимое.
— Я уже не раз обдумывал, — обречённо посмотрел на него Кара-Кончар, — Ничего не выйдет. Я с яргу* Тимура почти год нёс куч* и прекрасно знаю, как они умеют работать. Пусть лучше самая лютая смерть от Гияс ад-Дина, чем медленно умирать прикованным к столбу, и под насмешки с издевательствами, урянхайцев*.
— Ну что же, — посочувствовал «неудачнику» караульный амир*, — Всевыщний тебе судья! А за сообщение рахмат*. Иди пока в город, ищи свою семью, да собирайтесь в дорогу. Не забудь переодеться в нашу одежду, иначе свои же дозорные на сакме* подстрелят как дичь, приняв за чагатайца*.
Закончив разговор, Кара-Кончар вышел из караульного помещения, отвязал поводья своей лошади, и лихо запрыгнув в седло, ускакал на ней в город, искать свою семью.
О прибытии Кара-Кончара и движении войск Тимура, Бешим немедленно уведомил чурибаши* Фусанджа. Тот, в свою очередь, велел срочно разыскать прибывшего из стана врага лазутчика. Того немедленно разыскали и Кара-Кончару пришлось вторично, подробно поведать уже ему всё то, что он знал о приближающемся к городу войске Тимура. Чурибаши* интересовал количественный состав войска, вооружение его воинов, наличие и количество в войске манджаников*, матарисов* и других даб-бабатов*, а также, их технические возможности. Он интересовался у прибывшего перебезчика воинскими качествами и способностями каждого в отдельности чагатайского* амира*. Таким образом, в связи с этим докладом, Кара-Кончару пришлось надолго отложить намечавшиеся приготовления к отъезду в Герат, и приступить к ним лишь ближе к обеду.
Получив сообщение Кара-Кончара о скором приближении неприятельского войска, военный гарнизон крепости был срочно поднят по тревоге. Следом за этим, о приближении врага к городу, были немедленно оповещены другие слои населения Фусанджа. Город начал готовиться к обороне. В Герат незамедлительно направили гонца с сообщением о передвижении войск Тимура и мерах по отражению его нападения на крепость Фусандж. Учитывая важность сообщения, чурибаши* счёл необходимым, в качестве гонца, направить в Герат самого Бешима, уговорив того, сделать это самому лично.
Однако в целом, известие о приближении к городу чагатайского* войска, для жителей Фусанджа не являлось полной неожиданностью. О возможной войне Хорасана* с его северным соседом Мавераннахром*, горожане и воины гарнизона предупреждались не раз, заблаговременно наведывавшимися из Герата амирами*, нойонами* и прочими иренами* Гияс ад-Дина. Поэтому фусанджцы заранее начали усиленно готовить свой город к возможной осаде, укрепляя его стены, запасая провиант, оружие и всё, что могло пригодиться при отражении нападения неприятеля. Но среди горожан находились и те, кто считал, что войны с Тимуром удастся избежать. Мол, главный амир* Самарканда никогда не воевал за пределами своей страны, поэтому опыта и навыков ведения подобных военных действий не имеет. Фусанджцам также было известно, что ранее Тимур сам верно служил наёмником у хорасанских правителей, а потому, пойти на них войной просто не посмеет. Однако, по продолжавшим поступать из Самарканда слухам и вестям от торгового и прочего странствующего люда, о приготовлении к войне чагатайцев*, в городе всё яснее осознавали, что сбывались наихудшие опасения фусанджцев. Сначала среди горожан поползли слухи, что война уже началась, а сегодня оказывается, ещё и какой-то гонец привёз весть о том, что враг к вечеру наступившего дня может подойти к их любимому Фусанджу. Но никто не предполагал, что случится это даже раньше, чем амирам* городского гарнизона предсказал тот самый гонец, который в недавнем прошлом являвшийся таваджи* правителя их страны. Теперь уже, амирам* фусанджского гарнизона стало известно и имя данного гонца. Это был, в прошлом таваджи* хорасанского правителя Гияс ад-Дина, Кара-Кончар.
Глава 2: Первые шаги Тохтамыша на ордынском троне
Став при помощи Тимура ордынским каганом*, Тохтамыш в первую очередь покончил с мятежным беклярибеком* и самозванцем Мамаем, а затем в течении года разбирался в делах, доставшейся ему страны. А наследство этому царю*, досталось незавидное. До него в Орде* два десятилетия продолжалась межусобица. За это время в ней сменилось восемнадцать правителей. Они менялись с такой быстротой, что весть о восшествии на престол очередного хана*, ещё не успев достигнуть многих, даже самых основных и крупных территорий и городов этого, чересчур обширного государства, становилась неактуальной, так как на его месте уже оказывался другой правитель. Но и тот, не успев даже как следует обосноваться на троне, вскоре становился жертвой очередного покушения. На место же свергнутого, вновь приходил следующий претендент. В результате этого, некогда процветавшая страна была поставлена на грань нищеты. К ней добавились эпидемии, буквально выкосившие население многих ордынских городов. Удельные местечковые улусы* перестали платить ясак* и выход* в центральную казну, а некоторые, даже стали считать себя независимыми от сарайского царя*. Но могло ли быть подругому? В Орде* доходило до того, что пять самых влиятельных ордынских улусбеков*, имели по тридцать тысяч регулярного войска, остальные от пяти до десяти тысяч, в то время как верховный правитель Орды*, вообще не имел своих собственных войск, которые ему были бы подчинены напрямую. Города обветшали, а некоторые из них, в прямом смысле лежали в руинах. Это касалось, даже столичных городов, и некоторых ранее процветавших улусов*. А ведь находились они, не где-то на окраинах, по соседству с враждебными странами, а почти в самом центре Орды*. Ещё как-то можно было объяснить то обстоятельство, что в руинах лежал город Казар*. Он являлся столицей улуса «Улаан-Суйрэл»*, или как его теперь называли, «Червлёный Яр»*. На землях этого улуса, в основном, расселялись отслужившие своё и вышедшие в отставку воины ордынского войска, в основном не кыпчакского (не татарского) происхождения. Их ряды пополнялись воинами из среды любых народов, получившим во время нахождения на службе, несовместимые с её дальнейшим несением, увечья и ранения. А звались эти «отставники» казмаками*, и жили они в поселениях, также звавшихся на военный лад — станицами. Казмаки* никому не желали подчиняться, кроме своих выборных ат-оманов*, и то весьма условно. Занимались же эти люди, в основном нехитрыми промыслами, грабежами и воровством. Казмаки* много пили, по большей части корчму*, в которую перегоняли остатки всякого рода, испортившихся продуктов, а напившись этого пойла, просто зверели. В «Червлёном Яре»* казмаки* принимали и укрывали беглых людей из различных земель, особенно из тех улусов*, где проживали урусы*. В общем, как сообщили Тохтамышу его советники, царили в том улусе* беспредельная анархия и почти полное безвластие. Однако в бога казмаки* верили и дома для него божьи строили. Исповедовали же они назранскую* веру, которую заимствовали у урусов*. Назранской* верой казмаки* называли православие, или по ордынски ишонч*. Дело в том, что большинство из них были степняками, но далеко не все исламского вероисповедования. Среди них было много многобожников* и даже мушриков*. Вот и переходили они в ишонч* сразу же, как только становились казмаками*. Но почему они звали свою веру назранской*, казмаки* не знали и сами. Нередко ордынские правители договаривались с ат-оманами и привлекали казмаков* для участия в военных походах в качестве вспомогательных войск и лёгкой иррегулярной* конницы. Они выполняли у ордынцев* всю «грязную» работу по «зачистке» территории в тылах противника, за что ордынские правители снисходительно прощали казмакам*, многие творимые ими безобразия. Потому, в Орде* всегда считалось, что стольный город улуса* казмаков*, которым являлся Казар*, не мог быть образцом чистоты и порядка по определению. Другое дело, что аналогичное зрелище представляла из себя к примеру, столица улуса «Сартака»* город Укек*, некогда одно из самых красивейших ордынских поселений. После череды междуусобных войн и пронёсшейся над центральными улусами страны страшной эпидемией, этот город теперь находился почти в полном запустении и лежал в руинах. Впрочем, у него не было даже единого названия. Среди большинства жителей ордынской столицы Сарая*, он упоминался как Укек*, но большинство проживавших в нём горожан, предпочитали называть свой город Увеком*. Даже в различных важных документах, поступавших в ставку правителей Орды*, он назывался поразному. В одних Укек*, в других Увек*. Не в лучшем положении находился и второй по величине и значению город того же улуса — Бельджамен*. Он располагался на правом берегу Итиль*, в месте её наименьшего сближения с рекой Тан*, которые несли свои воды в разные моря. А потому в том месте, существовала переволока. В благополучные времена правления Узбека и Джанибека, через Орду* проходила одна из ветвей Великого шёлкового пути*. Один из её маршрутов проходил по этим рекам. По одной из них купцы на судах добирались до переволоки, перегружали товар на вьючных животных и везли его к другой реке, где грузили на другие суда, а затем следовали дальше. Некоторые же купцы, из одной реки в другую, перетаскивали суда по суше, подкладывая под них брёвна. В Бельджамене* были оборудованы причалы для судов, отстроены караван-сараи* для купцов и перевозимого ими товара, тораки* для сборщиков тамги*. В своё время Узбек и Джанибек сделали всё возможное, чтобы северная ветвь Великого шёлкового пути*, проходившая по степным просторам необъятной Орды*, процветала. Она была более комфортной и безопасной для торговцев, по сравнению с южной, пролегавшей в основном по гористой местности нестабильных стран Центральной Азии, бывших когда-то единым чагатайским улусом*. В лучшие времена, собранная с купцов тамга* только в одном Бельджамене*, давала в казну ордынских правителей больше барыша*, нежели весь выход*, получаемый ими от всех покорённых народов. Узнав обо всём этом, Тохтамыш повелел немедленно восстановить всё, что относилось к этой ветви шёлкового пути, и в первую очередь город Бельджамен*, перенеся сюда временно, столицу улуса* «Сартака»*, вместо Увека* (Укека*).
Беспокоило Тохтамыша и отсутствие единого наименования его страны. Прибывавшие к нему иноземные послы и представлявшие различные верительные грамоты, как только эту страну не называли: Татария, Тартария, Комания, Кумания, Кыпчакское царство, Дешт-и-Кыпчак, Джучиев Улус, Белая Орда (будто Синяя являлась отдельным государством) и так далее. Дошло до того, что в грамоте одного из послов Орда* называлась Узбекским улусом. Подобное отождествление особенно не понравилось новому ордынскому владыке. После этого Тохтамыш повелел, что впредь его страна во всех официальных ярлыках*, пайцзах*, верительных грамотах и прочих документах, будет называться одинаково — Улуг-Улусом* (Великим Улусом).
Мощь и процветание любой страны, в первую очередь, зависит от состояния её казны (финансовых возможностей). На момент прихода к власти Тохтамыша, в этом направлении в Орде* царила полная вакханалия*. За годы смуты государственная казна опустела. Местечковые улусбеки* и вали*, которыми в большинстве случаев были огланы*, не только перестали платить налоги (по ордынски, ясак* и выход*) в центральную казну, но стали считать уклонение от их уплаты своего рода показателем собственной значимости и величия. Попытки ордынских царей* навести в этой и других сферах порядок, заканчивались для тех очередным заговором и свержением, сопряжёными, как правило, либо с убийством, либи с отравлением этих правителей. Любой местечковый владыка, правивший отдельным «удельным» улусом* огромной Орды*, являлся, как правило огланом*. С тех пор, как на сарайском троне прервалась ветвь джучитов*, каждый из огланов* считал себя равным в правах с занявшим этот трон правителем, и в полной мере не считал нужным тому повиновавться. Особенно наглядно это стало проявляться, когда на сарайский трон стали претендовать и садиться представители Синей Орды*, к числу которых принадлежал и Тохтамыш*. В Орде его хоть и признали царём*, но такой властью, которую имел над своими мирзо*, амирами* и диванами* амир* Тимур, Тохтамыш располагать не мог. Ордынскими огланами*, он больше воспринимался как равный среди равных, которому волей Всевышнего и случая, достался трон, нежели как старшего над равными. Поэтому, хотя Тохтамыш, подобно Тимуру, и был «свирепого нрава», но в силу сложившихся обстоятельств, вынужден был с местечковыми ханами в большей степени договариваться, нежели безоговсорочно теми повелевать. Да что говорить об огланах*, если даже некоторые улусы*, находившиеся в вассальной* зависимости от Орды* но управляемые меликами* из местной знати, перестали платить выход*! С создавшимся положением Тохтамыш тем более больше мириться не мог, но и бросить вызов сразу всем своим местечковым вассалам*, тоже не имел возможности. Объединившись, те могли его смести также легко, как делали это ранее с его предшественниками. Оценив обстановку, Тохтамыш решил сполна употребить свою власть и силу, сначала в отношени одного из зарвавшихся местечковых правителей. В этом случае, ему целесаообразнее было начать с правителя не огланского* происхождения. По совету своих хаваши*, он решил остановиться на Московском нойоне*, мелике* Адаме, как в Орде* звали Дмитрия Донского. В прошедшем году, этот мелик*, во главе объединённых войск урусов*, смог разгромить темника* Мамая, претендовавшего на царский трон в Орде*. Но по закону степи, последний не имел на это права, так как не являлся чингизидом*. Поэтому, та победа, была несомненной заслугой Адама Москвалика*, как его ещё называло ближайшее окружение Тохтамыша. Но впоследствии, присягнув Тохтамышу, тот не посчитал нужным своевременно заплатить выход* Орде*. Дурной пример заразителен, решил по этому случаю Тохтамыш, и ему могут последовать другие такие же улусы*, населённые урусами*. А если урусы* перестанут платить выход*, то что тогда спрашивать с тех улусов*, где правят огланы*? Кроме того, после победы над Мамаем, урусы*, особенно московские, воспряли духом и теперь слишком высокоменно ведут себя по отношению к ордынцам*. Так Дмитрий Донской стал главной мишенью ордынского царя* Тохтамыша. Его следовало показательно проучить не столько за задержку выплаты дани, сколько для устрашения других местечковых правителей, показав тем для начала, кто в Орде* настоящий владыка. Потом, можно будет поочерёдно начинать разбираться и с другими, в том числе огланами*, если те вовремя не поймут, что от них хочет верховный правитель Орды*.
Тохтамыш решил направить посла к Московскому нойону* Адаму Москвалику* и вызвать его в Сарай ал-Джедид*, чтобы потребовать от того повиновения и выплаты дани. Вначале он хотел поручить эту миссию своему эмиру* Карач-Мурзе, но порызмыслив, раздумал, так как тот должен был в пути следования через земли урусов*, нагнать страху на слишком осмелевший после Куликовской битвы русский народ. Представителей этого народа, Карач-Мурза должен был беспощадно карать за малейшее проявление непочтительности к ордынцам. Приехав же в Москву, он должен был разговаривать с Адамом Москваликом* так, как говорили с нойонами* урусов* послы Бату-хана. Однако Карач-Мурза не годился для этой миссии, как по своему характеру, так и по дружественному отношению к урусам*, и непосредственно к нойону* Адаму Москвалику*. Этого отношения он от Тохтамыша даже никогда не скрывал. В Москву решено было отправить другого эмира*, Ак-Ходжу (Ак-Хозю) *. Этот человек, как казалось ордынскому царю*, для той цели был вполне подходящий. Для большей внушительности, Тохтамыш направил вместе с ним ещё несколько ордынских вельмож и кошун* отборных нукеров*, численностью в семьсот человек. До прибытия в Москву, Ак-Ходжа* должен был попутно посетить Рязанского и Нижегородского нойонов*, владения которых граничили с Ордой* и под угрозой опустошения их улусов*, потребовать от тех безоговорочного подчинения Великому ордынскому царю*, даже в случае его войны с Московским нойоном* Адамом Москваликом*.
Глава 3: Взятие Тимуром Фусанджа и цена этой победы
После получения вестей от Кара-Кончара, в хорасанском городе Фусандже с ещё большими усилиями продолжили вести приготовления к отражению нападения врага, появления которого у этой крепости, согласно распространённым среди горожан сообщениям, фусанджцы ожидали как минимум к вечеру. Но уже к полудню, за городскими стенами Фусанджа, неожиданно послышались протяжные звуки сурнаев* и нагар*, дополняемые глухими ударами дум-думбаков* и тамбура*. Это с северо-востока, по Самаркандской сакме*, к названному городу подступило многочисленное войско правителя Мавераннахра*, амира* Тимура*. Оно быстро осадило Фусандж со всех сторон, начав подготовку к его штурму.
Данный город, с момента его основания, играл ключевую роль во всех войнах. Он являлся крепостью, прикрывававшей подходы к крупнейшему городу средневекового Востока — Герату. А этот город, в те годы, наряду с Мервом, Балхом и Нишапуром, являлся одной из четырёх столиц Хорасана*. Вместе с тем, Герат располагался на одном из крупнейших азиатских торговых маршрутов, называвшемся Великим шёлковым путём*, и был одним из самых древних, культурных и богатых центров Востока. С момента своего появления, этот город постоянно привлекал к себе внимание завоевателей. На момент вторжения Тимура, Гератом правил Малик Гияс ад-Дин Пир-Али (Гияс ад-Дин) *, являвшейся главой династии Картов, управлявших городом и значительной частью Хорасана в качестве монгольских вассалов* ещё с середины XIII века. Представители названной династии были покровителями литературы и искусств, ревностными строителями мечетей, медресе* и других прекрасных общественных зданий. Именно Картам принадлежала заслуга в возрождении процветающего города среди руин, оставшихся после монгольского нашествия полчишь Чингисхана.
Теперь же этот город решил захватить и присоединить к своим владениям Тимур. Это был его первый поход за пределы Мавераннахра*, с момента приобретения власти над данной страной. От успеха этого похода во многом зависело то, как вдальнейшем поведёт себя названный завоеватель и насколько масштабными окажутся его амбиции.
Прежде чем собрать войско и выступить в поход на Хорасан, Тимур направил послание Гияс ад-Дину, в котором содержалось требование, прибыть тому на курултай* в Самарканд, столицу Мавераннахра*. Подобное послание было формальным указанием на то, что отныне династия Картов считается вассалами* Тимура и являлось уловкой перед началом уже готовившегося вторжения. Ильчи* Тимура также сообщил Гияс ад-Дину, что тот спокойно может ехать в Самарканд, взяв с собой лишь почётный экскорт.
Получив это послание, Гияс ад-Дин был вне себя, ведь ещё в недавнем прошлом Тимур был бродягой-наёмником, в качестве которого поступил на службу к отцу Гияс ад-Дина — Малик Муиз ад-Дин Хусейну. Когда же тот умер, Гияс ад-Дин продолжил поддерживать тёплые отношения с Тимуром и даже женил своего старшего сына на племяннице последнего. Теперь же человек, который несколько лет назад был слугой его отца, требовал от Гияс ад-Дина признать его своим повелителем. С этим Гияс ад-Дин согласиться не мог и война между ним и Тимуром стала неизбежной.
Готовясь к войне с Тимуром, Гияс ад-Дин сумел внедрить в ряды его ближайшего окружения своего лазутчика. Им был таваджи* правителя Герата по имени Кара-Кончар, который за усердия, проявленные на своей новой службе, был замечен одним из самых верных амиров* правителя Мавераннахра* Сейф ад-Дином Нукузом (Сейф ад-Дином) * и вскоре стал таваджи* последнего. Под началом Сейф ад-Дина служил также и соплеменник Тимура, из племени Барлас*, по имени Бури, в непосредственном подчинении которого, оказался и тот самый таваджи* хорасанского правителя, Кара-Кончар.
Накануне начала выступления чагатайского* войска в поход на Хорасан, Тимуром были приняты превентивные меры по нейтрализации сетей лазутчиков Гияс ад-Дина в Мавераннахре*. Тимуровские яргу* и таваджи*, хватали и помещали в зинданы* всех подозрительных, проживавших в Мавераннахре*, но имевших хоть какое-то отношение к Хорасану* граждан. Подавляющее большинство из задерживаемых, вообще никакого отношения к шпионажу никогда не имело, но соответствующим пыткам эти люди часто подвергались чагатайцами* просто так, на всякий случай. Меры то были превентивные, и как считали яргу*, лучше пусть от их чрезмерных перегибов пострадает сотня-другая невиновных, чем останется в рядах чагатайского войска, а хуже того, в стане* самого правителя Мавераннахра* или его ближайшего окружения, хоть один неразоблачённый лазутчик. Кое-какие результаты это всё же дало, и яргу* поймали с десяток имевших отношение к шпионским делам граждан. Но, ни один из задержанных не был вхожим, ни в стан* Тимура, ни в хаваши* его ближайшего окружения. Особенно тщательным проверкам подвергалось чагатайское* войско, от амиров* до простых воинов. Однако, в ходе этих проверок, Кара-Кончар не вызвал каких либо подозрений у яргу* самаркандского правителя, так как служил под непосредственным началом того самого, соплеменника Тимура, Бури, пользовавшегося у своего высокого покровителя абсолютным доверием. В связи с этим, Бури также входил в состав яргу*, участвовавших в данных антишпионских мероприятиях, а Кара-Кончар, в свою очередь, пользуясь его непререкаемым доверием, рьяно помогал своему «новому саиду»* в ведении следствия. Находясь в сложившейся ситуации также в роли яргу*, не мог же он разоблачать самого себя? Так, волею случая, Гияс ад-Дину удалось сохранить «глаза и уши» в стане* своего главного противника. Но они, у правителя Герата, там оставались лишь единственными. Вдобавок ко всему, в ходе принятых Тимуром мер, в руках чагатайцев* оказались все люди, направленные Гияс ад-Дином для установления связи с Кара-Кончаром и передачи от него сведений в Герат. Но на счастье Кара-Кончара, связь этих людей с лазутчиком Гияс ад-Дина осуществлялась лишь путём использования тайников. Самого Кара-Кончара связные никогда в лицо не видели и никакими сведениями о нём не располагали. По этой причине, они не выдали Кара-Кончара даже под самыми страшными и очень изощрёнными пытками, которые, к тому же, тот сам к ним и применял, преследуя при этом сразу две цели. Первая — как можно быстрее избавиться от теперь уже не нужных ему связных, а вторая — дополнительно выслужиться перед подозревавшим «всех и вся» Бури, и таким образом ещё раз укрепить в его глазах доверие к себе.
Внедряя Кара-Кончара в хаваши* ближайшего окружения Тимура, Гияс ад-Дин строго-настрого запретил тому покидать ставку правителя Маверапннахра* без своего на то позволения. Запрет распространялся и на те случаи, если у лазутчика не останется иной возможности передать в Герат самые срочные и очень важные донесения, даже если они окажутся единственными, способнами спасти от захвата или разгрома, какойлибо хорасанский город или крепость, а также на ситуации, при которых самому внедрённому будет грозить непосредственная смертельная опасность.
Прежде чем начать вторжение в Хорасан, Тимуром и его амирами были организованы и проведены ещё ряд подготовительных мероприятий. Уже упомянутый амир* Сейф ад-Дин, отправленный Тимуром для сопровождения Гияс ад-Дина в Мавераннахр*, обнаружил, что правитель Герата усиленно укрепляет городские стены и готовится защищать свою столицу. Стало ясно, что Гияс ад-Дин не собирается ехать в Самарканд и добровольно отдавать свои владения Тимуру. Когда об этом узнал правитель Мавераннахра*, он окончательно принял решение о вторжении. Тимур собрал своё войско и двинул его к Герату.
Город Фусандж оказывался первым на пути следования войск Тимура. Поэтому, гарнизон данного города Гияс ад-Дином был заранее значительно увеличен и укреплён, чтобы прикрыть подходы к Герату.
Подойдя к Фусанджу, войска Тимура окружили этот город и начали готовиться к его штурму. Длительная осада данной крепости не входила в планы завоевателя и его амиров*, так как основной их целью был Герат. Тимур не хотел долго задерживаться возле этой небольшой, и на его взгляд второстепенной крепостёнки. Защитникам города было предложено сдаться без боя, но амиры* Гияс ад-Дина на это ответили отказом. После их отказа, единственной возможностью овладеть городом, оставалось лишь взять его штурмом. Сделать же это было непросто. Каменные стены города хоть и были ниже и тоньше чем в Герате, но при умелой организации обороны могли достаточно долго сдерживать натиски осаждаюших, о чём не мог не знать Тимур и его амиры*.
Накануне войны и осады Фусанджа, Сейф ад-Дин направил в этот город своих лазутчиков, чтобы собрать сведения о состоянии городских укреплений, числе защитников города и их возможностях в сдерживании натиска штурмующих, количестве запасённого провианта, разного рода оружия и других средств защиты от атакующих. Полученные от них сведения не сулили Тимуру ничего хорощего. Защитники Фусанджа в состоянии были задержать продвижение его войск и дать возможность Гияс ад-Дину подготовить Герат к длительной обороне. Единственным слабым местом в городских укреплениях Фусанджа, была наспех заделанная брешь в одной из частей его стены, оставшаяся от её обрушения несколько лет назад в результате подмыва фундамента грунтовыми водами. Лазутчики доставили Тимуру одного из пленённых местных мастеров, принимавших участие в ремонте данного участка стены, который и сообщил ему, что на момент ремонта обрушевшейся части стены не хватало гашёной извести, и его произвели кое-как. Выслушав пленного, Тимур решил воспользоваться этим обстоятельством. Он планировал поставить напротив данного участка стены наиболее мощные катапульты и другие стенобитные орудия. Для захвата, намечавшегося в том месте пролома, Тимуром был специально сформирован отдельный кул* из наиболее подготовленных для штурма городских укреплений воинов. В его ряды были отобраны уже успевшие получить закалку в прежних ратных баталиях и самые физически выносливые гулямы*.
— Отец, разреши мне командовать этим кулом*, — обратился к Тимуру его сын Мираншах.
Тимур взглянул на пятнадцатилетнего подростка. Тот был ещё слишком молод, но своим упорством в обучении воинскому искусству вселял отцу большие надежды. В случае же покорения Хорасана, Тимур был намерен оставить Мираншаха здесь своим наместником. Для этого, юноше необходимо было дать возможность проявить себя настоящим воином в бою, дав возможность завоевать непререкаемый авторитет среди своих амиров* и простых воинов. Поэтому Тимур заранее обдумывал, каким образом предоставить возможность Мираншаху проявить свои боевые качества и воинскую смекалку, но при этом остаться в живых, не сложив свою голову в первом своём бою. Однако, в сложевшейся ситуации, такая неожиданная просьба сына, да ещё в присутствии всей командной верхушки его войска, вызвала у Тимура определённое замешательство.
— Хорошо ли ты всё обдумал? — обратился к Мираншаху Мир Сейид Береке*, духовный наставник и главный советник Тимура, оценив то неловкое положение, в котором оказался его повелитель.
— Разумеется, он всё хорошо продумал, — ответил за сына Тимур, и уже обращаясь непосредственно к Мираншаху, добавил, — Принимай кул*, и действуй. «Считай, что зажглась твоя звезда»*.
— Да сохранит тебя Аллах, — осталось добавить Мир Сейиду Береке*.
В обстоятельствах, происходивших в присутствии его амиров-темников*, Тимур подругому поступить не мог, иначе он перестал бы для них быть тем Тимуром, которого те привыкли видеть в повседневной жизни. Но когда все разошлись, Тимур подозвал одного из своих самых проверенных таваджи*, являвшегося к тому же, ему как соплеменником, так и родственником.
— Бури! — тихо сказал он ему, — Выбери себе десяток лучших аскаров* и с этого дня вам необходимо неотлучно находиться возле Мираншаха. Не упускайте его из виду не на миг. За его жизнь лично отвечаешь головой, как передо мной, так и перед самим Всевышним. Если справишся с этим делом, то частично загладишь свою вину за просчёт с этим твоим таваджи-хыянэтче*. Тимур имел в виду перебезчика Кара-Кончара, а Бури в свою очередь, прекрасно понимал о ком идёт речь.
— Слушаюсь мой повелитель, — оставалось ответить последнему.
В свою очередь, у того самого, упомянутого Тимуром перебезчика, доставившего завоевателю и его ближайшему окружению столько неприятностей с первых же дней начала военных действий, также, одна за другой наслаивались мало разрешимые проблемы. К моменту начала вторжения войск Тимура в Хорасан, Гияс ад-Дин не сумел восстановить с Кара-Кончаром хоть какую-то связь, в результате чего, тот не смог своевременно предупредить его о начале вторжения и дальнейшем продвижении чагатайских* войск по территории страны в направлении Герата. Лишь только на подходе к Фусанджу, крепости прикрывавшей Герат с самаркандского направления, Кара-Кончару, ценой самовольного оставления стана* противника, удалось предупредить амиров* этого города-крепости о приближении войск Тимура. Но это предупреждение оказалось запоздалым. Кроме того, Кара-Кончар, руководствуясь собственными расчётами, заверил фусанджцев, что войско Тимура подойдёт к городу не раньше вечера, а оно подошло уже к полудню, то есть, на целых полдня раньше предсказываемых им расчётов. В связи с собственным просчётом и рядом других обстоятельств, теперь и сам Кара-Кончар, со своей семьёй, не смог своевременно покинуть Фусандж и убыть в Герат. Он переоделся в доспехи, которые в основном носили младшие амиры* хорасанского войска, и приготовился сражаться совместно с фусанджцами. Теперь Кара-Кончар надеялся лишь на то, что в суматохе сражения ему удастся незаметно покинуть крепость, естественно с женой и ребёнком. Затем можно было ещё каким-то образом попытаться убыть в Герат. Но как всё это осуществить на деле, Кара-Кончар пока не представлял. Для осуществления подобных замыслов, ему целесообразнее было бы оставаться в доспехах чагатайского* таваджи*, но в суматохе нагрянувших событий, Кара-Кончар как следует не съориентировался.
Остаток дня и часть ночи чагатайское* войско усиленно занималось подготовкой к штурму Фусанджа. Наутро тимуровские тумены* выстроились вокруг города, каждый на заранее определённом месте. Амиры* всех рангов горделиво красовались в своих ярких доспехах с изящно украшенными щитами, стоя впереди тёмных рядов своих воинов. Последние приготовления к штурму ими осуществлялись особо тщательно. Амиры* дах* и сад* в последний раз проверяли снаряжение своих аскаров* и о результатах докладывали вышестоящим военначальникам. Поближе к стенам подкатывались штурмовые башни, метательные катапульты-манджаники* с камнями и китайскими кувшинами с зажигательной смесью, «черепахи» на колёсах с различного рода таранами, называемые матарисами*, а также разного рода другие осадные машины. Когда приготовление закончилось, тугачи* подняли свои туги* с конскими хвостами. Возле ставки Тимура взвился его кушун-туг* с тремя кольцами. Курнаи*, нагары* и наи* издали оглушительный рёв и грохот. Под бой тамбура* стройные ряды тимуровских воинов двинулись к стенам города. Впереди гнали пленённых накануне жителей близлежащих к Фусанджу селений, которых под обстрелом защитников города заставляли зарывать ров, окружающий стены. Но, не дожидаясь пока эта работа будет закончена, ко рву стали подкатывать штурмовые башни и метательные катапульты. Начался обстрел города. С обеих сторон полетели тучи стрел. Метательные катапульты начали швырять в город камни и китайские кувшины с горевшей жидкостью. В городе вначале запылали отдельные деревянные постройки, но потом разгорелся повсеместный огромный пожар. Защитники города ответили тем же. В их распоряжении имелись крепостные орудия для метания «греческого огня»*. Используя их, оборонявшиеся стали жечь штурмовые башни нападавших, которые те даже не успевали придвинуть к городским бастионам. Не дожидаясь, пока ров будет засыпан полностью, воины Тимура пошли на приступ. Они преодолевали это препятствие, карабкаясь на откосы крутого вала, подносили и ставили штурмовые лестницы, по которым взбирались вверх на стены. Снизу, их как могли, прикрывали лучники, посылая в защитников города тучи стрел. Защитники города оборонялись всеми доступными способами. Они сбивали влезавших камнями, поливали их горячей смолой и кипятком, баграми и рогатинами сталкивали лестницы со стен, вместе с находившимися на них штурмующими. Нападавшие падали со стен грудами, обожжённые и обваренные. Под непрерывным натиском тимуровских воинов, полчища которых, подобно среднеазиатской саранче, продолжали лавиной взбираться на стены Фусанджа, защитники города несли немалые потери. Но их число было несравнимо с тем, что теряли штурмующие. Несмотря на яростное упорство обеих сторон, исход этого дня битвы продолжал оставаться непредсказуемым. Но впоследствии произошло событие, решившее исход сражения в пользу самаркандского завоевателя. А произошло всё следующим образом.
Сын Тимура Мираншах, сосредоточил свой кул* напротив заранее определённого ему для атаки участка городской стены. Высота этого участка была примерно на кулач* выше, чем всех остальных, поэтому хорасанские амиры* и сил для обороны здесь оставили меньше, перераспределив их по другим бастионам. Вероятно, по этой причине здесь не было уделено должного внимания и при устранении ранее возникшего в этом месте обвала стены, о чём теперь знали и Тимур, и Сейф ад-Дин, и Мираншах. Как и везде, напротив этого участка стены, ко рву подкатили метательные катапульты и «черепахи» с разного рода стенобитными таранами. Но катапульты тут ставили гораздо массивнее, чем на других направлениях атак. Как только нагары* и тамбуры* подали сигналы для атак, катапульты здесь, как и везде начали методично обстреливать стены массивными камнями, а воины Тимура, как и на других направлениях, погнали впереди себя пленников, которые засыпали ров. Но Мираншах не спешил посылать на штурм своих воинов и они стройными рядами продолжали стоять на своих местах на расстоянии, не досягаемом для поражения стрелами или «греческим огнём»* противника. Кроме того, нападавшие не подтащили здесь ни одной штурмовой башни, что было воспринято защитниками города как отказ душмана*, штурмовать крепость именно в этом месте. Они сняли на этом участке стены ещё более половыны защитников, причём самых боеспособных, направив тех на другие бастионы. Оставшиеся же на стене явно расслабились, и стали менее интенсивно посылать стрелы как в засыпавших ров пленных сограждан, так и в гнавших их ко рву воинов Тимура. Они считали, что таким образом приберегают средства защиты на случай штурма их участка стены. Но если такая стрельба и наносила, какой либо урон осаждавшим, то в основном от этого страдали подневольные сограждане, засыпавшие ров. Имевшие же при себе щиты чагатайцы* лишь изредка получали случайные ранения, да и те в результате собственной невнимательности, самонадеянности и показушного игнорирования опасности. По всему периметру стен уже бушевало яростное сражение, а здесь лишь слышались глухие звуки издаваемые ударами массивных камней, посылаемых катапультами в каменную кладку стены. В этих местах поднимались клубы бурой пыли, а от стены отлетали лишь отдельные её фрагменты. Однако в целом, казалось, что её кладке здесь не приносится большого вреда. Мираншах нервничал. Он с нетерпением ждал, когда перед ним будет засыпан ров, чтобы придвинуть к стене «черепахи» с таранами, благо высота вала в этом месте невысокая и позволяла их использовать. Ров уже был почти засыпан, как вдруг раздался страшный грохот. Это обрушился тот самый участок стены, отремонтированный накануне после подмыва, погребя под собой находившехся на нём защитников крепости и подняв в воздух клубы пыли. Когда пыль немного рассеялась, нападавшие и защитники города увидели образовавшейся пролом. Он оказался такой величины, что ошеломил и ту и другую стороны.
— Суран!* — крикнул Мираншах и первым бросился в образовавшуюся брешь. За ним последовал Бури с десятком отобранных им воинов, которые на время штурма стали джандарами* сына Тимура. Затрубил сурнай* и весь кул* пришёл в движение, устремившись в образовавшийся в стене пролом. Защитники города быстро опомнились и стали направлять к бреши своих воинов, но было уже поздно. Чагатайцы* ворвались в город, где начались уличные бои. С криками «Аллах акбар»* и штурмующие, и защитники города отчаянно сражались за каждый дом, лавку, проулок. От бушевавшего огня и дыма было жарко и тяжело дышать, но сражавщехся это не останавливало.
Мираншах ворвался в город одним из первых. Несмотря на молодость, храбрости, ловкости и умения владеть различными видами оружия, ему было не занимать. Преодолевая, со своими джандарами*, нагромождения от обломков стены, он трижды чуть не стал жертвой выпущенных по нему стрел. Но всё обошлось благополучно. Одна пролетела мимо, от другой Мираншах ловко увернулся, а от третьей лихо успел закрыться своим круглым щитом. Ворвавшись в город, он со своими воинами сразу же вступил в рукопашную схватку с неприятелем. Ловко владея саблей, Мираншах лично поразил ею двоих хорасанцев, но чуть не погиб от брошенного ему в спину копья. Спас один из джандаров*, не мешкая вставший на пути его полёта и принявший удар этого оружия на себя. Воин погиб, спасая своего амира* и этим выполняя свой воинский долг. В следующий момент Мираншах сразил ещё одного неприятельского воина, но затем сам чуть не стал жертвой. Подкравшейся сзади хорасанец замахнулся над его головой саблей. Он наверняка снёс бы Мираншаху голову, но подоспевший вовремя Бури в последний момент отсёк нападавшиму руку. Однако, через какое-то мгновение и сам Бури почуствовал резкую боль в бедре. Ногу пронзила неприятельская стрела и из раны хлынула кровь. Бури переломил стрелу, оставив в ране вонзившейся кусок, перетянул бедро выше раны жгутом и хромая, вновь поспешил к Мираншаху, прикрывая того от нападений сзади. Венценосный юноша успел сразить ещё двоих хорасанцев, пока к нему не подоспели два чагатайских* амира* со своими людьми. Живых хорасанцев в этот момент рядом уже не оставалось.
— О мой повелитель! — обратился к Мираншаху один из этих амиров*, — Ты показал и показываешь воинам пример доблести и они готовы сложить за тебя головы. Но мы не можем допустить, чтобы добывая славу, ты теперь потерял здесь свою голову. В городе, кроме твоего, сражается немало других наших победоносных кошунов* и кулов*, а общего командования над ними нет. Амир-ал-умар* и Сейф ад-Дин руководят боем из-за города, а внутри его стен командовать некому. Войско не может здесь долго быть без своего чурибаши*, иначе оно понесёт несметные потери, даже, несмотря на превосходство в численности и храбрости. Бери и командуй нами, а право добить этих непокорных душманов* предоставь нам, твоим доблестным и непобедимым аскарам*.
Тем временем. Бури уже держался из последних сил. Он потерял много крови и бледнея, едва стоял на ногах. Мираншах заметил это и сразу же обратился к присутствующим.
— Этот шавкатли жангчи* сегодня спас мне жизнь, но теперь сам нуждается в помощи. Вынесите его из города и сделайте всё, чтобы он остался жив и выздоровел. Я буду просить Амир-ал-умара* наградить его по заслугам и возвести в достойный чин в нашем победоностном войске. Этот аскарбек* заслужил самых высоких похвал и почестей. Да сохранит ему жизнь Всевышний!
Бури уже начал было терять сознание, но два джандара* подхватили его, уложили на носилки и понесли прочь из города.
— Где мне удобнее расположиться, чтобы руководить штурмом города, — спросил Мираншах амиров*.
— Пока в башне над главными воротами, — ответил один из амиров*, — Там не так опасен огонь и стрелы неприятеля.
— Тогда следуем туда, — сказал Мираншах присутствующим, — А ещё пошлите таваджи* к Амир-ал-умару*. Пусть доложит ему, что я принял командование воинами, сражающимися внутри города на себя.
Мираншах и амиры*, вместе со своими таваджи* и джандарами*, вскочили на поданных им коней и отправились по направлению к главным городским воротам. Проезжая по одной из задымлённых улиц, Мираншах увидел, как на значительном расстоянии от него разыгралась сцена сражения на саблях между хорасанцем и двумя чагатайскими воинами. Чагатайцы* атаковали, а хорасанец, отступая, ловко от них отбивался. В стороне от сражавщихся, по ходу их передвижения, медленно перемещалась молодая женщина, держа за руку ребёнка и наблюдая за ходом поединка. Хорасанец кричал ей, чтобы та уходила, пока он уводит от неё нападающих, но женщина не слушала и продолжала двигаться по ходу сражения, вероятно ожидая развязки поединка. Воспользовавшись тем, что один их чагатайцев оступился, хорасанец отсёк ему руку по плечо. У нападавшиго из раны обильно хлынула кровь, и от боли, тот завопил неестественным голосом. Это привело в замешательство второго нападавшего, чем тут же воспользовался хорасанец. Он изловчился и ловко отсёк чагатайцу голову. После этого, хорасанец, подхватив на руки ребёнка и схватив за руку женщину, бросился бежать прочь и скрылся в ближайшем из проулков.
— Конхур! — окрикнул Мираншах одного из ехавших рядом кичик* амира*, — возьми с собой даху* и разберись вон с тем наглецом с пристрастием, как ты умеешь это делать.
— Слушаюсь, мой повелитель! — ответил амир* и, крикнув что-то воинам, умчался вслед за беглецами в проулок. С десяток воинов умчались за ним, а Мираншах с остальными продолжил свой путь в направлении уже видневшейся башни над городскими воротами.
Преследователи догнали беглецов на следующей улице. Видя, что от всадников им не уйти, хорасанец обнажил свою саблю и прикрывая собой женщину с ребёнком, приготовился к бою с превосходящим противником. Подъехав первым, амир* чагатайцев* остановил лошадь и знаком приподнятой руки, велел остановиться остальным. Этот амир* был огромного роста с рассечённым наискосок лицом, отчего сам его внешний облик внушал страх. Он слез с лошади и сняв с пояса гурзи*, сделал шаг по направлению к хорасанцу.
— Кара-Кончар? — вдруг с удивлением произнёс верзила, — Вот так встреча! Ас-саляму алейкум* асосий* хыянэтче* хэм* душман* хабарчи*!
Кара-Кончар также узнал своего основного преследователя. Это был Конхур — главный тимуровский палач, которого в войске Тимура звали не иначе, как «непревзойдённейший изверг вселенной». О том, что Конхур об «измене» Кара-Кончара уже знает всё, догадаться было не сложно. Содержание его приветствия в адрес Кара-Кончара, с лихвой говорило само за себя.
— Ва алейкум ас-салям*, асосий* джандар* хем* конхур*, — злобно выпалил Кара-Кончар в ответ, а сам в ужасе подумал, — О, Всевышний! За что мне от тебя такая кара? Я готов был принять любую твою кару, но только не ту, что приготовил ты теперь даже не мне, но моим несчастным, и ни в чём не повинным близким людям!
Между тем, тихо и не спеша, спешились ещё двое нукеров* Конхура. Они, обнажив свои шамширы*, встали по бокам от Кара-Кончара, готовые в любой момент обрушиться на него. И тут в голове хорасанца мгновенно созрела мысль, как ему действовать вдальнейшем. Главное, решил Кара-Кончар, нужно мгновенно покончить с женой и ребёнком. Конечно, это слишком жестоко, но для его родных такая смерть будет менее мучительной, чем та, которой они вот-вот могут подвергнуться со стороны Конхура и его аскаров*. За себя у хорасанца страха не было. Чагатайцы, безусловно, расправятся и с ним тоже. Это несомненно. Но тогда Кара-Кончар рассчитывал лишь на то, чтобы погибнуть с оружием в руках. А смерть в неравном бою, да ещё с превосходящим по силе противником! Не это ли главная мечта настоящего мусульманского воина?
В следующее мгновение, Кара-Кончар сделал выпад в сторону Конхура и резко развернувшись, замахнулся саблей над головой жены, рассчитывая первым же ударом рассечь сразу и её, и ребёнка. Но то, что произошло в следующий момент, врядли мог ожидать кто либо, да и сам Кара-Кончар. Несмотря на огромный рост и размеры, что давало представление о тучности и неповоротливости Конхура, последний молниеносным ударом гурзи* выбил уже занесённую саблю из руки Кара-Кончара, одновременно разможжив тому кисть руки. Тело хорасанца пронзила невыносимая боль, и он другой рукой мошенально схватился за раздробленную кисть. В следующее мгновение Конхур с силой дважды ударил Кара-Кончара своей гурзи* по коленям обеих ног. Хорасанец взвыл от боли и рухнул на землю, не в силах больше стоять на ногах, так как и колени оказались раздробленными в результате точных ударов гурзи*. Но сознания Кара-Кончар не потерял, и используя единственную пока ещё неповреждённую руку, на боку пополз к недогоревшему жилищу, возле стены которого лежала только-что выбитая из его руки сабля. Конхур разгадал замысел своего противника и, сделав в его сторону ещё пару шагов, ударил хорасанца своей гурзи* по локтевому изгибу здоровой руки. Затем, для верности, он нанёс Кара-Кончару ещё пару ударов. Теперь ударам подверглись остававшаяся нетронутой кисть другой руки, а также локтевой изгиб противоположной. Ещё раз, взвыв от боли, Кара-Кончар на мгновение потерял сознание, но достаточно быстро вновь пришёл в себя. Очнувшись, он попробовал было двигаться, но перебитые руки и ноги не позволяли в полной мере это делать.
— Посади его на орку*, да пусть посмотрит, что бывает хыянэтче*, — приказал Конхур одному из воинов. Тот подхватил Кара-Кончара сзади под плечи и проволоча немного, усадил возле стены. В безрассудстве, жена хорасанца бросилась на помощь мужу, но двое других чагатайцев схватили её, и выламывая руки, повалили на землю, одновременно срывая с несчастной одежду. Ребёнок заплакал, но на него сначала никто не обращал внимания. Женщина кричала, как могла, звала на помощь, сопротивлялась, но что она могла сделать против этих здоровенных, да ещё и озверевших до безумия мужчин. А её искалеченному мужу, лишь только и оставалось, превозмогая дикую боль, молча сидеть, да наблюдать за происходящим. Один из воинов предложил Конхуру начать оргию первым.
— Пресыщайтесь любовью этой несчастной женщины, пока у вас есть такая возможность, — сказал он своим аскарам*, усаживаясь на лежащий рядом большой камень, — Иначе, после меня вам нечего будет с ней делать. Вы только не забудте оставить мне её хоть чуточку живой.
Чагатайцы* начали поочереди насиловать жертву, попутно применяя к ней другие формы издевательств и надругательств. В отчаянии от увиденного, к матери с диким плачем бросился ребёнок и схватая одного из чагатайских воинов за одежду, попытался оттаскивать его от женщины. Однако другой чагатаец*, ожидавший рядом своей очереди, сильно ударил малыша ногой по голове, да так, что тот отлетел в сторону и, схватившись за свою маленькую головку, стал верещать ещё громче. Но это только раззадорило чагатайца* и он, подойдя к ребёнку, стал наносить ему несильные удары по голове, от чего малыш каждый раз кричал всё громче и истощнее. Наверное, чагатайцу* подобный вид надругательства над беззащитным малюткой сильно нравился, что он так увлёкся этим истязанием. От отчаяния, Кара-Кончар закрывал глаза, но что он мог в данной ситуации сделать?
А в это время, за пределами Фусанджа, события происходили своим чередом и разворачивались следующим образом. Отдав приказ о штурме города, Тимур, вместе с Сейф ад-Дином, Мир Сейидом Береке*, некоторыми другими приближёнными амирами* и прочими членами хаваши*, с одной из окрестных высот наблюдал за разворачивающимися на его глазах баталиями. Великий амир* прекрасно видел, какие значительные потери несут его чагатайцы*, не добиваясь при этом желаемых результатов при штурме Фусанджа.
— Такие потери нам неприемлемы, — сказал Тимур, обращаясь к Сейф ад-Дину Нукузу*.
— Ничего не поделаешь, — пытался его утешить Сейф ад-Дин, — Атакующая сторона всегда теряет втрое больше, чем обороняющаяся, Это общеизвестное правило большинства войн.
— Большинства, но насколько я знаю, далеко не всех, — перебил его Тимур и, выдержав паузу, спросил, — Какова численность гарнизона Фусанджа?
— Примерно тысяч десять вместе с простыми горожанами, могущими держать оружие, — ответил Сейф ад-Дин.
— В таком случае, что нас ждёт в Герате? — задал другой вопрос Тимур, — Только не лги, говори правду.
— Население Герата на порядок больше, но точно никто не считал, — был пространный ответ Сейф ад-Дина.
— Ты намекаешь, что после Герата я вообще могу остаться без войска? — с раздражением спросил Тимур, — Зачем мне нужна такая победа? Если не ошибаюсь, древние румы* прозвали подобный исход сражения «Пирровой победой»*, равносильной поражению?
— Я всего лишь пытаюсь правдиво ответить на твой вопрос, — вновь уклончиво ответил Сейф ад-Дин, — Ты ведь этого от меня хочешь?
Тимур занервничал ещё больше, продолжая смотреть на неприглядное зрелище боя. Настроение завоевателя поднялось лишь после того, как ему сообщили о рухнувшей части стены в том месте, где для атаки сосредоточился Мираншах со своими воинами. Сосредоточив свой взор на то, как его кул* атакует через пролом, Тимур восторжествовал.
— Молодец сынок! — радостно выкрикнул он, — Ты настоящий аскарбек*! — затем успокоившись, вновь обратился к Сейф ад-Дину, — Ты мне всё таки скажи. Можно ли в нашем случае избежать подобных значительных потерь?
— Конечно можно! — теперь уже преободряясь ответил Сейф ад-Дин, — Но для этого нужно воевать не по обычным правилам уруша*, используя лишь силу своего войска и его моральный дух. Лучше уруш* вообще вести, без каких либо правил. Делать это необходимо при помощи хитрости, разного рода уловок, обмана противника, заранее организованных подкупов его амиров* и сахиб-диванов*, шантажа и разного рода интриг в их среде, заблаговременного запугивания населения душмана*, организации всякого рода хаоса в жизни страны противника, с которым воюешь или просто соперничаешь, и ещё очень много чего подобного. Но самое главное, для нашего победоносного войска ещё не помешало бы раздобыть, и как можно скорее, новое смертоносное чудо-оружие, сотворённое когда-то китайскими чудо-мастерами, а впоследствии бездарно утерянное арабами!
— Интересно! Про какое это ты чудо-оружие намекаешь? — взглянув на своего полководца, спросил Тимур, — У нас, кажется, и так любого оружия в избытке.
— Любого, но, похоже, не всего, что недавно появилось у некоторых наших недобрах соседей, — с хитрицой в лице продолжил Сейф ад-Дин, — А к нашему счастью, те и сами пока того не осознали.
— Тогда не темни, говори прямо, — грозно посмотрел на него Тимур, — Я не Тохтамыш. Я должен быть первым в курсе подобных дел. А ты мне только сейчас об этом молвишь, и то какими-то непонятными намёками. И это тот, кого я считаю лучшим и самым доверенным полководцем. Что я тогда могу спрашивать с других?
— Виноват, мой повелитель, — начал оправдываться Сейф ад-Дин, — но я узнал об этом прямо перед самым нашим выступлением и не стал спешить докладывать непроверенные сведения, которым цена таже, что и домыслам, которые тысячами растекаются по нашим базарам*.
— Иногда, все эти домыслы, могут оказаться ценнее самых правдоподобных и проверенных фактов, — прервал его Тимур, — Изложи-ка мне эти твои «домыслы», да начни с самого начала и во всех подробностях.
— Слушаюсь, мой повелитель, — с испугом в голосе начал Сейф ад-Дин, — Я и сам не однажды предпринимал попытки разгадать секреты стрельбы огнём когда-то грозных, но затем зыбытых арабских огненных туфангов*. Для этого, я даже сумел заинтересовать этим делом ещё в то время, юного Умара-Шейха. Но все наши попытки были тщетны. Умар-Шейх и теперь озабочен подобными делами, но пока ему всё это было не под силу. Он пытался привлечь к этому делу тебя и Мир Сайида Береке, но вы его лишь обсмеяли, назвав сказочником. Его же это всёравно не остановило, и Умар-Шейх продолжал заниматься этим делом втайне от всех, даже от тебя, мой повелитель. И вот, буквально перед нашим выступлением в Хорасан, среди торгового люда Регистана* вдруг поползли слухи, что якобы нашлись некоторые умельцы, которые вновь разгадали секрет огненной стрельбы этих туфангов*, а также научились делать и использовать эти грозные огнемётные арбалеты.
— Так значит россказни про безделушки, что когда-то якобы научились делать китайцы, но использовали их лишь для забав, не простая болтовня? А арабы действительно превратили их в грозное огнестрельное оружие? — cпросил Тимур, искоса посмотрев на Сейф ад-Дина, — Но как же они потом сами умудрились начисто забыть секрет приготовления огненной смеси, которой те туфанги* стреляли, сделав из них бесполезные и никому не нужные железки?
— Это, уже проблемы тех, неразумных арабов, что додумались утерять столь ценные секреты, иначе владели бы они теперь всей вселенной. Да вот Всевыщнего они чем-то прогневили, что он не позволил им это сделать. Но теперь, похоже, Всевыщний вновь счёл нужным дать правоверным это оружие, а потому, вновь нашлись люди, которые тот секрет повторно разгадали, — сказал Сейф ад-Дин, — Только делиться этими секретами они не спешат.
— Чего же потвоему боится Всевышний, ведь всё в его воле, — спросил Тимур.
— Так, то оно так, — вероятно попытался изобразить из себя проповедника Сейф ад-Дин, — Но только среди правоверных, да и не только, развелось столько всякого рода лжепроповедников, которые готовы любое здравое дело происками шайтанов, чертей либо каких-то шаманов объявить, лишь бы себя этим на мгновенье ославить. Вот мастеровитые люди и боятся нужные да стоящие дела напоказ выставлять, чтобы не быть оболганными в разных шайтанских делишках и за это невинно пострадать. На том же Регистане, мне некоторые купчишки Александрийские поведали, что среди правоверных появился, толи в Аравии, толи в Египте, некий мастер Тауфик, разгадавший секрет стрельбы этого оружия и даже пару туфангов* сам смастерил. Только этого мастера там сразу обозвали, представили народу шайтаном в человеческом обличьи, да камнями чуть до смерти не забили. Так и пришлось бедному мастеру уносить ноги за тридевять земель.
— Я вообще-то тоже от купцов про те шайтановы* туфанги* слышал, — сказал Тимур, — Но в их росказнях сразу тяжело разобраться и отделить истину от домыслов. Мой сын Умар-Шейх мне действительно как-то пытался об этом растолковать, да договорился до того, что тот мастер чуть ли не в Орде у Тохтамыша прячется. Я тогда над ним даже посмеялся от души. Ведь появись подобный мастер, да ещё с этим оружием у Тохтамыша, мне бы Урлук-Тимур* с Ак-Бугой* наверняка сообщили бы. Хотя, надеяться на Тохтамыша, всёравно, что сурка сторожем ставить. Всё, что можно проспит. Он иногда не замечает, что под его собственным носом делается. Поэтому, в нашей ситуации, наверное, к этому делу надо вернуться повторно и всё проверить досконально ещё раз. Может и впрямь мои лучшие посланцы* в Орде* что-то проворонили? Но знать об этом должны, как можно меньше наших, пусть даже самых надёжных и проверенных людей.
— Я в этом полностью с тобой согласен, мой Амир-ал-умар, — поддержал Тимура Сейф ад-Дин, — Не следует переоценивать роль Урлук-Тимура* с Ак-Бугой*. Они же не Всевыщний и не могут знать всего, что твориться в этой бескрайней Орде*.
— Абсолютно с тобой согласен. Если окажется, что этот араб действительно тайно скрывается в Орде, мы могли бы предоставить ему своё надёжное убежище, — сказал Тимур, — И тогда ему, не пришлось бы прятаться от недругов в чужой стране? Продумай, как это сделать? Завтра же сообщишь мне свои соображения.
— Я слышу, здесь без меня обсуждаются очень важные государственные дела, — вмешался в разговор, неизвестно откуда появившийся Мир Сейид Береке, — А зря вы решили проигнорировать своего духовного наставника. Я, кажется, в этом деле осведомлён больше вашего. Кстати, к здесь уже сказанному, мне как-то на днях один наш торговец тоже поведал, что якобы в ордынском Булгаре, длительное время скрывался один араб-египтянин. Он, кстати, тоже говорил про разгадку секрета того самого оружия, которым арабы в своё время владели, но потом утеряли. И он утверждал, что это оружие стреляет стрелами при помощи молний, при этом издавая страшный гром. А также говорил, что ни одна, даже самая крепкая стена не может выдержать силу удара этих огненных стрел. От них рушится всё, что находится на пути полёта этих стрел. Вот мы и решили проверить, не про этого ли араба идёт речь? Потому мы с Умар-Шейхом для проверки этих слухов, которые, кстати, в торговых рядах Регистана стали гулять гораздо раньше, чем утверждает Сейф ад-Дин, послали в Булгар* надёжных гонцов. Гонцы эти, уже успели вернутьтся, да только с печальной вестью. Араб этот ваш, по имени Тауфик, если не ошибаюсь, за это время уже успел помереть. Теперь с него естественно, совсем никакого толку. К сожалению, с небесами даже потомки пророка, такие например как я, не умеют разговаривать. Такова воля Всевыщнего и с этим ничего не поделаешь. А потому, хотел бы тебе помочь, да к сожалению, фортуна назад не вертится.
— Но, не мог же этот мастер, столько сил потративший на разгадку тайны этого смертоносного оружия, унести эти секреты с собой, никому не передав. Зачем тогда Всевышний доверил ему разгадку этих секретов. У него непременно должен кто-то остаться, кому бы этот мастер передал секреты этого оружия, — нервно рассуждал Тимур, — надо прощупать всё его окружение.
— А вот тут ты прав. Поговаривают, что этот мастер передал все секреты своему сыну Асу*, — хитро прищурился Мир Сейид Береке, — Да только тот парень «сам себе на уме», с него лишнего слова не вытащишь. Кроме того, мне уже известно, что ихний улусбек* Сардары Сабан* стал чересчур опекать Аса*, так что лёгкой, подобная «добыча», нам не будет!
— Стоящая добыча никогда не бывает лёгкой, — глядя на присутствующих, прищурился Тимур, — Но это вовсе не значит, что она не уязвима вовсе, и её невозможно добыть вообще. Тохтамыш об этом тоже наверняка не подозревает, иначе, Ас* жил бы уже в Алт-Сарае*, а не в невесть где затерявшемся от столицы Булгаре*. Впрочем, с этого дня действовать начинаем немедленно. Пусть, наверное, Умар-Шейх обдумает это дело серьёзнее, а ты, Сейф ад-Дин, если что, помоги ему в этом как следует. Посмотри, кого из наших людей целесообразнее направить в Булгар*, пока Тохтамыш в этом деле ещё будет «праздновать день сурка».
— Будет сделано всё в лучшем виде, мой повелитель, — ответил Сейф ад-Дин, поклонившись Тимуру.
В этот момент к Тимуру прибыл таваджи* из города и сообщил, что Мираншах принял на себя командование над аскарами*, сражающимися в крепости.
— Молодец сынок! — радостно воскликнул Тимур, — Я в тебе не ошибся. Ты оправдываешь мои надежды. С тебя выйдет достойный наместник в Хорасане, — а затем, обращаясь к таваджи*, добавил, — Передай Мираншаху, в городе уничтожить всех до последнего человека. Не щадить никого, ни женщин, ни детей, ни старых, ни малых. Всем горожанам и жангчи* гарнизона крепости, независимо, живые они ещё, раненые или уже мёртвые, отрубить головы, сложить их в кучи и пересчитать. Город взять к вечеру, а разграбить к утру. Выполняй!
— Слушаюсь мой повелитель! — ответил таваджи* и ускакал обратно в город.
Ближе к вечеру чагатайцами* были подавлены последние очаги сопротивления защитников Фусанджа. В городе повсюду продолжали бушевать пожары, но они, казалось, совершенно не мешали воинам Тимура творить массовые грабежи и насилия над горожанами. Повсюду слышались крики и стоны насилуемых женщин, детский плач, вопли раненых и искалеченных. Наглумившись над своими жертвами, чагатайцы* отсекали им головы, которые затем сносили и бросали в кучи в заранее указанных их амирами* местах. По городу рыскали и назначенные амирами* дахи* нукеров*, которые обезглавливали убитых или раненых, но не способных к оказанию сопротивления хорасанских воинов. Их головы также сносили и бросали в общие кучи.
Спустя какое-то время, через центральные ворота в город въезжал значительный по численности кошун* всадников. Впереди следовал сам Тимур в сопровождении его хаваши* из старших амиров* и других иренов*. Позади них ехали их таваджи* и джандары*. Медленно двигаясь по городу, Тимур спокойно наблюдал за творимыми его воинами зверствами. На одной из улиц внимание завоевателя привлекла разыгрывавшаяся на его глазах сцена группового насилия, творимого его воинами, звавшимися гулямами*. Возле полусгоревшего жилища сидел весь израненный хорасанский воин в доспехах, которые у тех обычно носят младшие амиры*. Рядом с ним группа чагатайцев* насиловали и истязали молодую и достаточно красивую женщину. Та стонала и вскрикивала от боли, а рядом сидел и плакал двухлетний ребёнок. Увидев подъехавшего Тимура, гулямы* прекратили насилие и замерли в ожидании повелений их верховного владыки. Женщина же, вероятно надеясь найти в нём защиту для себя, уставилась на Тимура полными отчаяния и мольбы о помощи глазами.
— Ты их знаешь? — спросил Тимур у сидевшего рядом израненного хорасанского воина.
— Моя жена и сын, — тихим голосом произнёс хорасанец и звериным взглядом уставился на насильников. Возле воина валялись сабля и сайдак*, с двумя оставшимися неиспользованными стрелами. Но воин не в состоянии был вступиться за родных, так как все кости его рук и ног были переломаны. Было видно, что аскар* не в состоянии даже двигаться.
— Вот это встреча! — с восторгом воскликнул Сейф ад-Дин, — Не зря же я сегодня так молился о подобной встрече. Настигла, наконец-то кара Всевышнего и этого подлого хыянэтче*!
— Ты его знаешь? — спросил Тимур.
— Это тот самый подлый чуябури*, который пригрелся в нашем доблестном войске, являясь таваджи* Бури. Но вчера у этого изменника помутнился рассудок и он перебежал к душманам*.
— Я не изменник, — подал голос Кара-Кончар, — Я жангчи* Хорасана и тоже верно нёс куч* своему халку*, и его законному правителю Гияс ад-Дину, как и ты нане служишь Самарканду. Быть айгокчи*, это тоже куч*, достойный настоящего воина.
— Айгокчи*, это самое подлое, из всего, что только есть на целом свете, — перебил хорасанца Сейф ад-Дин.
— Но только в том случае, если польза от этого куча* не тебе, — вмешался в разговор Мир Сейид Береке*.
— Твоя вина и беда в том, хорасанец, — спокойно произнёс Тимур, обращаясь к Кара-Кончару — что служил ты не тому, кому следовало бы.
— Когда, где и какому правителю служить, на всё воля Всевыщнего! — ответил Кара-Кончар, пристально взглянув в глаза завоевателю.
— Продолжайте, — тихо сказал Тимур, обращаясь уже к своим гулямам* и продолжил спокойно наблюдать за тем, что на его глазах возобновилось далее. Чагатайцы продолжили измываться над жертвой, избивая и насилуя её с ещё большим азартом. Когда все насытились, к лежавшей, казалось бы, без чувств женщине, подошёл Конхур и навалился на неё своим громадным тучным телом. Он насиловал женщину с пристрастием, одновременно кусая её за верхние части тела, да так что из ран начала обильно хлестать кровь. Казалось, что при каждом его движении, у несчастной трещат кости. При этом женщина вскрикивала, но и сильно кричать уже не могла. У неё просто, не оставалось сил. Закончив насиловать, Конхур в последний момент экстаза вцепился жертве зубами в горло, и рыча словно дикий зверь, стал с силой рвать эту плоть на части. Женщина захрипела и стала биться в конвульсиях, но вскоре затихла и обмякла совсем. Конхур поднялся с бездыханного тела женщины и стал приводить в порядок одежду. В это же время, один из чагатайцев* подошёл к жертве и начал тыкать в её бездыханное тело копьём, проверяя окончательно, не подаёт ли несчастная хоть какие-то признаки жизни.
— Конхур у нас, настоящий конхур*! — с улыбкой произнёс Сейф ад-Дин и взглянул на Тимура. Но тот, молча, с невозмутимым лицом, смотрел на происходяшее.
— Тебя же всё считают мудрым, справедливым, милостливым и благоразумным, останови этих извергов, — шевелясь из последних сил и страдая от боли, обратился к Тимуру Кара-Кончар, — Где же твои милосердие и благоразумие? Чем перед тобою провинилась моя несчастная семья?
— Заткни ему пасть! — прошипел Тимур, обращаясь к Конхуру. Тот подошёл к несчастному, и замахнувшись своей гурзи*, с силой ударил ею Кара-Кончара по зубам. Зубы хорасанца вылетели из челюстей, а сломанная в двух местах нижняя челюсть обвисла. Нос свезло от удара головкой гурзи*, и изо всех повреждённых частей нижней части лица обильно хлынула кровь. Кара-Кончар потерял сознание.
Удовлетворённые насильники поправляли одежду и что-то бормотали между собой. Затем, один из чагатайцев кинжалом отрезал женщине голову. Увидев это, ребёнок закричал диким истощным воплем. Тогда другой чагатаец, вытащив свой кинжал, спокойно отрезал голову малышу. На мгновение очнувшись, Кара-Кончар что-то прохрипел, и от безнадёжности задёргал плечами и головой. Чагатайцы отрезали голову и ему. Один из гулямов* взял все три головы за волосы, отнёс и бросил их в находившуюся недалеко кучу. А Тимур и его свита продолжали спокойно наблюдать за тем, что творилось на их глазах, не говоря своим, творившим безпредел воинам ни слова.
— Напрасно мои аскары* бросают головы хорасанских вояк в одни кучи с простыми горожанами, — наконец обратился Тимур к Сейф ад-Дину, — Мы не сможем посчитать чистые потери их войска.
— О Амир-ал-умар*! — ответил тот, — Я прикажу разделить головы…
— Теперь не стоит, уже поздно, — прервал его Тимур, — Большинство отрубленных голов в кучах без головных уборов. Как ты отличишь голову ихнего воина от простолюдиновой? Твой приказ внесёт ещё большую неразбериху. Проследи лучше, чтоб пересчитали наших воинов перед погребением, или мы не будем знать, даже о количестве своих потерь. И ещё! Срочно прикажи пригнать сюда сотню пленных хорасанцев, из тех, что мы взяли в ближних селениях. Пусть таваджи* отберут в эту сотню, наиболее трусливых и впечатлительных. Эти хорасанцы пусть насмотрятся на наши зверства, увидят кучи отрубленных голов, сожжённые и разграбленные жилища, обезглавленные тела женщин, стариков и детей. Пленным нужно вбить в головы, что это случилось из-за глупости и непокорности тех их правителей, что отказались сдать мне без боя Фурандж, а также напрасную гибель моих воинов. Затем эту сотню необходимо скорее направить в Герат и его окрестности. Пусть сеют там страх, панику и неразбериху.
— Слушаюсь мой повелитель! — ответил Сейф ад-Дин. Затем, собрав таваджи*, принялся давать им напутствия, как выполнять повеление Тимура.
На следующий день к полудню Тимур собрал темников* и других наиболее приближённых амиров* своего войска. Мираншах с восторгом докладывал отцу об успешном взятии города, чудесах храбрости и героизма, проявленных его воинами при штурме этой крепости, называя имена особо отличившихся амиров* и простых аскаров*. Он отдельно остановился на Бури и других таваджи* и джандарах*, которые принимали непосредственное с Мираншахом участие в приступе. Заслуга Бури, сыном Тимура была подчёркнута особо. Но, в то же время, подвиг аскара*, закрывшего Мираншаха от копья, и тем самым спасшим ему жизнь, был озвучен сыном Тимура без упоминания даже имени этого кахрамон жангчи*. В конце своей речи Мираншах просил отца наградить Бури по заслугам и возвести его в более высокий чин, доверив тому наиболее ответственный куч*, исходя из заслуг последнего.
Тимур, нахмурив лицо, внимательно слушал сына. Когда Мираншах закончил, он пристально осмотрел присутствующих, словно выискивая кого-то, и остановил свой взгляд на Сейф ад-Дине Нукузе*.
— Вчера я велел пересчитать головы убитых хорасанцев. Вы выполнили моё повеление? — спросил он, словно обращаясь ко всем сразу.
— Выполнили, — отозвался Мираншах, — Их более десяти тысяч. Твои таваджи* сверяют списки и как только закончат, доложат точно.
— Сколько при штурме крепости полегло моих аскаров*? — задал другой вопрос Тимур.
— Примерно столько же, — потупив взгляд, чтобы не смотреть в глаза Тимуру, ответил Сейф ад-Дин.
— Чтож получается? — повысив голос, продолжал Тимур, — Война только началась. И в первом же бою, я потерял столько своих жангчи*, сколько мои враги потеряли вместе с невоюющим населением этой крепостёнки? Если же потери врага разделить на военные и невоенные, то выходит, что я потерял втрое больше? Что же тогда получается? Мои доблестные амиры* и аскары* вообще не умеют воевать? Что вы на это ответите?
Тимур бешинным взглядом обвёл присутствующих. Они, опустив головы, молчали, опасаясь в сложившейся ситуации, что-либо перечить своему разгневанному повелителю.
— Отец! — первым нарушил молчание Мираншах, — Твои амиры* и аскары* дрались словно львы, проявляя чудеса храбрости и массового героизма. Амиры* руководили штурмом по всем правилам военного искусства. Но хорасанцы достойный противник и они оборонялись отчаянно, защищая свой город. Здесь им был знаком каждый дом, каждая улочка, каждое дерево. То, что у нас потери больше чем у них, это всем известное правило любой войны, наступающие теряет больше, чем обороняющиеся. Мы воевали честно, и по правилам. Нас не в чём за это упрекнуть. Всевышний тому свидетель и он на нашей стороне.
— От кого-то я уже это слышал? — взглянув на Сейф ад-Дина и хитро прищурясь, и без того прищуренным лицом, сказал Тимур, — Да сынок! У тебя достойные учителя! Но, в чём ты безусловно прав, так это в том, что Всевышний сегодня на нашей стороне. Он всегда на стороне победителей. Но если мы и впредь будем нести подобные потери, то Всевыщний может отвернуться и от нас. Ты оправдываешь наши потери тем, что мы начали эту войну по правилам? Чтож, возможно ты и прав. Значит, впредь будем вести войны без правил. И начнём это делать с Герата. Ты отправил туда сотню подготовленных здесь вчера «трусов» и «паникёров» из числа хорасанцев? — обратился он уже к Сейф ад-Дину.
— Отправил мой повелитель, — ответил тот.
— Вот и отлично, — Тимур повернулся к Мираншаху и уже спокойным тоном сказал ему, — Ты меня просишь наградить и возвести в достойный чин своего приятеля и троюродного брата Бури? Чтож, вчера он безусловно этого заслужил. В этом ни у меня, ни у кого либо из моих амиров*, нет сомнения. Но накануне, этот герой, совершил непростительную оплошность, хуже которой может быть только прямая измена. Он пригрел у себя под боком хорасанского «сукыр тычкана»*, что сегодня могло привести к нашему поражению. Вам должна быть известна простая истина. Наличие в рядах даже самого победоносного войска хоть одного «сукыр тычкана»* может свести на нет усилия этого войска, даже в борьбе с гораздо, более слабым противником. А может и вовсе явиться причиной поражения в войне. Поэтому, главная задача, которая ставилась Бури, заключалась в том, чтобы не допустить в ряды нашего победоносного войска «сукыр тычкана»* из стана душманов*. Для этого он не был ограничен ни в силах, ни в средствах. Но Бури с ней не справился. Он не только не очистил ряды нашего войска от «сукыр тычканов»*, но и пригрел самого опасного из них у себя под боком, а заодно и в моей ставке. И как после этого я должен с ним поступить?
— Но одного Бури в этом винить сложно, — вмешался Сейф ад-Дин, который чувствовал и свою личную оплошность, способствующую проникновению Кара-Кончара в ряды таваджи* Тимура, — Здесь и я оплошал. В сложившейся ситуации, никто из нас не смог бы распознать в Кара-Кончаре айгокчи* душманов*. Достаточно вспомнить, что доверие к себе он заслужил своими ратными подвигами, демонстрируя нам на деле свою преданность. Ты лично не один раз восхищался его подвигами, мой повелитель, ставя их нам в пример.
Сейф ад-Дин был одним из немногих амиров* Тимура, который иногда мог прямо в глаза высказать своему грозному повелителю всё, что думает, не боясь при этом за последствия. К подобнам высказываниям одного из самых преданных и заодно талантливейших полководцев, Тимур относился весьма терпеливо и сдержанно, хотя по большей части они ему и не нравились. Особенно, не нравилось Тимуру то, что Сейф ад-Дин высказывал ему всё это публично, в присутствии всей его хаваши*, и особенно то, что теперь его примеру, стал следовать и один из лучших учеников Сейф ад-Дина, повзрослевший не по годам, сын Тимура Мираншах. Вот и на этот раз, несмотря на высказанный в глаза неприятный намёк, Тимур всё же до конца выслушивал суждение своего лучшего, но не всегда удобного полководца.
— Поэтому, — заканчивал Сейф ад-Дин, — ни у кого из нас и в мыслях не возникло заподозрить в этом человеке айгокчи* Гияс ад-Дина. Потому, мой повелитель, решая вопрос в отношении Бури, прошу проявить объективность, милосердие и справедливость, исходя из всего, мною и Мираншахом сказанного.
Выслушав до конца Сейф ад-Дина, Тимур ещё раз обвёл своими прищуренными глазами присутствующих и сверлящим взглядом глядя в лицо своего любимца, в ярости начал «воспитывать» его, словно несмышлёного ребёнка.
— А по твоему, что же получается? — надрывая голос, отчитывал полководца Тимур, — По твоему мнению, «сукыр тычкан»* душманов*, внедряясь в нашу ставку, не должен был маскироваться под безупречного аскарбека*? На твой взгляд, этот хорасанский «сукыр тычкан»*, во время следования по улицам Самарканда или Бухары, а также находясь в моей ставке, должен был быть одетым в доспехи хорасанца. А кроме того, иметь в руках туг* самого Гияс ад-Дина? Тогда бы точно Бури и его яргу*, обратили на этого человека внимание, заподозрив в нём что-то неладное? Или этого тоже недостаточно? А-а-ах! Как же я забыл? — уже с иронической насмешкой продолжил Тимур, — Ведь для яргу* Бури, хорасанский «сукыр тычкан»* обязан был ещё воспевать своего правителя Гияс ад-Дина и читать в его честь философские рубаи* Омар Хайяма! Вот тогда бы, мои доблестные яргу*, уж наверняка распознали бы в этом «доблестном аскарбеке*, засланного хорасанского айгокчи*! Примерно это я, к сожалению, сегодня слышу от моих доблестных амиров*! Кто мне ответит, наконец? Зачем мне такие яргу*, а вместе с ними и Бури, хоть он мне и родственник? Из-за их ротозейства, я могу потерять не только всё своё победоностное войско, но и все мои завоевания в целом. Значительная часть погибших вчера наших жангчи*, это одновременно и заслуга того-самого айгокчи* Гияс ад-Дина, сумевшего загодя предупредить чурибаши* этой крепости о нашем приближении. Это и грубый просчёт Бури, который в условиях военного времени можно приравлять к измене. Может, я в чём-то не прав, ошибаюсь, или требую лишнего? Может ещё кто-то рискнёт меня по этому поводу поправить?
Сейф ад-Дин, потупя голову, молчал. Молчали и все остальные, включая Мираншаха. Тимур ещё раз окинул суровым взглядом каждого из присутствующих. Это, во многом ироничное напутствие правителя Мавераннахра выглядело как-то одновременно, и комично, и трагично. Но его амиры* и таваджи* уже знали, чем может заканчиваться «чёрный юмор» их Амир-ал-умара*, поэтому, как правило, основная часть амиров предпочитали отмолчиваться.
— Что вы все стоите как истуканы? — обратился Тимур сразу ко всем присутствовавшим, — Посоветуйте, как мне поступить в сложившейся ситуации? Или я один должен за всех думать и принимать решения, в том числе непопулярные? А потом получается, что ваш Амир-ал-умар* изверг, а вы все такие чистенькие, белые и пушистые? Что молчите? За дельные советы я больше никого наказывать не буду, даже если они не будут мне нравиться, или оскорблять моё личное достоинство. Давайте! Кто первый! Или мне назначать выступающих, да ещё установить очерёдность выступлений каждого из вас? Я жду ответов!
— Отец! — раздался голос Мираншаха, — Я не отступлюсь от своего требования. Никто не оспаривает виновность Бури в провале с этим хорасанским айгокчи*. Да, он безусловно допустил ошибку, как следует не проверив своих таваджи*, яргу* и джандаров* на причастность их куча* душману* в качестве яширин* хабарчи*. Но ошибка, это ещё не преступление. Ошибки можно исправлять и на них учатся. Любой человек, не может всю жизнь всё делать безукоризненно, избегая ошибок. Не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. Кроме того, любая ошибка исправляется без вреда для общего дела. Я считаю, что Бури во вчерашнем бою, уже исправил допущенную оплошность, показав чудеса героизма и при этом рискуя своей жизнью. Полученное им ранение говорит само за себя.
— Стоп, стоп, стоп сынок! — остановил Мираншаха Тимур, — Немного уйми свой пыл. Ты так слишком далеко зайдёшь, со своими неуёмными амбициями! За твою первую блестящую победу, от меня большое отеческое спасибо. Но это не даёт тебе права, что либо, требовать от меня. В условиях военного времени, я для тебя, как и для всех моих амиров* и, аскаров*, прежде всего Амир-ал-умар* и лишь потом отец, да и то не по военным вопросам. Поэтому, ты меня, можешь лишь просить о чём-то, а не требовать от меня что либо. Заруби это себе на твоём горбатом носу. Теперь послушай меня по поводу Бури. Ты настаиваешь на том, что Бури совершил всего лишь непреднамеренную ошибку. Возможно, что ты и прав. За принципиальную позицию я тебя искренне уважаю. Молодец! Но, запомни раз и навсегда! В условиях войны подобная непреднамеренная ошибка может быть хуже любой измены. Смотря, кто её совершает. Бури, безусловно, храбрый, ловкий и надёжный в сражении жангчи* и товаришь. В этом ни у кого нет сомнения. Этих его качеств, с лихвой хватило бы простому аскару*. Но их недостаточно амиру*. А тем более, амиру-ал-яргу*, каковым является Бури. Амир-ал-яргу* должен уметь не только безрассудно первым кидаться в пламя сражения и лихо махать саблей, но прежде всего, думать, и возможно даже головой.
Здесь Тимур явно съиронизировал, но он иногда умышленно использовал подобного рода приёмы. Этот бывалый воин считал, что они помогают юным, ещё не окрепшим «аболтусам», наподобие Мираншаха, лучше усваивать азы истины.
— У Бури же, мозги пока набекрень, — немного смягчив суровый тон в голосе, продолжил Тимур, — Ему явно не хватает терпения, усидчивости, широты мысли, смекалки и фантазии, и ещё ряда качеств, которыми должен обладать амир-ал-яргу*. Похоже, что на это место я его назначил преждевременно, а отсюда и результат, который мы теперь имеем. Но вот в чём ты прав, так это в том, что Бури способен признать свои ошибки, самокритично оценить их, научиться исправлять и больше не допускать. Поэтому, я пожалуй выполню твою просьбу. Дам возможность Бури достойно проявить себя, но, в несколько другом качестве. Для этого, ему придётся перевоплотиться в «другую шкуру» и проявить свои способности с противоположной стороны. Если справится, верну его на прежнее место. Уверен, что тогда, он уж точно не совершит подобной оплошности. Для этого, я уже подготовил тайное послание Умар-Шейху. Бури доставит его в Самарканд и передаст твоему брату. Затем, он пусть остаётся там и лечится, пока окончательно не выздоровеет. Но выздоровев, пусть Бури останется на куче* у Умар-Шейха, о чём я твоему брату тоже написал в данном послании. Достойнее места для Бури я пока не вижу. Собирай его в дорогу. А вы расходитесь по своим шатрам и хорошо подумайте, — обратился Тимур уже к присутствующим амирам*, — Вечером каждый из вас представит мне свои соображения, как с наименьшими потерями захватить Герат. Ещё раз повторяю тем, до кого туго доходит. О понятиях, воевать честно и по правилам, забудте! Помните только одно правило, вы должны непременно побеждать, и как можно с наименьшеми потерями. Не бойтесь на войне быть жестокими. Победителей никто и никогда не осудит, а вот побеждённым — горе. Так, кажется, когда-то говорили древние властители мира — великие румы*! Вечером всем быть у меня в ставке и каждому представить свои видения продолжения этой войны. Воевать и дальше, так как мы с вами начали, недопустимо ни в коем случае.
Амиры* разошлись по шатрам, а Тимур с Сейф ад-Дином Нукузом*, Мир Сайидом Береке* и Мираншахом остались обсуждать свои планы дальнейшего продолжения войны с Хорасаном.
Глава 4: Напутствие посланцам
от Умар-Шейха
На центральной площади Самарканда Регистане, где располагался главный городской базар, всегда было многолюдно и шумно. Узкие проходы его торговых рядов постоянно оставались завалеными грудами посуды, тазов, кувшанов и подносов, вычищенных до блеска и украшенных искустно выбитыми узорами. Здесь продавалась глиняные миски, тарелки и чашки, а также тонкая белая и голубая китайская посуда, да стеклянная из Багдада. Рядом располагались ряды всяких материй и сукон, китайского щелка и персидских ковров, а также изделий из кожи. В особых рядах продавались ароматные лечебные бальзамы, касторовое и розовое масла, бухарское мыло и тибетский мускус, темные шарики гашиша, дающего дурман.
Опираясь на свою трость и всматриваясь в лица тогующих, по рыночным рядам пробирался значительного роста и телосложения человек. Несмотря на то, что одет он был в обыкновенный халат, которые носили среднего достатка жители Мавераннахра*, в его осанке и поведении просматривалась принадлежность этого человека к воинскому сословию, представители которого звались гулямами*. Этого незнакомца звали Бури. Ещё совсем недавно, он вместе с войском владыки Мавераннахра амиром* Тимуром* находился в Хорасане*. Там Бури был ранен стрелой в бедро во время штурма города Фусанджа и теперь, вернувшись в Самарканд, подлечивался после ранения.
Походив по рынку, Бури остановился у груды ковров, возле которой сидели важные купцы. Они, скрестив ноги, беседовали друг с другом о своих делах, попивая чай. Среди них Бури увидел одного из тех торговцев, которых искал.
— Дядюшка Кутфи! — подняв руку вверх, обратился он к этому купцу — Ты меня не помнишь? Я твой сосед Бури. Мы одно время жили пососедству в Широзе*.
— Ас-саляму алейкум* Бури, — начал припоминать купец, — Как ты вырос! Я тебя сразу и не признал. Что ты здесь делаешь и как меня нашёл?
— Ва-алейкум ас-салям*, — ответил на приветствие Бури, — Добрые люди подсказали, Я вас с Камолом уже с самого утра ищу. Мой саид* Умар-Шейх* велел его срочно разыскать и к себе доставить. Дело у него очень важное к твоему сыну. Мы Камола быстро разыскать сможем?
— Непременно, — ответил Кутфи, и подозвав слугу, отправил его на поиски сына.
Пока слуга непонятно где пропадал в поисках Камола, тот сам вернулся на рынок к отцу, где они и встретились с Бури.
— Ас-саляму алейкум*. Какими судьбами в наших краях? Ты, насколько мне известно, в нукерах* у самого Амир-ал-умара* и с его победоностным войском добываешь себе славу в Хорасане?
— Ва-алейкум ас-салям*. По поводу славы ты конечно прав, а сюда мне пришлось вернуться из-за ранения. В остальном, ты тоже прав. Я теперь являюсь нукером* у Великого амира*. Мы же с ним не только соплеменники, но и родня. Одним словом — барласы*. Теперь я здесь поправляю здорновье и нахожусь в распоряжении его сына, и своего троюродного брата Умара-Шейха. Кстати, я ему доставил какое-то послание Амир-ал-умира* и на счет тебя.
— Какое именно, если можно полюбопытствовать?
— Мне о том не ведомо. В Кук-Сарай*, то послание Амир-ал-умара*, я привёз в запечатанном виде и передал лично Умар-Шейху. А сегодня он велел мне тебя срочно разыскать и доставить к нему прямо в Капу*. Поговорить с тобой о чём-то очень важном желает.
— Ну что же! Для меня это большая честь! В Кук-Сарае* я бывал всего один раз и очень, очень давно.
Камол с Бури покинули рынок, сели на заранее приготовленных для них лошадей и направились прямо в Капу*. Умар-Шейх находился в одном из садов Бустосарая*. Стража пропустила к нему прибывших, и Камол опустился перед Умар-Шейхом на одно колено. Он имел на это право в соответствии с действующим этикетом, установленным Тимуром для той категории нукеров*, которые звались посланцами*, приравняв их тем самым к воинскому сословию. Умар-Шейх относился к разного рода этикетам совершенно равнодушно, поэтому придерживался их лишь во вренмя публичных мероприятий. Он знаком велел Камолу встать, а Бури и другим, удалиться из помещения, что те и сделали.
Поинтересовавшись, для приличия, здоровьем и состоянием дел Камола и его семьи, Умар-Шейх быстро перешёл к делу.
— Сейчас мой отец, во главе нашего славного войска, ведёт победоносную войну в Хорасане, — продолжил Умар-Шейх, — Вчера я получил радостное известие! Нашим победоносным войском, почти без потерь была взята главная столица Хорасана, город Герат. Потерь удалось избежать благодаря мудрости, воинского таланта, а главное хитрости наших амиров* и самого Амир-ал-умара*, тоесть моего отца. Но в этой войне нам не всегда сопутствовала такая удача. Тебе, наверное, Бури уже рассказал о штурме нашим войском крепости Фусанджа?
— Да, кое-что он мне рассказывал. Но, в общих чертах. В подробностях лишь об обстоятельствах полученного ранения.
— Значит, рассказывал не всё. Я так и думал. Скрывает кое-что от огласки, и прежде всего своё собственное фиаско. Так вот, послушай обо всём от меня, чтобы сделать для себя правильные выводы. За взятие этой, даже не крепости, а крепостёнки, нам пришлось заплатить, слишком, дорогую цену. Наша победа оказалась «Пирровой»*. Почему такое могло произойти? А произошло это потому, что в ходе её штурма, нашим воинам пришлось столкнуться с заранее подготовленным и очень хорошо организованным сопротивлением душманов*, а также мастерски построенным, и потому, почти неприступным стенам и бастионам данной крепости. В довершение ко всему, накануне этой войны, в наших рядах зарылся хорасанский «сукыр тычкан»*, который держал амиров* Фусанджа в курсе наших намерений, передвижениях чагатайского войска, его численном составе и вооружении. О том, что хорасанский тагнуул* оказался, чуть ли не в самой ставке Амир-ал-Умара*, во многом вина непосредственно Сейф ад-Дина и особенно Бури, пригревшех этого чуябури* под своими боками. Их халатность привела к дополнительным людским и иным потерям с нашей стороны. За это, твой друг детства и мой троюродный брат Бури, ещё достаточно легко отделался от наказания. Ранение спасло его от худшего. Не смотря на то, что Бури любимчик Амир-ал-умара*, сидеть бы этому любителю помахать шамширом* по делу и без дела, в каком нибудь зиндане*. Не помогло бы ни родство, ни прежние заслуги. Я знаю своего отца слишком хорошо, он не терпит подобных провалов и прощает за них крайне редко. Если бы не тот самый случай, при штурме Фусанджа, давший возможность Бури проявить себя с наилучшей стороны и смягчиший гнев отца за допущенную оплошность, о последствиях, грозящих этому бесстрашному, но безрассудному вояке, даже страшно подумать! Вероятнее всего, теперь уже его верные яргу*, сдирая шкуру с их недавнего амира*, словно с простого куйкора*, с упоением наслаждаясь бы экзекуцией. А такой, как асосий* джандар* Конхур, не упустил бы возможности вырезать из тела вчерашнего своего саида* кусок мяса и сжарить из него шашлык, чтобы затем уплетать это жарево за обе щёки. После всего случившегося, Бури было бы лучше тихо сидеть в Самарканде и зализывать раны, при этом всё переосмысливать и сделать правильные выводы. Он же занимается бравадой по поводу своих случайных подвигов. Даже мой мудрый отец признал свои ошибки за Фусандж перед Всевышним, извлёк из них необходимый урок за случившееся! Поэтому, уже при взятии гораздо более серьёзной крепости, такой как Герат, наше войско почти не понесло потерь. Но отец и на этом не успокоился. Он хочет сделать всё возможное и невозможное, чтобы в дальнейших войнах, наше победоносное войско несло как можно меньшие потери. У отца уже теперь, на этот счёт имеются свои соображения. Ещё в ходе подготовки к этой войне, ему от торговцев стало известно, что в некоторых странах, в том числе соседней Комании*, имеется какое-то невероятное, стреляющее огненными стрелами оружие. Эти стрелы якобы крушат всё на своём пути, в том числе пробивают любые крепостные стены. В Комании*, это оружие якобы научился делать один из мастеров, ранее долго скитавшийся по странам последнего моря*, а ныне проживающий в городе Булгар*. Там это оружие зовут туфангами*, а сам город располагается в верховьях реки Итиль*. Если это действительно так, то подобное оружие нам тоже необходимо заиметь. Вот отец и решил направить тебя в эту самую Команию*, чтобы выяснить правду о наличии там этого оружия, а если повезёт, и раздобыть его. Бури поступает под твоё начало. Делай с ним всё, что посчитаешь нежным, без оглядки на принадлежность к нашему родству. Это повеление самого Амир-ал-умара*. Оно не подлежит обсуждению, ни под какими, даже самыми весомыми предлогами. За неповиновение тебе, Бури ждёт смерть. Это тоже веление Амир-ал-умара*. Я уже уведомил об этом Бури лично. Используй его в самых опасных местах и в самых трудных делах. А заодно, выбей из Бури остаюшиеся у него дурь и спесь. Но самое главное, научи его думать, и обязательно головой. Кажется, в детстве ты был у Бури «мальчиком на побегушках»? Так вот теперь, уже он переходит к тебе в «мальчики на побегушках». Ты что-то хочешь мне сказать?
— Да, пока не забыл. А что за страна такая, эта Комания*? Мне все соседние страны известны, но о Комании* я почему-то не слышал. Нет, кажется, такой страны во вселенной!
— Это венецианские купцы и другие жители Европы так Кыпчакское царство* зовут, а их самих куманами*. Сами же кыпчаки* воспринимают это прозвище как насмешку и очень не любят, когда их так называют. Им больше по душе татары*. Но ведь и мы татары! Не могут же все народы Азии зваться татарами? — Умар-Шейх громко рассмеялся.
— Вот оно что! Кажется, я всё начинаю понимать. В медресе* нам говорили, что некоторые иноземцы этот народ ещё ордынцами* зовут. Я их тоже, помниться, именно так и звал. Но то, что этот народ присвоил себе ещё и наше наречение татары*, я от тебя впервые слышу.
— Звать можно как угодно, хоть «горшками», не в этом дело.
— Так ведь там теперь правит Тохтамыш? — удивился Камол, — Ему же Амир-ал-умар* помог стать правителем этой самой страны? Неужели он в благодарность, добровольно не может передать нам это оружие?
— Ты посланец* Амир-ал-умара*, а продолжаешь выглядеть этаким наивным простаком. Запомни раз и навсегда, если в медресе* вас этому не учили! Тохтамыш чингизид*! По законам степи он рождён властвовать и повелевать людьми на земле, а мой отец, за всю свою нелёгкую жизнь добился лишь права быть Амир-ал-умаром*. И далось ему это неимоверным трудом, потом и кровью. Но, не смотря ни на что, он не сможет получить права властвовать над людьми наравне с чингизидами*. В силу сложившехся обстоятельств, отец воспринимает Тохтамыша как своего сына и тот в открытую этому пока не перечит. Но, пока этот оглан*, как в Комании* зовут чингизидов*, прятался у нас в Самарканде от своего злейшего врага Урус-хана, я сумел хорошо присмотреться к нему, как человеку, и изучить его не только достоинства, которые у Тохтамыша безусловно есть, но и понять его гниловатую сущность. Безусловно, именно отец помог этому, до недавней поры незадачливому чингизиду*, стать правителем Комании*. В недавнем прошлом это была самая мощная страна вселенной, но затем, благодаря бездарности и никчёмности её последних горе-правителей, чингизидов* кстати, она менее чем за двадчать лет скатилась до нищеты и разрухи. Вот и в данный момент, эта страна, уступающая по своим размерам, ресурсам и соответственно богатствам разве что только Китаю и Индии, продолжает влачить жалкое существование. Поэтому, получив с помощью отца влать над Команией*, Тохтамыш, до определённой поры, будет конечно относиться к нему с некоторым почтением. Но как только, страна этого чингизида* встанет на ноги, а сам он окрепнет как правитель, учитель ему станет не нужен. И вот тогда-то, ещё неизвестно, как дальше всё может обернуться! Я тебе уже говорил, что заподозрил в душе Тохтамыша гниловатую сущность. Теперь к сказанному мною, появились и первые подтверждения. Не прошло и года, а наши элчи* в Комании*, уже шлют чопарами*, всякие тревожные яширин* хабары*. Из них следует, что этот, в своё время недощипаный курёнок, похоже, уже подчистил свои обмокшие пёрышки раньше предполагаемого нами времени, — меняя мимику лица, словно задумываясь, продолжал рассуждать Умар-Шейх.
— Как результат! — сын Тимура вдруг сделал паузу, подбирая очередное выражение, — Теперь Тохтамыш возомнил себя, чуть ли не бойцовским петухом, решив, что может покукарекивать и в нашу сторону. К счастью, пока это больше напоминает кудахтанье. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Сегодня это кудахтанье у нас особых тревог не вызывает. Оно заключается лишь в попытках Тохтамыша плести против нас интриги с некоторыми влиятельными странами востока. Только лишь благодаря фавориту* Тохтамыша, Али-Беку-конгурату*, вместе с нашими Урлук-Тимуром* и Ак-Бугой*, удаётся удерживать этого, нашего же «засланца», от вредоносных нам действий. Но сколько ещё, это сможет продолжаться? Если всё это дело пустить на самотёк, то недалёк тот момент, когда нынешний, как нам хочется верить, холбоотон* Тохтамыш, окончательно оправившись и набрав достаточно сил, возьмёт, да и повернёт всю мошь своей огромной и богатой всем, чем только можно Орды*, против нашего неокрепшего и скудного ресурсами Турана*.
— Вполне возможно! — задумчиво произнёс Камол, — Но я не совсем представляю, как это всё, возможно осуществить на деле? У Тохтамыша ведь основная военная сила, это наши два тумена*, которые передал под его начало Амир-ал-умар*. Ими, опять же, командуют наши, самаркандские амиры*. Они ему как помогли стать царём* в Сарае*, так, с таким же успехом, и свергнут, если понадобится. Своего собственного войска у Тохтамыша в Орде* нет, а есть лишь отдельные, хоть и значительные воинские формирования его вассалов* улусбеков*, которым они и подвластны. Нам в медресе* поясняли, что ордынское войско состоит из туменов* отдельных улусов*, над которыми верховный правитель не имеет никакой власти. Он властвует лишь над улусбеками*, а уже те, командуют каждый своим туменом*. Один наш мударрис* говорил, что главный принцип власти в Орде*, заключается в том, что «вассал моего вассала, не мой вассал*». Поэтому в Орде так часто в последнее время свергали верховных правителей, которые в этой стране зовутся толи царями*, толи ханами*, как у нас? Я считаю, что ордынским улусбекам* должно быть всё равно, кто ими правит на данный момент, Тохтамыш, либо другой, какой нибудь чингизид*? А желающих сесть на трон в Сарае*, из числа чингизидов*, хоть отбавляй! Не зря ведь придумали поговорку, что «свято место, пусто не бывает»! Это, как я считаю, относится именно к Орде* и её нынешним верховным правителям.
— А скажи мне. Ваш этот мударрис*, он ведь, наверняка европеец?
— Он рум*, но принявший ислам по своему убеждению, как самую истинную веру. А он что, тебе знаком, или ты его в чём-то подозреваешь?
— Не знаком и не подозреваю. Просто вассалами*, своих хумуусов*, зовут европейцы. Однако, это выражение стало проникать и в наши, восточные языки.
— Но, разве этот человек в чём-то не прав?
— В каком-то смысле, прав, но далеко не во всём. В частности, это касается непосредственно Тохтамыша*. Здесь не всё так просто, как ты считаешь. Два тумена* отец ему действительно дал, и сейчас это фактически кешиктены* ордынского царя*. Кроме того, Амир-ал-умар* ещё своих людей Урлук-Тимура* с Ак-Бугой* в качестве ближайших советников Тохтамышу приставил, чтоб следили за ним неусыпно. Но только делать это у нашех элчи* не всегда получается. Одно из первых повелений Тохтамыша было немедленно восстановить город Бальчимкин*, о котором мы ранее и не слышали. И сделал он это втайне от наших людей. Знаешь почему?
— Не знаю. Я даже не ведаю об этом городе.
— Торговцы говорят, что это, всего лишь, средних размеров городишко на реке Итиль*. Но ценность его в том, что в этом месте, русла рек Итиль* и Тан*, подходят близко друг к другу. Но далее, эти реки, растекаются уже в разные стороны, к Хазарскому* и Понтийскому* морям соответственно. К последнему, воды Тана* попадают через мелководный, но богатый ценной рыбой Балык-денгиз*. В нём ту рыбу, можно ловить чуть-ли не рукакми. До Бальчимкина*, мы тоже отсюда вплавь добраться могли бы, если бы повернули в старое русло Дарьялык* и углубили Узбой*. Но земли, через которые текут эти реки, себе ещё забрать нужно. Они несправедливо принадлежат нашим соседям. Возле этого Бальчимкина*, от Итиля* до Тана* переволока имеется, по которой даже корабли волоком по брёвнам перетаскивают. Раньше, эта переволока являлась своего рода перевалочным пунктом, так как находилась на одной из ветвей Великого шёлкового пути*. Потом в Комании* началась большая чехорда и движение караванов по той ветви прекратилось. Они пошли по другой, хотя и несколько дорогой, но более безопасной, южной ветви, то есть, через наши земли и города. Говорят, что многие купцы до сих пор сожалеют о прекращении существования северной ветви. Ведь тот путь был гораздо короче и менее затратен, поэтому торговцы и предпочитали именно его. Но слава Всевыщнему! Именно благодаря его милости, команские* правители оглупели и пересобачились между собой. Благодаря этому, уже более двух десятков лет торговые караваны идут через Мавераннахр*, принося нам в казну немалые барыши*. Однако, если Тохтамыш восстановит эту ветвь снова, сделав её более безопасной для торговцев, основная часть караванов опять двинется по ней, тем самым, лишая нашу казну немалых доходов. Похоже, что Тохтамыш именно это и хочет сделать, не посвящая в свои замыслы наших людей, а заодно и своих ближайших советников.
— Но кроме Урлук-Тимура* и Ак-Буги*, возле него ещё немало наших доблестных амиров*, которые командуют нашеми же туменами*? От всех их подобные тайны не утаишь! Чего стоят одним только Казанчи и Идигу, о которых я так много наслышан.
— К нашему счастью, это пока так и есть. Сейчас я владею и теми тайнами царя* кыпчаков*, о которых не ведают даже его ближайшие советники, — при этом Умар-Шейх вновь заулыбался, намекая тем самым, на недоработки Урлук-Тимура* и Ак-Буги*. Но неожиданно эта улыбка куда-то исчезла, а лицо побагровело, — Однако, имеются и более серьёзные опасения на этот счёт.
— В чём же они заключаются?
— А заключаются они как раз в том, что Тохтамыш стал набирать себе кешектенов* из кыпчаков*. Этим занимается лично один из его самых доверенных людей, тот самый Али-Бек-конгурат*, которого Тохтамыш возможно скоро сделает беклярибеком* Комании*. Запомни это имя, там его зовут, в основном, просто Али-Беком. Урлук-Тимур и Ак-Буга к тем делам не допускаются. Боюсь, что скоро они вообще не будут нужны Тохтамышу и царь* кыпчаков* от них избавится.
— Но Амир-ал-умар* этого не должен допустить! Он способен на всё, мыслимое, и немыслимое!
— Опять здесь не всё так просто. Отец, безусловно, Великий амир*, но он не Всевышний, и не всё в его силах делать на этом свете. Его людей в Сарае* могут отравить, утопить, сделать пропавшими без вести, да и мало ли чего ещё! Потом кыпчаки* будут разводить руками, «не уберегли мол, и теперь всеми силами ищем виновных «негодяев». Если найдём, когда нибудь, непременно «накажем», и нести прочее словоблудие, при этом преданно глядя нам в глаза. Искать конечно будут долго, «упорно» и бесполезно! Только нам от их бессмысленных «стараний» легче не станет. С нашеми туменами* тоже не всё так гладко. Тохтамыш уже высказывал намерение направить один из них в Маджар* на постой, под предлогом, что ему много войск, в столице держать накладно. Нашим советникам тогда удалось его отговорить. Но он может, как бы из благих намерений, отправить наших аскаров* куда подальше, например, на войну с превосходящим по силе противником. А оттуда, вероятнее всего, этим туменам* уже не вернуться. Таким примерно образом, ему и от тех наших амиров* нетрудно будет избавиться.
— Теперь мне суть становится ясна. Но в таком случае, от меня как посланца*, что требуется?
— От вашей миссии потребуется следующее. Тебе, с твоим отцом, необходимо будет, срочно снарядить караван и отправиться в Команию*, а именно в город Булгар*. В этом городе вам с Бури необходимо будет, тщательно проверить слухи о сушествовании оружия, стреляющего огненными стрелами и о мастере, его изготовившем. Если слухи подтвердятся, вам необходимо постараться раздобыть это оружие, неважно каким способом, подкупом или силой, а затем вывезти его сюда, желательно вместе с мастером. Лучше, если получиться подкупом, чтобы кыпчаки* не встревожились и не отправили за вами погоню. Средств не жалей. В убытке не останетесь. Мы с отцом покроем все ваши затраты с лихвой. Если не будет получаться, подумай, как это можно сделать силой, только аккуратнее. Нам нужны живые герои Самарканда, а не вечная о них память, как о мёртвых. Ещё имеются на этот счёт вопросы?
— Имеются! В случае, если люди Тохтамыша будут препятствовать мне в чём либо, я могу обратиться за помощью к Урлук-Тимуру или Ак-Буге, и в каком объёме?
— Не сможешь при всём желании. Булгар* от Сарая* очень далеко. Кроме этого, похоже, что ни Тохтамышу, ни нашим людям в Сарае*, об этих туфангах* ничего не известно. Да Тохтамышу сейчас и не до этого. Мы вести из Сарая* получаем раньше, чем из Булгара*. Кроме того, в Булгар* караваны идут обычно через тургайские степи. Места там пустынные, безводные и безлюдные, хотя и джете* поменьше. Вам тоже с караваном следует до Булгара* этими сакмами* пройти.
— Получается, что нам в Сарай* заходить не следует?
— Нет, но только в том случае, если в Булгаре* получиться затея с оружием. Если оружия там не окажется, необходимо пройти через все города вдоль Итиль*, от Самарского перевоза*, что пониже Булгара*, до Туратурской переправы*. По пути следования выявить все переправы через эту реку и их пропускную возможность. Выяснить, как они охраняются, наличие и количество на этом пути караван-сараев*, их названия. Необходимо попутно изучить все дороги, которые в Комании* зовутся сакмами*, и дзя*, в том числе те, что подходят к городам на этой реке из степи. А ещё необходимо, вдоль пути следования установить места компактного проживания враждебно настроенного к команам* и монголам местного некоманского населения, из которого вдальнейшем можно сделать шайки* джете* для нападения на торговые караваны. Далее, необходимо установить устойчивые связи с меликами* этих народов и их прочими баши*. В Бальчимкине*, Сарае* и селениях, расположенных рядом с названными мною и вновь выявленными вами переправами, необходимо поселить для постоянного проживания своих людей. Они могут быть не обязательно из числа твоих караванщиков. Пусть эти люди обживаются среди местных туземцев и внедрятся в среду их местной знати. Исходя из обстановки, нужно решить вопрос об установлении надёжной и быстрой связи с вновь пристроенными вами в указанных местах людьми. Для начала этого достаточно. Справишься?
— Сделаю всё, что в моих силах, но оправдаю ваше с Амир-ал-умаром* доверие, мой повелитель.
— И ещё попутно, от меня будет личная просьба. В Сарае* перед Алт-Сараем* раньше стояли два вылитых из чистого золота коня в натуральную величину и с красными рубиновыми глазами. В межцарствие беклярибека* Мамая и Тохтамыша один из коней таинственным образом неизвестно куда исчез. Остался один. Тохтамыш винит в исчезновении Мамая, а тот, в свое время винил Тохтамыша, но истина не известна до сих пор. Попробуй прояснить истину, но об этом должен знать только я. Не следует по пустякам отвлекать от более важных дел Амир-ал-умара*. Для осуществления предстоящих миссий пока могу предоставить в твоё распоряжение только Бури. Толковых людей у меня тоже позарез не хватает, а юлэры* никому из нас не нужны. Значит, остальных людей будете подбираеть с твоим отцом и Бури сами, по своему усмотрению и, разумеется, полностью отвечать за их поступки. Согласно замыслу похода, этот караван якобы, принадлежит твоему отцу, а ты при нём лишь командуешь охранением. На самом же деле, баши* в караване лично ты. На твоего отца возлагаются лишь хозяйственные заботы и торговые сделки, а Бури твой как бы обыкновенный, ничем не выделяющийся от остальных членов миссии, но находящийся в дальник родственных отношениях, нукер*. Как мне известно, у тебя есть ещё молодой, но взрослый умом и очень смышлёный брат? Возьми его тоже с собой. Пусть постигает искуство посланца* и аскара*. Ясно?
— Яснее не бывает, мой повелитель, сделаю всё, как прикажешь, — пообещал Умару-Шейху Камол.
— Тогда с богом. Пусть светит вам счастливая звезда и будет на вашей стороне фортуна. Да сохранит тебя и твоих людей Всевышний!
Глава 5: Самаркандская миссия в Булгаре
Камол был старшим сыном купца Кутфи. Их семья проживала в одном из пригородных селений Самарканда. Недавно Камол закончил один из старейших медресе* Бухары. Кроме теологии (богословия), в те далёкие годы учащиеся медресе* осваивали: философию, историю, географию, медицину, культуру, искусство, иностранные языки (среди которых обязательным был арабский), и другие науки. В средневековье, в странах Востока исповедующих ислам, медресе* было не только школой богословия, но и универсальным светским учебным заведением. По его окончании выпускники становились не только священнослужителями, но также учёными, дипломатами, писателями, философами, врачами, хакимами*, амирами* и т. д. Это обстоятельство повлияло и на дальнейшую судьбу Камола. Через улемов* медресе*, о талантливом юноше стало известно духовному наставнику Тимура — Мир Сейиду Береке*. Завершив учёбу, по рекомендации последнего Камол был принят на службу (куч*) в диван-арз* самаркандского Великого амира* в качестве посланца*. С этого момента ему было официально присвоено имя Камол ад-Дин (совершенство веры, или совершенно верный), но в быту его так и продолжали звать просто Камолом. Наравне с ним, посланцами стали и ещё некоторые его сверстники по учёбе в медресе*. В обязанности посланцев* входило, под видом купцов, различного рода миссионеров, путешественников, советников, посещать разные страны, как враждебные, так и дружественные Мавераннахру* (Турану*). Вести на их территории сбор сведений военного, политического и экономического характера, состоянии оборонительных сооружений городов и транспортных коммуникаций, организации системы связи, и оповещение Тимура об угрозах в адрес его лично и управляемого им государства. Посланцам* также вменялось в обязанности: осуществлять создание в разных странах и на завоёванных Тимуром территориях сетей лазутчиков и прочей агентуры (на современном языке — резидентур). Они должны были выявлять в среде приближенных к правителям этих стран сторонников (агентов влияния) Великого амира*, а также противников (дессидентов и просто оппозиционно настроенных людей), как самих вышеназванных правителей, так и проводимой ими политики. В период пребывания в различных городах и других селениях этих стран, посланцы должны были прорабатывать там, на месте, системы распространения слухов, дезенформации, недоверия к правящим элитам и другие вопросы, которые могли иметь значение для достижения правителем Мавераннахра* (Турана*) намеченных целей. Впоследствии, подобная деятельность таких людей получила известные названия: шпионаж, диверсии, терроризм, подрывная деятельность, гибридные войны и т. д.
Руководство деятельностью посланцев* Тимур осуществлял сам лично. Однако, на период его длительных походов и отсутствий, эти полномочия передавались второму сыну Великого амира* — Умару-Шейху*. Он, после смерти старшего брата Джахангира*, являлся ссреди тимуровских детей старшим. Вот и на этот раз, отправившись в свой первый заграничный поход для завоевания Хорасана, Тимур впервые передал Умару-Шейху почти все властные полномочия по управлению Мавераннахром*. Руководство же деятельностью посланцев, Великий амир решил передать в руки Умара-Шейха полностью, даже на периоды своего пребывания в Самарканде. Ему, с каждым днём становилось всё труднее справляться с нарастающими как снежный ком проблемами в управлении государством. Начавшаяся война с Хорасаном их ещё больше прибавила. В частности, первый же штурм вражеской крепости Фусандж привёл к недопустимым потерям в войске Тимура, что заставило его переосмыслить случившееся и задуматься над совершенствованием методов ведения войны созданной им армии, улучшении её вооружения и материально-технического обеспечения.
В раздумьях над этими проблемами, Тимур вспомнил, что ещё за несколько лет до хорасанских событий, он слышал от купцов мифический рассказ о существовании какого-то страшного, неведомого доселе оружия. Любознательный Тимур, желавший знать, о творившехся во вселенной делах «всё и вся», пригласил тех купцов к себе в Кук-Сарай*, и хотя не испытывал доверия к мифам, внимательно выслушал этих странствующих по всему миру торговцев. Из их рассказов следовало, что в ордынском городе Булгаре* проживает некий оружейный мастер по имени Ас*, которому его отец по имени Тауфик*, перед самой своей смертью, передал разгаданный им секрет изготовления неведомого доселе оружия, стреляющего огненными шарами и стрелами. Это оружие, якобы, было создано китайцами задолго до времён Чингисхана, но использовалось теми в основном для развлечений. Как боевое, оно было применено в войне против монголов в период их нашествия на Китай (страну Чин*). Однако, в связи с несовершенством, эта новинка в той войне большой роли не сыграла. Впоследствии, об этом оружии надолго забыли, пока оно вновь не появилось у некоторых арабов и европейцев. Путешествуя по их странам, Тауфик* якобы и выведал секрет его изготовления, но сам его не изготавливал. Перед самой своей смертью, он передал этот секрет своему сыну Асу*, который и смастерил это оружие, названное туфангами*. По словам бывавших в Булгаре* очевидцев, при стрельбе оно, якобы, издаёт страшный гром, а его огненные стрелы могут сразить противника на большом расстоянии и рушить не только деревянные, но и каменные сооружения. Выслушав торговцев, Тимур вновь отнёсся к полученным от них известиям как сплетням и вымыслам, сразу не придав этому должного значения. Однако, во время войны с Хорасаном, столкнувшись с проблемами взятия их хорошо оборудованной крепости, он решил проверить истинность полученных от этих торговцев сведений, а в случае их подтверждения, даже обзавестись данным оружием. С этой целью, Тимур направил послание своему сыну Умару-Шейху, в котором велел, соблюдая меры предосторожности и конспирации, снарядить и направить в Орду* специальную миссию посланцев* под видом торгового каравана. Этим «торговцам» было велено, как можно больше выведать секретов о существовании неведомого оружия и способах его изготовления, а по возможности раздобыть его целиком и переправить в Самарканд. Если же будут позволять условия, необходимо было с тем самым оружием, захватить и переправить в Мавераннахр* и самого мастера-оружейника.
Для осуществления задуманного, Умар-Шейх и решил направить в Булгар* одного из своих посланцев* Камол ад-Дина, для которого, это поручение сына Великого амира*, было первым в его жизни подобного рода серьёзным заданием.
По прибытии в этот далёкий ордынский город, караван Кутфи разместился в одном из местных караван-сараев*. Устроившись на новом месте и изучив особенности торговли на здешних рынках, предприимчивый «владелец» каравана занялся торговлей на местном базаре, одновременно собирая сплетни и слухи, которые в изобилии плелись в среде местной базарной публики. В свою очередь, Камол ад-Дин с младшим братом Эргашем и Бури, занялись их проверкой. Об оружейном мастере по имени Ас*, сделавшем огнестрельное оружие, знал почти каждый житель Булгара*, но преподносил это событие каждый посвоему, и понять, где в рассказах истина, а где вымысел, сразу было невозможно. Однако, в процессе сбора и проверок полученных сведений, теперь проишедшее действо выглядело в значительной степени наиболее правдоподобным и сулило самаркандским миссионерам определённые надежды на достижение поставленной перед ними цели. Как стало известно из рассказов булгарцев, это изделие, напоминающее трубу, использовалось сотворившим его мастером в основном во время праздничных гуляний на городской площади, чтобы позабавить публику и заодно заработать себе на жизнь. Труба изрыгивала огонь с дымом, при этом издавая невероятный гром, чем пугала присутствующих на празнествах людей. За зрелище, с посетителей изымалась определённая плата. Часть собранных средств доставалась самому мастеру, а часть уходила в городскую казну, или людям ею распоряжавшимся. Потом с мастером подружился некий мударрис* местного медресе*, который преподавал в нём учащимся точные науки, и в частности математику. Этот улем* якобы прибыл в Булгар из какой-то далёкой заморской страны. Булгарцы говорили, что мударрис* был полубродник*, полукыпчак*, а звался он Илыг Тюляк. Он делал для Аса* какие-то никому не понятные расчёты, вымеряя углы наклонов этих адских труб перед стрельбой. В результате, огненные шары из тех труб, попадали в цель не только при стрельбе прямой наводкой, но даже из-за холмов и других укрытий. За это Тюляк получил прозвище жид-математик*, а мастер Ас* называл его, либо ёрдамчи мутахассисом*, либо просто тезэтуче*. С момента, когда между ними завязалась дружба, зрелища при стрельбах стали ещё интереснее и собирали больше народу. Соответственно, как Ас, так и Тюляк, стали зарабатывать куда больше. Больший барыш* стал поступать от этого и в городскую казну. Так и продолжалось это дело несколько лет, пока в Булгаре не произошло следуюшее событие.
Прошедшим, до прибытия самаркандской миссии летом, пятитысячное булгарское войско, возглавляемое эмиром* Сабаном, выступило на помощь ордынскому беклярибеку* Мамаю. Тот пошёл войной на отказавшехся ему покориться балынцев*. Вместе с войском, в поход были призваны мастер Ас с улемом* Тюляком, которые взяли с собой и те два, изготовленные ими накануне туфанга*. Так звались у мастера эти самые, стреляющие огнём трубы. В том походе балынцы* разбили ордынцыв* и большая часть булгарского войска домой не вернулась. Не вернулись и мастер Ас* вместе с Тюляком. Что стало с ними и их туфангами*, никто из жителей Булгара сказать не мог. Большинство считало их погибшими.
Прошло уже почти две недели. Камол ад-Дин, Эргаш и Бури нашли и опросили около полусотни участников того похода, но результатов это не принесло. Но Камол ад-Дин не оставлял надежды и продолжал поиски. Особый интерес у него вызвал тот факт, что через некоторое время, после неудачного похода, из города исчезла семья мастера и его близкое окружение, но этому также никто не придавал значения. И вот, наконец, удача пришла посланцам* оттуда, откуда Камол ад-Дин с его спутниками, ждали её меньше всего.
Однажды на базаре к Кутфи подошёл неизвестный, с виду напоминающай дервиша* и попросил устроить ему встречу с одним из сыновей. Вид у обратившигося был жалким, старая изношенная одежда, бледное болезненное лицо, с рубцами и шрамами, изуродованная правая рука. Первое желание у Кутфи было прогнать незнакомца, но зная, чем в данный момент заняты сыновья, он решил согласиться. Мало ли чего, вдруг на самом деле что-то и впрямь полезное сообщит. Встреча была назначена на следующий день возле базара. Вечером произошедшее было обсуждено в узком кругу между Кутфи, Камол ад-Дином, Эргашем и Бури. На встречу с незнакомцем решил пойти сам Камил ад-Дин.
На следующее утро посланец* поджидал незнакомца возле входа в базар*. Последний долго ждать себя не заставил и едва только на базаре появились первые торговцы и покупатели, подошёл к Камол ад-Дину, а тот узнал его, сравнив с описанием, сделанным отцом.
— Ас-саляму алейкум*, — обратился незнакомец к Камол ад-Дину на правах старшего, — Мне известно, что ты старший сын самаркандского купца, что торгует на нашем базаре*.
— Ва-алейкум ас-салям*, — ответил Камол ад-Дин, — Кто ты и кем будешь, почненный.
— Меня зовут Салимбег, но в миру, просто Салим. Сейчас я вольный странник, а в прошлом был нукером* у здешнего эмира* Сабана.
— Почему же теперь не на куче*?
— А разве хоть кому-то бывают нужны калеки? С тех пор как я вернулся с войны, так и странствую. Нигде и больше никому не нужный. Нищенствую, словно изгой, да живу на то, что добрые люди подадут.
— Тогда зачем я тебе понадобился? Не могу же я всех ордынских ниших милостынью одаривать!
— А тебе и не нужно. Я знаю, что ты мастера Аса* ищешь. А я знаю, где его найти. Если сторгуемся, то расскажу.
— Почему я должен тебе верить? Деньги возмёшь и обманешь. А потом, откуда тебе может быть что-либо известно о мастере? Ни одному почтенному булгарцу неизвестно, а тебе вдруг известно?
— Я уже говорил, что раньше у здешнего эмира* нукером* был. В прошлом году мы вместе с войском ордынского беклярибека* Мамая ходили войной на урусов*. Ас* пошёл с нами, взяв с собой, ещё и улема* из медресе* по имени Тюляк. Они хотели в боевом деле испробовать свои туфанги*. Наши эмиры* тогда посчитали, что достаточно будет урусам* услышать один только гром этих туфангов*, как те сразу разбегуться в разные стороны, словно трусливые зайцы.
— Постой, так в прошлом году вы же с балынцами* воевали, насколько мне известно?
— Балынцы* и урусы*, это одно и то же. Балынцами* урусов* лишь в Булгарии* зовут, и то не везде, а в Орде* и других странах в основном урусами*. Сами же себя, они зовут русичами или русскими.
— Понятно. Рассказывай дальше.
— Так как я владею языком урусов*, то Сабан держал меня при себе в качестве тарджумана*. Ас* и Тюляк тоже следовали с нами, пока мы не прибыли на Саснак Кыры*, — тут Салимбег вдруг замолчал.
— Чего молчишь? Рассказывай дальше, — обратился к собеседнику Камол ад-Дин.
— А вот дальше буду говорить, лишь после того, как заплатишь!
— Ну и сколько ты хочешь?
— Cто дирхем*.
— Не много ли просишь? Да и гарантий от обмана у меня никаких.
— Ушкуйники* заплатили столько же без всяких гарантий. А верить, или не верить, это твоё личное дело, чужеземец. Только зачем мне врать? Я просто должен зарабатывать себе на жизнь, чем могу и как могу.
— И многим ли ты успел об этом нарассказывать?
— Ушкуйникам* сообщил по секрету, теперь вот тебе, если заплатишь. А всем подряд, зачем рассказывать? Если все кому не лень об этом болтать станут, тогда мне за сказанное и платить перестанут. Я раньше караванным проводником был, поэтому язык урусов* знаю. Заодно у Сабана лазутчиком быть приходилолсь, поэтому знаю, как лучше использовать секреты.
— То есть знаешь, как с выгодой для себя, разтрезвонить по секрету всему свету? Ну что же, похвально! А держать язык за зубами, тебя Сабан между делом не научил?
— Учил и этому. Да только что мне остаётся делать, если все бросили калеку и подругому заработать на жизнь невозможно. Приходиться торговать секретами.
— А что за народ, эти ушкуйники*?
— Это не народ. Это джете*, в основном из беглых урусов*. В дремучих лесах на Вятке у них образовался свой, целый мятежный улус*. Оттуда они совершают набеги, как на ордынские земли, так и земли самих урусов*. Оттого, те их пуще ордынцев* ненавидят. Только справиться с ними никто не может. Появляются, словно из-под земли вырастают, совершают набеги, а потом неизвестно куда исчезают.
— К исчезновению семьи Аса*, не они ли причастны?
— Да кто же теперь в этом разберётся?! Да и не нужно это теперь никому. Так я деньги получу, или мне уйти?
Камол ад-Дин достал калиту* и стал отсчитывать по десять серебряных монет, передавая их Салимбегу, пока не передал всю оговоренную сумму.
— Ну что Салим! Как видишь, я тебя не обманываю. Продолжай дальше, — вновь обратился он к Салимбегу.
— Недалеко от Саснак Кыры* мы соединились с войском Мамая. Сабан велел мне остаться при его ставке тарджуманом*, на случай если будет пленено много урусов*. Аса и Тюляка, с их туфангами*, по просьбе беклярибека* также оставили при ставке. Перед битвой местом ставки Мамая был выбран Кызылтау*, так его назвали из-за множества цветущих там красных цветов. Ас* поставил туфанги* у подножия того холма, а Мамай восседал на его вершине, откуда просматривалось поле предстоящего сражения. Я и Тюляк расположились рядом с Асом, чтобы посмотреть, как будут стрелять туфанги*. Битва продолжалась почти весь день и склыдывалась для нас вполне успешно. Мы почти разгромили основные силы урусов* и стали теснить остатки их войска к реке Тан*. На Кызылтау* трубы уже стали играть победный клич, как вдруг у урусов* откуда-то появилась свежая конница и ударила в бок нашему атакующему войску. Этого удара мы не ожидали и поэтому наши аскеры* побежали. Урусы* преследовали их и беспощадно рубили. В том бою погиб и сам хан Мамаевой Орды Мухаммед Булак*. Увидев случившееся, Мамай, со всей своей хаваши*, сели на лошадей и ускакали в степь, трусливо покинув жанг майдони*. У нас с Асом и Тюляком лошадей не было, поэтому убежать мы никуда не могли. Когда конники урусов* достигли Кызылтау*, они стали рубить и избивать находившихся там ордынцев*, не спасшихся бегством. Я тоже сначала бросился бежать, но один из урусов* догнал меня на коне и замахнулся над головой чукмором*. Я успел закрыться онколом* и удар пришёлся на неё. Я упал, а его конь наступил мне на плечо копытом. После этого я потерял сознание. Сколько пролежал не помню, но очнулся от того, что один пеший урус* ткнул мне в лицо остриём копья. На их языке я попросил у того воина пощады. Он удивился и спросил, откуда я знаю язык урусов*. Я ответил, что являлся тарджуманом* при ставке Мамая. У урусов это толмач называется. Воин спросил, могу ли я самостоятельно передвигаться. Я утвердительно кивнул в ответ. После этого, он повёл меня к Кызылтау*. Там десятка два урусов*, вместе с одним из их эмиров*, осматривали наши туфанги*. Позже я узнал, что того эмира* зовут Адам Тюряй*. Он является родственником по жене асосий* нойона* урусов, Адама-Москвалика*. Именно этот Адам-Тюряй* командовал свежей конницей урусов*, обратившей в бегство наше войско. Он показал на туфанги* и спросил, знаю ли я, что это такое. Я ответил, что это смертоносное оружие, стреляющее огненными стрелами. Адам Тюряй* попросил меня показать, как оно стреляет. Я ответил, что стрелять умеет лишь мастер, который это оружие сделал. Он спросил, где найти этого мастера. Я ответил, что не знаю, так как в последний раз видел его перед бегством Мамая. Тогда Адам Тюряй* велел своим воинам отвести меня в стан пленённых ими ордынцев* и поискать в нём мастера Аса*. Тот действительно оказался среди пленных, которых урусы* собирались казнить. Я тогда ещё спросил одного из урусов*, зачем они хотят казнить пленных, ведь это же товар для невольничьих рынков? Урус* мне ответил, что среди их воинов много раненых, а они ещё ожидают нападения на свой обоз нойона* литваликов* Ягайло*, или своих же соплеменников-рязанцев. Поэтому, пленные для них не просто обузу, но и опасность представляют. Таким образом, почти все ордынские пленники были казнены на месте. Однако меня, Аса, Тюляка и некоторых других, по велению Адама Тюряя* урусы* пощадили. Я, Ас* и Тюляк, вместе с туфангами*, были немедленно отправлены в Москву. Там меня вылечили и взяли на службу к одному из московских меликов* толмачём. На службе я провёл почти год, а потом напросился проводником в один из караванов, прибывших из Булгара*, и бежал. Аса и Тюляка я с тех пор, ни в Москве, ни где либо ещё, не видел ни разу. Позже, от урусов* я услышал, что они научили этих балынцев* делать туфанги*, а также, и стрелять из них. Я сам не один раз видел, как урусы* затаскивали туфанги* на московские крепостные стены, слышал и гром от их стрельбы. Пожив после побега здесь, я вскоре пожалел, что бежал от урусов*, так как в Булгаре* оказался никому не нужен, вместе с другими такими же ордынцами*, воевавшими в войске Мамая. Дело в том, что этот беклярибек*, оказывается был врагом нынешнего ордынского царя* Тохтамыша. Говорят, что в борьбе за ордынский престол, люди последнего подкараулили Мамая где-то в Крыму и там же его убили.
— Известно ли тебе, где конкретно и как мастер Ас научился делать это оружие? — спросил Камол ад-Дин.
— Когда урусы* нас везли в Москву, Ас рассказывал, что его отец много путешествовал с караванами по вселенной. Бывал в Китае, странах Европы и на севере Африки. Где-то там он и научился мастерству делать это оружие, а потом обучил этому Аса*. Однако, где конкретно, я уже не помню, хотя он, кажется, и об этом тоже говорил. Я тогда сильно болел от ранений, и мне было не до его рассказов. В Москве урусы* хотели оставить меня при нём тартжуманом*. Я и сам хотел освоить мастерство изготовления того оружия, но лечение затянулось и мы ни с Асом, ни с Тюляком, больше не виделись.
— Как ты думаешь, мастер Ас* и сейчас живёт в Москве, или урусы* прячут его где либо ещё?
— Конечно, я о нём урусовских* купцов дней двадцать назад спрашавал.
— А почему об этом слухи и сплетни по Булгару* не ползут?
— Здесь сплетни об Асе и туфангах* уже немного поднадоели и приутихли. Да и сами москвалики* о нём очень мало знают. Его там их мелики* в секрете под стражей держат. Кроме того, в Москве этого мастера Аем* зовут, а Тюляка Илгой, поэтому слухи-то ходят, да только их тут никто не осмысливает.
— Как я понимаю, тебе сейчас в Булгаре* делать нечего. Не возражаешь, если предложим с нами в Москву отправиться? Будешь у нас качарги* и тарджуманом* одновременно.
— Я соглашусь, если конечно ты, мне ещё таких же двести дирхем* заплатишь.
— До сих пор не понимаю, из чего ты исходишь, когда свои цены устанавливаешь?
— На один дирхем* ордынская семья может безбедно существовать один день. От этого все ордынцы* и исходят. Я в их числе тоже. А пулы, это разменные медяшки, используемые ордынцами обычно для расчётов за покупки на зелёных базарах*. Вам, наверное, известно, что один дирхем* равен шестнадцати пулам*. А вот из чего исходили ордынские правители, устанавливающие такой номинал, по крайней мере я, до сих пор ни от кого ответов не получал.
— Тогда понятно, — сказал Камол ад-Дин, — Считай, что мы с тобой договорились. Собирайся в дорогу.
Когда Салимбег ушёл собираться в путь, довольный Камол ад-Дин облегчённо вздохнул и прижав направленные вверх ладони рук, стал едва слышным шопотом читать какую-то молитву. Его миссии улыбнулась первая настоящая удача. В их «сети» наконец, попала первая «дичь». Конечно, она оказалась не совсем привлекательной, но вполне себе стоящей «добычей». Теперь посланец уже знал точно, что искомое ими оружие не только существует, но и где оно находится. Пойманная же ими «дичь», завтра же поведёт их миссию, состоящую из настоящих «охотников», к которым себя причислял и Камол ад-Дин, к тем случайным «охотникам», которым это оружие досталось по недоразумению фортуны.
Глава 6: Необходимость похода посланческой миссии в Москву
Собравшись в дорогу, караван Кутфи отправился вниз по течению реки Итиль*. Для перехода на правый берег Камол ад-Дином был выбран Самарский перевоз*, о котором в Самарканде ему поведал ещё Умар-Шейх, напутствуя в дорогу.
— Зря ты выбрал этот путь, — обратился как-то к нему Салимбег, не ведая о истинных намерениях посланца*, — Переправа у Арбухима* на Симбер* вдвое ближе Самара*, там прямиком на Карсун* попасть можно, а возле него вброд Барыш* перейти, ну а далее до реки Суры. Так большинство наших караванов из Булгара* в Москву следуют.
— Говорят, что та дорога намного опаснее, — ответил Камол ад-Дин.
— После булкака* в Орде* все дороги опасны посвоему. Только недавно, при Тохтамыш-хане как-то приутихло и стало немного спокойнее.
— Про Самарский перевоз* даже в Самарканде все знают. Через него, говорят, раньше множество караванов с шёлком из Китая шло? А вот про другие переправы через Итиль*, нам вообще не ведомо. Говорят, это самая большая ордынская переправа?
— Не совсем так. Это вторая по величине и значению ордынская переправа, а самая большая на этой реке, это Туратурская*. На остальных же итильских переправах, лишь по одному парому. И только по этим двум переправам, ордынский царь* может быстро и без особых проблем переправить на другой берег своё многочисленное войско. Раньше через неё действительно шли караваны с шёлком. Этот путь сейчас вновь начинает возрождаться, но пока не так быстро, как хотелось бы ордынцам. Джете* на ордынских торговых путях ещё много, и на воде, и на суше. Тохтамышу надо хорошо постараться, чтобы эти пути безопасными стали, тогда и дела у него пойдут намного лучше, и барыши* в царскую казну польются многоводной рекой. Но пока\, довольно скудна его казна, а пополнять её неоткуда.
Караван добрался до города Самара* и остановился в караван-сарае* небольшого селения напротив него, недалеко от переправы. Не смотря на отсутствие очереди, Камол ад-Дин не спешил переправляться на другой берег в город, решив заночевать здесь одну ночь и осмотреть всё вокруг. Вечером, взяв с собой Салимбега, Эргаша и Бури, он повёл их прогуляться по прибрежному селению, чтобы внимательно изучить всё, что находится возле переправы. Выбрав подходящее место на живописном берегу, они стали рассматривать имеющиеся вокруг сооружения.
Сама переправа представила «гостям» впечатляющее зрелище. С берега на берег реки были перекинуты верёвочные канаты, к которым крепились плоты-паромы. Каждый плот крепился двумя канатами и обслуживался двумя десятками ярыг*, которые тянули канаты, приводя в движение паром. Действующих паромов было два, а ещё десять стояли без людей возле своих причалов, по пять возле каждого берега. Вдоль левого берега стояло ещё бесчисленное множество таких плотов, привязанных к швартовочным причалам. По обоим берегам возле перевоза располагались тораки* и другие хозяйственные постройки селений. Камол ад-Дин заметил, что они совершенно не имели никакой защиты. Вокруг этих селений не существовало не только стен в виде хотя бы частокола, но даже рвов и валов. Странным образом осуществлялась и охрана перевоза. Периодически, возле швартовых пристаней появлялись люди, в неполном вооружении без защитных доспехов, которые лениво прогулявшись вдоль берега, а затем куда-то исчезали.
— Где же здесь охрана? Почему её тут так мало? — спрасил Камол ад-Дин, обращаясь к Салимбегу.
— Не так уж и мало! Самар* охраняет целый кошун*. А потом сам погляди, что и от кого здесь охранять? Вот охранники сейчас в степи собственный скот и пасут! На причалах, присутствия десятка человек вполне дастаточно. Смотреть тут необходимо лишь за ярыгами*, которые из невольников, но и они в основном смирные. Кто хотел сбежать, уже давно это сделали. А остались здесь в основном те бедолаги, которым и бежать-то особо некуда.
— А если нагрянут душманы* или джете*?
— Что касается душманов*, так со времён образования Улуг-Улуса* на ордынцев* ещё ни разу никто не осмеливался нападать. Такие безумцы отсутствуют во всей вселенной. Но если они когда нибудь и найдутся, то в Орде* самая быстрая и многочисленная конница, которая способна перехватить и разбить всякого врага, прежде чем тот дойдёт сюда от любого края ордынской границы. У Орды* лишь один враг, её внутренние распри и смуты. Ещё джете* здесь иногда появляются. В основном, это те же ушкуйники*. Но они стараются пройти мимо перевоза тихо, глубокой ночью посреди реки, чтобы наши дозорные их не заметили. Что им на переправе делать? Добра тут почти никакого! Если нападут на переправу, шуму много наделают. А в это время кто-то из дозорных в ближайший город или воинский стан сообщит, что тогда? Нет, ушкуйники* народ умный. Эти люди, здесь зря, шуметь не станут!
— Одним словом Орда*, это страна непуганных идиотов! — с ухмылкой заметил Бури, а затем, обратившись к Салимбегу, спросил, — А расскажи ка нам уважаемый теперь поподробнее, кто такие, эти самые ушкуйники*?
— Ушкуйники*, это шайки* джете*, подавляющее большинство из которых составляют урусы*. Проживают они в основном в дремучих вятских лесах. Эти леса принадлежат урусовскому* Новгородскому улусу*, единственному из урусовских* улусов*, не завоёванному когда-то Бату-ханом, но добровольно отсылающему в Орду* выход*. За это, их город Новгород и разорений со стороны ордынцев* избегал. Новгородский люд богат и смышлён, знает и умеет подкупать ордынских* продажных ханов* и огланов*. Но не всем дано быть богатым и успешным. Кто-то, должен жировать, а кто-то вкалывать, не получая заработаного взамен. Кто-то считает это нормальным, а кто-то с такой несправедливостью мириться не намерен. Так вот. Многие годы в вятские леса бежали те самые урусы*, из числа недовольных существующими порядками. В тех дремучих и непроходимых лесах они обосновали целые поселения и даже города. Но так как трудиться эти вольные люди не желали, то занимались они в основном разбоями на сакмах* и реках, но при этом не оставляли в покое и целые города. Со временем те лесные люди научились делать быстроходные лодки, на которых теперь передвигаются по рекам, и которые легко перетаскивать по суше в тех местах, где реки сильно сближаются друг с другом. Эти лодки называются ушкуями*, отчего и тех джете* зовут ушкуйниками*. Что от этих людей может быть не только вред, но и польза, вскоре поняли новгородские купцы, которые стали заключать с ними тайные сговоры. Согласно им, новгородские купцы снабжают ушкуйников* оружием, одеждой, продуктами и прочим, а за это, те сбывают купцам награбленное, которое новгородцы потом перепродают втридорога в заморские страны. Получается, что ушкуйники*, это тайные наёмные джете* новгородских меликов* и их торговцев. Согласно сговора с ними, ушкуйники* нападают на все земли и поселения урусов*, кроме, естественно, новгородской. Когда же мелики* и улусбеки* урусов* предъявляют претензии новгородцам за бесчинства ушкуйников*, то те утверждают, что не имеют к этим джете* никакого отношения. А отказываясь от очевидных преступных связей с ушкуйниками*, новгородцы, как бы в подтверждение истинности своих лживых слов, беззастенчиво крестятся. Нередко при этом, они даже целуют свои крестики, священные символы урусовской* ишонч* веры. Это богохульство у новгородцев уже вошло в постоянную привычку. В их языке даже прижились известные всем урусам* выражения, типа откреститься, или открещиваться. Они означают, что эти самые новгородцы, любящие называть себя, на греческий лад, демократами, что понашему халкпарвары*, при помощи данных методов богохульства, стараются начисто отрицать свою очевидную причастность к злодеяниям, творимым их явными сообщниками, в отношении как своих соотечественников, так и других соседних народов. А ушкуйники*, в свою очередь, почувствовали ещё большую неуязвимость и безнаказанность. Они теперь уже стали разбойничать не только в урусовских*, но и в некоторых ордынских улусах*. Особенно их набеги участились во время булкака* в Орде*, когда здесь не успевали меняться правители. Теперь в Улуг-Улусе*, особенно вдоль рек Итиль*, Волги*, Тана* и их многочисленных притоков, не осталось ни одного города, где ещё не успели напакостить ушкуйники*. Они не пощадили даже Сарай*. При этом, что удивительно, почти всё им сходило с рук. После набегов, эти джете* словно растворяются неизвестно где, и их не могут отыскать, ни ордынцы*, ни урусы*, ни кто-либо другой. Не уловимые они какие-то, и всё тут!
— Как же им это удаётся? — спросил Камол ад-Дин.
— Дело в том, что ещё во времена булкака*, ушкуйники* напичкали своими лазутчиками все ордынские города, а также селения на основных сакмах*. В Орде, наверное, не осталось ни одного караван-сарая*, куда бы эти джете* не успели внедрить своего человека. А некоторые караван-сараи*, ушкуйники* превратили, даже в свои перевалочные базы. Теперь туда, без ведома этих джете*, не смеет сунуть свой нос ни один посторонний. Например, Китоврас*, что на границе ордынских улусов* «Сартака»* и «Червленого Яра»*. Ушкуйники* там даже не прячутся ни от кого, включая самых известных и приближённых эмиров* самого ордынского царя*.
— И куда же смотрят эти доблестные ордынские амиры*, — опять с иронией заметил Бури, — Куда подевались все эти непререкаемые и преданные своему саиду* нукеры*, вместе с верными караульными ногаями* славного ордынского царя? Бедный же он да несчастный, этот царь* Тохтамыш! Если у куманского* владыки и дальше так пойдут дела, то нам следует подумать, следовать ли дальше к этому правителю в Сарай* на приём, или сразу отправляться в вятский лес и слёзно просить своего рода улусбека-самозванца, в лице промышляющего воровством и грабежами ушкуйника*, не отказать нашей миссии в решении какого либо ордынского вопроса?
Все, кроме Камол ад-Дина, громко рассмеялись.
— А дело здесь всего лишь в том, что местные даруги* и улусбеки*, — продолжил после паузы Салимбег, — также очень часто вступают в тайный сговор с ушкуйниками*, пользуясь их услугами. От этого союза они имеют свои немалые барыши*. В последние годы в Орде* так всё переплелось, что невозможно понять, кто больший джете*, улусбек*, ушкуйник* или даруга*. А Китоврас*, к примеру, так там вообще трудно понять что либо! Это такой, всего лишь маленький умёт* на ничейном островке земли посреди Орды*. Используя его, враждующие стороны всегда могут найти друг с другом общий язык, чтобы о чём-то договариваться. Вот только хозяйничают в том умёте*, опять же, те самые ушкуйники*.
— И всё же! — вмешался Эргаш, — Зачем-то Орде* всё же нужен этот умёт*? Не может быть, чтобы такая громадная страна, как Орда, терпела на своей территории какое-то непонятное, враждебное образование?
— Естественно, смысл в этом есть, — продолжил Салимбег, — Вот, к примеру, у какого-то ордынского бая* неизвестные своровали любимую жену или дочь. Где он их будет искать, с кем договариваться насчёт выкупа? А в Китоврасе*, как ни странно, о том уже все и всё знают! Заплати немного, и тебя выведут на того, кого нужно, а там договаривайся. Дальше твои проблемы. Через Китоврас ордынцы держат подобную связь и с османцами*, и с бейликами*, и с урусами*, и с мохшами*, и с литваликами*, и с келарами*, и с казмаками*, и с черкасами*, и ещё многими разными джете*, а главное, с ватманами* самих ушкуйников*, которые живут в дремучих вятских лесах. Получается, что Орде без Китовраса*, тоже никуда! Вот ордынцы* это шайтаново* гнездо и терпят. Куда же им деваться?
— Тут понятно. А что означает само слово ушкуй*? — вновь спросил у Салимбега Бури, — Откуда оно взялось?
— Ушкуй*, это большой ок айик*, что живёт на севере в ледяных морях, — ответил Салимбег, — Изображение головы данного зверя вырезаны на носах и кормах лодок этих джете*, оттого и зовутся те лодки ушкуями*, а сами джете* — ушкуйниками*. А вот почему, именно живущий в льдах далёкого севера зверь, не имеющий прямого отношения: ни к Новгороду, с его крикливым и бестолковым вече*, ни к дремучим вятским лесам, ни к живописным долинам Похори*, стал главным символом этих самых ёвузлашган* джете*, не знает никто, даже сами ушкуйники*.
— Получается, что дела с воровством и мздоимством, у ордынских ханов*, поставлены не хуже чем у вали* из наших диванов*? — нечаянно вырвалось теперь уже у Эргаша, — Даже никакой самой суровой карой их не напугаешь!
— Ладно, хватит о грустном, давайте о главном, — прервал его Камол ад-Дин и обращаясь уже к Салимбегу, спросил, — А почему здесь лишь два парома работают?
— Так и эти тоже стоят без дела, переправлять ведь некого! — ответил Салимбег, — Посмотри-ка туда! Сейчас вон бечевники* по реке расшиву* тянут. Но останавливаться здесь они не собираются, и дальше это судно мимо нас вверх потянут. Им Самар не нужен. Это торговая расшива* из Нижнего Новгорода, вон на её мачте нижегородский, перевёрнутый туг*.
— Почему перевёрнут? — спросил его Эргаш, — Это что, какой-то тайный знак или сигнал?
— Какой там тайный знак? Просто управляют расшивой* тёмные людишки, потому они и эти туги* вывешивают, кому и как вздумается, — ответил Салимбег.
— Ещё одни непуганые идиоты! — сквозь зубы процедил Бури, — Амир-ал-умар*, за глумление над тугом*, повесил бы не раздумывая. Тохтамыш наверняка, отсёк бы виновникам головы, а у этих урусов* всё, как будто так и надо, прицепили свою святыню как попало, и безмятежно вино попивают на палубе.
— Откуда у них вино? — возмутился Салимбег, — Пьют они обычно корчму*. Это куда крепче вина и проще готовится. Потому, выпив корчмы*, эти люди перестают кого либо, и чего-либо бояться. У нижегородцев теперь за всех и за всё боится их собственный нойон*. Будете в Нижнем Новгороде, убедитесь в этом сами. Нет трусливее нойона* во всей вселенной!
— Ну что сказать. Этого нойона* я конечно не знаю, — вмешался Камол ад-Дин, — Однако, об этом народе один наш улем* в медресе как-то сказал, что урусы*, они хоть в Азии, хоть даже в самой Африке, урусы*. Над ними даже если самого Иблиса* властителем поставить, не поможет. Они и его обратят в свою веру и заставят жить по их неписаным законам, если этим шайтанам* что нибудь не понравится.
— А что такое Африка? — переспросил его Салимбег, — Азию — знаю, Европу — знаю, а вот про Африку, лишь краешком уха слышал. Например, от торгового люда часто приходится слышать выражения, что «верблюд, он и в Африке верблюд или докажи что ты сам не верблюд, и тем более не африканский». Но в эти смыслы мало кто вдаётся, в том числе и я, ваш покорный слуга.
— Я, честно признаться, Африкой и сам почти не интересовался, в том числе в медресе*, — пояснил Камол ад-Дин, — Знаю лишь, что это, кажется большая страна, где нет зимы, а люди там, в основном чёрнае, как уголь, так как ходят голые и их сильно обжигает солнце. Потому и страну эту часто зовут, выжженной солнцем и забытой богом. Говорили нам, что Всевыщний к правоверным прислал пророка Мухаммеда, к европейцам Ису, а к этим чёрнам людям пока никого не прислал. Вот и бегают они там без одежды, не стыдясь никого, словно обезьяны. Правда, встречаются среди них и стыдливые, одевающие тазобедренные повязки, но это редкость. А верблюды в Африке, в основном одногорбые и худые, в отличие от наших двугорбых великанов-бактрианов*. Отсюда, наверное, и те выражения, о которах ты сейчас упомянул.
— И посему выходит, что урусы* тоже вроде шайтанов*? — едко заулыбался Бури, — Тем не менее, мы к ним, кажется, завтра даже в гости собрались! Чтож, добро пожаловать в ад к неверным, непревзойдённые воины ислама!
Все как-то скромно промолчали, не решаясь пресекать довольно странную и неуместную выходку Бури, который вероятно в этот день был не в настроении. Первым и тут заговорил, прервав паузу Салимбег.
— Как я понимаю, сегодня мы переправляться на тот берег не собираемся? — неуверенно заговорил он, переводя разговор в другое русло, — А это значит, что на завтра нам необходимо заранее предупредить паромщиков, чтобы те, из Самара*, ещё ярыг* взяли. А представляете, когда Шёлковый путь вновь в полную силу заработает! Тогда на паромы опять целые очереди выстроятся. Что тут тогда будет …!
— Зачем тогда столько плотов и паромов здесь держать? — уточнил у него Эргаш.
— Затем, чтобы в случае необходимости войско быстро через Итиль* переправить, — ответил Салимбег.
— Это сколько же ярыг* необходимо здесь без дела держать? Войны ведь, не каждый день бывают? — не унимался Эргаш.
— На случай похода здесь только канаты надо будет на тот берег лодками перекинуть, а воины сами вместо ярыг* с паромами да плотами справятся, — ответил Салимбег.
— Вниз по течению Итиль*, отсюда какие сакмы* имеются? — начал расспрашивать Салимбега уже Камол ад-Дин.
— По степям левобережья, до самого Сарая*, проходит Старая сакма*, а по правобережью Крымская*.
— А города Укек* и Бальчимкин* на каких сакмах* находятся?
— Укек* в этих местах больше известен как Увек*, он на Крымской сакме*. А вот второй город, не совсем понял, как ты его назвал? Кажется, такого города вообще в Орде* не существует.
— Как же не сушествует, там ещё переволока между реками Итиль* и Таном* должна быть? Говорят, даже суда по ней на брёвнах таскают?
— Так это же Бельджамен*, переводится как город дубов! Он немного в стороне от Крымской сакмы*. Чуть подальше в сторону, расположен город Тортанллы*, а рядом с ним, самая большая в Орде Туратурская переправа*. Через неё можно дальше, прямиком в Сарай* попасть.
— Тебе по Самарской сакме* раньше приходилось ходить? Как она обустроена?
— Обустроена она, как и все ордынские сакмы*. Предлагал же я вам через Симбер* пойти? Дошли бы быстрее. До Мокши* караван-сараи* будут, а там лишь умёты* и постоялые дворы. Они для скотины мало приспособлены, но сейчас лето, не пропадём. Ямской линии* на ней точно нет. Здесь она только на Крымской*. Её даже на Старой* нет, между Сараем* и урусами*, ямы* лишь вдоль Базарной сакмы*.
— Послушай, а из чего ордынцы* канаты делают, что они так много находясь в воде, не размокают и не рвутся?
— Это пенька*. Её, кстати, урусы* много производят и продают по всему свету. Эти канаты не только в обычной воде не гниют, но и в морской тоже. А ещё они хороши для метательных машин, при штурме крепостей.
— Всё, пошли, нужно отдохнуть перед дорогой, — сказал Камол ад-Дин, обращаясь к присутствующим, — а ты Эргаш, иди к паромщикам и договорись на завтра по поводу перевоза на тот берег нашего каравана.
Эту ночь, перед отправкой в Москву, Камол ад-Дин долго не мог заснуть. Он обдумывал произошедшие события. Всё складывалось для посланца* вполне благоприятно. Теперь Камол ад-Дин не только знал о месте нахождения мастера-оружейника и его оружия, но и услуги каких джете* можно использовать для нападения на караваны, следующие по здешней ветви Великого шёлкового пути*. Это значило, что он теперь точно представляет, как выполнить ещё одно повеление Умар-Шейха. Но сейчас главное, добраться до Москвы и разыскать этого, да сохранит его для Амира-ал-умара* Всевышний, мастера Аса*! При нём ещё затесался какой-то тезэтуче*. Этот иноземец якобы знает, как вести из туфангов* навесную стрельбу по невидимым целям. Это ещё лучше. Будет неожиданный и приятный подарок Амир-ал-умару*. В том, что с ходу не удалось заполучить ни оружия, ни мастера, лично его, посланца*, вины нет. Так уж у них сложились обстоятельства. Но возможность для осуществления задуманного, остаётся, и Камол ад-Дин пытается ею воспользоваться. Получены сведения об устройстве и принципе работы Самарского перевоза*, только вот оставить и обустроить здесь в данный момент некого. Пока, в целом, сделано маловато, но перспективы обнадёживающие, думал посланец*. Исходя из полученых сегодня сведений, срочное оповещение у ордынцев* отлажено неважно, ямские линии* имеются не на всех, даже основных сакмах*. Ну что же, эти кыпчаки*, наверное, пока могут себе подобное позволить. Кого им собственно бояться? Браво куманы*! Продолжайте и дальше в том же духе! Да воздаст вам Всевыщний по заслугам за вашу святую беспечность! Нам же конечно, на Всевыщнего тоже надеяться не помешает, но и самим никак нельзя плошать! Уже завтра надо поспешить в Москву. Там теперь будет решаться судьба миссии. А окажется она раем или адом, выясниться на месте, и будет зависеть от того, в какую сторону повенётся фортуна.
Глава 7: Самаркандская посланческая миссия в Москве
Переправившись на противоположный берег Итиль*, караван продолжил движение по Самарской сакме* на северо-запад. Не встречая по пути следования серьёзных преград, посланцы* Тимура добрались до Москвы. По меркам тех лет, это был большой город. В нём проживало до сорока тысяч жителей, хотя Москве было не сравниться с подобными городами Орды* и других стран Центральной Азии. Привычных для азиатских торговцев караван-сараев* в этом городе не существовало в принципе, и путники разместились в одном из постоялых дворов, недалеко от белокаменной цитадели* города, называемой здешними жителями кремлём. Условия проживания в этом заведении, были похуже, чем в восточных караван-сараях*, уже привычных Камол ид-Дину и его спутникам, но вполне сностные. Кутфи, как обычно, занялся торговлей на местном базаре*, что находился на главной площади Москвы перед цитаделью*, а Камол ад-Дин и его основные спутники, занялись сбором сведений о мастере Асе* и его туфангах*. Языка урусов* ни он, ни Эргаш, ни Бури, не знали, поэтому толмачём при Камол ад-Дине был Салимбег. Они ходили по посаду, посещали пивные лавки и торговые ряды, расспрашивая горожан о делах московских и иногородних, но и не забывая при этом, собирать сведения и сплетни, за которыми собственно сюда и приехали. Обращаться к своему прежнему саиду*, Салимбег конечно опасался, так как после своего длительного отсутствия, связанного с побегом, неизвестно как тот бы отреагировал, и к каким последствиям привела бы их встреча. Кутфи также нанял себе толмача, которого использовал в своих целях и Камол ад-Дин, тем самым давая «передышку» этому калеке Салимбегу. Пообщавшись, таким образом, со многими из горожан, посланец* выяснил, что асосий* мелик* урусов*, нойон* Адам-Москвалик*, которого после победы над Мамаем в Москве звали Дмитрием Донским, из соображений секретности и безопасности содержал мастера Аса* в одной из небольших крепостёнок за пределами Москвы, но где именно, никто не знал. Поговаривали, что та крепостёнка называлась Кузнечной слободой*, но так ли это было на самом деле, никто толком пояснить не мог. Многие же москвичи, наоборот утверждали, что эта слобода, якобы, давным-давно сгорела. Однако на самом деле, она не сгорела. Находилась же та слобода в Замоскворецких лесах, где Ас* и в самом деле был полностью занят изготовлением для урусов* неведомого оружия, которое те на свой лад звали в основном тюфяками*. Но сам мастер, это название использовал в отношении несколько иного оружия. В Москве, из-за недостатка металла, Ас* начал мастерить деревянные туфанги* из дубовых стволов, укрепляя те, железными обручами. Это оружие выдерживало один, максимум два выстрела и разрывалось, принося увечья обслуживающим его стрелкам, а то и вовсе убивая последних. Но Ас* и здесь нашёл выход. Стволы деревянных туфангов* стали изготавливать коническими. В них помещали уменьшинные заряды из зелья*, а вместо железных или каменных шаров, называемых ядрами, в них заряжали рубленые гвозди, другую мелкую и ненужную металлическую всячину или мелкий камень. Такие заряды называлось картечью или дробью. Они могли быть использованы исключительно для стрельбы по скоплению людей. Но по дальности стрельбы, эти деревянные туфанги* уступали железным или медным, за что мастер Ас* звал их тюфяками*. Для непросвешёных же людей, все туфанги* были тюфяками*. Урусы* устанавливали туфанги* на московских крепостных стенах и бдительно их охраняли. Помощника же Аса, Тюляка, нередко можно было видеть вместе с самим мастером, когда те наведывались в город. Поговаривали, что Великий князь Московский Дмитрий Иванович Донской, возвёл обоих в боярское сословие и подарил им небольшие вотчины для прокорма, но где находились эти уделы, тоже никто не знал. Для Тюляка, якобы, мастер изготовил отдельный туфанг*, который тот в шутку называл «шайтаном»*. Говорили, что этот туфанг* был крупнее других, но никто из опрошенных посланцами, его лично не видел, и тем более не знал, где находился этот самый «шайтан»*.
Несмотря на повышенные меры секретности, Камол ад-Дину, с вновь нанятым толмачём Ильясом, путём подкупа нескольких стражников, однажды удалось подняться на крепостную стену кремля и осмотреть там несколько орудий. Их конструкция, как показалось посланцу*, на первый взгляд оказалась не такой уж и сложной. Орудие представляло собой трубу из железных пластин, скреплённых обручами. С одной стороны, в трубе было отверстие, называемое дулом. Противоположная часть трубы была наглухо заделана, а сбоку имелось маленькое отверстие. Труба крепилась к деревянному приспособлению, называемому станком или лафетом, в зависимости были там колёсики, или нет. Находившийся возле одного из туфангов* урусовский стрелок, был словоохотлив, но пользы от этого было мало. Нанятый купцом Кутфи толмач, куман* Ильяс, слабо знал язык урусов*. Камол ад-Дин пожалел, что в этот раз не взял с собой калеку Салимбега. Кроме всего прочего, во время разговора со стрелком, подошёл какой-то ратник, повидимому амир* этого стрелка, и обругал того какими-то непереводимыми словами. О чём амир* кричал на стрелка, Ильяс перевести естественно не смог, сказав лишь, что это были очень плохие слова, которые на другие языки, с урусовского*, переводу не подлежат.
Следующие десять дней для Камол ад-Дина и его людей прошли впустую. Московский ратный люд к чужеземцам относился с подозрительностью. Никто из крепостной стражи на хитрые уловки Камол ад-Дина и его людей больше не поддавался. За всё это время им ни разу не пришлось увидеть или услышать стрельбу этех туфангов*. Поиски оружейного мастера Аса* и его помощника Тюляка, также ни к чему не приводили и Камол ад-Дин был не в себе. То, ради чего он сюда прибыл, проделав путь не в одну тысячу фарасан*, было рядом, но и в то же время недосягаемым. Камол ад-Дин обдумывал план дальнейших действий.
Первое, что пришло ему в голову — захватить хотябы один туфанг* силой. У него было два десятка отборных и хорошо вооружённых воинов, которых посланец* отбирал сам. Сейчас эти люди находятся здесь рядом, под видом боевого охранения каравана. Каждый из его аскаров* стоит десятка воинов-урусов*, охранявщих стену. Этого достаточно, чтобы ночью совершить нападение и истребить охрану на одной из частей стены. Можно даже ещё продержаться какое-то время. Но для этого, нужно ещё проникнуть в эту крепость! А дальше что? Туфанг* необходимо снять со стены, для чего нужны приспособления и время. Можно конечно сбросить саму трубу без станка или лафета (как они это зовут) с внешней стороны стены, чтобы потом не выбираться с ней из крепости, но подоспевшае урусы*, наверняка не дадут такой возможнеости. А учитывая, что там вал со рвом, эта затея не годилась в принципе. И люди будут потеряны, и цель не достигнута. Кроме того, туфанг* без мастера и стрелка, ненужный кусок железа. Что толку его иметь, если не знаешь, как этим оружием пользоваться? Однако возвращаться обратно «пустым», тоже нельзя. А эщё этот, навязанный Умаром-Шейхом Бури. Он хоть и был Камол ад-Дину другом детства, но теперь наверняка приставлен «присматривать» за караваном. Значит, уже не соврёшь, что туфанга* и мастера вовсе не существует. Бури обязательно сообщит Тимуру, что Камол ад-Дин и его люди вруны и трусы. Тогда конец всему!
Следующую попытку поиска мастера и его туфанга*, Камол ад-Дин решил осушествить путём знакомства с бывшим саидом* Салимбега, старшим дружинником Московского князя Дмитрия — Василием Непрядой. Вначале Салимбег от этой затеи наотрез отказывался, объясняя возможной местью ему за побег со стороны последнего, или же возможное склонение своего бывшего пленника к лазутничеству. Однако, после того, как Комол ад-Дин пообещал ему заплатить ещё сто дирхем*, Салимбег согласился, но при условии, что тот заплатит ему не сто, а двести дирхем*, сто из которых, в качестве аванса. Не смотря на то, что при помощи Камол ад-Дина, Салимбег без проблем сумел добраться до Москвы, при этом попутно получив от чужеземцев за сопровождение их каравана солидное вознаграждение, теперь булгарин стал обдумывать возможность побега от иноземцев, так как больше посланец*, ему уже был не нужен. Получив аванс в сто дирхем*, Салимбег рассчитывал исчезнуть и отсидеться в каком нибудь тихом селении под Москвой. Далее, он решил наняться к какому нибудь урусовскому* саиду* тарджуманом*. Салимбег успел пожить среди урусов*, изучить их характер, привычки, нравы, повадки, обычаи, и жизнь среди этих людей его вполне устраивала.
На следующий день, Салимбег получил обещанные Камол ад-Дином деньги и направился к крепости, на территории которой проживал Непряда. Однако, не дойдя до её ворот, он свернул в сторону и улочками выбрался из посада, а затем по мосту переправился на другой берег Москвы-реки. Миновав заставу, со спящими там стражниками, Салимбег направился по неизвестной ему дороге прочь от города. Его мало интересовало, куда ведёт эта дорога. Раз она имеется, то куда нибудь приведет. Про Кузнечную слободу* он тоже, разумеется, слышал. Но что это такое, в подробности не вдавался. Шёл он долго и немного приустал, особенно от стрекотания сорок, о которых здесь ходили всякого рода легенды. Например, как те в своё время выдали верховному правителю урусов*, властелина этих мест с интересным прозвищем Кучка*, что на языке урусов* маленький бугорок. Вскоре к этой дороге присоединилась ещё одна, по которой не спеша ехала телега, запряжённая старой клячей. На ней сидел мужик в захудалой одежонке, обросший лохматыми нечёсаными волосами и бородой.
— Куда едем? — спросил Салимбег мужика по русски.
— А куды эта шкапа* привезёт, туды и едем? — ответил тот, — В слободу, наверное.
— Подвези бедного странника, заплачу без обиды.
— А ты случаем не шпиён? — поинтересовался старичёк.
— С меня лазутчик, как породистый жеребец с твоей шкапы*, — ответил Салимбег.
— Тогда гони монету и садись.
Салимбег вытащил и протянул мужику серебряный дирхем*, при этом пожалев, что нет при себе медного пула*. Этому оборвышу, и пула* хватило бы. Наверняка не разбирается.
— Где изранили то так? — спросил мужик, — Не иначе, как воевал, да чего доброго, ещё и с нашеми на Куликовом? А теперь ещё и прижился средь нас бусурманин*, как ни в чём не бывало?
— Все сейчас друг с другом воюют, а потом продолжают жить, кому и где вздумается. Разве мало урусов* живёт среди ордынцев*, да и вообще среди татар*.
— Русские в Орде* живут поневоле, как челядь* и пашуть там от зари до зари, потому как деватися некуды. А татары* здесь живут как жирные барсуки без всякой на тоть надобности.
— Многие урусы* и в Орде* лучше ордынцев* прижились. Их там никто не держит, но назад эти люди тоже почему-то не спешат, потому, как там они освобождены от ясака*, в отличие от ордынцев*. Да ладно, забудем всё это. Уважаемый! Ты побыстрее, как нибудь, ехать можешь?
Мужик подстегнул кобылу длинной хворостиной.
— Гей, Никоноровна, но, но-о-о-о, — стал он покрикивать на свою «полудохлую» клячу.
Кобыла громко пукнула, испустив из заднего прохода «дурной» воздух, попыталась ускорить шаг, но повидимому не осилив нагрузки, опять стала плестись таким же медленным шагом и в раскорячку.
— Не получитця, — посетовал мужик, — С виду, она вродь ещё как на кобылу похожя, а на деле, в любой моменть возьмёть, да и подохнеть!
Не смотря на то, что внешне мужик походил на лешего из московских сказок, или нищего из городских помоек, в его телеге лежал какой-то деревянный предмет, расчертанный полосками, над которыми были выцарапаны несколько арабских цифр. Это говорило о том, что предмет принадлежит знающему грамоту человеку.
— А не топчи* ли случайено, является твой боярин? — сам не зная, с какой стати, обратился Салимбег к мужику, поглядывая на предмет.
— А твое, какое собачье дело-то? — ответил мужик, вспомнив, что накануне, новый боярин строго запретил звать его даже по собственному имени, — Давай помолчим ка лучше. Молчание, как молвють у нас, золото!
Так и плелись они по лесной дороге, пока позади не раздался топот лошадиных копыт. Телегу догнали два молодцеватого вида всадника.
— Эй, ребяти! — окликнул скакавщих мужик своим беззубым ртом, — Гляньте-ка сюды, какого я вам бусурмана* пымал! Берите, узнате, чё этот маракуша* в вашу слободу спешить.
Один из всадников подъехал к телеге, и не сказав ни слова, ловко подхватил с неё за шиворот Салимбега, положив его на лошадь впереди себя и животом вниз. После этого, всадники ускакали вперёд.
Лишь под вечер Салимбег пришёл в себя, когда уже находился в полуподвальной темнице. Свет в неё проступал только лишь через небольшое окошко, сверху у потолка. Кроме него в темнице находилось ещё двое, неизвестных ему людей.
— Ас-саляму алейкум*, — обратился он к присутствующим.
— Ва-алейкум*, если не шутишь, — произнёс один из них. Другой промолчал.
По тому, как тот ответил на приветствие, Салимбег понял, что это урус*, немного знакомый с некоторыми мусульманскими обычаями. Он также мог быть знаком с этими обычаями и в достаточной мере, но специально дерзил из ненависти к ордынцу*. После победы над Мамаем, многие урусы* ведут себя высокомерно по отношению к ордынцам*. Но к чему теперь выяснять отношения двум невольникам? Тем более не ясно, кто из них здесь в более, или менее завидном положении?
Сейчас нужно попробовать хотя бы разговорить этого уруса*, выяснить, кто третий и прочее. А там видно будет, как дальше себя вести.
— Кто ты и как тебя зовут? — вновь обратился Салимбег к урусу*.
— Я Сава, княжеский дружинник, — ответил урус*, — А ты кто?
— Я Салим, бывший толмач одного вашего эмира*, воеводы повашему. Сейчас являюсь толмачом у одного самаркандского купца торгующего в Москве. Ну а твой друг! Почему такой неразговорчивый?
— Он мне не друг, он иноземец из неметчины. Наверное, нашего языка не знает, вот и молчит. К тому же, он вообще нелюдимый.
Салимбег подошёл к незнакомцу и, показывая на себя пальцем, произнёс, — Я Салим, — затем, показывая на уруса*, сказал, — Это Сава, — а потом, переведя палец на незнакомца, спросил уже его, — А ты кто?
— Яков, — ответил незнакомец и заговорил что-то непонятное на своём языке.
Как не пытался, хоть что-то понять Салим из его речи, это ему было не под силу.
— Ладно, пусть лучше молчит, — вмешался Сава, — Что толку от его бормотания!
— Мне кажется, он келар*, — начал гадать Салимбег, — Некоторые слова из их языка мне понятны. Ладно, пусть молчит, а ты за что в темнице оказался?
— Лишнего взболтнул. Я учился оружейному делу у одного татарского мастера и на кремлёвской стене тюфяки* устанавливал. Туда иноземцы пришли и попросили показать им это, по ихним меркам чудо-оружие. Что я и сделал. За плату конечно. Но один из старших дружинников это заметил и воеводе сообщил. Вот я в темнице и оказался, не успев даже охнуть.
— Это вероятно был мой нынешний саид*.
— Нет, у него кажется, другое имя.
— Саид*, это повашему, господин, хотя у мусульман и имена подобные имеются. Меня тогда с ним не было, был другой толмач. Но я об этом слышал.
— А зачем, этот ваш купец тюфяками* интересуется? — спросил урус*, — Он что, их купить их для себя желает?
— Это как получиться. Если продадут, купит, нет, так украдёт, или силой возьмёт.
— Интересно, как он это намерен сделать, имея всего лишь пару десятков своих людей?
— Не знаю. А у вас туфанги*, почему тюфяками* зовут?
— В Москве недостаёт железа и меди, чтобы этого оружия вдоволь наделать. Тогда, этот Ай*, предложил делать стволы орудий ещё и из дубового дерева, перетягивая их железными обручами. Только таких стволов всего на один или два выстрела хватает, после чего они разрываются, убивая и своих и чужих. Отсюда их и прозвали тюфяками*, а потом так стали называть всё огнестрельное оружие, кроме ручниц*.
— А ручницы*, что это такое?
— Тот же тюфяк*, только небольшого размера, и их можно при стрельбе держать в руках. Но стреляют это оружие, не так далеко и сильно.
— А ты сам бы теперь смог это оружие сделать?
— Деревянное смог бы, это не трудно. Вот только для стрельбы ещё зелье* нужно, а его из китайской соли* делают. Без зелья* оружие стрелять не будет, а делать его не каждый может. Я вот тоже не умею. А тебя что, в слободу самаркандцы заслали?
— Нет, я от них сбежал. Взял у них то, что заработал и сбежал. Мне эти чужеземцы нужны были, чтобы опять в Москву вернуться, а теперь от них надо бежать «куда глаза глядят»*, да спрятаться, пока отсюда уйдут.
— Но почему? Разве им толмач и проводник уже не нужен?
— Толмач с проводником, этим людям, конечно нужны будут и дальше, но уже не такие как я. Это люди Тамербека*, который сделал правителем Орды* Тохтамыша. Говорят, это ужасный человек, а значит, не менее ужасны и его люди, которых он сюда прислал. Они не те, за кого себя выдают. Мой саид* не купец, он лишь таковым прикидывается. Настоящий купец его отец, а он, как мне кажется, тайный посланник Тамербека*. Его люди охотятся за мастером и его огнестрельным оружием, и если его не добудут, сюда придут другие люди Тамербека* и сделают это, чего бы им то дело, ни стоило. От меня самаркандцы получили всё, что могли, и об Асе*, и о туфангах*. Теперь им калека Салим, больше не нужен. Вдруг я сообщу урусам* об истинных намерениях этих лжекупцов и сорву ихние замыслы? Поэтому, они бы меня, в ближайшее время наверняка устранили бы потихому. Вот я и пытался бежать, да тихо отсидеться поблизости. Откуда я знал, в какую дыру меня занесёт нелёгкая? Как ты думаешь, что со мной теперь будет?
— Не знаю. Мне, наверное, язык отрежут. Урусы* с болтунами так поступают. Буду потом сидеть как этот немец, или кто он там ещё. Хорошо ещё, что семью не успел сюда перевезти, а то и до них бы добрались. А ты расскажи им про самаркандцев всё, что знаешь. Глядишь, и смилостивятся. Князю нашему, всё эти их дела, тоже не безинтересны будут.
— Куда деваться, расскажу, если слушать станут.
Глава 8: Провал миссии Ак-Ходжи в русские княжества
Когда ордынское посольство въехало в Рязанскую землю, то Ак-Ходжа* сразу заметил, что жители сёл и деревень по отношению к ордынцам настроены явно не дружелюбно. Несмотря на многочисленность ордынского отряда, рязанцы внешне держались пристойно и почти ничего, к чему послу можно было бы придраться, себе не позволяли. В то же время, глядели на ордынцев* зло и угрюмо, на большинство вопросов отвечали нехотя и незнанием, повиновались же очень медленно и с явной неохотой.
— Что-то не нравится мне это рязанское гостеприимство, — сказал один из трёх ехавших впереди посольства всадников.
— Тебе что. Разве здесь кто-то хлеб с солью обещал? — ответил другой, ехавший рядом посередине.
— А Айдар вон меня уверял, что рязанцы наши холбоотоны*, и москвачей* вроде как не особо любят, — ответил первый, по имени Азат.
— Ну как союзники? — нехотя засмущался Айдар, — на Саснак Кыры* и с москвачами* не пошли, да а нам помочь обещали, но почему-то, на битву опоздали. Видимо не случайно! А насчёт союзничества, я не уверял. Сказал лишь то, что хотелось бы иметь на самом деле.
— Подобные союзники хуже врагов, не знаешь, что от них ждать, — заметил ехавшей посередине всадник.
— Байондур. А ты зачем с нами, — обратился к нему Азат, — Тебя же в подобные поездки ранее не посылали?
— Раз послали, значит так нужно, — ответил Байондур, — Я что, перед вами отчитываться должен?
В одной из деревень, куда въехало посольство, люди стояли в шапках и угрюмо смотрели на ордынцев*.
— Это ещё что! — рассверепел Ак-Ходжа, — Пусть станут на колени и снимут шапки.
Азат перевёл жителям деревни сказанное послом.
— Теперь Русь, перед всякими погаными*, шапки не снимает, — ответил один из деревенских мужиков.
Азат перевёл сказанное послу, после чего тот рассверепел ещё пуще прежнего.
— Смельчака хорошенько отстегать плетью, — распорядился Ак-Ходжа, — Деревню сжечь.
— Будь моя воля, я бы их всех повесил, — вымолвил Айдар и принялся стегать мужика плетью.
— На подобные расправы наш чубатый друг черезчур уж горазд, что тут скажешь! — с насмешкой сказал Азат, намекая Байондуру на Айдара.
Ордынцы принялись грабить и жечь деревню, и к вечеру от неё осталось лишь пепелищё.
Раздражённый произошедшим событием, посол доехал до Переяславля-Рязанского* и сразу же потребовал к себе Рязанского князя. Олег Иванович явился немедленно. Прошло всего месяц, как он возвратился на своё княжение, признав себя младшим братом Московского князя Дмитрия и поклявшись ему «руку его ворогов впредь не держать»*. В то же время Олег Рязанский панически боялся ордынцев*, которые почти ежегодно опустошали его княжество. Этот суеверный страх перед Ордой*, являлся основной причиной всех его политических ошибок, причинивших столько зла русской земле. После Куликовской битвы он также не верил, что Москва способна успешно защитить Русь от ордынских нашествий, а так как его княжество лежало на пути этих набегов первым, то Олегу Рязанскому не хотелось рисковать.
Олег Иванович покорно принял разнос от Ак-Ходжи, оправдывался перед ним как мог, и поклялся «всегда быть его пресветлому величеству, хану Тохтамышу, преданным слугой».
Простояв в Переяславле-Рязанском четыре дня и получив от Рязанского князя богатые подарки для себя и Великого ордынского царя*, повеселевшей Ак-Ходжа со своим посольством отправился дальше. Но прежде чем ехать в Москву, ему ещё захотелось наведаться и в Нижегородское княжество, которое находилось в стороне от путей, связывавших Рязанские земли с Московскими, и попугать там урусов*.
Миновав земли Мокшей*, Ак-Ходжа вступил в пределы Нижегородского княжества и сразу понял, что самое неприятное ещё только начинается. За постоянные набеги и грабежи, здесь Орду* ненавидели особенно люто. Не в пример рязанцам, нижегородцы обычно в долгу не оставались. Они отвечали частыми мятежами и беспощадными избиениями ордынцев*, как по разным причинам постоянно проживающих в Нижнем Новгороде, так и случайно там оказавшихся. Страха перед Ордой* здесь и прежде не было, а после Куликова поля нижегородцы были уверены, что её владычеству пришёл конец, и поэтому, появление вооружённого отряда ордынцев, проявлявшего ещё большую наглость чем прежде, вызывало особенное негодование, что в подобном случае и следовало ожидать.
В первом же нижегородском селе, куда зашли ордынцы*, их встретили такой открытой враждебностью, что Ак-Ходжа приказал бить плетьми без разбора всех мужчин, а село разграбить. Но во втором селе, вышло ещё хуже. При вьезде ордынцев*, здесь все продолжали заниматься своими обыденными делами, словно и вовсе не видели ни самого посла, ни его нукеров*. Поведя сузившимися от гнева глазами, Ак-Ходжа остановил их на коренастом мужичке, который стоял в шапке и спиной к послу, спокойно прилаживая к своему тыну новый кол, взамен прогнившего старого. По знаку Ак-Ходжи, ехавший за ним Айдар подскочил к мужичку и ударом плётки сбил с его головы шапку. Но мужик не растерялся и размахнувшись колом так огрел им Айдара, что тот едва удержался в седле. На него тут же набросились четверо ордынцев*, которые избив, связали его и поставили перед послом.
— Как ты посмел, подлый и жалкий раб, поднять руку на моего аскера*?! — в бешенстве закричал Ак-Ходжа.
— Не стерпел обиды, вот его и шмякнул, — сплёвывая кровь, ответил мужичок, когда Азат перевёл ему вопрос Ак-Ходжи, — Пускай не дерётся, нонче мы Орде* не подвластны.
— Не подвластны?! Cейчас мы посмотрим! Ты знаешь, что бывает за оскорбление царского посла?
— Знаю, — ответил мужичок, обращаясь к толмачу, — Смерти мне и так не миновать, а ты скажи своему послу …, — и он добавил такое, что Азат в растерянности уставился на мужичка, не решаясь переводить.
— Что он сказал? — нетерпеливо спросил Ак-Ходжа.
— Он сказал …. Я не могу этого повторить, пресветлый мой саид*.
— Говори, — в бешенстве крикнул посол.
— Этот грязный урус*, да испепелит его Всевышний своим гневом, очень плохо сказал про твою почтенную матушку, пресветлейший саид*.
— Уруса* этого, посадить на кол, всех остальных перепороть, село разграбить и сжечь, — распорядился Ак-Ходжа.
Пока нукеры* занимались всеми этими делами, спустились сумерки и ордынцы* расположились на ночлег тут же, на опушке леса, буквально в ста шагах от догорающего селения. Ночь прошла спокойно. Но наутро, когда Ак-Ходжа отдал приказ выступать, к нему явился его тарджуман* Азат и сообщил, что исчез один из его близких друзей Айдар, а с ним ещё один член посольства. Спустя непродолжительное время обратились ещё двое эмиров* из кошуна* сопровождения. Они сообщили, что среди их людей так же отсутствуют по одному человеку. Так как бегство из войска в Орде* было крайне редким явлением, то Ак-Ходжа сразу подумал нечто другое.
— Всю ночь, наверное, забавлялись с урусовскими бабами, а теперь спят где-нибудь в лесу, — зло процедил он, — Немедленно разыскать этих похотливых ногаев* и привести ко мне.
Пропавшех искали долго, и нашли в версте от опушки на маленькой лесной поляне. Все четверо были посаженны на колья. Айдар ещё мог разговаривать и поведал, что ночью, когда он вышел в лес по нужде, его оглушили ударом по голове и принесли сюда. Остальное пояснений не требовало. Покарать за содеянное было некого, так как ночью все жители сожжённого села исчезли и Ак-Ходжа хорошо понимал, что в этих лесах их теперь уже не найти. Он дал распоряжение, прикончить этих несчастных, чтобы не мучились, и трогаться дальше. Следующее село на пути движения было покинуто жителями. Грабить в нём тоже было нечего, так как его жители унесли с собой весь скарб и угнали скотину. Ак-Ходжа приказал сжечь село и продолжил свой поход дальше. В этот же день он миновал ещё одну такую же безлюдную деревню и сжёг её. Но ночью, у Ордынского посла, вновь убили двух нукеров*, а у нескольких, выпущенных на пастбище стреноженных лошадей, перерезали на ногах сухожилия.
Далее, также изредка продолжали встречаться покинутые жителями селения. Подобным образом, ордынцы* проехали ещё три дня. Но теперь, на ночлегах, Ак-Ходжа выставлял усиленное охранение, да и люди его научились осторожности, в связи с чем, новых потерь у ордынцев* больше не было.
На четвёртый день Ак-Ходжа подошёл к укреплённому городку Курмышу, рассчитывая на его жителях отквитаться за всё случившееся, но ворота ему не открыли. Напрасно посол именем Великого ордынского царя* требовал отворить их и впустить его в город. Со стен ему отвечали насмешками и бранью.
В ярости Ак-Ходжа попробовал взять городок приступом, но был отбит, потеряв человек сорок убитыми. Понимая, что у него слишком мало сил и времени для осады, посол двинулся дальше к Нижнему Новгороду, обещая вернуться и стереть Курмыш с лица земли.
Разгневанный от своей неудачной миссии Ак-Ходжа через два дня прибыл в Нижний Новгород, и сразу же направился ко двору Нижегородского князя, где с ходу излил на того весь накопившейся гнев. Он тыкал князю под нос царскую пайцзу* и топая ногами кричал, перечисляя все свои обиды и унижения, произолшедшие в дороге. А расстраиваться послу было из-за чего.
— Как только возвращусь в Сарай*, — пугал он, — оттуда двинется огромное войско, которое превратит Нижегородскую землю в вызженную пустыню.
Престарелый князь Дмитрий Константинович, никогда не отличавшийся мужеством и на своём веку немало натерпевшийся от ордынцев*, не на шутку испугался. Он бестолково и сбивчиво оправдывался, пытаясь всю вину свалить на Мамая, потерпевшего поражение от Московского князя Дмитрия, а также последнего, своей победой подорвавшего уважение русского народа к Орде*.
— В моей земле это ещё ничего, — сказал он под конец, — Это так, озорство, не более. Виновных я велю разыскать и покараю их сам, да так, чтобы другим неповадно было. А вот поедешь дальше, сам увидишь, что будет в московских землях, там народ вовсе потерял страх к Орде*. Лучше бы ты посол туда не ехал, перебьют вас всех по дороге. А Великому хану*, да сохранит его Господь на долгие годы, доведи, что выйти из его воли я и в мыслях не имею, и что Нижегородский князь первый ему на Руси преданейший слуга.
Но понадобилось ещё много уговоров, подарков и покаяний, чтобы умилостивить посла. Наконец Ак-Ходжа смягчился и сказал, что готов предать забвению всё происшедшее и обещает Нижегородскому князю царскую милость.
Однако, в связи с пережитым в дороге, своевременный совет Дмитрия Константиновича не ехать в Москву, показался Ак-Ходже вполне разумным. Пройденный путь наглядно показал, что большой кошун* на Руси привлекает к себе слишком много внимания и вызывает ненависть. Но исполнить волю Великого царя* всё-таки было необхидимо, и Ак-Ходжа написал ему срочное послание. Посол направил его в Сарай* с одним из самых доверенных царских кешектенов* Байондуром, дав тому приличное сопровождение. Затем Ак-Ходжа перепоручил свою миссию одному из сопровождавших его эмиров*, и тарджуману* по совместительству, Азату, приказав тому взять с собой только десяток нукеров*. Сам же Ак-Ходжа остался ожидать своего гонца в Нижнем Новгороде.
Через три недели его посланец благополучно вернулся назад, но ответ привёз совсем не такой, кокого ждали Ак-Ходжа и Тохтамыш. Московский князь Дмитрий ехать в Орду отказался наотрез и передал, что ныне Русь дани никому платить не будет вообще, но если с Великим ордынским царём* у него наладится дружба, то подарки от случая к случаю присылать ему будет. Теперь с этим ответом Ак-Ходже предстояло вернуться в Сарай*, чтобы обо всём сообщить Тохтамышу.
Глава 9: «Щедрые подарки» темника Мамая Дмитрию Донскому
Старший дружинник Московского князя Дмитрия Ивановича, Василий Непряда, прогуливался по стене белокаменного московского кремля. На стене возле многих бойниц были установлены неведомые доселе самострелы, которые стреляли железными и каменными шарами, называемыми ядрами, изрыгивая при этом из себя огонь и дым. Выстрелы сопровождались невероятной силы громом. Василию самому несколько раз приходилось это видеть. Применять самострелы в бою дружине князя Дмитрия, прозванного Донским после победы над темником* Мамаем, ещё не приходилось. Но из бывавших в Европе московских купцов, многие были наслышаны, что это очень грозное оружие и очень хорошо помогает, как при штурмах, так и при защите крепостей. У литовцев и поляков оно якобы уже имелось, но делиться секретом его изготовления и применения они с соседями не спешили. Однако, через торговый люд, сведения об огнестрельном оружии до Москвы доходили всё чаще и чаще, и здесь уже знали, что поляки зовут его пушками, а стрелки, владеющие им, пушкарщиками или пушкарями. Теперь, наконец, подобное оружие, вместе с мастерами его изготавливающими, заполучила и Москва. А произошло это следующим образом.
Во время битвы с войском Мамая на Куликовом поле, Василий Непряда со своими дружинниками находился в составе засадного полка, которым командовал шурин князя Дмитрия Московского — Дмитрий Боброк-Волынский. Когда наступил перелом в сражении и ордынцы* обратились в бегство, Василию и его товарищам было велено атаковать Красный холм*, на котором находилась ставка Мамая. При приближении русских воинов, Мамай и его свита покинули холм, спасаясь бегством налегке. При этом шатёр и всё его имущество осталось на том холме и в качестве трофеев досталось русским. У подножия холма находились два неизвестных русским дружинникам железных предмета, с виду похожих на трубы, с которыми они первое время не знали, что делать. Затем выяснилось, что среди пленных ордынцев*, находится и тот, кому принадлежали эти трубы. Русским, ордынец назвался мастером Аем* и просил пощадить его, взамен обещая научить воинов пользоваться этими трубами, а также научить русских самих их изготавливать. Находясь в состоянии ярости за погибших товарищей, дружинники сначала чуть было не убили мастера, но возле них вовремя оказался Дмитрий Боброк и заступился за него. Так мастер Ай*, вместе со своими чудо-трубами, оказался в Москве, где научил русских делать такое же оружие, зелье* к нему и стрелять из этих штуковин. Это оружие мастер называл туфангами*. Из-за недостатка железа, Ай* предложил делать туфанги* из стволов деревьев, в частности из дуба и лиственницы. Однако эти орудия выдерживали, как правило, один, или самое много несколько выстрелов, после чего разрывались, либо загорались. Да и заряды из деревянных туфангов* летели куда слабее. А поэтому, московский люд прозвал их тюфяками*. Для несведущих, это название перешло на все туфанги*. Оно вскоре укоренилось среди русских как общее название всех огнестрельных орудий. Исключение составляли самые маленькие, которые звались ручницами*. Вместе с Аем*, в русский плен попал и ещё один знахарь тех дел по имени Тюляк. Он какими-то методами мог рассчитывать траектории полётов ядер, в зависимости от углов наклонов стволов туфангов*. В результате, хотя и не всегда, заряды туфангов*, как и стрелы, могли попадать в цель не только при прямой наводке, но и из-за укрытий. Так как имя этого учёного-математика князь Дмитрий Московский и его ближайшее окружение старались держать в тайне, то москвичи располагали о нём лишь обрывочными сведениями. Поэтому, большинство москвичей полагало, что словом тюляк, зовутся стрелки, стреляющие из туфангов* и тюфяков*, и оно якобы, не является людским именем, так как отсутствует в «святках»*. Бывавшие в Москве смоляне называли эти орудия на польский лад — пушками, от издаваемого теми звука, похожего на «пух». В Литву подобное оружие попало, якобы от немцев. Вскоре в Москве нашлись и свои мастера-умельцы, которые стали вводить в оружейное дело свои новшества. Так один из княжеских дружинников Юрий Чопа, путём проб получил более совершенное зелье* для стрельбы. Он заметил, что древесный уголь, изготовленный из ольхи, больше подходит для изготовления зелья*, чем такой же уголь из других пород деревьев. В частности, тюфяки* с использованием такого зелья* стреляли лучше. После этого, для изготовления зелья* стал использоваться древесный уголь, изготовленный в основном из ольхи. К счастью для москвичей, в те годы в подмосковных лесах ольховые деревья произрастали в избытке.
Василию Непряде было велено изучить возможность более правильной расстановки орудий на стенах московского кремля, чтобы в случае штурма крепости нанести неприятелю наибольший урон. На тех башнях, где имелись ворота, или тех местах, где противник мог близко к стенам подтащить стенобитные или метательные приспособления, ставились металлические орудия. На менее опасных участках стен — деревянные тюфяки*. Для своего подмастерья Тюляка, Ай* соорудил отдельное орудие повышенной убойной силы, которое мастера прозвали на бесерменский* лад, «шайтаном», или «шайтан-трубой». В случае штурма, «шайтан» предполагалось извлечь из укрытия и установить в створе Фроловских ворот* кремлёвской крепости. Это требовалось для обеспечения уничтожения стенобитных таранов противника, на случай его попыток пролома главных кремлёвских ворот.
Всё, что было связано с огнестрельным оружием, князь Дмитрий Донской велел держать в глубокой тайне, поэтому к огнестрельному оружию допускались лишь самые верные и наиболее надёжные его люди. Иноземцев же было велено без надобности вообще не пускать на стены и башни кремля, а тем более, посвящать в дела, связанные с этим, неизвестным ранее оружием.
Но однажды случилось неладное. Проходя по кремлёвской стене, Василий Непряда увидел, как один из его знакомых дружинников, по имени Савостей, показывал иноземцам одно из орудий и что-то увлечённо рассказывал о нём. Что это были именно иноземцы, у Василия сомнений не вызывало. На них была широкая одежда, которую обычно носят магометане*. Больше всего Василия озадачило то, что это был именно Савостей, один из самых неважных учеников из числа княжеских дружинников, которые были отобраны для обучения стрельбе из огнестрельного оружия. «Сам ни хрена ничего толком не понимает, а уже других учить пытается, да ещё кого!» — посетовал Василий. Он согнал со стены иноземцев, а Савостею велел следовать с ним в караульное помещение. Там тот был арестован и помещён в темницу. Ночью Савостея вывезли из Москвы к князю Дмитрию Донскому, который последнее время жил в Кузнецкой слободе недалеко от столицы. Там, этого болтуна, также поместили в темницу. За болтливость, ему хотели отрезать язык, но решили повременить до приезда в слободу Василия Непряды, которому было велено «приглядеть» за черезчур любопытными иноземцами, появившимися невесть откуда в столице. Василий задерживался в Москве, а обитателям слободы казалось, что княжеские люди вообще забыли про невольника темницы, продолжавшего ожидать своей участи.
Прошло какое-то время и Василию Непряде сообщили, что возле той слободы дружинниками задержан его бывший толмач, пленённый им на Куликовом поле, который впоследствии неизвестно куда исчез. Это сильно насторожило не только Василия, но также Великого князя Дмитрия Московского, и мужа его сестры, воеводу Дмитрия Боброка-Волынского.
Через день после задержания толмача, Василий Непряда прибыл в слободу, где его ждал Дмитрий Боброк. Они разместились в одной из казённых изб, служившей своего рода острогом при той слободе, перекусили с дороги, выпили медовухи, после чего Дмитрий велел привести одного из невольников. В избу ввели высокого светловолосого молодого парня. Его имя было Ямонт, о чём знал лишь один человек, литовский князь Остей, перешедший на службу к Дмитрию Донскому воеводой. Вместе с ним в Москве появился и Ямонт, за которым на русский манер закрепилось имя Яков, или перосто Яша. Москвичи к нему привыкли, и никого не интересовало, откуда он здесь появился, чем занимается, и на какие средства живёт. Между тем Ямонт (Яков) зарабатывал себе на жизнь, выполняя разного рода секретные поручения, как самого Остея, так и и его московских покровителей, Великого князя Дмитрия Донского, с его ближайшего родственника Дмитрия Боброка-Волынского.
— Здорово Яшка, — обратился к нему Дмитрий, — Садись и поешь, небось проголодался уже? А это свой человек, — кувнул он на Василия, — Можешь говорить при нём всё, что угодно не таясь. Зовут его Василий.
— Благодарю, — ответил парень голосом с необычным акцентом и, пододвинув к себе жареного глухаря, стал жадно его уплетать.
— Ну что, не раскусили тебя эти двое? — вновь обратился Дмитрий к парню, не дожидаясь пока тот закончит трапезу.
— Вроде как нет. Хорошо, что их теперь двое. Я прикинулся не знающим вашего языка, — ответил Яков, — Они теперь болтают меж собой, не обращая на меня никакого внимания, что мне и нужно.
— Скажи, кто они и о чём говорили? — спросил Дмитрий Боброк.
— Тот, кто сидит дольше, русский дружинник, — продолжил Яков, не отрываясь от трапезы, — Он пушкарь, говорит, что сам может сделать пушку, но только деревянную. А вот заряд для неё сделать не сможет. Говорит, что посадили его за то, что показывал иноземцам, как устроена пушка. Второй, что посадили позже, татарин, был толмач у московского воеводы, бежал, но в Татарии* оказался никому не нужен, так как калека. Поэтому, он решил вернуться, а заодно и заработать, нанявшись проводником в чужеземный караван. Только это не обычный караван! Караванщики с него, только прикидываются торговцами. Это самаркандские лазутчики, присланные их владыкой заполучить здесь пушки и мастера, который их делает. Они не смогли это сделать в Татарии, так как опоздали с приездом, и теперь прибыли сюда. Тот татарин, якобы очень боится этих чужеземцев. Говорит, что своё дело сделал и теперь им больше будет не нужен, а значит, теперь те могут его убить. Поэтому он от купцов и бежал, а в слободу попал случайно, так как не знает здешних мест и дорог. Ещё он говорил, что по пути следования в Москву, караванщики очень интересовались переправами через какую-то большую реку в Татарии. На одной из переправ они уже были. Там татарский город Самар* имеется. На другую, такую же переправу, хотят посмотреть на обратном пути. Это якобы самая большая ордынская переправа. Интересовалить другими татарскими городами, но я их названий не запомнил, сложно произносятся.
— Пока довольно и этого, — произнёс Дмитрий, — А ты поешь ещё, да хорошенько, в темнице кроме затирухи* ничего не дадут, а тебе снова придётся этих невольников послушать. Мы их трогать пока не будем, поглядим, о чём меж собой дальше болтать станут.
— Времена нынче пошли непонятные, — посетовал Василий, — татары, чуть что, к нам бегут, а наши к татарам. Нижний* почти на треть из татар, а в Сарае*, куда не глянь, одни рожи рязанские. В Москве тоже татарвы хватает, а простолюдины-то и врагами друг друга считать перестали. Удивляться совсем не приходиться, откуда здесь лазутчики берутся.
— Иноземные лазутчики не так страшны, — перебил его Дмитрий, — Их хоть как-то видно. А вот свои, они намного хуже, особенно из числа нашего завистливого и продажнего боярского сословия. Продадут тебя с патрохами, ахнуть не успеешь.
Яков был возврашён в темницу. Савостею и Салимбегу решено было учинить допрос на следующий день, однако, ближе к ночи из Москвы прискакал гонец и сообщил, что в дом Василия Непряды наведались неизвестные восточные иноземцы, передали дорогие подарки и просят с ним встретиться.
— Это становится чересчур уж очень интересным! — сказал Боброк, — Не успели ордынских послов кое-как выпроводить, а тут уже новые иноземцы что-то затевают. Придётся тебе Василий срочно отбыть в Москву. Поторгуйся с ними как следует, да не оброни чего лишнего. По всему видать, эти «купчишки» народец ушлый. Послушаешь, что они скажут, а потом вернёшся и все вместе, с нашими арестантами потолкуем по душам, как быть дальше.
— Слушаюсь воевода, — ответил Василий, — А во мне будь уверен, не подведу, и уж конечно не продешевлю. Послов Тохтамыша ни с чем назад в Нижний* выпроводили, и с этими, думаю, как нибудь справимся.
При последних словах Василий хитро засмеялся. Этой же ночью он вернулся в Москву, где ему предстояла встреча с иноземными гостями. Что те задумали и как намерены были задуманное осуществлять, Василию предстояло, уже выяснять на месте.
Глава 10: Игра посланцев
в «кошки-мышки» с урусами
Невозвращение Салимбега обеспокоило Камол ад-Дина. Что с ним могло случиться? В наказание за побег, того могли закрыть в острог, а это больше всего не устраивало посланца*. Если Салимбег расскажет урусам*, каким образом тот прибыл в Москву, а также поведает об истинных причинах нахождения здесь самаркандского каравана, всех их, от Камол-ад-Дина и до простого караванщика, немедленно арестуют и возможно казнят. Умар-Шейх и его люди, в Москве караван искать не будут, так как Камол ад-Дин о своём походе сюда, вестей в Самарканд не посылал. Однако, думал посланец*, если урусы* их до сих пор не арестовали, значит Салимбег пока, о целях самаркандской миссии молчит. Поэтому, следует попытаться его из урусовской* неволи высвободить, а затем тихо ликвидировать. Не будет, теперь уже ненужного им человека, не будет с ним и проблем, решил Камил ад-Дин. Поинтересовавшись, какие из восточных товаров наиболее предпочитаемы для урусов*, посланец* отобрал несколько подарков. Затем, он попросил Эргаша передать их бывшиму саиду* Салимбега, обговорив с тем условия их встречи. В качестве же основного подарка, для этого уруса, посланец*, приготовил кинжал из дамасской стали с позолоченной рукоятью. Его Камол ад-Дин намерен был вручить урусу* лично, а не вместе с остальными дорогими «побрякушками». Возвратившейся Эргаш сообщил, что их подарки, нукеры* этого уруса* приняли. Это означало, что встреча состоится, а урус* на неё, настроен вполне доброжелательно.
На следующий день с утра, Камол ад-Дин, взяв с собой в качестве тарджумана* Ильяса, явился в дом Василия Непряды. К тому времени, тот уже вернулся из слободы и поджидал гостей. В своё время, наобщавшись со своим пленником Салимбегом, Василий в общих чертах научился разбираться во многих тонкостях мусульманского этикета, поэтому, по прибытию гостей, на правах старшего поприветствовал их первым.
— Саляму алейкум*, — произнёс он, узнав в прибывших, тех самых, интересовавшехся орудиями иноземцев, которых ранее уже видел на кремлёвской стене, — Мы, кажется, с вами где-то раньше уже виделись?
При этом Василий сделал вид, что не может вспомнить, где раньше мог встречаться с гостями.
— Ва-алейкум*, — ответил на приветствие Камол-ад-Дин.
Он также узнал Василия, но слегка пожал плечами, делая вид, что старается вспомнить, где они в действидельности могли встречаться? При этом, Ильяс молча, стоял рядом, оглядывая хозяина дома невозмутимым раскосым взглядом.
— В знак глубокого уважения, разреши преподнести тебе мой скромный подарок, — продолжил Камол ад-Дин и протянул Василию кинжал, уложенный в ножны.
— Рахмат*, — по мусульмански поблагодарил Василий, приняв от того подарок и попросил прибывших пройти к заранее накрытому столу, — Чем я мог заслужить внимание столь дорогих гостей?
Василий знал язык ордынцев* на том же уровне, что Ильяс русский. Знай об этом Камол ад-Дин заранее, он мог бы обойтись и без тарджумана*. Но раз уж Ильяс оказался здесь, ему пришлось присутствовать во время всей их беседы, хотя в разговор, этот ордынский «полутолмач» практически не вмешивался.
— Я ищу своего тарджумана*, — вновь начал разговор Камол ад-Дин, — Несколько дней назад я послал его к тебе справиться о закупке большого количества пеньки*, но назад тот не вернулся.
— Кто он у тебя? — не понял Василий, — А известно ли тебе, что он, прежде всего, мой беглый холоп?
— Тарджуман*, на вашем языке толмач кажется? Но про побег он мне ничего не говорил. Говорил лишь, что был у тебя вольноотпущенным тарджуманом*, решил подзаработать и нанялся качарги* в булгарский караван. А в Булгаре*, я его сразу; и качарги*, и тарджуманом* нанял. Если бы я знал, что он твой беглый холоп, разве я бы отправил его к тебе с поручением? Он и сам бы в таком случае не пошёл к тебе. Кроме того, я не думаю, что этот калека тебе сильно нужен, мне он гораздо нужнее. Верни мне его, я неплохо заплачу.
— А ещё он рассказывал что нибудь?
— Ничего особенного, говорил, что служил в войске Мамая. Был изранен и остался калекой. При Тохтамыше стал никому не нужен. Вот и всё. Да мы его собственно, особо-то ни о чём и не расспрашивали!
— Возможно, ты и прав. Этот калека мне действительно ни к чему. По правде сказать, я о нём забывать стал. Но, он вдруг сам объявился. За своеволие я его наказать хотел, да за него один мой родственничек вступился. Ему тоже толмач нужен, вот я его этому родственнику и уступил. Теперь, чтобы тебе вернуть, я его назад откупить должен, если конечно родственник на это согласится.
— Скажи, как его найти и я решу эти вопросы.
— Нет, с этим человеком тяжело разговаривать, сначала я сам с ним поговорю. Ты мне только скажи, где вас можно найти и ждите известий.
Гости распрощались с хозяином и покинули дом, а Василий Непряда стал собираться в слободу.
Глава 11: «Неожиданная удача» посланца Бури
Пока Камол ад-Дин с Ильясом гостили у Непряды, Бури решил не терять времени попусту и пойти ещё пособирать московские сплетни да слухи. Взяв с собой двоих караванщиков, он направился на городской базар*. Там, как всегда было много народа, но болтали люди всякую чушь и всё об одном и том же, то есть, ни о чём. Промотавшись по базару* и ближайших закаулках посада* почти полдня, самаркандцы зашли в одно из московских пивных заведений, называвшихся здесь кабаками. Перед дальнейшими поисками, Бури предложил своим спутникам перекусить, а заодно и изведать местного мутновато-белого вина, которое тут звалось корчмой*. Взяв по чаше этого, весьма противного, но крепкого пойла, с жареной телячьей ногой к нему на закуску, путники уселись за угловым, ничем не накрытым дубовым столом и принялись траперничать. А в это время, посередине кабака, изрядно подвыпившая компания играла в какую-то неизвестную самаркандцам игру. Закончив играть, компания стала заставлять одного из игроков, повидимому проигравшегося, лезть под стол. Тому, повидимому, эта процедура не нравилась, и он отказывался повиноваться товарищам. Тогда, из-за стола поднялись несколько человек и стали заталкивать проигравшего под стол силой. Тот начал отбиваться от них, размахивая кулаками.
— Ты чё это, туляк паршивый! Совсем друзей не уважаешь! — обратился один из игроков к проигравшиму, — Думаешь, если ты из тюфяка* стрелять научился, то тебе теперь всё по фигу? Порядок для всех один! Проиграл, лезь под стол. Здесь тебе, не кремлёвская стенка! Мы тебя щас быстро уму-разуму научим! Море, конечно, таким как ты, кажется по колено, а вот лужа, может стать по уши!
Но на проигравшиго, это не действовало, и он попрежнему не желал подчиняться правилам. Мужчина стал махать руками ещё сильнее, задевая на столе деревянную и медную посуду, да так, что та разлеталась по кабаку. Тогда один из игроков, медвежеподобный верзила, встав из-за стола, закатил почти по локоть рукав рубахи, и не очень сильно замахнувшись, ударил бузитёра кулаком прямо в ямочку на подбородке. Проигравшей свалился на пол, раскинув руки в разные стороны. Тогда, верзила подошёл к нему, и взвалив на одно плечо, понёс прочь из кабака. Вскоре он вернулся обратно, но один.
— Ты куда его дел? — спросил один из игроков, обращаясь к верзиле.
— Выбросил в лужу, — ответил тот, — Пусть проспится и остынет.
Компания, опрокинув ещё по чаше корчмы*, продолжила свою игру и дальнейшую трапезу.
— Заканчивайте! — тихо, но властным голосом произнёс Бури, обращаясь к своим спутникам.
Самаркандцы быстро, но без лишней суеты собрались, раскланялись с хозяином кабака, и с сожалением посматривая на недоеденное мясо, покинули помещение. Выйдя на улицу, они увидели, что тот самый незадачливый игрок, которого только-что в кабаке угораздило проиграть своим бесшабашным друзьям, лежит по уши в луже, и посапывая, что-то пытается чавкать.
— Кто знает, где находится торак* Ильяса? — спросил Бури своих караванщиков.
— Я знаю, — ответил один из них, — Что нам теперь делать?
— Берите его, и бегом несите к Ильясу, — ответил Бури, показывая на лежащего в луже, — Остаётесь с ним до моего повеления, и отвечаете за него головой. У Ильяса под полом зиндан*. Будете держать его там столько, сколько понадобится, но обращаться достойно, если конечно будет себя хорошо вести! Понятно?
— А кто он такой? — спросил второй самаркандец.
— Кто! Кто! — недовольно посетовал Бури, — Слушать надо было лучше, а не хлопать ушами! Тот, кто нам нужен, и из-за кого мы здесь торчим. Хватайте его и бегите, а я немного здесь постою, чтоб эти его самогарщики* не хватились, и следом за вами не последовали.
Один из самаркандцев, тот, который знал место проживания Ильяса, подхватил лежавшего себе на плечо и помчался прочь от кабака. Второй последовал за ним. Бури некоторое время стоял и наблюдал за кабаком, но похоже, другие его посетители так увлеклись игрой, что им было не до оставленного на улице горемыки. Постояв ещё немного, Бури проследовал вслед за своими сообщниками по направлению к жилищу их нового тартжумана* Ильяса.
В постоялый двор, Бури вернулся лишь поздно вечером и один.
— Где так долго пропадал? — спросил его Камол ад-Дин.
— Мы сегодня славно поохотились, — с воодушевлением ответил Бури, — Ты не представляешь! Какая добыча сегодня сама угодила к нам в лапы! Такая удача выпадает настоящим охотникам раз в сто лет.
— Какая охота? Что за добыча? — недоумевал Камол ад-Дин, — Где твои остальные спутники? Ты мне толком можешь объяснить?
— Нам в руки, сегодня попал сам Тюляк! Представляешь! Взяли его еле тёпленьким, без каких либо проблем и спрятали в самом, что ни на есть, надёжном месте.
— Этого не может быть! Где вы его нашли, и как вам это удалось? И вообще, ты уверен, что это именно Тюляк?
— Представляешь? Это было что-то! Тюляк со своими друзьями праздновал в ихней чайхане, по ихнему кабак называется. Там его изрядно напоили ихним вином, что на их языке корчмой* называется. Противное такое пойло, но крепкое. Напившись, он полез драться. За это ему, его же друзья, врезали по физиономии, вынесли из чайханы и бросили в лужу остыть. У них это, наверное, традиция такая. Нам ничего не оставалось, как подобрать его пьяного, и отнести подальше, спрятав в надёжном месте.
— А откуда тебе известно, что это Тюляк? — продолжал сомневаться Камол ад-Дин.
— Его так собственные друзья называли, когда успокаивали во время драки, — излагал свои доводы Бури, — А ещё, когда мы его принесли на место и этот несчастный очнулся, я его спросил: «Ты — Тюляк?», на что он кивнул утвердительно. Какие тут могут быть сомнения?
— Всё равно как-то странно? Почтенный мусульманский улем*, напивается с неверными, словно кака*, корчмы*? Затем валялся по уши в луже? И, тем не менее, как-то в голове всё равно не укладывается!
— Так ведь толком неизвестно, правоверный он, или жид, то есть бродник по ихнему, — пытался найти объяснение Бури, — За это время, он мог вполне и веру поменять. Мусульманам, особенно ордынским, это не возбраняется. А затем эти, как их зовут, москвачи*, могли его и «орусячить», и «одурачить», как у них это зовётся.
— Ладно, потом разберёмся, — махнул рукой в знак согласия Камол ад-Дин, — Вы его хоть где спрятали?
— У Ильяса в тораке*, — ответил Бури, — Там у него под полом зиндан* имеется*. А наших людей я оставил там охранять этого улема* до тех пор, пока мы не соберёмся уезжать отсюда. Потом подумаем, как лучше вывезти его из города.
— Ты в своём уме? — возмутился Камол ад-Дин, — Это же прямо у их главной заставы, напротив главных, Фроловских ворот* ихнего, так называемого кремля?
— C ума я как раз не сошёл! — с ехидцей улыбнулся Бури, — Я просто уверен, что урусы* будут искать этого Тюляка где угодно, но только не здесь, у себя под носом.
— Тогда, это дело под твою ответственность, — стал соглашаться Камол ад-Дин, — А Ильяс знает, что у него в зиндане* наш пленник? И не выдаст ли он нас вообще?
— Ильяса я предупредил сразу после того, как тот вернулся от тебя, — сказал Бури, — Он согласился пойти нам навстречу. Что же касается, выдаст или не выдаст, то я почему-то верю этому человеку. У меня на этот счёт звериный нюх, после того, как я побыл в шкуре яргу*.
— Хотелось бы, чтоб твой нюх тебя не подвёл, — промолвил Камол ад-Дин и сделал паузу. Ему хотелось напомнить Бури про конфуз с Кара-Кончаром, но подумав, посланец* не стал этого делать, а лишь заключил, — Ладно, ложимся спать. Сегодня был очень тяжёлый, хотя и весьма удачливый день. Побольше бы к нам и дальше фортуна лицом поворачивалась. Да поможет нам в наших праведных делах Всевыщний!
Глава 12: Ох уж эти незваные гости с Востока!
Великий князь Московский, Дмитрий Иванович Донской, с мужем своей сестры Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским сидели в княжеской избе и дожидались возвращения Василия Непряды. Накануне, Боброк велел привести в избу поочереди Савостея и Салимбега, где самолично допросил их обоих. Разговор с Савостеем давал немного. Взболтнул он иноземцам лишнее по собственной глупости, толком не осознавая, что натворил. Иноземцев ранее не знал, а в тот день впервые видел. Теперь сидит в темнице подавленый, ждёт своей участи. Но при допросе, он также поведал о своём разговоре в темнице с Салимбегом, чем подтвердил сказанное ранее Яковом. Салимбег также отпираться не стал, рассказав всё, что успел узнать о самаркандских купцах и причинах их появления в Москве. Единственное, что Салимбег скрыл от Дмитрия Михайловича, так это то, что сам явился к самаркандцам и предложил им сведения о месте нахождения мастера Аса* и его туфангов*. Он, представил дело так, что самаркандцы сами предложили Салимбегу стаь у тех проводинком, но для Боброка это было не существенно. Салимбег также заявил, что боится вновь возвращаться к самаркандцам, и поведал о причине своего опасения.
— Значит, мой дружинник оказался изменником, — промолвил князь Дмитрий, пытаясь при свете лучины разглядеть какой-то привезённый с собой толи чертёж, толи рисунок.
— А я думаю, что он просто обычный, безмозглый шолопай и маракуша*, — ответил Боброк, занимаясь при этом починкой какой-то конской упряжи.
— Легкомысленный болтун, бывает хуже любого предателя и лазутчика. Ты сам говоришь, что эти купчишки не просто так к нам пожаловали, да ещё почти следом за ордынскими послами? Не узнавал ли ты у торговцев, что за страна это такая — Самарканд?
— Это вовсе не страна. Это город, столица той самой страны, а зовут её все поразному, кто Согдией, кто Маверанией, кто Тураном*, поди, разбери. Правителя той далёкой страны тоже все поразному зовут, кто Аксак-Тимуром, кто Тамирбеком, кто Тимурбеком, или ещё кому как вздумается. Но он, скорее, не правитель, а вроде воеводы главного при правителе той самой страны, царе Саюрте или точнее Саюргопмыше, как его там кличут, не выпив, не выговоришь. Только тот Саюрт совсем никчёмный правитель. Делать он сам ничего не умеет, и целыми днями лишь своим гаремом занят. За это купцы того Саюрта насмешливо называли типа «шлёпни здесь, шлёпни здесь»*. Пользуясь случаем, этот Аксак-Тимур, в той стране, всем и заправляет. Купцы поведали, что он великолепный воин. В соседних странах его побаиваются, так как быстр он, словно сапсан, и злой как волк. Не успеют соседи про него чего худого замыслить, а он уже тут как тут, и тогда не жди от него пощады. Кстати, ордынскому царю* Тохтамышу, это он на трон помог сесть. Но, в то же время, своих людей за ним присматривать приставил, чтоб особо не своевольничал. Может и его купцы с послами Тохтамыша заодно? Только кто теперь об этом поведать сможет?
— Получается, нам тоже с его людьми следует быть осторожнее. Мы после Куликова побоища ещё не оправились, и к новой войне с Ордой* не готовы, а с таким врагом, как этот Аксак-Тимур, и подавно. Нам любой войны в ближайшем будущем необходимо избегать.
— Мы и так осторожничаем. Этих иноземцев я приказал не трогать, но и на стену кремля больше не пущать. Всей страже кремля приказал держать языки за зубами, иначе болтливым, их будем выдёргивать. А иноземцы пусть живут в Москве столько, сколько им заблагорасудится. Надоест ли, истратятся ли, все равно рано или поздно съедут.
— Правильно делаешь, только нужно, чтоб об Ае* с Чопкой и Тюляком этим, ни одна живая душа не пронюхала, где мы их прячем. Может быть, вообще отправить их в Вологду или Кострому? Пусть там занимаются своим делом, а здесь мы и без них справимся. У нас вон Непряда есть, молодец, да и только. С лёту всё схватывает.
С улицы донёсся топот копыт прискакавшей лошади и в избу вошёл Непряда. Он поклонился князю и хотел что-то сказать, но Дмитрий Иванович его перебил, начав первым.
— Лёгок ты на помине Василий, только что с Дмитрием Михайловичем о тебе поговоривали. Новости свежие привёз?
— Привёз Великий князь. Чужеземцы считают, что этот Салим, лично мною арестован и находится у меня. Они предлагают за него выкуп. Говорят, что он им необходим как проводник и толмач.
— На Москве и тех, и других хоть отбавляй, что-то темнят иноземцы. Чую, не за этим он им нужен, — сказал князь.
— Если же верить самому татарину, то он к ним возвращаться не желает, — добавил воевода, — А ты Василий, что им ответил?
— Сказал, что его своему родственнику в неволю отдал.
— А твой шурин купец кажется? И он вскоре в Орду* кажись, собирался? — начал припоминать Дмитрий Боброк, — Вот и пусть он этого татарина с собой тудаже забирает. Посмотрим, что иноземцы скажут, когда узнают.
— Да, Семён скоро в Самар* отплывёт, — ответил Василий, — Там лавку откроет. Татары молвят, что скоро через Самар* снова караваны в Китай пойдут. Иноземцы, кстати, тоже Самарским перевозом* интересовались. Пожалуй, стоит им такую наживку подбросить. Может быть, проглотят, да как можно быстрее уберутся отсюда? Всё нам без них хлопот будет меньше.
— Они не за этим сюда пришли, — вновь вмешался князь, — Им нужны наши пушки, или мастер, или же то, и другое. Может быть, рискнём, да и вырежим этих пришельцев?
— Не стоит. Нам сейчас ещё одни враги не нужны, — сказал Боброк, — В Москве купцов кроме них хватает. А значит слухи об убийстве послов, хоть и тайных, могут дойти до Самарканда. Что при этом ждать от Аксак-Тимура, мы не знаем. А у нас что? Войска почти не осталось. Казна пуста. Выход* Орде платить нечем, в городах и весях разруха и нищета. Так что, поломать голову есть над чем.
— Пушки они от нас тоже не получат, — сказал князь, стукнув кулаком по столу, — Ни в коем случае! Мы ещё умом окончательно не рехнулись! Мы даже не знаем, имеет их в одном из своих улусов Орда*, или нет?
— Пушки нет, — сказал Боброк, — А вот мастера, отдать можно.
— Ты что Дмитрий, в своём ли ты уме? — повысил голос князь.
— Не Ая* конечно, — продолжал Боброк, — А допустим этого болтуна Савку, чем не мастер? Толку с него, как с козла молока, да и в пушкарном деле тупой как сибирский валенок.
Все трое рассмеялись.
— А вообще-то, что мы смеёмся!? — сделав затем удивлённый вид, продолжил Боброк, — Ведь деревянный тюфяк* он действительно сам смастерить сможет. Но тюфяк без зелья* ничто. А у нас его только Ай* с Чопой делать умеют. Для зелья «китайский снег»* нужен, вот и пусть иноземцы ищут его в Китае. Они подкупят и получат «нашего мастера», и пусть убираются восвояси. Савка, затем, должен «случайно» погибнуть, желательно от рук татар. Мы Рятикозю* и другим их татям*, за какие грехи приплачиваем? Вот и пускай отрабатывают наши кровные.
— А как ты иноземцам этого болтуна всучишь? — спросил князь.
— Я уже кое-что придумал, — ответил Боброк, — Потом ещё с Василием докумекаем, и сделаем всё как надо.
— Ну что же! Делайте, раз решили, — сказал князь, — С невольниками-то, когда говорить будем?
— Да прямо сейчас и поговорим, — сказал Боброк, — Зачем на потом откладывать? Василий веди сюда Савку.
Непряда привёл Савостея, заломив тому одну руку за спину, а своей второй, придерживая за волосы. Вид у того был крайне подавленным.
— Что ты его держишь буквой «зю»*, — обратился к Непряде Дмиитрий Михайлович, — Отпусти. Он и так отсюда никуда не сбежит.
Как только Непряда отпустил Савостея из своих цепких «лап», тот сразу упал на колени перед князем.
— Встань Савка, — грозно промолвил Дмитрий Иванович, — К чему мне твоя челобитная? Сядь вон на лавку.
Савостей робко встал и присел на лавку, стоявшую вдоль стены княжьей избы.
— Вот уж от кого не ждал, так это от тебя, — продолжил князь.
— Виноват Великий князь, — ответил Савостей, — Вели казнить. Видит бог, я заслужил. Об одном только прошу, семью мою не тронь. Они ни в чём не повинны.
— Смертью искупить вину хочешь? Не слишком ли просто? — продолжил князь, — Легко отделаться хочешь, а вот о семье ты вспомнил вовремя. Умереть ты всегда успеешь. А вину искупать придётся подобающе, чтоб и чести не уронить.
— Я на всё готов, — ответил Савостей, — Только что я должен сделать? Скажи, Великий князь!
— Дмитрий Михайлович, — обратился князь к Боброку, — Объясни доходчево, что от этого молодца требуется.
— Мы убедим иноземцев в том, — начал Боброк, — что ты оружейный мастер, научившейся делать тюфяки*. Деревянный ты действительно сделать сможешь. Но они должны быть убеждены, что железные и медные ты умеешь делать не хуже. Иноземцы пришли сюда за огнестрельным оружием и мастером, который может его делать. Не получив здесь ни того, ни другого, они рады будут и тебе. Попробуют тебя уговорить, купить или похитить. Похищения не дожидайся, лучше продайся. Учитывая, что ты им уже кое-что разболтал, они должны клюнуть. Затем мы тебе соберём небольшой обоз и направим в Орду*, известив об этом иноземцев. По нашей задумке, они должны пойти за тобой следом. А нам нужно их отсюда быстрее и подальше выпроводить. Доставишь в Бездеж* канаты для их даруги*, а заодно оставишь птиц-скоролётов, где укажем. Сделаешь сразу два добрых дела. Смотри не разболтай иноземцам, зачем птицы. Мы, с тобой отправим лишь белых и коричневых голубей. Скажешь иноземцам, что такие в ордынских городах редкость и они в цене. Сизарей и там хватает, словно мусора. Тебе никто не поверит, что сизарей в Орде* ещё кто-то покупать захочет, а вот коричневые, и особенно белые, редкость. С обозом ты будешь следовать по Скифской сакме*. Там у тебя возможна встреча со всякого рода лихими людишками: с казмаками*, с ушкуйниками*, и другими, всякого рода татями*. Но лучше, чтобы это были ушкуйники*. Пускай они этих иноземцев перебьют. Там уже будет ордынская территория, с Орды* и спрос. Вам же, в таком случае, необходимо сбежать, выпустив из клеток голубей. Если птицы вернуться все и разом, будем знать, что с вами беда. Но если до Бездежа* доберётесь благополучно и ты сбежишь один, канаты передадут твои люди. Однако скажешь им об этом лишь только тогда, когда доберётесь до города. В Чолкане* узнай почём железо и сколько его можно купить. А ещё, только очень аккуратно, не появились ли там московские мастера. Тебе всё ясно?
— Яснее не бывает! А если всё-таки эта затея с иноземцами не пройдёт? — спросил Савостей.
— Придумаем другую. Но, желательно, чтоб прошла эта, — сказал Дмитрий Боброк, — Нам вон Василий поможет. Он московский люд хорошо знает. А значит, «случайную» встречу с иноземцами организовать сумеет. Ты, в свою очередь, тоже смотри не оплошай. Кое-что им про тюфяки* втереть можешь. Они ведь уже наверняка про эти огнестрелы знают больше, чем ты им тогда наплёл.
— Я же почти ничего не успел им поведать …!
— Полно дурака-то валять. Так мы тебе и поверили! Да вот ещё что. Как вотрёшься к иноземцам в доверие, меньше чего сам болтай, а больше их слушай, Василий научит как. Жена твоя с ребятнёй у нас останутся, для страховки, чтоб не натворил чего худого. Мы о них позаботимся, если хорошо вести себя будешь. С Бездежа*, тебе лучше с купцами на торговом судне вернуться, а как именно, смотри на месте. Забирай его завтра Василий, да поучи уму-разуму.
Василий с Савостеем поклонились и вышли, а в избе остались, князь Дмитрий и Боброк.
— Ты и впрямь надеешься, что он сможет вернуться? — спросил князь.
— Нет, конечно же, — ответил Боброк, — Но подбодрить этого маракушу* надо, а то сбежит раньше нужного. Главное, чтобы этих чужеземцев с Москвы выпроводить, и любыми путями. Что их сюда принесло за тридевять земель? Насчёт того, что в Орде* больше тюфяков* не осталось, наверное, Ай* не врёт? Самаркандцам их там куда легче было бы заполучить. Чего они сюда и впрямь припёрлись? Может тех купцов и впрямь в темницу, да попытать с пристрастием, как следует?
— Ни в коем случае! — не согласился князь, — Ты сам говорил, что для Аксак-Тимура эти посланцы*, или засланцы, как их лучьше назвать, дороже его собственных сыновей и внуков. Народу продажнего в Москве хоть отбавляй. Через купцов может дойти до него истина и тогда войны не избежать. Избавимся от них и без крови.
— Я вот что ещё мыслю, — подумав, сказал Боброк, — Нужно иноземцам слушок подбросить, что мы заряды для тюфяков* из Сарая* получаем, и дать намёк, что у ордынцев* это оружие тоже вроде как имеются. Может быть клюнут, да и уберутся пораньше восвояси?
— Давай обдумаем и попробуем, — согласился князь.
В избу возвратился Василий, приведя с собой Салимбега.
— Ну что, не надумал к купцам вернуться? — обратился к нему Боброк — Волынский.
— Нечего мне больше у них делать,.– ответил Салимбег.
— А если мы тебя вернём силой? — вмешался Непряда.
— На всё воля Аллаха, — ответил Салимбег, потупив взгляд.
— К купцам ты не хочешь, домой возвращаться тоже, а здесь что ты намерен делать? — спросил у него Боброк.
— Качарги* пойду к вашим купцам, — ответил Салимбег, — На Самар* караваны водить буду. Я эту сакму* хорошо знаю.
— Так у самаркандских купцов ты тоже проводником был? — вмешался князь, — Почему ты от них ушёл? Да и после Куликова поля народ русский, татар здесь не больно жалует.
— Об этом я уже поведал Адаму Тюряю*, — промолвил Салимбег, кивнув в сторону Боброка, — От того, что вы разбили Мамая, Московия* не перестала повиноваться Орде*. Ты ведь тоже царю* Тохтамышу присягнул, не так ли? Получается, что твоя земля всего лишь осколок Орды*, а значит и я на своей земле. Разбили же вы не ордынского царя*, а всего лишь ихнего самозванца. Гонений же на нас в Москве не больше, чем в Орде* на тех, кто служил Урус-хану или Мамаю. Кроме того, урусы* ведь из Сарая*, да и других ордынских городов, тоже пока никуда бежать не собираются?
— Смело на рожон лезешь! — заметил князь Дмитрий, — Чтож, дерзость иногда, приятнее лести! Но смотри татарин, не переоцени себя!
— А если мы тебе предложим в Самар* перебраться? — спросил Боброк, — Там тебе содержание обеспечим, а к нему ещё дача*, придача*!
— Почему именно в Самар*? — поинтересовался Салимбег.
— Через Самар* скоро караваны шелковые в Китай и обратно пойдут, — вмешался Василий, — Мой родич там лавку откроет, торговать будем, не вечно же воевать? Вот и будешь ему помогать как толмач и прочее. А я тебе за это, побег прощу. Так что, согласен?
— Кажется, начинаю понимать! — произнёс Салимбег, — Я согласен.
— И вот ещё что, — добавил Боброк, — О твоём туда переселении, должны непременно узнать самаркандцы.
— Это ещё зачем? — испуганно спросил Салимбег.
— Как нам стало известно, им тоже нужен свой человек на том перевозе, — сказал Боброк, — Тогда ты точно будешь находиться в полной безопасности.
— Значит, как та кунча*, что служит сразу двум хозявам? Чтож, выбора у меня пожалуй, не остаётся совсем, — стал рассуждать Салимбег, — Как сообщить об этом самаркандцам? Если это сделаю я, они наверняка заподозрят неладное. Тогда мне точно конец.
— Это уже наша забота, — сказал Боброк, и обратившись к Василию, добавил, — Всё обдумано и решено. Василий, забирай его обратно.
Непряда увёл Салимбега назад в острог, а князь Дмитрий и воевода Боброк остались в избе обсуждать дальнейшие дела.
— Кто тот немец, что со мною в темнице мается? — обратился Салимбег к Василию, по пути следования в острог.
— Он не немец, он литвин* кажется, — нехотя ответил Василий, — Им другие княжьи люди заняты, не я.
— За что его в темницу бросили? — не унимался Салимбег.
— Кажется, дозорные где-то изловили, — нехотя ответил Непряда.
— Не понимаю! За что ему такие милости? — продолжал досаждать Непряду Салимбег, — Мы с княжеским дружинником какой день баланду хлебаем, а его жареной дичью потчуют.
— Откуда ты это взял? — сделав удивлённый вид, спросил Непряда, — Сочиняешь мне ерунду всякую.
— Вовсе нет, — ответил Салимбег, — Этот иноземец как вернётся с допроса, так от него на всю темницу жареной дичью разит. А мы, изголодавшиеся, как никто другой этот запах ощущаем.
— Я слышал, он какие-то секреты о новом оружии по Смоленску знает, вот наши люди, наверное, с ним и подхалимничают. Чтобы добыть значимые секреты, любые средства хороши. Но если можно сделать похорошему, то почему этим не пользоваться? А методы «кнута и пряника», в целом мире, и во все времена, ещё никто не отменял, и мы не исключение.
— О новом оружии, это о туфангах*, что ли?
— Нет, кажется, о чём-то другом, — соврал Василий, а потом стал успокаивать Салимбега, — Ничего, потерпи маненько, сейчас и тебя накормим досыта.
Про себя же Непряда подумал, что в одом деле они с Дмитрием Михайловичем допустили явный просчёт. Не следовало лазутчика Яшку кормить более изысканной и тем более пахучей едой. Другие невольники темницы это заметили. Так ведь этого «крота» и убить могли бы! На будущее такие издержки необходимо учесть и подобных проколов не допускать в принципе.
— Покорми бедолагу, — обратился Непряда к старшему дубаку* в остроге, — Видит бог, он сегодня этого заслужил, только смотри не перекорми, а то после длительной голодухи, много есть тоже опасно. Концы двинуть может.
— Сейчас что нибудь сообразим, — пообещал тот Непряде перед тем, как увести Салимбега назад в темницу.
Подождав того момента, пока надзиратель вернётся, Непряда дал ему ещё одно напутствие, как можно чаще заглядывать в темницу, чтобы избежать каких-либо эксцессов между содержашимися там заключёнными.
Глава 13: Москвичи выпроваживают прочь посланцев Тимура
Как и было обусловлено, после возвращения в Москву Василий Непряда известил о своём приезде самаркандских купцов. И сразу же на следующий день Камол ад-Дин с братом Эргашем отправились в гости к Василию. Приехав, они увидели во дворе жилища Непряды несколько человек, возившихся с каким-то деревянным изделием. Среди них были Василий и Савостей. Камол ад-Дин тут же сразу заметил, что изделие, с которым возились присутствующие, являлось деревянным туфангом*. Посланец* вспомнил, что подобное творение он уже однажды видел на стене московской крепости, называемой здесь кремлём.
— Салям алейкум*, — поздоровался с подъехавшими к нему иноземными гостями Василий.
— Ва-алейкум*, — ответил на приветствие Камол ад-Дин, — Не помешали? Ты теперь свой торак* громом и молнией защищать будешь?
— Нет, не помешали. А это наш умелец свой первый тюфяк* смастерил, — Василий кивнул на Савостея, — Не хуже чем у татарского мастера получилось. Было бы ещё при нас зелье*, мы бы сейчас холостым как гахнули, вся Москва бы задрожала!
— А какое нужно зелье*? — спросил Камол ад-Дин, — не гашиш* ли, тот, что на Востоке в избытке?
— Нет. Это порошок такой, — начал пояснять Непряда, — Делается он из «китайского снега»*, поэтому здесь очень дорогой. Этот снег очень сильно горит, а если вспыхнет в стволе тюфяка*, получается сильный гром. Но не всякий «китайский снег»* годится для зелья*, поэтому нужно ещё знать, где его брать.
— Вы что, этот порошок из Китая возите? — спросил Камол ад-Дин.
— И из Китая тоже, — ответил Василий, — Но последнее время нашли его и гораздо ближе. Возле Сарая* ордынцы* тот снег как уголь, в земле копают, а мы у них потом покупаем. Кстати, совсем недорого.
— А туфанги*, или как вы их зовёте, тюфяки*, у ордынцев* имеются? — спросил тимуровский посланец.
— Скорее всего, есть. Я слышал, что они в Чолкане* какое-то новое оружие начали делать. Но гадать не буду. Вот Савостей из Бездежа* возвращаться будет, по пути и посмотрит.
— А когда и зачем он туда едет?
— Скоро. Нам туда канаты отвезти надобно. Там, говорят, корабли по суше из Волги в Дон таскать начали. Ордынцы* снова щёлковый путь восстанавливают. Вот им теперь наши крепкие канаты и понадобились. А вам канаты не нужны?
— Нужны, только мы у вас, на этот раз пеньку* купим, а канаты из неё сами сделаем. Теперь о главном! Что ты решил со своим пленником дальше делать?
— Я уже говорил. Он не мой пленник. Вот знакомтесь, — Василий стал знакомить присутствующих между собой, — Мой шурин, Семён. А это Камол. Сёма, это то, о чём мы с тобой говорили.
— Я понял, — ответил тот самый Семён, — Рад бы помочь дорогим гостям, да не могу. На днях отбываю в Орду* и мне ох как необходим толмач и проводник. Готов даже заплатить откуп за неудобства, причинённые гостям в силу непредвиденных обстоятельств.
Василий взял на себя роль переводчика и перевёл гостям сказанное.
— И что, этот калека такой незаменимый? — спросил, вмешиваясь в разговор Эргаш.
— Он знаком с теми местами, как никто другой. А нам там предстоит неизвестно сколь долго жить, — ответил через Василия Семён.
— И куда же купец намерен направиться? — спросил Камол ад-Дин.
— Они надолго отбывают в ордынский* город Самар*, — ответил за Семёна Василий.
Камол ад-Дин знаком отозвал в сторону Эргаша. Они полушопотом о чём-то переговорили, после чего разговор продолжился.
— Мы уступим вам вашего пленника, — сказал Камол ад-Дин, — Однако, прошу дать возможность с ним поговорить.
— Это ради бога, — ответил Семён, — Можно хоть сразу же. Зачем откладывать на потом?
— Давайте сегодня же и перетолкуем, — согласился Камол ад-Дин.
Камол ад-Дин, Эргаш и купец Семён отбыли на подворье к последнему, где встретились с Салимбегом.
— К тебе гости пожаловали, — обратился к Салимбегу купец.
— Ас-саляму алейкум*, — поприветствовал тот прибывшех в гости к его новому саиду* самаркандцев.
— Ва-алейкум ассалям*, — ответил Камол ад-Дин, — Рад видеть тебя в полном здравии.
— Не думал, что вы станете меня искать, после того как я попал в темницу к урусам*, — сказал Салимбег.
К этому моменту Камол ад-Дин понял, что присутствующий здесь же купец Семён языка ордынцев* не понимает, а потому, не стесняясь, стал расспрашивать Салимбега о тех делах, которые всё это время происходили между ним и урусами*.
— Не понимаю, — начал он расспрос, — Как эти урусы смеют держать в неволе ордынца*, представителя народа, их покорившего?
— По законам Орды*, и урусы*, и булгары*, к которым я принадлежу, были завоёваны монголами. Потому, мы все в одинаковой мере являемся покорёнными, — ответил Салимбег.
— Но урусы* сами считают вас татарами*, как и сарайских правителей? — продолжал Камол ад-Дин.
— Для урусов*, все народы Азии и все мусульмане татары*, — стал пояснять самаркандцу Салимбег, — Так же, как для монголов все те, кто не монголы. Только тех, у кого европейские лица, последние зовут белые татары*, а с азиатской внешностью — жёлтые*. Значит урусы*, это те же татары* только белые, и получается, такие же ордынцы*.
— А вот со стороны, можно подумать, что живут они сами по себе, словно в отдельной стране?
— Сарайские цари* этим неверным дают воли бельше, чем покорённым народам из числа единоверцев. Странно? Но это так.
— Но почему так происходит?
— Говорят, чтоб они под стяги крестоносцев или литваликларов* не встали, Ведь вера урусов* и европейцев одна, и бог у них один, лишь каноны разные. Урусы ишончи*, а европейцы католиклары*. Но по ряду причин, ишончи* к католикларам* настроены куда более враждебно, чем к мусульманам. И наверное поэтому, правители Орды*, таким образом, решили поддерживать баланс сил между христианами и мусульманами. Пока, как видно, им это удаётся.
— Об этом, я уже знаю, — сказал Камол ад-Дин, и сделав задумчивое лицо, спросил, — Ну а что они с тобой намерены делать?
— Назад в Самар* хотят отправить. Жить там буду, своему новому саиду* помогать в торговле. Ему я как тартжуман* буду нужен.
— Правильно! Заодно и нам послужишь, — сказал Камол ад-Дин, — Тебе ведь лишняя приплата не помешает? А мы приплачивать будем.
— Зачем вам я, и что от меня будет требоваться?
— То же, что и урусам*, следить за передвижением людей, животных и грузов через перевоз и сообщать об этом тем, кому из наших людей это будет обусловлено.
— Но урусы* мне ничего подобного не предлагали?
— Не торопись, предложат. Неужели думаешь, что ты действительно им как тартжуман* нужен? Или им больше товар таскать некому, кроме как заставлять это делать несчастного калеку?
— А если я откажусь? — попытался поторговаться Салимбег.
— В таком случае урусы* узнают, что это именно ты нам поведал про место нахождения Аса* и привёл нас в Москву. Останешься ли ты после всего этого на свободе? Я сомневаюсь. Нам даже убивать тебя не придётся. Кстати, ты уже должен знать, как урусы* поступают с изменниками?
— Сажают на кол.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.