
Бесплатный фрагмент - ИСПОВЕДЬ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
Маленькую девочку спросили, что такое счастье
Подумав, она ответила: «Счастье, это когда у меня зуб не болел».
Когда мой друг Валера Бушмелев, (почти земляк, он с Вятки) будучи отправленным на пенсию и, благодаря своим производственным заслугам, а так же природным данным, был назначен директором заводского информационного центра (по-советски говоря музея, мне так больше нравится) предложил мне написать часть воспоминаний своих личных, которые хоть как то вписываются в историю завода, я вначале принял это предложение, мягко говоря, настороженно. А потом понял, что не прав. Не прав потому, что обидно, когда сегодня льются ушаты грязи на то время, в котором мы жили, когда сегодня предлагаются жизненные идеалы уже отвергнутые историей много веков назад, и это преподносится как истина в первой инстанции. Я являюсь рядовым представителем поздневоенного и послевоенного советского поколения, и моя судьба и жизненный путь, как мне кажется, объективно отражают то время. И если эти воспоминания о моем жизненном пути помогут хоть одну своему человеку (чужие это читать, скорее всего, не будут) увидеть красоту прошлой советской жизни, цель достигнута.
Вообще-то он предлагал воспоминания о заводской моей истории, как некоем маленьком, незаметном непосвященному взгляду, мазке в замечательной картине, которая называется Машиностроительный завод. Подумав, я решил начать сначала, потому что понял, что моя жизненная история, как некая объективная выборка, представляет историю моего поколения.
Когда в семидесятых годах, получив очередной номер «Роман-газеты», я увидел воспоминания Людмилы Гурченко, сразу вспомнилось высказывание А.П.Чехова, что у нас если человек научился писать, так сразу мнит себя писателем. Прочитав эту книгу, я был удивлен насколько просто и искренне, с обожанием своего отца, были написаны ее воспоминания. Понял, что искренность сильно компенсирует недостаток писательского таланта, поэтому и решил рискнуть.
Надо еще вспомнить, что говорил давным-давно товарищ Цицерон: «Не знать, что было до того, как ты родился, значит навсегда остаться ребенком». Это я про своих детей.
Было еще одно соображение. Я унаследовал от отца не только лучшие его качества, но и другие. В том числе и некую бескомпромиссность, прямолинейность и невыдержанность, что не всегда воспринималось правильно окружающими. Хотя припомнить, что я сделал кому-нибудь плохо для своей выгоды, не могу. Поэтому сказать, что меня сильно любили окружающие, я не могу. Может быть читатель, пробежав эти строки, изменит свое ко мне отношение.
Итак, начинаю.
Детские воспоминания
Родился я в маленькой, но очень красивой деревне Костромской области, бывшего Семеновского «лапотного» уезда. «Лапотным» он назывался потому, что в старое время славился мастерами по производству этой популярной обуви. Сейчас он называется Островским, и назван честь замечательного психолога деревенской жизни и, по совместительству, драматурга Александра Николаевича Островского. Называлась эта деревня Займище. Таких деревень по Костроме были сотни, если не тысячи, и я уверен, что для всех там родившихся, они были самыми красивыми.
Когда родился не знаю и уже никогда не узнаю, потому что записали рождение 3 января 1945 года, преследуя традиционно маленькую цель, сберечь меня от армии на один год. Поскольку по характеру я считаю себя «стрельцом», то родился где-то между ноябрем и декабрем. (Невестка говорит, что я козерог. С ней спорить тяжело, но все равно пусть будет, все-таки, стрелец, доведенный последними годами до состояния козерога). Совсем недавно нашел свидетельство о рождении, где указана дата 30.12.44, но с учетом вышесказанного, этому верить на сто процентов нельзя. Смена дня рождения стала возможным потому, что у председателя сельсовета сын родился месяцем раньше, чем я. Его записали родившимся в конце января. Назвали меня Юрием, в честь умершего в начале войны, старшего брата.
Нужно сказать, что выжить в то время в деревне, да и везде, было чрезвычайно трудно. Мать родила, как рассказывают, по пути домой, неся рожь, выданную ей на трудодни. Я мог повторить судьбу брата, когда в возрасте около года у меня образовалась грыжа. Орал несколько дней и ночей. По совету местных старушек мама отнесла меня в деревню Самсоново, расположенную примерно в тринадцати километрах от Займища, где жила старушка-колдунья. Дело было зимой, дороги, естественно, не было. Старушка пошептала и сказала, что сегодня будет легче, а завтра совсем пройдет. Так и случилось. Что такое грыжа (слава богу) не знаю до сих пор. Можно представить, что чувствовала измученная мама, пройдя эти километры по глубокому снегу.
Крестили тайком. Вместо купели использовалась корчага. Корчагой назывался громадный глиняный горшок, использующийся для варки кваса или еще чего-нибудь. Километрах в восьми, на норд-норд-ост, в соседнем бывшем Палкинском районе в деревне Трифон, была церковь. Вот оттуда священник и приходил. В эту деревню мы с мамой ходили несколько раз. Там, в соседней деревеньке Семеньково, жила семья ее двоюродной сестры Анны Симеоновны. Лет пять назад заехали мы с сыном Олегом в эту деревню специально повспоминать. Церковь стоит. Подошли встревоженные жители. Ее ограбили недавно. Ничего из детства не узнал.
Женщины выходили на работу примерно на второй-третий день после родов, а детей отдавали в, так называемые, ясли. У нас это был соседский дом, днем используемый под ясли, а вечером под «беседы». Беседами называлось совместное вечернее времяпровождение молодежи. Что-то похожее показано в фильме «Дело было в Пенькове». Там жили некто Моличевы, где мой брат, съев что-то, получил диспепсию, т.е. интенсивную рвоту и понос, и скончался. Это все по рассказам.
Помню, как один раз я мылся в печке. Не знаю почему около рек именно в этой деревне не ставили бани. Не помню, что бы они где то стояли. Так вот, мытье в печке, это зрелище не для слабонервных. Вначале печку топят. Потом, после того как установится терпимая температура, на «под» печки клали солому. Потом в эту печку через «цело» забирался самый теплолюбивый участник этого мероприятия. Трудно было все, и как пролезть через это узкое «цело», и как там попариться, не задев стенки, покрытые сажей, и как вылезти. Помню, что когда я, будучи совсем маленьким, вылез, то был весь в саже, но чистый.
Одно из первых моих воспоминаний о раннем детстве, это как мы сидим с дружком посредине пыльной дороги жарким летом и играем в войну. Игра заключалась в том, чтобы набрать в газетный кулек как можно больше пыли и бросить как можно дальше и выше. Побеждал тот, у кого взрыв от падения кулька на землю был больше. Результат соревнования не запомнился, потому что на мою беду у кого-то из колхозников «разбила» лошадь. Слово «разбила» означало временное лошадиное сумасшествие. То ли от жары, то ли от безысходности, они это делали довольно часто. И вот эта лошадь бежит по дороге, совершенно нас не видя. Дружок сидел на корточках, а я прямо на заднице, так вкуснее. Друг выскользнул, а через меня она как то переехала. Следующее воспоминание этого дня, а может и следующего, как меня везут в больницу в соседнюю деревню Рязаново, находившуюся примерно в шести километрах, где была церковь, и больница. Результат реформ, проводившихся, видимо, еще Александром вторым. Как меня лечили, или как было больно, не помню совсем. Помню, как было сказочно красиво. Около больницы росла сирень и черемуха. Помню этот запах. А самое главное, помню атмосферу доброты. Сестры еще в белых кокошниках. Бескорыстная забота. Как назад везли, не помню.
Кока
Наверное эта лошадь сыграла какую-то роль в моем характере, потому что уже в четыре года я начал ходить на колхозную работу с моей бабушкой Екатериной Никифоровной Шаровой. Вообще то она не моя бабушка, а ее сестра.
В семье прабабушки и прадедушки по материнской линии выжили три ребенка, Хавронья Никифоровна — моя бабушка, Екатерина Никифоровна — Кока и Симеон Никифорович, которого я никогда не видел.
Екатерину Никифоровну все звали Кока, я тоже. Кока на местном наречии означало крестная мать. По сути это так и было. Это был человек исключительной доброты, трудолюбия и совести. Человек с несчастной судьбой. В возрасте 18 лет на масленицу она упала с качелей, повредила себе что то и не могла иметь детей. Был муж, о котором она всегда, когда заходили разговоры, отзывалась с любовью и даже преклонением. Во время воспоминаний всегда называла его Коленькой. Он погиб в первую империалистическую. Если мне не изменяет память, Кока говорила, что он был «егорьевский кавалер». Человек исключительной красоты, она так и не вышла больше замуж. Всю жизнь жила одна, занимаясь работой и воспитанием детей своих родственников. Как она сказывала, я был у нее третьим поколением. Маленький я был очень подвижный, не мог сидеть на одном месте и минуты. Когда мама ругала за это, Кока говорила: «Не ругай его, Катерина, это у него кровь такая». Когда во время шалостей больно ударялся и ревел, она говорила: «Вот! Тихонького то когда бог нашлет, а бойконькой то сам налетит.»
Кока практически все свободное время проводила у нас. По крайне мере, когда не было отца. Недолюбливала она его. Помню, как жарким летом я сижу на подоконнике открытого окна и почему то, без видимой причины, смеюсь. После многократных увещеваний, Кока говорит: «Что березняк то оскалил?!».
Жила она в маленькой избушке, находящейся справа от въездных завор со стороны Макаровской школы, куда я ходил в первый класс. Когда я к ней приходил, она всегда находила для меня какое-нибудь угощение. Тогда это был или кусочек сахару, или маленькая конфетка-подушечка. Летом были ягоды, или смородина, или крыжовник.

На работу тогда ходили коллективами, с песнями и обсуждениями всего и всех. Среди этого коллектива была всеми уважаемая старуха, похожая на актрису Маркову, которой я из-за своего трудолюбия сильно нравился, и она, по словам Коки сказанным мне значительно позже, говорила: «Вот это будет человек!» Сильно похоже на предсказания, которые дала цыганка будущему деду Щукарю. Я не думаю, что от меня была какая-нибудь польза, но то что ребенок пребывал в атмосфере труда, хороший педагогический прием.
Кстати о работе. Когда я читал «Один день Ивана Денисовича», мне сильно жалко его было. Если посмотреть на жизнь сельского труженика в военные и пятидесятые годы, то она мало отличалась от жизни Ивана Денисовича. Разница была только в том, что роль охранника выполнял колхозный бригадир. Этот бригадир каждый день от трех до четырех часов утра стучал палочкой в окно дома и предлагал собираться на работу. Выходных, как и нормальной сельхозтехники, само собой, не было.
Кока сопровождала нас всю мою юность. Она так и осталась жить в Займище, перейдя в маленькую избушку в центре деревни. Чуть позже, с приходом Хрущева, колхозникам стали давать пенсию. У нее пенсия оказалась 23 рубля. Так вот, когда я приезжал к ней в гости, уже учась в институте, она умудрялась сунуть мне, несмотря на мои отказы, какие-нибудь три-пять рублей. Когда мы жили в Заборье, в Воскресенском, в Островском она пешком приходила к нам в гости, а это более тридцати километров.
В самой, самой молодости, когда среди детей возникают «недоразумения», приводящие к слезам и обидам, Кока всегда говорила: «Юрка! Не обижайся на него, и не думай отомстить, его бог накажет». С тех пор я и живу, следуя этому принципу. И как то так получалось, что боженька действительно довольно часто наказывал тех, кто меня, вольно или невольно, обижал.
Она была, естественно, верующим человеком, но жила каждодневными заботами, поэтому не делала из церковных заповедей культа, а адаптировала их к обычной трудной жизни. Говорила, что хлеб это основа жизни, и поэтому уроненную случайно крошку надо было искать два часа, иначе грех. Грех было и работать в праздничные дни, но Кока говорила, что это грех не большой. Наверно поэтому никогда не любила сидеть без дела.
Помню, как она рассказывала мне об основах мироздания, предлагая схему, состоящую из слонов, или китов, на которых, собственно, и стоит земля.

Когда она стала «плохая», ее отправили в инвалидный дом в Игодово. Так получилось потому, что она не очень жаловала отца за его жестокость, как семьянина, поэтому не могла жить у нас. Я учился в институте и меня известили об этом по приезду на каникулы, поэтому повлиять на это решение я не мог. Но все равно всю жизнь у меня болит душа об этом замечательном человеке, и я чувствую свою вину. В девяностые годы хотел в Игодове построить часовенку в ее и мамину честь, но, как сказал священник, это очень сложная разрешительная процедура и, скорее всего, у меня ничего не получится. Так и отказался. Эти воспоминания начал писать, в том числе и потому, чтобы хоть какой-то след остался о ней. Мои сыновья ее не видели. Романа, когда ему было полгода, мы возили в Игодово показать Коке. Погладив его, она сказала: «Какой мяконькой».

В моей жизни, в силу «бойкости», было много ситуаций, когда «кирпич» падал в нескольких сантиметрах от головы. Отводил «кирпич» ангел-хранитель, присланный мне Кокой. А неприятности, которые свалились на меня последнее время, я только недавно понял, это наказание мне за то, что она последние свои дни на земле провела в инвалидном доме.
Некоторые, запомнившиеся правила деревенской жизни.
Вообще деревня, это большая семья, потому что в то время в силу неразвитости транспортной инфраструктуры, люди были обречены жить вместе, каждый день задевая друг друга. В этом плане все деревни Нечерноземья были похожи друг на друга.
В каждой деревне подавляющее большинство составляли обычные труженики с разным достатком, определяемым многими факторами, как то, наличие и количество детей мужеского пола, наличие практического ума, элементов везения. Практически в каждой деревне были «книгочтеи», все время читающие и думающее о чем-то высоком, правда, в малом количестве. Как следствие, они не отличались большим достатком. Были семьи-хулиганы. Если в деревне случалась кража, то все знали, кто это сделал. В нашей деревне такая семья носила фамилию Черные. Жили они на северном краю деревни, у реки. У них был сменный режим, когда одна группа детей выходила из тюрьмы, другая туда отправлялась.
Слово воспитание в деревне не употреблялось, но этот процесс шел непрерывно и принципиально отличался от сегодняшнего. Во-первых, как только ребенок становился в состоянии понимать, его учили как нужно ходить по улице, как входить в чужой дом, как приветствовать взрослых. И вообще, что такое хорошо, а что такое плохо. Тогда эти понятия не были размыты. Так как любая деревня, это своеобразная семья, то в воспитании участвовали все, естественно, в силу собственного понимания. Любой проступок малыша был моментально известен. Замечание или подзатыльник следовал от любого взрослого, кто проступок обнаружил. Это никогда не приводило к конфликтам между родителями, как правило, дома, разобравшись, еще добавляли. Про ювенальную юстицию тогда еще, слава богу, не знали.
В деревне не принято было употреблять слово любить, когда говорили об отношениях между людьми. Всегда употреблялось слово жалеть. Это же касалось и детей. В отличие от Горького, мне это нравится больше. На мой взгляд, слово жалеть включает в себя и слово любить, даже в классическом понимании, а не современном, скотском.
Несмотря на общую правильность воспитания, случались и неприятные вещи. Мне совершенно случайно пришлось присутствовать при разговоре, когда соседка, бабушка Моличева жаловалась на свою дочку. Эту ее фразу помню всю жизнь: « Я ли о ней не заботилась!? Я для нее и то, и это! А она, хоть бы в морду плюнула!» Имелось в виду, что она забыла мать. Как я понял, став взрослым, к сожалению, от этого никто не застрахован.
Помню, как Кока учила меня писать письмо. В начале письма шло приветствие адресату. Потом «во-первых строках моего письма» шли приветствия всем родным, потом всем знакомым адресата. Потом нужно было рассказать о себе, родных и знакомых, потом шло прочее, собственно, суть письма. Точь в точь, как писала Фрося Бурлакова в знаменитом фильме. Все эти деревенские правила «общежития» были направлены на избежание конфликтных ситуаций.
Справедливости ради надо сказать, что эти правила сильно нарушались во время деревенских православных праздников. С царских времен сохранилось традиция, что в каждой деревне, несмотря на коммунистическую мораль, праздновался какой-то ее церковный праздник. К нему готовились каждый как мог. Хозяйки готовили угощение, а молодые ребята вспоминали все обиды, нанесенные со дня предыдущего праздника в другой деревне, и готовили свое «угощение». Разрабатывался сценарий. Как правило, он был один и тот же. Вначале все сидели «в гостях», где пили кто водку, а кто самогонку, и поедали пироги. Потом совсем маленькие ребятишки должны были задраться со своими сверстниками из той деревни, в которой нашим попало во время предыдущего праздника. Потом ребята повзрослей, должны были за них заступиться. Ну а потом вступала тяжелая артиллерия. Во время драки кроме кулаков использовались ножи, разбирались заборы, которые для удобства пользования и были сделаны из кольев. (Шучу). На другой день кого-то везли в больницу, а кого-то увозила милиция. Телефоны в то время, как это не странно сегодня звучит, хоть и плохо, в силу технического уровня, но работали в каждой деревне. Это продолжалось где-то до шестидесятых годов. Потом стали пить чаще и без всякого повода. Празднование исчезло, как следствие исчезновения деревень. Кстати, почему то не помню, чтобы в деревне праздновали официальные праздники. Остались только смутные воспоминания о каких то выборах.
В праздниках был большой плюс, о котором мало сказано. В силу обилия тяжелой работы и отсутствия средств передвижения, деревенская молодежь общалась со сверстниками или из своей деревни, или из близлежащих. Прийти на беседу за десять километров и дальше, было обычным явлением. Когда случались праздники, молодежь обоего пола в них активно участвовала. А за что молодые нравятся друг другу? Яркостью, всех ее проявлениях. Если девушка понравилась парню, потом говорили, что «он с ней гуляет». Гуляние обычно было продолжительное, до года и больше. За это время деревенские обсуждали этот будущий союз, и если видели, что союз потенциально недолговечен, то делалось все, чтобы его разломать. О чем речь. Деревенские давно поняли, что праздники редки и коротки, а в семейной жизни главное, это труд. Они прекрасно понимали, что умение петь песни и играть на гармошке, это хорошо. Но если парень не умеет, а главное, не хочет держать в руках топор или лопату, а девушка не умеет, да и не хочет готовить, стирать, а самое главное, не отличается умением создать «лад» вокруг себя, эта семья не будет существовать. Да и от «яркости», за которую она его и полюбила, старшие знали, что, как правило, в семье одни неприятности. В деревне раньше прекрасно знали не только о молодых, но и обо всех их предках. Пары подбирались с учетом родословных. Они знали и про чертей, которые водятся в тихих омутах. Все это, плюс соблюдение существующих правил, традиций, позволяло в большинстве своем обеспечить стабильность браков. К сожалению, наше общество, да и православие эти традиции растеряло, в отличие от ислама, где нет проблем с воспитанием и, как следствие, с демографией.
Кстати, когда сегодня из такого «праздника», как день рождения, делается событие вселенского масштаба, то на моей памяти в то время в деревне этот праздник было совсем не принятии праздновать. Я свой день рождения первый раз отпраздновал, и то случайно, в кругу институтских друзей, когда мне было за двадцать. И от этого совсем не чувствую себя несчастным. Более того, когда около маленького человечка крутятся взрослые, всячески ему угождающие, на мой взгляд, ни к чему хорошему это не приводит.
В отсутствии коммуникаций, да и послевоенной бедности в стране, деревня была практически на самообеспечении. Хлеб все пекли сами. Я немножко помню его вкус, как и вкус капусты, засоленной в бочке. Где то в конце восьмидесятых отец, будучи на рыбалке в какой-то глухой деревне, попал в дом, где еще пекли свой хлеб. Как он рассказывал, выпросил у старушки большущий кусок и съел его, как самое лучшее пирожное. Потом долго вспоминал.
Из-за отсутствия тех же коммуникаций, все костромичи имели говор, отличный от околомосковского, с сильным «о». Этот говор наиболее близок был к правилам русской грамматики. Недавно по «Культуре» показали Архангельскую деревню. Вот их, каким-то чудным образом, сохранившийся, говор наиболее близок к тому, что я слышал в детстве. Кстати, я от него не совсем избавился и по сие время, хоть и живу под Москвой почти шестьдесят лет. Было много часто применяемых выражений, характерных только для этих мест. Казалось бы Кинешма, «принадлежащая» Ивановской области, находится всего в пятидесяти километрах, но их говор, хоть и на «о», но отличается сильно.
Как далека была послевоенная деревня от цивилизации можно представить хотя бы по одному случаю. Где то лет в пять — шесть у меня заболел зуб. Наверно молочный. Стали думать, как быть. Решили, что надо удалять. Встал вопрос, как. В то время существовало два способа, оба с одинаковым началом. К зубу привязывалась крепкая нитка. Дальше предполагалось два варианта. Первый, это когда другой конец бечевки привязывался к чему-то неподвижному, а в лицо жертвы тыкали горячую головешку. Он инстинктивно отдергивал лицо и видел зуб, болтающийся на нитке, если нитка не рвалась. Если рвалась, то эксперимент повторяли. Во втором случае (как более гуманном) другой конец нитки привязывался к двери, а жертва долго ждала, когда кто-нибудь войдет и открытая дверь прекратит мучения. В моем случае был использован второй вариант.
Сажали много картошки, собрав которую было видно, насколько сытным будет зима. Собирали много свеклы, репы и брюквы, солили много капусты, Огурцов собирали с одной грядки не менее бельевой (примерно два-три ведра) корзины каждый день. В каждом огороде был погреб, в который все складывалось на хранение. В конце зимы в этот погреб набивали снег, для продления сроков хранения. Поскольку молока было много, зимой делали мороженое, выливая его остатки в кадку, где он сразу замерзал. Если хотелось мороженного, нужно было наскрести в чашку ложкой молочных кристаллов, насыпать туда сахарного песку, размешать, и продукт готов. Зимой же ели и сушеные ягоды, набранные летом. Авитаминоза и аллергии не было ни у кого.
Когда повзрослев, я услыхал про слово «деликатность», на ум пришло одно из деревенских правил, которым следовали все, не знавшие такое слово, но поступавшие деликатно. Дело в том, что в силу отсутствия каких либо развлечений в непраздничное время, люди, в основном женщины, ходили в поседки. Поседки, от слова посидеть. Приходила какая-нибудь тетя Маша в дом и просто садилась на скамеечку, недалеко от хозяев, иногда участвуя в каких-либо разговорах. Если ей везло, она появлялась во время обеда или ужина. Ее приглашали за стол, но она вежливо отказывалась. Дело в том, что в то время накормить семью была главная проблема. Вот потому она и отказывалась, понимая, что первое приглашение это просто долг вежливости, или той самой деликатности. Приглашавшие это тоже понимали. Если они действительно хотели, чтобы она приняла участие в трапезе, приглашение следовало вторично. У гостьи после этого появлялась надежда, что хозяева точно хотят ее накормить, но она, в силу указанных выше причин, отказывалась вторично. Если после этого следовало еще одно третье приглашение, то гостья со спокойной совестью садилась за стол, понимая, что она не нанесет невосполнимых потерь бюджету хозяев, а наоборот, доставит радость. Это еще не все. Любой стол всегда заставлен блюдами разных вкусовых качеств. Было и то, что сейчас называется деликатесом. Если «тетя Маша» сразу хватала, без дополнительной просьбы хозяев, этот лакомый кусочек, то в следующий раз она рисковала не получить и первого приглашения за стол из-за своей неделикатности.
Не помню, писал ли я выше, но как только человек начинал ходить, его обучали бабушки и мамы, как он должен себя вести в обществе, где основным принципом было, удовлетворяя собственное желание, не навреди окружающим. Это было изумительно правильно.
Вот этот образ той детской жизни заставлял их рано взрослеть. Я помню, как одну девчонку, учившуюся в четвертом классе, «застукали» за игрой в куклы. Это было событие для всей школы. Смеялись над бедной. Не так давно, работая в одном доме отдыха, во время летних каникул я долго наблюдал, как одна не очень умная бабушка (сейчас таких много) постоянно таскала за руку мальчишку, которому было лет тринадцать, не давая ему и шагу ступить самостоятельно. Мне на это было невозможно смотреть, и я спросил идущего со мной рабочего-узбека: «Алихан! Скажи, пожалуйста, во сколько лет ваши дети начинают работать?» Он ответил, что в четыре года. Все как у нас когда то. Пришлось ему сказать, что скоро нам придется учить узбекский язык.
Вообще, деревня пятидесятых годов двадцатого столетия, если выкинуть телефон, репродуктор и коллективизацию, по укладу мало отличалась от деревни прошлого и позапрошлого веков. Старую деревянную соху я видел в уголке двора. Так же утюгом на углях наша семья пользовалась практически до переезда в Островское. Кстати, это было замечательное изобретение, видимо 17 века. Конструкция была продумана до мелочей. Была возможность загрузки топлива, были сделаны вентиляционные отверстия, обеспечивающие горение. Температуру регулировали методом размахивания этим самым утюгом; угли разгорались и температура повышалась. Те, у кого не было утюга, гладили белье еще более примитивным способом. Белье наматывалось на деревянный цилиндр, похожий на скалку, А сверху эта конструкция вращалась с помощью узкой доски с ручкой, на которой снизу были сделаны насечки треугольного сечения, высотой около сантиметра.
Был в деревне один минус, о котором не принято говорить, но который довольно часто подчеркивают недружелюбные западные ребята. Помои почти всегда выплескивали прямо на дорогу у самого дома. К сожалению, сегодня это правило распространилось и на города. Вот в отсталой «чухони», ставшей Финляндией, все немного по-другому. Когда в средине восьмидесятых мне пришлось трижды побывать в этой стране в служебных командировках, я искал во время городских прогулок хоть одну бумажку в виде мусора. Нашел с трудом одну, но тогда наших было довольно много в этой стране. Перед входом на территорию атомной станции была площадь, на которой совершенно свободно, без всяких замков, стояло несколько сотен велосипедов, и ни одному «чухонцу» не приходило в голову что-то стащить. Вот что такое, настоящая политическая элита. Совсем недавно, идя в магазин, заметил мусорную урну, прикованную цепью к металлическим перилам. Вот что сделала с народом наша «элита».
Близкие родственники, о которых сохранилось хоть что-нибудь
Бабушку свою, Хавронью Никифоровну, не помню совсем. Не сохранилось даже ни одной фотографии. Внуками ей заниматься было некогда, она все время где то хлопотала. Запомнилось только, когда она умирала. Это было в 1954 году. По рассказам матери, она была патологически трудолюбивая, из-за чего, собственно, и умерла. Это же качество по наследству досталось и матери. До коллективизации в семье было две коровы, две лошади, стадо овец, и прочая мелкая живность. Как тяжело все это было содержать описать невозможно, знает это только тот, кто это все прошел. Мать рассказывала, что когда, во время коллективизации, все это забирали в колхоз, бабушка была без памяти и ее отливали водой.

Только последнее время я начал понимать, какой вихрь пронесся по российской деревне после революции. Стенания вперемешку с удивлением длились, пожалуй, до середины шестидесятых годов, когда стали платить зарплату и выдавать паспорта. Да и люди старого воспитания к тому времени поумирали, а появились новые, уже без трепетного отношения как к природе, так и к труду. Удивление, с точки зрения отношения к деревенскому человеку, вызывают все реформы, за исключением, пожалуй, Столыпинской (тоже спорной), которые проводили и проводят, так называемые, реформаторы. Особенно бесчеловечной, конечно, является коллективизация и последняя, ельцинская. Ельцинскую реформой, конечно, назвать вообще нельзя, просто все было брошено на погибель. Я говорю о Нечерноземье. Судя по заросшим полям в нечерноземной зоне, эта «реформа» идет и сейчас. Сейчас появилось модное, как все западное, слово «агломерация». Эта самая агломерация подразумевает уничтожение деревни, как социального понятия, а с ним и уйдет незаметно само понятие России. И все это будет закамуфлировано непонятными западными словечками.
Отвлекусь немного. Когда была жива Кока, которая о том времени могла много рассказать, я еще был мал, как следствие, глуп, чтобы задавать вопросы на эту тему. А по собственной инициативе после всего произошедшего, она, естественно, эту тему не поднимала. Но когда случайно заговаривали о крестьянской жизни, у ней всегда чувствовалась тоска по старой, дореволюционной жизни. Этот пробел хорошо восполнил Александр Николаевич Городков, живший в деревне Ломки, с которым мы сблизились в последнее время. Я о нем еще скажу. Так вот на примере своей семьи, главой которой был его дед, можно судить о вихре, пронесшемся тогда по крестьянской жизни. Жили они в деревне Мотыкино, находящейся в четырех километрах от Займища. У него было четыре сына. По мере взросления и создания собственных семей дед их отделял. Строились приблизительно в трехстах метрах дом от дома. Это не очень близко, что бы не мешать друг другу, и не очень далеко, чтобы вовремя прийти на помощь. Строиться помогали все. Младшему оставался родительский дом и хозяйство. За это он был обязан обеспечить спокойную старость родителям. Так вот после революции линию партии на коллективизацию выполняли «голодранцы» (его определение), не умеющие содержать и приумножать свое хозяйство, но желающие командовать. Во время этой коллективизации всем его дядям, жившим рядом с деревней, была дана команда перенести дома в Мотыкино в течение нескольких недель. Иначе высылка на Соловки. Дома поставить рядом. Преследовалась цель, как можно догадаться, приглядывать, как бы чего не замыслили вдалеке от «обчества». Я только в последнее время стал думать, что же творилось в головах нормальных крестьян, которые все это сумасшествие пережили. Первый раз слово Соловки я услышал, где-то в 50 году, когда соседи напротив куда-то уезжали. Это слово у меня ассоциировалось с соловьями.
Дед, Махов Егор Иванович, по материнской линии, в отличие от бабушки, был не местный. Когда и откуда он появился, я точно не знаю. Важно, что у матери был сводный брат, Павел Егорович, погибший в первые дни войны. Дед был кузнец. По словам матери, кузнец очень хороший. Как человек, отличался смирением, трудолюбием и добротой. Не мог убить даже комара, говоря, что он тоже хочет жить. По рассказам Коки, один раз в деревню приезжала его мать, «одетая как барыня». Что за трагедия разыгралась в его первой семье, приведшая его в деревню, узнать уже нельзя. Умер он в 1940 году, упав с чердака. Кузница у деда была своя. Стояла она на берегу реки. Пацанами мы часто бывали в кузнице, играли, делая вид, что помогали кузнецу. Узнал я о том, что это была наша кузница, где то в шестидесятых годах.

Кстати о чердаке. Когда я был совсем маленький, очень любил туда лазить. Там было интересно.. Стоял уже слегка разобранный ткацкий станок, на котором, я еще видел, раньше работала бабушка. Помню, как вертелось веретено в ее руках, когда из кудели образовывались нитки, из которых и ткалось полотно. Помню, как мелькал челнок, перемещаясь по будущему полотну на станке. Валялось много старых предметов хозяйства, старые газеты, на которых видны были некоторые замазанные чернилами лица бывших партийных бонз, упаковки спичек и прочее барахло.

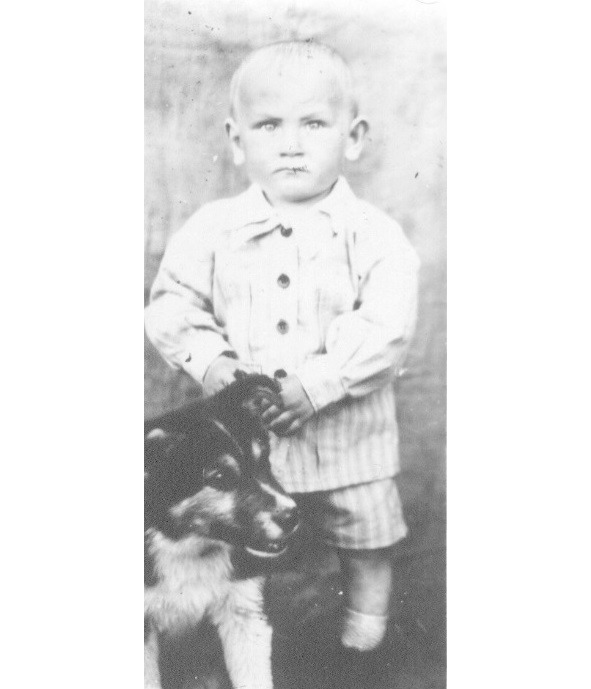

Бабушка Марья Андреевна, мать отца, жила в деревне Поросель бывшего Игодовского уезда, это где то километров 15 от Займища. Туда довольно редко мы ходили в гости. Правда гости, это определенные ритуалы, которые ребятам, особенно подвижным, радости не доставляли. Близости особой с их стороны не было и я их, как родственников, по молодости не воспринимал. Естественно, никакого участия в воспитании бабушка Марья не принимала. Дед по отцовской линии умер очень рано, до моего рождения. О нем я только слышал, что человек он был своенравный, если не сказать хуже. Занимался отхожим промыслом, малярил. Фотографии его не сохранилось. Зато сохранились фотографии моих прадедушки и прабабушки по отцовской линии.

Как рассказала моя тетка Вера, жили они достаточно богато. К сожалению, она не помнит, каким образом это богатство добывалось. Судя по одежде и лицу деда, скорее всего, добывалось интеллектом. Во время коллективизации их выселили и сослали куда-то. Они не вернулись.

У Марии Андреевны было два сына, Иван и Геннадий и три дочери, Нина, Вера и Лина, которую все обожали за красоту и кроткость. Она умерла в юности.

О нем чуть отдельно. Был он лет на пять моложе отца. После службы в армии подался в партийную работу. Работал Зам. председателя исполкома в Островском. Какое то время, учась в школе, я у них квартировался. Потом работал Председателем исполкома в Сусанине. Я к нему туда, учась в институте, году в 66, ездил за зимней шапкой. (Шапку украли весной). Там меховая фабрика была. Как раз, когда ездил за шапкой, я увидел на центральной улице толпы граждан, ходящих туда-сюда. Пришлось спросить, что за праздник. Он ответил, что только вчера закончили укладку асфальта, вот народ и празднует это мероприятие. Я его никогда грустным не видел. После Сусанина его направили первым секретарем в Парфеньевский район, один из самых лесных и грибных районов.
Кстати о юморе. Когда в 1972 году из-за жаркого лета полыхала вся страна, пожары не обошли и Парфеньево. Как то осенью, когда пожары потушили, он заехал к отцу, и сказал: «Смотри Геннадий, я полрайона сжег! Мне орден Ленина дали. Если бы сжег весь район, наверно, дали бы героя!» Примерно в это же время Леониду Ильичу захотелось белых грибов и груздей. Шестерки стали искать. Искали-искали, ни у кого нет, а у Николая Михайловича есть. Эти грибы сильно повысили его статус.

В 1974 году он помог отцу купить для нас Москвич, за что получил нагоняй. Но, видимо, грибы оказались сильней и его назначили Начальником управления торговли области. В 92 году я к нему ездил. Жаль, что он трагически погиб. Хороший и, главное, умный был человек.
Один раз мы с Кокой и трехлетней сестрой Руфой пошли к бабушке (вот пишу бабушка, а совершенно не ощущаю ее таковой) в Поросель, в гости. По пути была деревня Малышово, в которой, как назло, деревенский пасечник забирал у пчел мед. Они, естественно, были недовольны. Свое недовольство они и выплеснули на нас. Когда на нас налетел небольшой рой, сразу же ужалив несколько раз каждого, Кока с Руфой побежали, а мне она, почему то, велела лежать. Я лег, с ужасом прислушиваясь к гудящим вокруг пчелам. Лежал, пока одна из них не воткнула свое жало в самую высокую точку лежащего тела. Я вскочил и через минуту догнал спутников, и даже перегнал. Отделались легко.
Впечатления детские
Чем занимались ребятишки в деревне в то время. В принципе все ребята, в большей или меньшей степени, как только вырастали до возраста, когда не требовался особый пригляд, приучались к труду. Что это за труд? Надо было встретить вечером корову или другую живность, довести до дома и «застать», т.е. закрыть ее в хлеву. Не у всех это получалось. Если не получалось, «получали» они. В течение дня по мелочам помогать старшим. Помочь полить огород, переворошить сено. Я в основном таскался с бабушками. С ними было, почему то, интересно. Где то в четыре-пять лет мне сделали под мой рост «молотило», так у нас называли цеп, которым производилась молотьба сжатой и высушенной ржи. Обмолот проходил под навесом, называемым ригой, на ровном и сухом участке земли, называемом «ладонью». При желании, все движения по обмолоту могу проделать и сейчас. Были сделаны для меня и маленькие грабли. В руках все время был перочинный ножик, которым вырезались какие-то поделки. Очень хорошее занятие как для головы, так и для рук. Навыки работы с инструментом как раз тогда и закладывались.
Из летних игр помню лапту и городки. Естественно, весь спортивный «инвентарь» делали сами. Часто играли в игру, заключающуюся в том, чтобы из круга, очерченного палкой на земле, мячом нужно было выбить участников, а те, в свою очередь, должны были увернуться, или поймать мяч. Зимой катались на самодельных лыжах и на «ледянках». Ледянка была похожа на перевернутую табуретку. Для лучшего скольжения на нижнюю часть намораживали лед. Иногда с Кокой мы ходили к бабушке, живущей напротив, и играли с ней в карты. Играли в «пьяницу». Дурак считался сложной игрой.
Поскольку ребятишки, это будущие мужики, то у них всегда было желание что то повзрывать. Со взрывчаткой в деревне в то время было плохо, но нужда и смекалка помогала. В пузырек из под одеколона резали и складывали обрезки кинопленки. Потом курящий мальчишка туда стряхивал горячий пепел и заворачивал крышку. Пузырек кидался метров за десять, а мальчишки ложились на землю и ждали взрыва. Через какое-то время раздавался довольно звучный хлопок. Все были довольны. Не помню, чтобы кто-нибудь пострадал.
Километрах в четырех от деревни было озеро Кушкинское. В нем брала начало речонка Кушка, впадавшая в Медозу. В четыре года меня взяли ребята на озеро на рыбалку. Запомнилось озеро, как очень дикое, с топкими берегами, стоящее в глухом сосновом бору. Что поймали, не помню, но всю жизнь мечтаю попасть туда еще, но не получается.
Когда мне было шесть лет, а Руфине года полтора-два, отец принес весной с этого озера щуку, убитую им во время нереста из ружья. Тогда это браконьерством не считалось. Так эта щука ростом была чуть меньше его. Когда он ее положил на пол, к ней подошла Руфа и тронула ее рукой. Щука конвульсивно махнула хвостом и Руфа отлетела в сторону. Икры из этой щуки вынули целый таз.
В тот же год я совершенно случайно спас от смерти лосиху с лосенком. Отец меня взял с собой на болото, которое находилось на пути к этому озеру. Видимо, за ягодами. На всякий случай взял с собой ружье. Мужики, у которых были ружья, редко ходили в лес без него. Поскольку ружье было бескурковое, то самое трофейное, подаренное братом, отец на всякий случай поставил его на предохранитель. Это сделано для того, чтобы случайно задев за ветку дерева, нельзя было произвести выстрел, т.к. я болтался рядом. Я шел за ним. Вдруг слышу шепот: «Ложись!». Я лег вслед за отцом и увидел метрах в пятидесяти лосиху с лосенком. Уткнулся в мох, чтобы не слышать выстрела, но выстрела не было. Через несколько секунд лоси ушли. Оказалось, что отец забыл о том, что ружье на предохранителе. Ругался потом на меня.
Вся деревня была огорожена забором, представляющим из себя деревянные столбы с закрепленными на них горизонтальными жердями. На месте въезда и выезда из деревни были «заворы» — те же жерди, которые въезжающие и выезжающие из деревни вынимали, а потом опять вставляли в прорези в столбах. Делалось это с целью какого то контроля за скотом.
Я хоть и сказал, что деревня была маленькая, но она состояла из трех «порядков» (улиц), центральная, верхняя и нижняя. Верхняя и нижняя состояли из одного ряда домов. Центральная улица упиралась в красивый большой двухэтажный дом, до коллективизации принадлежавший семье Соболевых, пожалуй, самой уважаемой семье в деревне. В мое время в этом доме был сельсовет, куда празднично ходили голосовать на выборах. На втором этаже была библиотека, где я брал книги. Что-то еще там было, но в памяти не осталось. Когда ходил за книгами в библиотеку, а тогда давали только по одной, было несколько раз так, что книжку успевал прочитать, не дойдя до дома. Назад было идти нельзя — заругают, поэтому с нетерпением ждал завтра, чтобы быстрей бежать в библиотеку. Плохо, что в младенчестве никто не поставил систему в чтении, поэтому прочитанное напоминало салат в голове, пожалуй, до окончания школы. Системно начал читать уже после окончания института.
Еще одно воспоминание. Мы с мамой идем в магазин, что-то привезли. Идем быстро. Это мама идет быстро, а я бегу. Бегу и удивляюсь, как же так, она женщина идет, а я, мужик, бегу.
Когда пошел в первый класс, там рассказали, что такое пионерский костер. Придя из школы, я стал показывать сестре Руфе, что это такое. Костер я разложил прямо на крыльце в жаркий сентябрьский день, и разжег его. Счастье, что мать случайно пришла как раз в это время. Когда она меня порола, я все удивлялся, за что. Неужели бы я не успел его затушить в случае чего. Вот что такое детская голова в семь лет.
Когда мне было лет пять, приехал в отпуск из Москвы (это он так говорил, хотя жил в Электростали) брат мамы, дядя Саша. Из-за маленького возраста и роста его не взяли на фронт, а мобилизовали на завод боеприпасов в Электросталь. В этот момент завод уже хотели эвакуировать в Новосибирск. Людей на заводе почти не осталось. Вот поэтому и набирали по всей стране, кто не мог воевать. Этот завод в войну делал, в том числе, и ракеты для знаменитых «катюш». На этом заводе, после окончания института, мне и пришлось заработать почти весь свой основной трудовой стаж, правда делать пришлось не ракеты, а тепловыделяющие сборки для атомных станций. Рассказывая о городской жизни, дядя Саша сказал, что жители ездят в Москву на электричках. В слове электричка мне виделось что-то очень маленькое, и я все время удивлялся, как же большие люди в нее помещаются.
Представление развеялось только после первого путешествия на этой самой электричке.
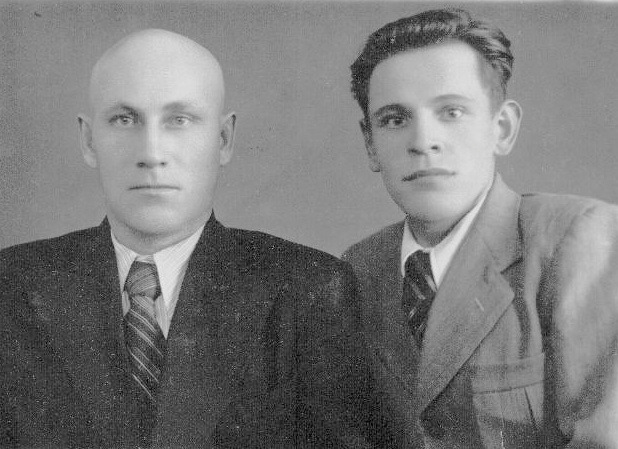
За нижней улицей сзади были «гумна». Гумно, это участок очень ровной земли, на которой росла смесь вкусных луговых трав. Эти гумна каждый год делили землемеры, руководствуясь какими-то неизвестными принципами, но каждый раз были какие то скандалы. Эти гумна очень плавно с небольшим уклоном сходили к реке, а за рекой поля наоборот плавно поднимались. И осенью, когда рожь, а сеяли в основном ее, поспевала, образовывалась изумительной красоты панорама, которая до сих пор стоит перед глазами. Потом наступала жатва. Жали в основном конными жнейками, но некоторые участки дожинали серпами. Рожь вязали в снопы, потом для сушки и сохранения от дождя ставили «суслоны». Суслон делался так. Несколько снопов, примерно штук 15 ставили колосьями вверх, чуть наклонно друг к другу в виде конуса, а сверху один сноп расширялся и одевался на этот конус. Примерно, как девичий сарафан. Несколько дней до окончания всей жатвы эти суслоны стояли рядами, вызывая хорошие чувства у всех, урожай собран. Картина повторяла произведения художников, описывающих сельскую жизнь девятнадцатого и более ранних веков. Из техники помню колесный трактор Универсал, прообраз Беларуся. Что он делал, не помню. Возили, в основном, на лошадях и быках. Лошади таскали телеги, а быки «шарабаны». Шарабан, это повозка на четырех колесах, прикрепленных к раме. Над каждым колесом было деревянное крыло. Когда возили снопы, при такой форме шарабана, образовывалась довольно прочная конструкция, которая не рассыпалась при езде по неровной дороге.
Вернусь к трудолюбию крестьянок и их совести. Как рассказал А. Н. Городков, (он был старше меня на восемь лет, поэтому помнил это время лучше) во время очередного вспоминательного разговора, когда у них в деревне появился первый комбайн, женщины, проверив как он жнет, остались недовольными чистотой уборки и отправили его в МТС. Сказали, что лучше выжнут серпами, но только чтобы ничего не оставалось на поле. И это все после преступной и жестокой коллективизации. Доельцинской деревенской женщине должен стоять памятник в каждом районном сельском центре. Навряд ли только удастся дожить до того времени, когда придет нормальная власть, которая будет в состоянии это понять и сделать. Сейчас населенные пункты «реформаторы» называют поселениями. Следующее наименование, наверно, резервация. Если посмотреть, как живет современная нечерноземная деревня, то последнее наименование будет наиболее верно отражать суть.
Женщины того времени были очень воздержаны на язык. Первый раз услышать матерное слово от женщины мне пришлось в 1969 году, когда нас в сентябре послали на картошку под Нарофоминск. Там начальница отделения воспитывала своих подчиненных. Увидев что я рядом, она извинилась передо мной. Все-таки понимала, что поступает не хорошо. Но Подмосковье всегда в этой части было впереди. Сейчас костромские женщины не ругаются, они на этом языке, к сожалению, разговаривают. Мальчишки в то время этот язык годам к шести выучивали, и в своей компании им пользовались. Но никогда не ругались, если в компании была девчонка или, чтобы это слышал кто-то взрослый. Представить себе девчонку, употребляющую этот язык, никому в голову не могло прийти.
В сезон все ребята ходили в лес за ягодами и грибами. И не потому, что это всем хотелось или было интересно, а потому, что было необходимо заготавливать все это на зиму. Ягоды обычные для средней полосы России — вначале земляника, потом черника, морошка (мухлаки) и гонуболь (так называли голубику), потом малина, и уже осенью клюква. Бруснику там не помню, видимо ее было мало. Наибольшей популярностью пользовалась черника и гонуболь, чуть меньше малина. Их сушили: чернику на кисель, гонуболь на пироги, а малину на пироги и от простуды. Варенье тогда не варили, потому что не было песку, да и традиций.
Кстати, во время сбора ягод сборщики как то делились на две категории. Первая могла во время сбора пропускать каждую вторую в рот, а вторая за все время сбора могла съесть только какую-нибудь бракованную по какому-то признаку, то ли с подзеленком, то ли с гнильцой. И есть в лесу из корзины считалось большим грехом. Надо было приносить полную домой, а потом ешь сколько хочешь. Отец рассказывал, что он с друзьями, чтобы не позориться на дно корзины иногда клали траву, а сверху ягоды. Когда шли вдоль деревни, делали гордый вид. Я так не делал никогда.
Где то в четыре-пять лет мы с Кокой вместе с другими старушками пошли за груздями. Тогда за грибами ходили не с пакетами (прости господи) и даже не с корзинами, а с кузовами. Кузов, это емкость, сплетенная из тонких липовых лент, обычно размерами 40х40х40см. Итого 64 литра. Плели, конечно, и другие. В тот раз у меня был маленький, литров на 20. Я сейчас страстный грибник, хожу в лес постоянно, но вот картина того поиска, вернее просто сбора, потому что искать то и не надо было, постоянно стоит перед глазами. Просто надо было или срезать видимый гриб, или определить его местонахождение под бугорком, чуть приподнявшейся листвы вперемежку с хвоей. Набрать то мы набрали быстро, а идти назад нужно было более трех километров. Нетрудно догадаться, что пройдя небольшое расстояние, я устал, и остальной путь совместную добычу пришлось нести Коке. Заблудились. И вышли, в конечном итоге, по пути, который я указал. Не блудился я в лесу никогда до возраста, где то 55 лет. Сейчас без компаса никуда, хоть и имел первый разряд по спортивному ориентированию. Компас в голове сломался. Из грибов предпочтение тогда отдавалось пластинчатым грибам: груздям, волнушкам. Рыжики росли редко и, как правило, были червивые. Белых, почему то брали мало. Поскольку они часто росли по коровьим тропам, их называли «коровельниками».
Каждая деревня имела свой любимый гриб. В Поросли, и вообще в том краю, предпочтение отдавалось сухому груздю. Рос он там в грибные годы в громадном количестве. Гриб действительно хороший, его можно и солить, и жарить.
В одном месте спуск к реке был очень крутой. Это место называлось «Карпаты», и с этих Карпат зимой пацаны катались на лыжах. Кстати, первые мои лыжи сделал из специально добытой осины сосед из дома напротив, Алексей Иванович. Этот Алексей Иванович жил с женой, Ольгой Ивановной. В моей детской памяти они остались как очень чистенькие, тихие, добрые люди. Когда я заехал в деревню, где то в 93 году (деревня еще была), они были по виду такие же, как в 54 году, когда я покинул Займище.
Деньги в колхозе не платили, поэтому их нужно было как то добывать. В то время государству зачем то много требовалось ивовой коры. Почти все, кто имел возможность ее добывать, это делали. У нас эта ива называлась «бряд». Называлось это «драть корье». Технология была следующая. Во время посещения леса по каким то надобностям, замечали где растут эти деревья, и в свободное время прямо туда. Дерево, как правило, не срубали, обдирали кору лентами. Вязали в «пучки», из которых делали вязанку. Дальше закидывали ее на спину и домой, это было самое тяжелое. Кока и тут мне помогала. Эти пучки расставлялись около дома с солнечной стороны для сушки. После сушки несли их в заготконтору. Пучки должны быть очень сухими. Проверял их на сухость приемщик, частично ломая отдельные веточки. Если ломались плохо, вес сбрасывал по своему усмотрению. Стоил один килограмм «корья» где-то 20 копеек дореформенных. Можете представить, какой это был труд.
В те годы лета всегда были жаркие, поэтому все свободное время ребятишки проводили у реки. Вся деревня располагалась вдоль устья реки, которая называлась Медоза. Несмотря на малость, река была рыбная. Щурят пацаны ловили очень просто. Один ставил бельевую корзину около куста в воду, а второй сверху топал по воде ногами. Как правило, щурята в корзине оказывались. Кстати, бельевой корзина называлась потому, что в ней матери таскали белье полоскать на реку круглогодично, включая сорокоградусные морозы. Перчаток резиновых тогда не было. Помню, как мать обрадовалась, когда уже учась в институте, я привез ей из Москвы несколько пар таких перчаток. Объем корзины где-то литров тридцать. Начало река брала буквально в километре выше деревни, поэтому она больше напоминала ручеек. Почти через каждые 100 метров в реке встречались омута, по местному «бочаги», в которых всегда была очень холодная вода из-за бьющих родников. В одном из этих бочагов, находившимся рядом с коровником, и было место купания. Холодных родников там не было. Песчаных пляжей тоже не было, была трава. Поскольку никто плавать не учил, и присмотру не было, пацаны, случалось, тонули. Из подручных материалов всегда делали трамплин для ныряния.
Нужно сказать, что весь день был чем-то наполнен. Дети были предоставлены сами себе без мелочной опеки, но забывающий обязанности, наказывался. Что самое главное, во многих семьях жили три поколения, как правило, бабушки, отцы (у кого с войны вернулись), матери и внуки. Это создавало правильную (на мой взгляд) обстановку, способствующую воспитанию добрых и ответственных людей. Матери и отцы, занятые добычей хлеба насущного, были резки и в суждениях и поступках, а бабушки и дедушки, по силе ума и более богатого жизненного опыта, сглаживали это все. Нужно сказать, что в то время колоссальную положительную роль в воспитании играло и все окружение. Как правило, ни один проступок ребенка не оставался незамеченными, сразу же была реакция в виде или осуждающих слов, или подзатыльника от взрослого, увидевшего этот проступок. Информация о проступке к вечеру обязательно поступала и к родителям. Число подзатыльников увеличивалось. Обычно этим видом воспитания занимались матери. Ничего в этом плохого не вижу. В этом возрасте учеба через определенное место, находящееся между спиной и ногами, доходит намного лучше. Тем более, что после окончания этого процесса у воспитателя и воспитуемого наступает процесс обоюдного слезоиспускания, который сильно сближает и размягчает душу.
Не надо говорить, что дети ходили все лето, с мая по сентябрь, босиком. Для меня были тяжелые дни, когда на праздник приходили гости, и нужно было какое-то время ходить в ботинках, чтобы показать свой достаток. Это был ужас. Когда узнал, что в школе нужно ходить в ботинках, на какое-то время ее, еще не видя, невзлюбил.
Где-то в лет в пять выкопал и принес из леса маленькую березку. Дело было жарким летом. Посадил ее в огороде метрах в двух от дома. Невзирая на мрачные перспективы, березка прижилась. Когда приезжал в Займище к Коке, учась в институте, березка была в самой красе. В прошлом году я попросил Соболева Сергея Александровича, (брата жены Городкова) с которым мы и собирали клюкву, заехать в Займище. Подошел к нашему дому, в который зайти было уже нельзя, т.к. крыша провалилась и могла рухнуть в любой момент. Береза стоит, толщина ствола около 50 см. Ствол порезан, кто-то добывал сок. Вылил море слез.
Летними вечерами ребятишкам разрешалось немного посмотреть на то, как отдыхает уже взрослая молодежь. У нас, как правило, вечерами молодежь собиралась около клуба, который был рядом с нашим домом, и под гармонь пели песни и танцевали «хобаря». Насколько я могу судить, хобарь, это разновидность кадрили. Танец очень красивый и я мечтал, что когда вырасту, обязательно разучу и тоже станцую. К сожалению, когда я вырос и иногда приезжал в деревню, молодежь уже совсем не танцевала. Совсем недавно, в передаче «Играй гармонь» показывали этот танец. Оказывается, он сохранился в Кировской области. Его исполнял какой-то народный ансамбль. Жаль, что посмотреть не удалось.
В этом же клубе показывали кино. Это было событие. Нужно помнить, что в некоторых домах еще в то время кой кто освещал свое жилище лучиной. Лучина это тонкая и достаточно длинная щепочка, как правило, из сосны. Вычитал в книжке школьного друга Саши Лобанова, что лучину «щепали» из березы. У меня в памяти осталось, что из сосны. Втыкалась она в горшок, а яркость свечения, как следствие, скорость выгорания, регулировалась углом наклона. Это помню и при желании могу воспроизвести. И вот при этой лучине всю зиму женщины пряли льняную пряжу и ткали полотно. Но это было редкостью. В основном освещались с помощью керосиновых ламп. Поменьше — семилинейных, поярче — десятилинейных. Отличались они шириной фитиля.
Для того, чтобы показать кинофильм, нужна была электроэнергия. Источником такой электроэнергии был, входивший в комплект кинопередвижки, «движок». Движок этот состоял из, собственно, бензинового двигателя и генератора, который этот двигатель и крутил. Приезд кинопередвижки еще не означал, что кино будет. Первая проблема была — завести этот движок. Очень часто это не удавалось. Но даже если и удавалось, то перегорала какая то лампа в проекторе, часто рвалась пленка и случались прочие гадости. Но все равно приезд кино, это праздник. Чтобы попасть в кино, нужно было спросить разрешения у своего учителя и у родителей, и если было двойное добро, то пожалуйста, наслаждайся. Запомнился фильм «Падение Берлина» и Сталин, выходящий к народу.
Какое-то время, примерно в 1952 году, жили мы в другом доме, стоящим рядом с сельсоветом, оставшемся, видимо от кого то, раскулаченного. Примерно в это же время, куда-то уезжали соседи из дома напротив нашего, и я первый раз услышал слово Соловки. Это слово все время у меня ассоциировалось со словом соловей, пока в конце шестидесятых не узнал его настоящее значение.
Помню, когда в 53 году из черных репродукторов, висящих на стенах, пришло известие о смерти Сталина, вся деревня рыдала. Особенно отличались в этом старушки. Искренне они недоумевали, как же теперь жить без него. Совсем недавно (в 90 годы во время ельцинской смуты) я понял, что, к сожалению, память людская очень короткая. Люди через год забыли, что этот пьяный варвар им обещал. (Это про Ельцина). Прошло каких то двадцать лет после коллективизации, превратившей этих замечательных трудолюбивых людей в рабов, в том числе не без активного участия того, по которому они льют слезы, а они уже все забыли и искренне сожалеют о его кончине. (Это про Сталина). Справедливости ради надо сказать, что оставь он в живых прежних идеологов, типа Троцкого-Бронштейна и прочих, было бы еще хуже.
На мой взгляд, самое главное зло, которое принесла советская власть, при многом добре, которое она же позже сделала, это уничтожение крестьянства, как класса. Крестьянство, это настолько тонкая связь между человеком и природой, что любое, даже малое вмешательство в эту связь, это смерть. А уж как вмешивались, я помню.
Второй удар по крестьянству, если войну не считать, это укрупнение колхозов, приведшее к обезличиванию людей, исчезновению деревень, поскольку все концентрировалось около центральной усадьбы, обезлдюдиванию, из-за исчезновения инфраструктуры. Ну а окончательный, смертельный удар по нечерноземному крестьянству, в общефилософском смысле, нанесли современные большевики-реформаторы, ельцино-гайдаровцы-путинцы.
Как показывает практика, несмотря на сильные удары по интеллигенции, т.е. творческим людям, они почему то, в большом количестве появляются вновь, (правда потом, к сожалению, уезжают за рубеж), а вот крестьянин за все время советской власти плавно исчезал, по крайне мере в Нечерноземье, не появляется и уже не появится. Да и откуда он появится, если уничтожена вся сельская инфраструктура, а телевизор успешно воспитывает бездельников и жуликов.
Вообще руководство любой страны ассоциируется у меня с мальчишкой, который весной пытается спустить талую воду. В зависимости от того, куда он сделает канавку, туда и потечет, или не потечет, вода. Может в низинку, а может к дому, который будет подтоплен. Роль этого мальчишки в нашей стране выполняют законы, принятые руководством, (я не оговорился, именно руководством, а не всевозможными псевдозаконодательными органами) и человеческая энергия может или созидать, или разрушать как общество, так и страну в целом. Наиболее ярко это проявилось в девяностые годы, когда были раскрепощены самые низменные человеческие инстинкты, и «вода» затопила дом. Это продолжается и сейчас.
К сожалению, после революции начались громадные миграционные процессы в силу как принудительных причин, так и от безысходности деревенской жизни. Сегодня нет деревень, в которых хоть в какой-то мере сохранились старые, пусть модифицированные, деревенские обычаи. Нет гармонистов, нет плясунов, люди с трудом могут спеть несколько песен. Горько видеть, когда кладбища в умерших деревнях брошены. Трудно людям приехать на могилку издалека, да, видимо, и не очень хочется. Материализм. Вот Кавказ, на мой взгляд, сохранил, несмотря на Ермолова и Сталина, то, что называется, дух нации. Чем это объяснить, не знаю. Наверно русским, как титульной нации, все-таки досталось больше всех.
Всю молодость я мечтал объехать Костромскую область, посмотреть ее красоту. Так получилось, что в средине девяностых годов мне удалось это сделать. Костромская область вытянулась на восток где то на четыреста километров, и более двухсот на север. Был я и самой восточной и самой северной точке. Что меня поразило, кроме, естественно, красоты. Поразило то, что еще до революции 17 года она везде была очень плотно заселена, несмотря на бедность земель и морозы до пятидесяти градусов. И заселена она была не только мелкими деревнями, но и красивейшими дворцами. И жили люди, хоть и тяжело, но счастливо. Если бы они не были счастливы, они бы тут не жили, и население бы не росло. На самом севере области есть древний городок. Называется Солигалич. Суровый климат, замшелые сосны, но там до революции в отдаленных уездах были школы, где изучали четыре иностранных языка. При коммунистах там были совхозы. В начале 21 столетия мы ездили на рыбалку в одно из мест Солигаличского района, которое называется Тутка. Смогли проехать только на гусеничном тракторе, заменив по дороге четыре трака. По пути видели результаты работы местных жителей, в виде голых, без проводов, электрических столбов. Что творят люди сами с собой?! Опять отвлекся.
Отца в 49 году назначили председателем сельсовета в деревню Климово, находящуюся в 17 километрах от Займища, куда мы и переехали. Переехали туда в зиму. Совсем недавно родилась сестра Руфина. И в доме было страшно холодно. Мерзли. Дополнительно поставили буржуйку, стало немного теплее.
Надо сказать, откуда в глухой Костромской деревне появилось такое древнееврейское имя. Из случайно подслушанных разговоров можно было понять, что у отца во время двух войн была зазноба с таким именем. Вот он и решил таким образом сохранить, видимо, приятные воспоминания. С Руфой у него всегда были хорошие отношения. Она была ласковая. Я называл ее подлиза. Человек из нее получился хороший, исключительной порядочности. К сожалению, по русской традиции, с несчастной судьбой.

У отца было две бритвы, одна своя, старая, а вторую ему подарил старший брат, бывший в конце войны комендантом какого-то немецкого города. Бритва была замечательная. Отец ей пользовался по большим праздникам. Как назло, у меня сломался карандаш. Я не нашел ничего лучше, как заточить карандаш его новой бритвой Зелингер. Жало бритвы было очень тонкое, и в результате бритва стала похожа на серп, а мой зад на спелый помидор.
Второе воспоминание, уже осеннее. Я уже говорил, что развлечения пацаны искали сами. Так вот, одно из развлечений было такое. Когда поспевала картошка, она кроме клубней (корешков) давала еще семена (вершки), которые назывались бубенцы. Про фитофтору тогда не слышали. Если этот бубенец нанизать на ивовый прутик и прицельно размахнуться, бубенец улетал с приличной скоростью достаточно далеко. В результате ловкости моих рук он успокоился между оконными рамами соседского дома. В результате ловкости рук отца, задница опять болела долго.
Третье воспоминание, это как мы с ребятами пошли вдоль дороги просто гулять и подожгли одну из громадных сосен, растущих вдоль дороги. Хотели поджечь всего лишь смолу. Вначале было весело, потом испуганно пытались затушить, но ничего не получилось и мы разбежались. Затушили взрослые, никому не попало. Этот огонь ярко помню и сейчас. Почему то там жили недолго и вернулись в Займище.
Я уже говорил про лошадь. Так вот, благодаря ей, читать я научился рано. Учила меня читать, в основном моя троюродная сестра, Петровская Люба, племянница Симеона Никифоровича, живущая в небольшой хибарке вместе с матерью, прямо напротив нашего дома. Она была старше меня лет на пять. В шесть лет я уже был записан в сельскую библиотеку. Отец сказал, что как только я прочитаю весь букварь, он купит мне велосипед. Как раз под новый 52 год, когда я дочитывал последнюю страницу, он притащил новый «орленок», который жил у меня 13 лет, и я его подарил уже в Островском своему общественному учителю по вождению автомобиля, Федору Гурдюмову.
Если подводить итог Займищенской жизни, то это было замечательное беззаботное время, наполненное красивой природой и добротой. Это касалось не только меня, но и всех деревенских друзей. Единственная неприятность, это пьяные деревенские драки. Хотя, кому то может это и нравилось.
Не будь отец активным и умным человеком, так и остался бы я в этом замечательном месте. По крайне мере до той поры, пока жила деревня.
Школа в Займище и Самсонове
Я хоть и озаглавил так, но начальная школа находилась примерно в полутора километрах от деревни, почти примыкая к другой деревне Макарово, потому и называлась Макаровской. Ходили в школу, естественно, пешком. Во время первого похода в школу я упал в овражек, который находился аккурат посредине пути. Штаны стали мокрые и в результате сидения за партой часть краски перешла на штаны. А штаны были замечательные, похожие на те, в которых ходят барчуки в кинофильмах, показывающих жизнь дореволюционной усадьбы. Вельветовые, с пуговичками чуть пониже колен. По-моему, за это не попало. Плохо было ходить зимой, особенно после метелей, которые тогда были часто. Поскольку в этой школе я учился всего полтора года, запомнившихся событий было мало. Запомнил ежедневное построение всей школы. Построением и линейкой руководил директор, который был одет всегда в галифе, сапоги и полувоенный френч — по форме одежды прямо Сталин. Во время линейки всегда было что-то похожее на перекличку, потом пели гимн Советского Союза, затем зарядка и на уроки. На территории школы был микростадион с элементарными снарядами, приусадебный участок, содержащийся в образцовом порядке. Запомнилась чистота в школе и образцовый порядок. Реакция школы на смерть вождя не запомнилась.
Время было послевоенное, поэтому многие игры и разговоры мальчишек были про войну. До сих пор помню, как мы спорили, кто сильнее летчики или моряки. Во время споров выбирали себе военные специальности. Помню, что в то время хотел быть моряком, наверно форма нравилась. В то время, да и сейчас, не люблю ветер, он все время мешает что либо делать. Тогда удивлялся, как же так, хочу быть моряком, а ветер не люблю, хотя у всех в глазах была картинка, моряк с горящим взором и развевающиеся паруса.
Жаль, что эта идиллия длилась недолго. В соответствии с правилами тех времен, отца «бросили» на заготовку древесины, начальником участка леспромхоза, находящегося примерно в 13 километрах от нас в деревне Самсоново, куда мама носила меня заговаривать грыжу. Контингент этого участка формировался за счет случайных людей, так называемых, вербованных, волей судьбы, войны, а чаще своей волей, ставших маргиналами со всеми вытекающими последствиями.
Отвлекусь. В то время людей по всей стране перегоняли большими массами и, приезжая в какие-то местности с устоявшимся образом жизни и вековыми традициями, они изменяли этот уклад и, к сожалению, не в лучшую сторону. Именно тогда пьянство стало массовым явлением. Эти люди (вербованные) благодаря своему характеру и богатому «жизненному» опыту имели влияние, особенно среди молодежи. На мой взгляд, это хоть и не главная, но одна из причин гибели российской деревни.
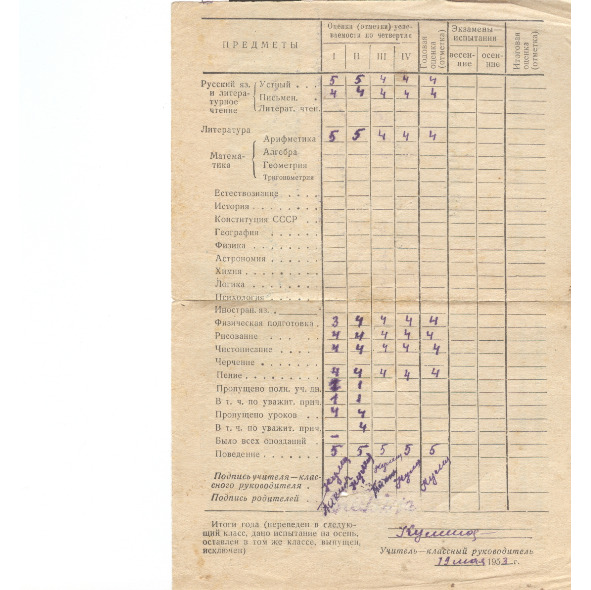
К чему я это все. В связи с новым назначением отца я перешел другую школу, где учились, в том числе, дети тех самых, вербованных в разных концах страны, работников леса. Многие были похожи на своих родителей. Учился я там меньше года, чему несказанно рад. В первые дни моего появления в школе, ходили «делегации» учеников и учителей смотреть на мои идеальные тетради и на меня, какой я чистенький, вежливый и добрый. Потребовалось где-то месяца четыре, и на мои тетрадки уже не ходили смотреть. Зато пытались научить курить. Помогли две вещи. Первая это появление отца в школе, как следствие разбитого окна при моем участии. После проведенного воспитательного мероприятия больше никогда не курил. Вторая причина — очередной переезд в Спас-Заборье, но об этом чуть позже.
Какие воспоминания от Самсонова. Немного. Жили мы прямо на берегу реки, все той же Медозы, только уже превратившейся в настоящую реку. Летнюю рыбалку не помню, а вот зимнюю хорошо. Она состояла в том, что как только «вставала» (покрывалась льдом) река, и, как правило, недели две еще не было снега, мальчишки брали обычное полено и шли по реке. Идти нужно было не более 10 метров, чтобы увидеть подо льдом или щуку, или налима, или еще что-нибудь приличное. Нужно было стукнуть по льду поленом над рыбьей головой. Если удачно попал, рыба переворачивалась кверху пузом. Оглушил. Этим же поленом пробивался лед и рыба извлекалась. Если дырку во льду делать долго, рыба приходила в себя и уплывала. И так далее. Рыбы было столько, что куда бы ни направить взгляд, она была везде. Воду для питья и приготовления пищи брали из реки.
Второе воспоминание страшное. Перед новым 54 годом отец ушел на охоту, и мы с сестрой остались с матерью. Мы уже легли спать, а мать ушла немножко посидеть к соседям. Проснулись мы с сестрой оттого, что разбилось стекло, потом второе, и в комнату влетела доска. Потом было еще несколько ударов. Мне восемь лет, сестре три. Мы метались по комнате в поисках укрытия от этого ужаса. Потом кто-то сломал входную дверь и в дом вошел, слегка покачиваясь, грязный, страшный человек, руки в крови. Он их порезал, когда бил стекло. Нас он увидел, подошел, довольно долго смотрел, но не тронул. Тут вбежала мать. Какие-то слова этому бандиту она говорила и убежала к соседям за помощью. Там жил главный инженер этого лесоучастка, он знал этого рабочего, и его увел. Отец появился примерно через полчаса. Приди он раньше, убил бы этого дурака, и неизвестно, как бы сложилась судьба всей нашей семьи. Как потом оказалось, человек этот был психически больной. А залез к нам потому, что когда то их семью обидел некто Паков. Дурак перепутал фамилии.
В этом же Самсонове случилось то, что никогда в жизни больше не встречалось. Большое везение. Забыл сказать, что школа располагалась не в Самсонове, а небольшой деревушке (название забыл), находящейся километрах в полутора. И вот один раз осенью мы с соседним приятелем возвращались из школы. Я шел первый и совершенно неожиданно под реденьким кустиком увидел разбросанные деньги, трешки и пятерки. Было их общим количеством 28 рублей. Как то мы их поделили. Принес добычу матери. Сразу же пошли в магазин. Хорошо, что он был недалеко, и купили конфет. Кроме известных подушечек нам дали еще и в бумажках. Судя по радости матери, зарплата у отца была маленькая.
Само место, где располагалась деревня, очень живописное. Все остальное было не очень.
Рядом был поселок, называющийся Пеньки, где и жили рабочие лесопункта. Это бараки, пьяные мужики и отсутствие какой либо культуры. Хорошо, что вскоре мы переехали в изумительное место, где располагалось село Спас-Заборье. Туда отправили отца инспектором отдела кадров, как я понимаю, в основном с целью вербовки новых рабочих для леспромхоза Заборья.
Спас-Заборье
По приезду туда я пошел в третий класс начальной школы. Эта начальная школа, состоящая из нескольких одноэтажных зданий, находилась чуть ближе, в черте села, с другой стороны оврага, который и разделял начальную и семилетнюю школы. Вела третий и четвертый класс Грубова Зоя Николаевна. Ее муж был практически штатным фотографом Заборья.
Главным был леспромхоз. Было среди работников много не русских, что редкость для тех мест. Одна улица была заселена немцами, которых было больше всего, наверно выселенных с Поволжья. Это была самая чистая улица. Со мной в классе учились украинцы, азербайджанцы, немцы, евреи. Может и еще кто то, сейчас уже не помню. Не помню еще и по другой причине, потому что мы тогда в национальностях не разбирались, главное в дружбе было, какой ты человек по общечеловеческим понятиям, и что ты умеешь делать. В нашем классе училась одна немка по фамилии Шумахер. Жили они в жалкой хибарке прямо на берегу реки. Ее мать работала банщицей. Баня стояла в двадцати метрах от них. Для того, чтобы помыть мужское и женское население Заборья, ее мать должна была наносить примерно четыре куба воды, если не больше, в каждый мужской и женский банный день. Да еще нужно было как то нагреть почти половину этой воды. Во время рыбной ловли я заходил несколько раз к ним. Уныния не видел. Несмотря не то, что война кончилась практически вчера, отношение ко всем немцам было самое доброжелательное.
Когда я вспоминаю школу Заборья, редко могу удержаться от слез. Это был, безусловно, интеллектуальный центр. Кроме того, что качество обучения было на высоте, там бурлила жизнь, ребята занимались во всевозможных кружках, и самое главное, был школьный хор, в котором участвовали как ученики, так и учителя. Руководили там два человека, преподаватель пения (не помню ее фамилию, имя и отчество), которая жила работой, и преподаватель математики, Махова Людмила Николаевна (мать моего дружка, Махова Вовки).

Иногда они замечательно пели вместе, преподаватель пела первым голосом, Людмила Николаевна вторым. Коллектив школьной самодеятельности, насколько мог, заполнял послевоенный художественный вакуум, как выступая в клубе, так и часто совершая поездки по округе. Так получилось, что эти два человека обнаружили у меня абсолютный музыкальный слух, беря одного из всей школы в свои поездки в качестве солиста. Приезд какого-нибудь важного человека в Заборье всегда сопровождался концертом, на котором мне приходилось выступать. Как правило, это была песня про подвиг знаменитого Варяга. Можно представить, как это выглядело в исполнении двенадцатилетнего пацаненка. Был я хоть и бойким, но при этом очень стеснительным, поэтому подготовка, да и само выступление всегда вызывало страшное волнение, не спались ночи. Иногда от волнения перехватывало голос. Принимали всегда хорошо, позора не помню. Тем не менее, уроки пения были одни из самых любимых. Было приятно, когда вызывали к доске петь, а в классе был «лес рук» желающих петь со мной, потому что пятерка была обеспечена. Желающих петь в хоре тоже было множество. Участие в хоре это не просто пение, это переход в какое то другое, возвышенное состояние. Кто там пел, тот знает. Любой ученик, проходивший два года на уроки пения, мог спеть не менее двадцати-тридцати песен, более всего народных, естественно, с разным качеством.
О школе, да и о Заборье, в четырех книгах хорошо написал Догадкин Володя, мой тогдашний дружок, который там родился и там провел свои лучшие годы и, как следствие, любил Заборье больше моего. Всего три года жизни там, да еще по молодости лет не дают мне возможности составить целостную картину.
Вот в двух словах, что он написал про своего, тогдашнего дружка.
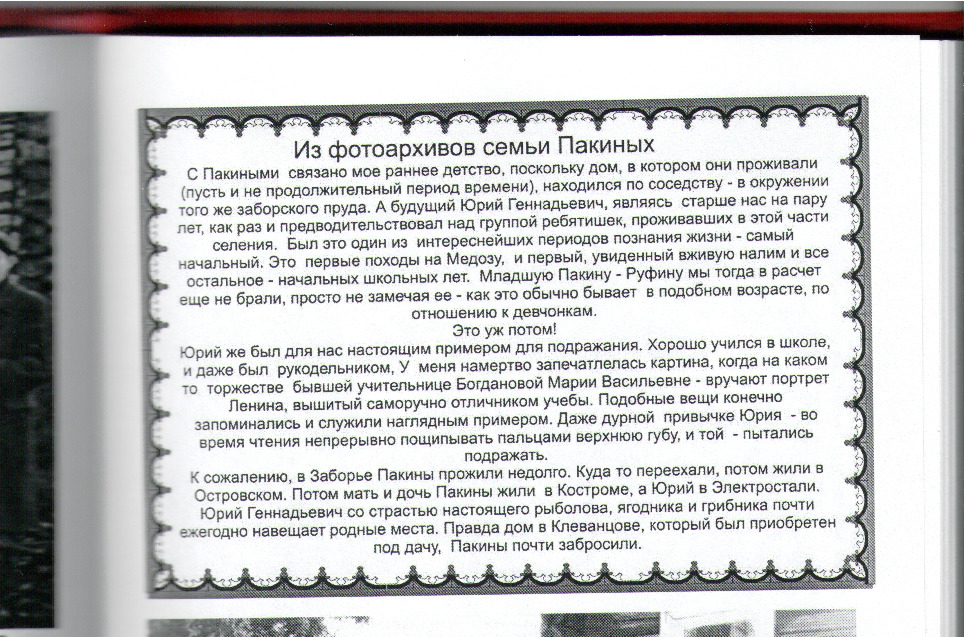
Недалеко от Заборья была деревня Шугаиха, в которой работал, так называемый, химзавод, на котором из березы делали деготь. Картина деревни, как из кинофильма «Девчата». Туда с концертами учителя ездили регулярно. Сейчас эту деревню даже местные не найдут.
Отец несколько раз ездил в какие то дальние командировки. Запомнилась одна, в Грозный. Оттуда он несколько раз присылал посылки с какими-то фруктами. Запомнились яблоки громадного размера. Тогда в Костромской области яблоки не сажали. Первый и единственный сад был у Щукиных, о которых скажу ниже. Выращивал его Алексей Васильевич, но я не помню, чтобы пробовал хоть одно яблоко. Наверно потому, что сад в то время еще не начал плодоносить, а потом мы уехали.


Когда перешел в пятый класс, в школе появились две новых учительницы, сестры и дочери директора соседней средней Александровской школы. Одна из них стала преподавать немецкий язык. Сильно я тогда им заинтересовался. Учился очень хорошо. Даже после окончания средней школы, я считал, что в конце пятого класса я этот предмет знал лучше. Видимо за это, учительница попросила меня сделать учебное пособие в виде алфавита, выполненного готическим шрифтом, аккуратно нарисованного на листе ватмана. В ближайший выходной я весь день рисовал тушью, выданной в школе, этот шрифт, мечтая доставить радость как учительнице (учебное пособие теперь есть) так и себе (похвалят). Рисовать закончил поздно и оставил лист сушиться на столе. Утром проснулся и сразу побежал смотреть на свое произведение. Каково же было мое горе, когда я увидел, что большинство букв смазано, а некоторые частично пропали. Сквозь слезы стал выяснять, чья это работа. В ходе стихийного семинара выяснили, что буквы съели тараканы. Действительно в доме тараканов было множество, но только не мелких рыжих пруссаков, а больших, черных. Говорили, что эти тараканы живут в хороших домах и приносят счастье. Шрифт починил, отнес в школу. Похвалили. А насчет счастья, оно там было и без тараканов.

Так же был около школы стадион, пришкольный участок, где как то умудрялись выращивать даже арбузы. Школа стояла на краю села. Чтобы в нее попасть нужно было перейти глубокий овраг, через который был перекинут живописный мостик. С левой стороны был крутой обрыв, поросший соснами, спускающийся прямо к реке. На краю обрыва стояла маленькая избушка («на горушке»), где жил Володя Соловьев, парень старше нас года на четыре. Жил он с матерью, обладавшей, как потом выяснилось, способностями хорошей колдуньи. Мы часто были у них, потому что они отвечали за леспромхозовских лошадей, а это значит, мы могли на них кататься, что и делали с переменным успехом.
В этой школе, не помню, в рамках какого предмета, нас обучали элементарным навыкам оказания помощи при ранениях. Учили делать повязки, на пальцах рук, ног, всех элементах рук и ног, грудной клетки, шеи и прочего. Почти все помню.
Школа была действительно культурным центром этого небольшого региона. Постоянно в клубе устраивались концерты с участием, как школьников, так и местной молодежи повзрослей.
Этим летом из ностальгических соображений договорились с бывшими друзьями, тремя Вовками, о которых скажу дальше, встретиться в Заборье. Слез было много. Село быстро умирает. На месте нашего дома какая-то гипсокартоновая микролавка. Все заросло крапивой, оставшиеся люди просто доживают свой век, в глазах тоска. Работы нет, больница разрушена, школа закрыта и потихоньку растаскивается на «запчасти». Во время воспоминательного похода к школе обнаружили, что даже нижние бревна школы, простоявшей более ста лет, были без малейшего намека на гниль. Удивительно, насколько грамотно она была сложена.
Кстати, Догадкин Володя стал полковником КГБ. Что уж он там делал, не знаю, но выйдя на пенсию, и испытывая еще более нежные чувства к Заборью, (он родился там и жил до окончания школы) написал несколько книжек, воспевающих это место. За это ему большое спасибо. То, что он разведчик мне удалось убедиться в 1993 году, когда мы с сыном Олегом приехали в Кострому на празднование трехсотлетия дома Романовых. Мы с ним расстались в 56 году и никогда больше не виделись, но он меня узнал через сорок лет, встретив в Ипатьевском монастыре. Может быть по Олегу, наверно тогда он был похож на меня, двенадцатилетнего.
Ну ладно, вернемся в пятидесятые.
О друзьях
В селе жила семья Щукиных. Глава семьи, Алексей Васильевич, был начальником отдела кадров леспромхоза, т.е. начальником отца, и как следствие, через отца подружились и семьями. Жена его, Александра Гавриловна, работала учительницей в школе. Старший сын Фидий, три дочери: Рита, Аля, Эля и младший сын Вовка. Вот он то и был один из друзей.
Второй приятель Вовка Махов, сын Людмилы Николаевны Маховой, о которой я упомянул выше. Отец у него был председателем Заборского колхоза, фигура. Третий Вовка, это Вовка Догадкин, с которым мы дружили пожалуй больше, чем с другими Вовками. Отец у него был бухгалтером леспромхоза, тоже фигура, мать домохозяйка. Жили мы друг от друга недалеко, это тоже способствовало дружбе.
Из нашего класса дружил я с Валерой Шустером, но, то ли от того, что их семья жила на другом конце села, у больницы, то ли я стеснялся к ним ходить, общались мы меньше. Попытаюсь рассказать о времяпровождении, что в памяти сохранилось.

В пятидесятых годах, их дом, на фоне нашего, казался мне дворцом. С удивлением обнаружил, насколько он мал. Зимой было в основном два развлечения. Первое, это катание на лыжах. Противоположный берег Медозы был крутой, да еще поросший лесом. Вот там и катались. Был в компании мальчишка, года на четыре нас постарше, вот он скатывался с горы первый, за ним мы, причем скатиться должен был каждый из группы. Залезали в гору, и уже по новой лыжне, снова вниз. Второе занятие, катание на санках с горы уже в селе, прямо рядом с нашей квартирой. Санки делали сами из досок, довольно прочные. Для лучшего скольжения, полозья делали из каких то металлических трубок, которые брали, скорее всего, в мехмастерской леспромхоза. Разгонялись на этих санках бегом, потом на них ложились на живот, а рулили санки ногами. На ногах были валенки, а на валенках галоши. Можно представить, что было с новыми блестящими галошами после нескольких рулений, особенно по весеннему снегу. За галоши, конечно, попадало, но азарт дороже.

Отец, увидев один раз, как я катался, целый час рассказывал мне, как он берег калоши, которые ему в детстве достались. Это еще не все. Вся изюминка в том, что катались с двух противоположных горок, и нужно было столкнуться. Вот для чего нужны были крепкие санки.
Первый раз принял участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Гонки проходили на Александровской фабрике, там была школа десятилетка. Лыжи то были, но хороших палок не было. У нас в классе учился красивый мальчишка, азербайджанец, Лярка Сеттаров. На фотографии он вверху второй слева. У него отец работал в леспромхозе. Тоже, скорее всего, сосланные откуда то. Так вот у него были палки дюралевые, тогда это была редкость. Дал мне без сожаления. Первое место не занял, но выступил достойно. Попросил я эти палки, скорее всего не для увеличения скорости, а для повышения собственного статуса.
Еще запомнились домашние зимние концерты. Концерты готовили мы сами. В них активное участие принимала, уже ставшая взрослой, сестра Руфа. Что мы там «представляли», я помню слабо, скорее всего, пели песни, читали стихи и делали мелкие «постановки». Больше запомнилось то, что на эти концерты мы делали из бумаги билеты и продавали их за какие-то копейки. Самое смешное, что их покупали взрослые женщины и приходили смотреть наши художества в эту микроквартирку.
Один раз, зимой к нам пешком в гости пришла Кока, да не одна, с теткой отца по материнской линии, тетей Надей Городковой. Мать с отцом ушли куда то в гости, а мы сидели в комнате, которая и была там всего одна. Я решил напроказничать. Эта комната закрывалась почему то на крючок с внешней стороны. Они отвлеклись на разговор, а я поставил крючок вертикально, потом хлопнул дверью, и мы оказались взаперти. Через какое-то время тете Наде захотелось выйти. Она дернула за ручку двери, но дверь не поддалась. Полчаса, пока не пришли родители, все время ушло на рассуждения, как нам теперь быть. Нужно было видеть, как они взволнованно ходили по комнатке и причитали. Когда пришли родители, сошлись на том, что дверь закрылась случайно. Мелкий шкодник.
Дом стоял на берегу громадного оврага, в котором был наш огород. Дом был двухквартирный (пятистенок), за стеной жил главный инженер леспромхоза с женой. Этот дом был сделан по старой русской традиции. Поскольку держать корову в то время считалось нормой, а корова зимой требовала корма, то сзади дома был сделан въезд наверх прямо на лошади с телегой, полной сухого сена. Раньше в деревнях все дома строились с учетом скотины, которую держала каждая семья. Сзади дома была леспромхозовская конюшня. За этой конюшней было поле, на котором выращивали для корма лошадей редкий, по тем временам, для костромских мест овощ, кабачок. Тогда мы его использовали в качестве гранат при игре в войну. Есть их самим, никому в голову не приходило. Через дорогу был большой живописный пруд, наполненный множеством лягушек, которых мальчишки весной истребляли в большом количестве по глупости, а взрослые почему то нас не останавливали. Весной в половодье из этого пруда громадная масса воды через дорогу выливалась на наш огород, видимо с органическими удобрениями, поэтому урожаи были хорошие. А такой сладкой капусты сорта Слава, которая росла в Заборье, не ел больше никогда.
Потом был период увлечения оружием. Пацаны повзрослей стали делать пистолеты, естественно из досок, и нам продавать. В связи с этим мы с Вовкой Маховым совершили нехороший поступок. Во время моего очередного прихода к нему (дома кроме нас никого не было), он показал, лежащую на столе в зале, целую кучу упакованных пачек денег. Это, видимо, отец приготовил для выдачи зарплаты в колхозе. Посовещавшись¸ мы решили, что если вынуть из двух пачек по одной бумажке, то ничего особенного не произойдет. Вынули, насколько помню, три и пять рублей (дореформенных). Больше не нужно было, как раз на два парабеллума. Произошло. Его, скорее всего, выпороли, а у меня Людмила Николаевна просто спросила, брали мы или нет. Я, естественно, сказал, что брали. Она настолько тонко, по матерински, мне сказала, что это нехорошо, то ли за мое пение, то ли оттого что была настоящим педагогом, но с тех пор никогда не брал чужого и до сих пор испытываю к ней самые лучшие чувства. Похоронена она вместе с мужем на хорошем кладбище на Александровской фабрике. Она относится к людям, встреча с которыми оставляет теплый след на всю жизнь.
Этим летом, когда мы встречались с Вовками в Заборье, и я спросил Вовку Махова, помнит ли он об этом. Он не помнит. Недавно встретился с ее двумя дочерьми. Они живут в том же районе, одна в Игодове, а другая на Александровской фабрике. Так вот, они рассказали, что мать дома почти не видели, она все время была на работе. Математиком она тоже была замечательным. Педагоги того времени, это, в подавляющем большинстве, подвижники. Они, безусловно, были разных педагогических талантов, но в подвижничестве мало кому можно было отказать. У Догаткина Володи, отношение к учителям сложилось такое же, хоть он и доучился там до седьмого класса.
Те пистолеты, что делали мы, не были опасными, т.к. там не было ничего взрывающегося. Ребята повзрослей стали делать «поджигалки». Поджигалка представляла огнестрельное оружие, образца века шестнадцатого. Приклад-рукоятка, а к нему проволокой прикручивался ствол из медной трубки. В этот ствол набивалась горючая начинка от спичек, вместо пороха. Все это утрамбовывалось, потом в ствол набивались поражающие элементы. Все это затыкалось пыжом. В начале ствола делалось маленькое отверстие, около которого, крепилась спичка в качестве запала. Чтобы произвести выстрел, нужно было коробкой спичек резким движением поджечь эту запальную спичку. Примерно через секунду происходил выстрел. Наша компания до поджигалки не доросла, поэтому мы стреляли из, так называемых, ключей. Тогда замков английских не было, а были наши, которые открывались ключом с отверстием. Вот в это отверстие мы набивали ту же горючую составляющую спичек. Туда вставлялся гвоздь. Другой конец ключа и обратный конец гвоздя соединялись веревочкой. Вот этой конструкцией и нужно было стукнуть о что-то твердое, например, стенку дома. Раздавался хлопок. Все опять довольны.
Один раз достали где-то гильзу от патрона, набили ее спичками и бросили в костер. То ли костер был утухший, то ли звезды не так встали, но «взрыва» не было. Не дождавшись взрыва, я пошел узнавать, в чем дело. Подойдя к костру, стал ногой его шевелить. Этого оказалось достаточно, чтобы взрыв состоялся, и у меня оказались порванными штаны. За все время, что мы там жили, не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь из ребят получил травму. Когда сегодня я вижу систему организация отдыха детей, то мне совершенно ясно видно, что наши руководители готовят не созидателей, а паразитов. Зачем, не трудно догадаться.
Как-то раз, около клуба, во время какой-то случайной ребячьей встречи, один из мальчишек, чуть постарше, вытащил из кармана пачку денег, мелких. Конечно, нам он показался уже взрослым и сильно обеспеченным. На вопрос, где взял, он ответил, что заработал. Оказывается, в село приехали какие то геологи и им для работы нужны ребята для того, что бы в нужном месте держать узкую доску с делениям, похожую на большую линейку. Что самое главное, за эту, в общем то, пустяковую работу, платят деньги, целых три дореформенных рубля (ножик стоил меньше) в день. Нужно сказать, что ребята встретились не случайно. Дело в том, что в это время, а это 54—55 год, были перебои с хлебом и всех ребятишек посылали с утра в магазин занимать очередь. Хлеб из местной пекарни привозили в магазин где то к вечеру, и вот весь день ребята и ждали этого момента. К этому времени к магазину подтягивались взрослые, потому что пацанам участвовать в штурме магазина иногда было небезопасно. Хлеб привозили на лошади, запряженной в специальную телегу, на которой стоял деревянный ящик с расположенными там полочками с хлебом. Раз мне пришлось наблюдать, как один из очередников в момент открытия дверей, встав на перила, дальше пошел по головам. Мы с одним приятелем регулярно участвовали в этой добыче хлеба.
Но на другой день после получения сведений, что можно у геологов срубить целых три рубля за день работы, заняли очередь за хлебом и подались на заработки. Когда наш рабочий день закончился и мы подошли к магазину, оказалось, что мы опоздали и хлеб кончился. Домой без хлеба идти было очень опасно. Минус от отсутствия хлеба по модулю (как говорят математики) был значительно больше плюса от трех рублей. Стали думать, что делать. Он вспомнил, что на Александровской фабрике в магазине работает его тетка. У нее что-нибудь да есть. Александровская фабрика, это поселок, названный так, потому, что там располагалась фабрика, по производству специального картона, используемого в свое время для изготовления трансформаторов, дросселей и прочего. Сейчас идут в ногу со временем и делают туалетную бумагу для остронуждающихся. (Пока писал, уже и бумагу делать перестали. Там теперь Кургинян какую-то черную сотню воспитывает). Поселок находился все на той же Медозе, примерно в девяти километрах. Как добраться? У него было проще, велосипед был с собой, а мне надо было как то добыть тот самый «орленок», подаренный за букварь. Но добыть так, чтобы родители не заметили меня без хлеба. Прокрался к дому, по углу дома залез наверх (там дырка была), прокрался в коридор, взял велосипед и уже крадясь из дома, за что-то зацепил, и меня услыхала мама. На ее вопрос, ты куда, я быстро ответил, что сейчас вернусь, и мы уехали. Приехали к его тетке уже поздно, магазин закрыт. Нашли ее дома. Отдала нам полбуханки своего, и затемно мы вернулись. Наказания избежал. Это я про чувство ответственности. К геологам, вернее топографам, ходили еще, но не разбогатели.
В это время Хрущев только-только разоблачил Сталина, и помню, как ломал я, молодой дурак, пластинки из альбома с речью Сталина на каком-то пленуме и кидал их пруд, стараясь чтобы следующая улетела дальше.
Приехал как то в село молодой парень, скорее всего из мест холодных. Оказался борцом — вольником, и стал организовывать в клубе что то вроде секции борьбы. Я сильно заинтересовался этим делом. С ним уже договорился, я ему подошел. Но год то был 55, и все нужно было согласовывать. С кем? За моралью следил замполит (заместитель директора леспромхоза по политической части — комиссар), некто Тишков. Человек очень маленького роста, но, тем не менее, имел жену, высокую статную красавицу. Кличка его была «замполтишка». И вот этот «замполтишка» решил, что заниматься борьбой в 11 лет рановато и не разрешил. На тот момент карьера борца не началась.
Кстати, в тот же год, или чуть раньше, к ним откуда то приехала племянница его жены, тоже красивая девчонка, Таня Моржухина. Пожалуй самая красивая из школы, как нам казалось, потому что городская. И попала она прямо в наш класс. Все мальчишки в нее влюбились, я тоже. За какой-то ее проступок все мальчишки решили с ней не разговаривать. Я, естественно, тоже. Вот такая любовь. За косы дергать нельзя, но дразнить было можно. Кличку придумали нейтральную «Тишка». И вот я иду из магазина, (их дом стоял по пути), никого не вижу, и довольно громко покрикиваю: «Тишка, Тишка, Тишка!» Дразню, в общем. Услыхала ее тетка, которую я в тот момент за забором не видел, и с которой моя мать была дружна. Я услышал: «Юра, что же ты делаешь? Ай, яй-яй.» Стало стыдно. На фотографии она справа от меня через человека, с пухлыми щеками. Потом она уехала и любовь закончилась.
Но самое интересное, что было в Заборье, это рыбалка. Именно там я и заразился этим делом на всю жизнь. Нужно сказать, что в то время поймать рыбу в количестве необходимом для еды, проблем не было никаких. Просто ее было очень много. Взрослые мужики этим делом, т.е. рыбалкой с удочкой, практически не занимались. Некоторые из взрослых плели из ивовых прутьев, так называемые, «кубаны». Кубан, это чернильница — непроливайка. Вход для рыбы обмазывался хлебом. Из-за него рыба туда заходила, а обратно ей было выйти почти невозможно. Вечером поставил, утром снял, и никакой потери времени. Серьезно занимался рыбалкой на удочку старший брат Вовки Щукина, Фидий. Дело в том, что у него были повреждены ноги, и он не мог работать, ездил на инвалидной коляске и все время посвящал чтению и рыбалке. Щук ловил очень больших.
Свою основную и самостоятельную рыбацкую карьеру (рыбалка в Займище в силу малости лет не в счет) я начал с ловли пескарей, которых было великое множество. Уходил на реку с трехлитровым бидончиком и приходил домой с бидоном, полным пескарей. Потом они надоели. Нашел новый способ добычи, колоть вилкой налимов.
Забыл сказать. Весной был еще один способ заработать деньги. Дело в том, что лес в то время не возили, бревна сплавляли по реке. Зимой заготавливали, пилили в размер и складывали на берегу реки в, так называемые, «ставежи». Отдельно складывали поленья. И вот весной, когда вода поднималась метра на два, все трудоспособное население выходило на заработки. Эти поленья нужно было кидать в реку. Занимались этим делом мальчишки и женщины в силу недостатка силы и навыков. Бревна с помощью багров сталкивали в реку взрослые и опытные мужики. Один куб стоил какие то копейки. Поленья были, как правило, осиновые или березовые, поэтому тонули быстро. Как следствие, после спада воды все дно реки было усеяно этими поленьями, которые являлись хорошим убежищем для налимов.
Рыбалка заключалась в следующем. Летом река мелела, за исключением омутов, и по ней можно было ходить, засучив штаны до колен. Идешь по реке, видишь полено, медленно отодвигаешь его по течению и, если видишь голову налима, резко втыкаешь вилку в него. Другой рукой снизу прижимаешь его к вилке, вынимаешь, и в сумку. Часа за три можно было наколоть до тридцати-сорока штук. Больших не колол никогда, не везло. А вот Вовка Догадкин, мой ученик этому способу, был более удачлив. Он хоть и меньше меня был, но приносил иногда экземпляры больше килограмма. Один раз, около избушки, где жили Шумахеры, я в силу рыбацкой зависти хотел спугнуть очередного большого налима, попавшему ему на глаза. Правда, неудачно, налим был им заколот. В своей книге он написал, что не я его учил. Забыл, видимо. Нужно сказать, что река имела много довольно глубоких плесов, почти на всех поворотах реки были глубокие омуты, в которых тогда водилась практически всякая рыба этой полосы. Кроме щуки, окуня, плотвы (по местному-сороги), было очень много голавля, жереха, подузда, налима. Я не описываю здесь какие чувства испытывает рыбак, особенно молодой, когда тащит рыбу потому, что это описано во всех книжках про рыбалку.
Километра в трех выше по реке была мельница с названием Гарская. Она тогда еще эпизодически работала. Был длинный верхний омут, в котором свободно гуляли голавли, похожие на поленья. Но в то время рыболовные снасти были примитивные, уменья тоже было мало, поэтому голавли плевали на все приманки, которые местные Сабанеевы пытались им подсунуть. Нижний омут был просто громадный и очень глубокий. Один раз мы с отцом ехали из села Воскресенского (места будущего нашего проживания) в Заборье и случайно стали свидетелями ловли неводом в нижнем омуте. Когда невод вытащили на песок, весь нос невода был забит рыбой. Но самое главное в неводе оказался жерех размером с мужика, участника ловли. Нужно было видеть эту борьбу мужика с жерехом на песчаном берегу. Ростом они были примерно одинаковы. Мужик с посторонней помощью победил.
В этот же день чуть выше по реке, у деревни Борок, местные мужики ловили рыбу сетями. Когда мы подъехали, у них уже на берегу стояло несколько мешков с рыбой. Река была перегорожена одна за другой тремя сетями. За последней сетью стояло человек пять с наметами, чтобы ловить самую хитрую рыбу, избежавшую предварительно три сети. Сверху реки человек восемь шестами били по воде и кустам, загоняя испуганную рыбу в сети. Метров двадцать по реке дна не было видно, сплошняком шел подузд. В 97 году мы с сестрой прошли по этим местам. Мерзость и запустение.
Отвлекусь немного и расскажу, что помню, о сплаве. Все эти мелкие костромские реченки начинались с подземных источников, ключей. Собирались эти маленькие ручейки в маленькие речки. Поскольку рельеф был неоднородный, то эти реченки имели множество живописных поворотов, на которых образовывались вначале маленькие «бочажки», а потом и большие омута, в которых, собственно, и скапливалась, в относительной безопасности, рыба. В таком состоянии река охватывала большую территорию, создавая как замечательный ландшафт, так и благоприятный микроклимат. Когда, после войны для народного хозяйства потребовалось много древесины, а с доставкой, в силу неразвитости транспортной инфраструктуры, были проблемы, и было предложено сплавлять добытую за зиму древесину, в большинстве сосну и ель, по эти речкам. На Волге вязалась эта древесина в плоты, а дальше баржей до места. И вот представьте, как эти шестиметровые бревна в свободном и тесном плавании сплавляются по разлившейся, но все-таки живописно-кривой реке. На очередном повороте они застревают, образуя, так называемый, затор. Эти свободно плывущие бревна сопровождала бригада сплавщиков, сформированная из свободных людей, таких же свободных нравов. Многие были из мест заключения. Один раз я наблюдал, как эти бывшие зэки ели сырую щуку, случайно выпрыгнувшую на плот. Целью этих бригад и было сопровождение бревен, с тем, чтобы заторов не было. Разобрать эти заторы было искусство, заключающееся в том, чтобы найти узловое бревно, вытащив которое, можно было заставить затор продолжать движение до следующего поворота. Можно представить, какими словами сплавщики приветствовали образование очередного затора.
В конце пятидесятых годов в леспромхозах появилась серьезная техника, в том числе большие бульдозеры. Вот с помощью этих бульдозеров предприимчивые начальники, неграмотные в области экологии, предложили спрямлять реки. Что блестяще и сделали. Реки стали прямыми, бревна не застревали, омутов не стало, рыбы тоже. Кстати. Мой будущий друг детства, Женька Бурин, один раз принял участие в работе этой сплавной бригады. Поскольку он обладал замечательной природной сметкой, то взял с собой большую деревянную ложку и не прогадал. Поскольку бригада ела из одного котла, как правило, очень горячую пищу, то люди с металлическими ложками сильно проигрывали по производительности поедания таким сметливым, как Женька. Как-то раз он, возвратившись, говорил: «За моей ложкой очередь занимали». Естественно после того, как Женька насытившись, отваливался от котла. Вернемся в Заборье.
Рядом с конторой леспромхоза находилось небольшой кирпичное здание, принадлежащее раньше каким то состоятельным людям, в котором находилась сельская администрация. На втором этаже располагалась библиотека, любимое место. Тут было лучше, чем в Займище, и выбор богаче, и книг сразу давали не по одной. До настоящего времени храню книгу «Порт Артур», которую из-за ветхости списали, а я взял себе.
В полуподвале этого здания одно время жила семья Смирновых, переехавшая из упоминавшегося выше Борка. Семья была большая. Я подружился со своим ровесником Сашкой. Этот Сашка сильно любил подраться и очень хорошо ловил рыбу. Вся семья в честь дела носили кличку «Митрофанычи». Митрофаном звали их деда. Бывал я у них часто и в Борке.
Летом наша «вовочная» компания все время ходили в лес и поля собирать цветы. Любимыми были лесные фиалки, белые и фиолетовые, поэтому все лето в наших домах приятно пахло. Кстати, наверно поэтому, с тех пор покупка цветов для меня противоестественна.
За грибами, почему то ходили довольно редко. Помню, один раз мама как то укорила меня, говоря что соседский мальчишка, который пошел вместе с ними за грибами, много находил. Все время только и слышалось: «Мама, белый! Мама, серый!!» Серый, это местное название подберезовика. Это она его цитировала. Задело! Через день пошел с ними в лес. И специально орал на весь лес те же слова, что бы соседка слышала, только с большей частотой, чем заочный конкурент. Дома спросил мать, довольна ли она. Она была довольна.
За домом Догаткиных была колхозная рига, где во время страды производили обмолот тем же способом, что и в Займище, но я этого там почему то не видел. Мы мелкие ребятишки приспособились там играть в пристеночку. Это азартная игра на деньги. Водящий стучал своей монеткой в стенку, после чего она падала на землю. Остальные должны были бросать свою монетку в стенку так, чтобы после ее падения можно было растопыренными, как можно больше, пальцами достать монетку водящего. Если доставал, то монетка становилась его. Кто уж нас научил, не помню. Во многих кинофильмах про детство простых людей эта игра показана.
В то время Хрущев решил сделать цыган оседлыми, и в Заборье поселилось несколько цыганских семей. Запомнилась одна, поселившаяся неподалеку. Главой семьи был цыган, лет сорока. Звали его Ангар. Он очень хорошо плясал в своей малиновой рубахе, подпоясанной тонким пояском. Вместе с нами участвовал в самодеятельности, регулярно срывая бурные аплодисменты. Попытка Хрущева «оседлать» цыган закончилась почти тем же, чем попытка цыгана приучить лошадь работать без корма.
В Заборье было одно неприятное событие. Опять появился пьяный товарищ, который ломился к нам на Самсонове. Но тут дело было днем. Отец был недалеко. Вместе с мужиками его быстро связали и заперли в каком то сарае. Запомнил я это событие даже не из-за появления этого «товарища», а из-за реакции одной интеллигентки, которая полчаса причитала, что это не гуманно по отношению к несчастному. С тех пор у меня, наверно, предвзятое отношение к женскому уму.
С точки зрения выживания для нашей семьи это было самое тяжелое время. Вроде бы ничего особенного в Заборье не было, но то Заборье на всю жизнь в памяти осталось, как что то очень светлое, чистое и самое счастливое. У Догадкина Вовки, судя по книжкам, такое же впечатление, конечно, более глубокое.

Все было просто замечательно, пока Хрущев не объявил набор инициативных людей с производства, для руководства колхозами. Наборов было несколько. Отец попал в «десятитысячники». В отличие от Давыдова, он был родом из деревни, и в сельском хозяйстве что-то понимал. Первую четверть шестого класса я отучился в Заборье, вторую начал уже в Воскресенском.
Воскресенское
Переехали быстро, благо имущества практически не было. Отец уже работал в этом колхозе под названием «Рассвет» где то полгода. Как раз жареных налимов я ему и возил, потому что нам они не нравились, а он любил. Жил это время он не в этой квартирке, а у одной бабуси по фамилии Морозова. Нужно сказать что отец, невзирая на отсутствие образования, был хорошим организатором, менеджером, как сейчас говорят. Кроме этого отличался крутым нравом. А послали его в этот колхоз не зря. Все было разворовано. Стал наводить порядки в стиле своего нрава. Вольному «народу» не понравилось. На тайной сходке решили убить, чтобы не мешал жить. Один из организаторов этого мероприятия был как раз сын этой бабуси. Одним вечером они общались на эту тему, думая, что он спит, а он не спал и почти все слышал. На другой день поехал в милицию и попросил пистолет. Дали. Тогда было просто. Вскоре простой народ понял, что человек старается для них же, поэтому напряжение спало. Да вдобавок один раз, уходя на работу, отец забыл пистолет под подушкой, а бабуся, заправляя кровать, его обнаружила. По-родственному предупредила сына, что бы не шалили. Историю эту припомнил потому, что когда мы приехали, я на столе увидел кучку патронов с кругленькой головкой. Пистолет он сдал за ненадобностью еще до нашего переезда, а часть патронов случайно осталась. Откуда взялись патроны он рассказал где то лет через пять.
В Воскресенское довольно часто приезжали его родственники. Будучи начальником, он всегда мог как-то им помочь. Одним из родственников был его дядя, родной брат матери, Сергей Андреевич Пакин, приезжавший в родную деревню Поросель, где он купил старый дом своей сестры Марии. В этот дом они и приезжали всей семьей каждое лето.

Жили они в Москве, на Валовой, недалеко от Курского вокзала, почти на берегу Яузы, в старом Сталинском доме. Имели они там комнату в двухкомнатной квартире. И вот как-то во время очередного приезда, меня пригласили зимой в каникулы к ним в гости. Учился я тогда уже в девятом классе. До каникул было еще далеко, и все время проходило в планировании поездки. Ночи спал плохо. Вспоминались ранние разговоры взрослых еще в Займище, когда говорили, что Москва, это страшный город, где людей убивают, чтобы из них делать мыло. Мыло потом отвергли, как маловероятное, но то, что деньги украдут, знали точно. А где их хранить, чтобы не украли. Решили, что самое лучшее, сделать карман в трусах. Так и сделали. Теперь вопрос, в чем ехать. Зимнее пальто было, этот вопрос отпал. А ходить в чем? Зимних ботинок в деревнях тогда не было, потому как ходить по сугробам в них не очень удобно. Решили, что в Москве улицы грязные, поэтому надо ехать в валенках с галошами. Так и поехал. Деньги не украли, над галошами не смеялись. В этой квартире первый раз увидел «удобства». Спасибо, научили как пользоваться. В эту же поездку я заехал в Военторг (был тогда такой магазин в центре Москвы) и купил там галстук. А то пиджак есть, а галстука нет. К этому галстуку дали красивую бумажку, на которой были показаны девять способов его завязывания. Приехав домой, несколько дней разучивал эти способы. Разучил все.
Кстати о дяде Сереже. Он считал себя очень хорошим маляром. Скорее всего, так оно и было. Чтобы подчеркнуть для несведущих уровень своего мастерства, он регулярно вспоминал, как он делал ремонт квартиры самого Бонч-Бруевича. Того самого, управляющего делами Совнаркома. Можно сказать, главного завхоза революции.
Поездка полезная, кроме галстука узнал, что такое унитаз.
Так называемая воскресенская квартира, это была пристройка к колхозной пожарке. В эту пожарку был ход прямо из коридора квартирки. Там стояла одна красная пожарная машина, которую за все время жизни в Воскресенском ни разу не видел в деле, а потом появилась новая машина ГАЗ-51А. Последняя модель горьковского автозавода. Историю ее появления расскажу позже.
В отличие от Заборья, где работала местная электростанция, электричества в Воскресенском не было. Но отец при переезде срезал люстрочку с лампочкой из старой заборской квартиры и прибил эту конструкцию гвоздем к потолку посредине комнаты. Стало как у людей. Любил пыль в глаза пустить.
Школа в Воскресенском
Прямо рядом с домом была семилетняя школа, расположенная в двух небольших двухэтажных зданиях. Когда-то это была церковно-приходской школа. Шестой класс я учился в первом здании, ближайшем к церкви, в полуподвале.
Появляется новый ученик, да еще и сын председателя колхоза, поэтому всем пацанам хочется выглядеть красиво. Запомнился урок немецкого языка, который вел Иван Сергеевич Смирнов, странный, не от мира сего, человек, лет 35, не злой. Над ним, как могли, ученики подшучивали, если не сказать, издевались. У него была привычка входить в класс с высоко поднятой головой. Не от гордости, просто он в мыслях был далеко. Подходил к столу, бросал на стол журнал, не глядя выдвигал стул, и так же, не глядя, садился. Этим то народ и пользовался. На стул клали какую-нибудь гадость, в виде кнопки или еще что-нибудь, каждый раз придумывая что то новое. В мой первый урок немецкого языка стул намазали мелом. Но видимо, из-за моего присутствия, перестарались, намазали практически все сидение. Он заметил. Рассердился. Отбросил стул в сторону. Изменился в лице, покраснел, на подбородке образовались концентрические окружности. Обиделся, но ненадолго, привык. Где то через месяц, таким же образом, на стул подложили комочек хлорки. Он сидел на стуле весь урок, не чувствуя хлорки, хоть она и была влажная. Но на следующей перемене, когда пацаны увлеченно играли в уголки, предварительно выбив филенку из входной двери деревянной рейкой от карты, как копьем, в класс вбежал директор школы Пискунов. Как оказалось, он уехал потом в Заборье, где оставил о себе хорошую память. Как раз около него пробегал кто-то из пацанов, спеша занять освободившийся угол. После удачного пинка, произведенного директорской ногой, угол был найден быстро. Через секунду все стояли за партами, сам неудачник при этом потирал больную, после мидлкика, ногу. Ругались долго, но этим и ограничились. Основой упрек был тот, что штаны Ивана Сергеевича, скорее всего, испорчены окончательно. Надо ли говорить, что к директорскому пинку был добавлен свой, домашний. Человек Иван Сергеевич был хороший, но преподаватель плохой. Впечатления от его языка у меня было никакого. Математику вела молодая учительница, не запомнил ее имени-отчества, но вела прилично. Историю вел учитель но фамилии Успенский. Запомнился тем, что у него был сын Стаська, мой ровесник, и дочь Света, старше нас на год. Она была красивая, хорошо рисовала, но сильно заикалась. Влюбился в нее на следующий год, после того, как она нарисовала на снегу какую-то мордочку и сказала: «Фотоэтюд». Успенского вскоре назначили директором начальной школы в деревне Малое Березово, они уехали и любовь прошла. Географию и естествознание вела Евгения Борисовна Киндякова, дочь помещиков, владевших в свое время этой деревней. Они были еще живы, отец Борис Сергеевич и мать Анна Ивановна. Борис Сергеевич преподавал труд. На мой взгляд, преподавал хорошо. Делали то, что пригодится в хозяйстве. Ту же табуретку, много раз обсмеянную «Уральскими пельменями» совершенно незаслуженно, потому как при изготовлении табуретки используются почти все столярные приемы. Делали деревянные грабли, легкие и прочные. Освоили азы переплетного дела. Все помню до сих пор.
Надо ли говорить, что наши семьи должны были дружить. Об этом позже. Классы были маленькие. В шестом классе нас было семь человек, в седьмом трое. Преимуществ малых классов было несколько. Во-первых, ты был всегда на виду, особо не забалуешься. Но если проявишь любознательность, всегда найдется время объяснить. Было еще одно обстоятельство, для меня не последнее. Я один был из этой деревни, остальные были из деревень, находящихся от школы на расстоянии от километра до трех. Когда зимой были сильные морозы, они не приходили, и я тоже шел домой. Правда один раз математичка занималась со мной одним. Обманулись ожидания. Тогда про «оптимизацию» еще не слыхали. Мне сейчас трудно судить об уровне образования, который там давали, но когда я пришел в Островскую районную среднюю школу, мой уровень был не хуже. Продолжал читать, но колхозная библиотека была похуже Заборской.
Экзамены за седьмой класс сдавали, предварительно отрепетировав. Как я говорил, нас было трое, Лешка Волков, из деревни Гавшино, девочка, не помню ее фамилии и я. Мы с этой девочкой учились прилично, а Лешка плохо. Классный руководитель, как раз Успенский прочитав лекцию о взаимовыручке, рассадил нас так, чтобы Лешка был между нами с тем, что бы помощь была более действенна. Мы, естественно, так и сделали. Во время этой репетиции он принес билеты, чтобы просто показать, как они выглядят. Во время ознакомления, я заметил на одном билете маленькую чернильную точку. Номер его был тринадцать. Билет запомнил. Пришел домой, его выучил и решил, что больше не надо. Все дни до экзамена занимался рыбалкой. Прихожу на экзамен, подхожу к столу, ищу свой билет, вернее точку, а ее нет. Судорожно шевелю билеты, точки нет. Поднимаю глаза на комиссию и вижу, что именно этот билет держит член комиссии из района. Наверно, номер повлиял. На мое счастье она положила билет на стол, я его взял и получил пятерку.
Лешка, кстати, был хороший мальчишка, но умер очень рано. Как сказал его отец: «Водка травленая попалась». Вот такие нравы.
Развлечения
В Воскресенском я по-настоящему занялся грибами. За рекой и за перелеском было поле, называемое «копанью», на котором по-хорошему никогда ничего не росло. Но вот по кромкам этой копани, окруженной хорошим лесом, было много грибов, причем всяких. Как положено, вначале лисички, потом подберезовики (по местному «серые»), подосиновики (по местному «боровики»), а потом белые. В сентябре там же и чуть подальше ходили за волнушками. Ходили и в другие места, грибов всегда было много. Километрах в полутора от этой копани находилось, так называемое, «Сухое болото», где росла черника, голубика (по местному тоже гонуболь), морошка (по местному тоже «мухлак»).
В конце шестого класса случилась неприятность, у меня на правой руке выросли бородавки. Они были у многих ребятишек, но это успокаивало мало, т.к. некрасиво. Стали думать, как избавиться от них. Были предложения потихоньку выдавливать их с помощью нитки. Попробовали — не получилось. Трагедия. Тут случайно одна из соседок сказала, что такую мелочь запросто «заговаривает» одна женщина, живущая совсем недалеко от нас. Если не ошибаюсь, фамилия ее была Чернова. Муж у нее был колхозным пастухом, звался Иваном. Ростом велик, ликом черен. Носил длинный пастуший кнут, которым управлял колхозным стадом. Этим же кнутом, когда бывал пьян, а случалось это часто, иногда управлял и малышней. У «счастливцев» долго рубцы от кнута были видны. Меня он научил пользоваться кнутом. Боле того, под его руководством себе сделал тоже, правда не такой большой.
Когда мы с отцом, будучи на рыбалке в тех местах, где то в 97 году, случайно встретили местных пастухов, я взял кнут и решил вспомнить. Хозяин кнута предупредил, что сейчас я себе все «ляжки отобью». Когда я, раскрутив кнут над головой, произвел два хлопка, как выстрела, его удивлению не было предела. Примерно так же удивились венгерские пастухи, во время нашей поездки где-то в 1996 году, когда после их показа навыков работы с кнутом, я проделал не хуже. Так что научил воскресенский пастух хорошо. Вернемся к бородавкам.
Пришли мы с мамой к этой женщине. Она согласилась помочь. Разрезала картофелину, потерла место с бородавками, что-то пошептала. Все. Через полторы недели бородавок не стало. Вот тебе и материализм. А ведь это второй случай в моей, тогда коротенькой жизни. Очень жаль, что такие тетеньки сейчас перевелись, и, как говорила маменька Бальзаминова, самого нужного в хозяйстве человека, не найдешь, особенно сейчас, после «оптимизации».
Другое развлечение было то, что вскоре после нашего переезда, отец принес домой малокалиберную винтовку (ТОЗ-8) и две с половиной тысячи патронов. В районе сказали, что в колхозе надо организовывать ячейку ДОСААФ. Ячейка была сразу организована. Состояла она из одного члена, т.е. меня. Первое, что я сделал, это за несколько дней деревянный флюгер, в виде всадника на коне на соседнем доме, превратил в штырь. Это была безобидная стрельба. Другой мишенью был маленький колокол, висевший на колокольне действующей церкви. Большой колокол во время богоборчества разбили. Церковь находилась метрах в шестидесяти от нашего дома. Попадал практически всегда. Стрелял, когда была служба, и когда ее не было. Около церкви ходили люди, но видимо мой ангел-хранитель оберегал меня, поэтому никого не задел. С этой винтовкой ходил на тетеревов. Убил одного, стало жалко, плакал. Больше не ходил. Вообще, с винтовкой я, практически, не расставался. Наверно поэтому, к окончанию средней школы у меня правый глаз стал видеть хуже. Грешу на стрельбу.

Стрелковых случаев было много, но расскажу самый плохой. В школу приехал новый учитель, у которого было трое детей, две девчонки и мальчик старше меня года на два. Вот с этим мальчиком мы идем по крутому берегу старого русла Медозы и видим, что по другому берегу идет мать моего хорошего приятеля Гурова Гены. Мы с ним дружили, несмотря на приличную разницу в годах. Я у них бывал очень часто, а его мать ко мне изумительно хорошо относилась. Этот мальчик говорит, что она вчера пришла к ним в дом и нажаловалась матери на то, что он ругался матом. А матом он не ругался. Главная у них в доме была мать, которая его и выпорола. Обидно же. Я предложил «ябеду» немножко попугать. Она шла с противоположной стороны, прямо по самому бережку. Я беру винтовку и втыкаю пулю в воду, почти у ее ног. Вход пули в воду всегда сопровождается сильным хлопком. Так произошло и в этот раз. Она падает. Мы спускаемся к ней, обойдя «старицу». Она уже пришла в себя и спрашивает меня, за что я так поступил. Я объяснил. Она утверждала, что не жаловалась. Понимаю, что дурак. Но хуже она ко мне относиться не стала.
Когда Гена приехал в отпуск из армии, она заставила меня примерить его мундир, и все любовалась, как он мне идет.
Когда мы приехали, в церкви служил старый священник. Видимо от тягот сельской жизни и от сопереживания, спился. Его куда-то перевели. Вместо него приехал совсем молодой батюшка с матушкой. Бороды у него не было, почему то не росла, а волосы были длинные густые и черные. Веселый был человек. Как то вечером слышу частые выстрелы из ружья. Бегу к нему, и что я вижу. Полный вдохновения, батюшка усиленно палит по кресту, предлагая мне делать то же самое. Говорит, что подлые галки загадили весь крест. Галок было действительно много, но «снимать» их с креста я отказался. Галок стрелял много, но в других местах. Птица глупая, в отличие от сороки и вороны. С этим батюшкой мы стали друзьями. Он оказался заядлым рыболовом и вообще оригинальным человеком. Купил у отца колхозный мотоцикл (в магазине не было) и гонял на нем везде. Когда проколол камеру, но вместо того что бы заклеить, намотал внутрь покрышки веревку и так ездил.
Но самое интересное, что они с отцом придумали, это план по яйцам. Дело в том, что в колхозе была птицеферма, заведовал которой отец моего будущего приятеля Вовки Соловьева, и на нее спускался план. Но то ли от плохого питания, то ли от плохого настроения, план куры совместно с петухами не выполняли. Отец предложил попу во время проповедей агитировать старушек приносить в церковь сырые яйца. Агитация подействовала, яйца в конечном итоге попадали в колхозную птицеферму, и план стал выполняться. Когда районное партийное руководство узнало об этом маркетинговом ходе (доброхотов на Руси всегда было много), отец получил выговор по партийной линии. Жаль, что руководство батюшки тоже не оценило его оригинальности, и где то через год его куда то уехали. Вместо него приехал другой. Приехал на «москвиче 403» (это в то время!). Волосы черные, борода рыжая, рыбу ловил не удочками, а сетью. Мы не спелись и не сострелялись.
В Воскресенском текла все та же река Медоза. Рыбы было много. Вот тогда я и окончательно заразился рыбалкой. Рыбалка начиналась, как только сходил лед и текла большая и мутная вода. С целью приблизить это событие ходить на реку начинал в конце марта и начале апреля разбивать лед. Помогало слабо. Как только вода немножко спадала, но была еще очень мутной, пацаны и даже взрослые мужики выходили ловить наметом. Намет, это большой сачок, треугольного сечения, со стороной до полутора метров, закрепленный на шест, длиной метра четыре. Вообще, чем длиннее шест, тем лучше. Этот сачок на шесте отпускали на воду как можно дальше. Прижимали намет ко дну и вели к берегу, или отходя, или перебирая шест руками. Рыбалка всегда была удачной, потому, что рыбы было много. В седьмом классе зимой начал вязать намет себе, надоело просить у других. Вначале, когда носик маленький, прибывает быстро, а в конце было плохо, когда число ячеек достигало 350. Ячейка, это квадрат со стороной в один сантиметр. Представьте, сколько нужно времени, чтобы этот намет удлинился на этот самый сантиметр.
Как только вода светлела, выходил на ловлю поплавочной удочкой. Потом в июне пристрастился ловить щук на живца. До сих пор считаю, что это самый увлекательный вид. Ловля довольно простая. Удочка обычная, леска диаметром 0,6 мм, поплавок, это пробка от бутылки, крючок одинарный номер десять. Вначале ловятся пескари маленькой удочкой и помещаются в бидон с водой. Потом идешь к какому-нибудь маленькому омуточку, нанизываешь пескаря за губу, делаешь соответствующий спуск, закидываешь и смотришь, как поплавок мелко подрагивая, перемещается по воде. Наступает момент, когда поплавок секунду другую мелко вибрирует (это пескарь видит щуку), потом поплавок уходит под воду и начинается самое интересное. Сердце бьется часто, мелкая дрожь бьет и рыбака. Тут думать надо, потому что самое сложное, это выбор времени, когда надо подсекать. Крючок то в губе, а щука берет жертву за спину. Поплавок немного видно. Видно, как он идет в сторону. Остановился и начал подрагивать (это щука перехватывает живца, потому, как заглатывает она всегда с головы), опять поплавок пошел, опять остановился. Вот рыбак и думает, успела щука захватить голову или нет. Если успела, надо подсекать, если нет, дернешь впустую. Тут, кто кого. Был случай, когда вытащил щуренка, грамм на шестьсот, он не заглотил крючок, а так и держал пескаря за спину, пока не оказался на берегу. За жадность поплатился. Научил меня этой ловле как раз Саша «Митрофаныч». У них под Борком рыбы было еще больше, поэтому его ловля была еще проще. Один раз, во время моего приезда он продемонстрировал. Удочка была одна. На крючок нанизывался червяк и через минуту пескарь был в руках. С крючка снимались остатки червяка, а за губу нанизывался пескарь. Сашка подходил к первому омуточку или микрозаводи и забрасывал удочку. Считал до пяти. Если поклевки не было, переходил на другое место. На второй или третий раз следовала поклевка, и щука была в руках.
Как то один год отец запрудил плотину мельницы и образовался громадный верхний омут, в котором я освоил ловлю на жерлицы и перемет. Тогда же отец купил приличный спиннинг, но к нему я так и не пристрастился, наверно потому, что река была маленькая и возможности спиннинга там полностью не использовались, удочкой было проще и интересней. Семья ела свежую рыбу все лето в неограниченном количестве. Правда местные пожилые мужики говорили, что это не рыба. Вот до войны была рыба, это да. Оно и понятно, т.к. взрослым было не до рыбалки, а мальчишки были не в состоянии нанести большой урон рыбному населению.
В тот год, когда отец запрудил реку, один раз пошли мы с сынишкой директора школы Пискунова на эту рыбалку. Ему было лет семь. Поймали три пескаря, поставили жерлицы и пошли долавливать еще пескарей. Идем назад и я вижу, как моя жерлица бьется по воде. Подбежал и вижу, что громадная щука пытается утащить мою жерлицу. Минуты три я ее выводил, и вывел уже. Но берег был не пологий, а имел уступ, где то полметра. При вытаскивании ее через этот уступ, крючок разогнулся и моя щука, несмотря на все мои попытки ее удержать, скатилась в воду. Было в ней около десяти килограмм. Я заревел от огорчения, бросил все удочки и ушел домой. До сих пор эта картина перед глазами.
Чуть раньше по моей просьбе купили лобзик. Выпиливал года два. Были всякие рамочки для фотографий, всевозможные чаши, декоративные тарелки и прочее. Такого рода работа в молодости сильно способствует выработке терпения, усидчивости и прочих качеств, которые потом помогают в жизни.
Началу весенне-летней рыбалке предшествовали весенние каникулы. В сельской местности весенние каникулы начинались недели на две позднее, чем в городе. Объяснялось это тем, что сельская школа собирала ребятишек из нескольких близлежащих деревень. Добирались до школы все ребята собственным ходом. Как правило, школьные дороги пересекались или мелкими речонками, или оврагами. Весной эти реченки и овраги превращались в бурные потоки, и перейти их не было никакой возможности. Поэтому весенние каникулы ребята проводили дома. К концу каникул уже можно было ловить рыбу наметом. Тоже интересно.
Было еще одно «развлечение». Квартирка была хоть и маленькая, но холодная, поэтому к каждой зиме надо было запастись большим количеством дров. Привозил дрова отец, поскольку в силу малости и живого характера брать меня в лес на заготовку было опасно. Все остальное, а именно, перепилить длинные бревна на поленья, переколоть и уложить было на нашей с мамой совести. Пилили мы с мамой долго, поскольку пилить приходилось двуручной пилой. Клали с трудом бревно на козла и пилили. Когда силы нас покидали, я говорил: «Мама! Давай Дружбой!» Мы брали каждый ручки пилы своими двумя руками и начинали из последних сил быстро двигать пилу туда-сюда. В то время только-только появились у лесорубов мотопилы Дружба, которую мы и изображали. Переколоть и уложить была моя задача. В укладке мама иногда помогала, а колол всегда сам. Очень полезный навык для руки.
Уже будучи женатым, заехал в Воскресенское повспоминать, и заказал бывшему соседу, с дочкой которого мы в то время дрались, уже очень пожилому мужику маленькие лапти, как сувенир лапотных краев. Когда, недели через две приехал за заказом, в них щеголяла его внучка, отдавшая их только после больших уговоров. Живы лапти до сих пор.
Киндяковы
Когда мы приехали, Киндяковым старым было лет за семьдесят. У них был большой по деревенским меркам дом, построенный уже в советское время. Рядом стоял полуразвалившийся, дореволюционный. Судя по дому, это были очень, очень мелкопоместные дворяне. Несколько раз упоминали о своем довольно близком знакомстве с художником Кустодиевым, дача которого была приблизительно в десяти километрах. Как они сохранились, пережив все страшные времена, не знаю. Эта тема не обсуждалась, С моей стороны в силу молодости, а значит глупости, а с их стороны в силу старости, а значит мудрости. И наши родители части ходили к ним в гости, а я бывал у них очень часто, потому что у Евгении Борисовны был приемный сын и мы с ним подружились. В молодости Борис Сергеевич был, естественно, офицером. Сохранилась шпага, причем на ножнах был орден святой Анны. На чердаке лежало множество журналов. Запомнилась «Нива» и «Мурзилка». Как говорила Анна Ивановна, Носов «Незнайку», как героя, содрал с этого самого «Мурзилки». Анна Ивановна была очень хорошая хозяйка, воспитанная в старых традициях, и она очень многому научила маму. В то время мама не работала, и мы содержали много скотины: корова, поросенок, стадо овец, куры, гуси, индейки. Делалось это просто в силу крестьянской привычки к труду. Едоков было всего четверо, если не считать кошку и собаку. По-хорошему, ел один отец. Вот осенью большинство забивалось, а весной скармливали той же собаке. Когда Анна Ивановна увидела это безобразие, она вмешалась, и мы стали делать какие-то заготовки, так чтобы они не портились. До сих пор помню, как она

принесла инструментарий, которым они с мамой делали колбасу, и какая колбаса была вкусная. Кстати, тогда же стали варить варенье в настоящем медном тазике с ручкой, специально для этой цели сделанным. Его, естественно, принесла Анна Ивановна.
Дом у них стоял на крутом берегу, окнами на луг и реку. Зимой вот с этого крутого берега все местные мальчишки и катались на лыжах. Внизу на выходе с этой горки получалось что то, вроде трамплина. Отец купил новые лыжи. И я решил на них показать класс. Во время спуска на этом «трамплине» подпрыгнул, но видимо высоко. В результате чего тело оказалось почти горизонтальным, а лыжи, вертикальными. В таком виде они и вошли в снег. Сезон заканчивал на старых. Много было малозначительных деталей, которые оставили об этой семье очень хорошие воспоминания.
Весь день, и летний и зимний был заполнен очень плотно, несмотря на отсутствие каких либо официальных развлекательных мероприятий.
Отец
Это был человек оригинальный, с характером и замечательным практическим умом, при этом обладал большим трудолюбием. Жаль только, что он вырос и сформировался в то время и в той среде, которая явилась причиной наличия и больших недостатков характера, которые и не позволили ему реализоваться в полной мере. Он вырос в большой и бедной семье, где его отец уходил в отхожий промысел, но достатка в семью это его ремесло не приносило. Приезжая домой с промысла, занимался воспитанием, и в его понимании это означало наказания. В этих условиях образование отца закончилось во втором классе, после того, как он промахнулся из поджигалки в учительницу, которая, была к нему «несправедлива». Потом его забрали дальние родственники в Москву работать маляром. Там он и работал, пока не забрали в армию.
Из малярской, московской жизни он несколько раз рассказывал юмористический случай. Был у них, намного их старше, бригадир. За то, что он ко всем обращался со словом «Душенька», его так заглаза и звали. На улице Солянка была пивная, куда они всей бригадой ходили. Сценарий всегда был один и тот же. Они с напарником подходили к столику, за которым стояла какая-то будущая жертва. Он говорил напарнику: «А что, душенька, выпью я сейчас двенадцать кружек пива, не касаясь руками?» Будущая жертва, конечно, не верила. Тогда он говорил не верящему: «А что, душенька. Спорим. Если не выпью, то я тебе ставлю. Если выпью, то ты всю бригаду угощаешь». Уверенный в своей правоте, не верящий спорил, и всегда проигрывал на радость бригаде.
Как одного из лучших лыжников части, его добровольно отправили на войну с финнами. О войне он не распространялся. Подтвердил только, что кукушки (женщины-снайперы на деревьях) на самом деле были. А что касается бытовых условий говорил, что за все время войны, а он был там от начала до конца, «ни разу не брался за ручку какой-нибудь двери». Ночевали всегда в снегу и, как не странно, никто ни разу не заболел.
Про Отечественную вообще ничего не рассказывал. Ранен был три раза. Когда пришел по демобилизации, то сразу отчудил. Пошел на «беседу». Пошел не один, а с пистолетом «вальтер», трофеем. По старой традиции с кем-то повздорил. Устроил стрельбу, к счастью, без жертв. На другой день к нему пришел участковый (народная почта сработала) и сказал: «Геннадий! Я же тебя знаю. Ты ведь все равно кого-нибудь застрелишь. Отдай пистолет!» Убедил. Пистолет пришлось отдать. Когда он пришел с войны, было ему всего 25 лет. Несмотря на практически отсутствие образования, отец обладал замечательным практическим умом. Благодаря только трудолюбию, этому уму и характеру за какие-то два года он поднял колхоз. Принял он колхоз у некоего Смирнова, замечательного тем, что был сильно рыж, имел таких же рыжих детей и часто повторял ругательство, когда был кем-то недоволен «Заход паршивый!» Кто такой заход, не знаю.

Отец тогда построил новый животноводческий в котором доярки и свинарки ходили в белых халатах, это в пятидесятые то годы. Строила этот комплекс приезжая бригада. Тес пилили пилами, по технологии, слегка показанной в фильме о Петре первом, когда он строил свой флот. Комплекс в то время так и называли «Пакинским». Навел порядок, и народ в него поверил. К сожалению, его природные недостатки, а именно прямолинейный и бесхитростный характер не позволили проработать в колхозе так долго, как он хотел. Работал очень много, мы его почти не видели, т.к. он уходил когда мы спали, а приходил, когда мы опять спали.
Теперь о «плюсах» характера. Где-то в 57 году проходило бюро райкома, на котором в числе выступающих был и отец. На этом бюро присутствовал некто Флорентьев, бывший в то время первым секретарем обкома партии Костромской области. (Он вскоре стал министром сельского хозяйства РСФСР). Во время выступления этот Флорентьев постоянно перебивал докладчика и в конечном итоге сказал, что приедет в колхоз и научит отца работать. На что отец ответил: «Где Пакин был, Вам там делать нечего!». Эту фразу Флорентьев проглотил, но ровно через неделю, не предупреждая райкомовских, приехал прямо в колхоз и жил у нас несколько дней. Уезжая, сказал, что отец был прав. Скорее всего, он помогал отцу строить животноводческий комплекс. После этого лучшая техника приходила в первую очередь к нему. Так и появилась новенькая ГАЗ-51А, стоящая в пожарном гараже, а потом и ГАЗ-69А (первый настоящий советский «джип»), предмет зависти многих. Жалел машины отец, поэтому ездил я на них тайком от него, рискуя подставить шоферов.
Помню, как он переживал, что у него нет живота. У всех начальников есть, а у него нет. В его представлении начальник должен обладать признаком солидности, коим и является живот. Живот и не мог появиться, потому что режим, когда вставать в четыре часа утра и ложиться заполночь, вряд ли этому способствовал. Да еще и принимать близко к сердцу все гадости, которых было множество в колхозной жизни, тоже плохо способствовало увеличению талии. Живот появился, когда он ушел из начальников. Как я уже говорил, образование у него было два класса, но он не выбивался из своего круга. Сказать в нужное время «да, уж» помогало, а умение определить, когда нужно это сказать дала ему природа.
Независимый характер привел к тому, что его исключили из партии, правда, потом восстановили, а секретаря райкома, отца будущих моих друзей, инициировавшего это мероприятие, сняли.
Когда ему навязали секретарем парторганизации колхоза подлого человека он ушел с этой работы, хотя планировал там жить всегда. Его ценили. В этот сложный, в психологическом плане, период, нашелся человек, подставивший ему плечо. Это был председатель колхоза «Русь Советская», Старостин. Он взял его к себе в колхоз заместителем, причем зарплату между ними уравнял, отдавая ему свой излишек.
Отношения у нас были сложные. Может от того, что он не мог забыть своего первенца, да и занят он был всегда. Общего языка у нас не было никогда. Но, как всегда говорила мудрая мать, он вас любит. Просто он такой. У него тоже не было нормального общения со своим отцом. В том, что он любит, мы могли убедиться неоднократно. Простой пример. Когда после школы нас сагитировали поступать в военные училища, отец, не предупредив меня, поехал в ракетное училище, в город Серпухов, куда я должен был поступать, чтобы узнать, что это такое. Протолкался у ворот, поговорил с курсантами, узнал что надо и, приехав, сказал, что поступать можно. Живя в голодные послевоенные годы, мы не знали, что это такое.


Один раз он показал, как нужно быть наблюдательным. Было это в Островском. Мы с ним шли с огорода в дом. Проходили мимо входа во двор, там было скользко. Он шел первым и прошел, а я поскользнулся и упал. В не очень мягкой форме он прокомментировал мое падение и сказал, что увидел след поскользнувшейся курицы и принял меры к осторожности. Учись на чужих ошибках. Хотя сам до старости так и не научился за лестью узнавать подлых людей. Был доверчив, чем и я страдаю, как и сын Олег.
Имел своеобразный юмор. Как пример. В Воскресенском жила одна женщина, страшная любительница поговорить. Отвязаться от нее было невозможно. Один раз она идет навстречу отцу с полными ведрами воды на коромысле. Отец был без ведер, и решил этим воспользоваться, чтобы вылечить ее от болтливости. Когда она подошла, он решил с ней поговорить, у него-то полных ведер на плечах нет. Эксперимент продолжался более получаса. Все равно первым сдался он. Придя домой сказал, что она только коромысло с плеча на плечо переносила. Излечить ее от болтовни ему не удалось.
Уже после ухода из колхоза его назначили директором вновь образуемой Машиномелиоративной станции. Дело в том, что в 62 году Хрущев к ленинскому лозунгу «Социализм, это советская власть плюс электрификация всей страны» добавил еще и химизацию сельского хозяйства. К химизации еще прилагалась мелиорация. Вообще то, мелиорация подразумевает улучшение, но тогда под улучшением понимали осушение, как правило, торфяных болот. Тогда все делали с размахом. В эту, вновь созданную, организацию была прислана новейшая по тем временам техника, новые бульдозеры, экскаваторы, автомобили, трактора Беларусь. И все это совершенно другого качества. И вот в 63 году на праздник Первомая отец предложил пройти этой колонне новой техники перед праздничной колонной. Это произвело большое впечатление на демонстрантов. Как видно, у него были еще и задатки PR-менеджера. Впереди этой колонны ехали со знаменами на двух мотоциклах один водитель на Иже и я на Урале. Строй я держал плохо, за что получил от отца потом множество замечаний.
К сожалению, эта замечательная идея, не подкрепленная соответствующими экономическими рычагами, при многом хорошем, привела к тому, что на берегах многих водоемов образовались терриконы из минеральных удобрений, уменьшающихся весной естественным образом, осушались большие сухие болота, а мелкие, требующие как раз осушения, оставались нетронутыми.
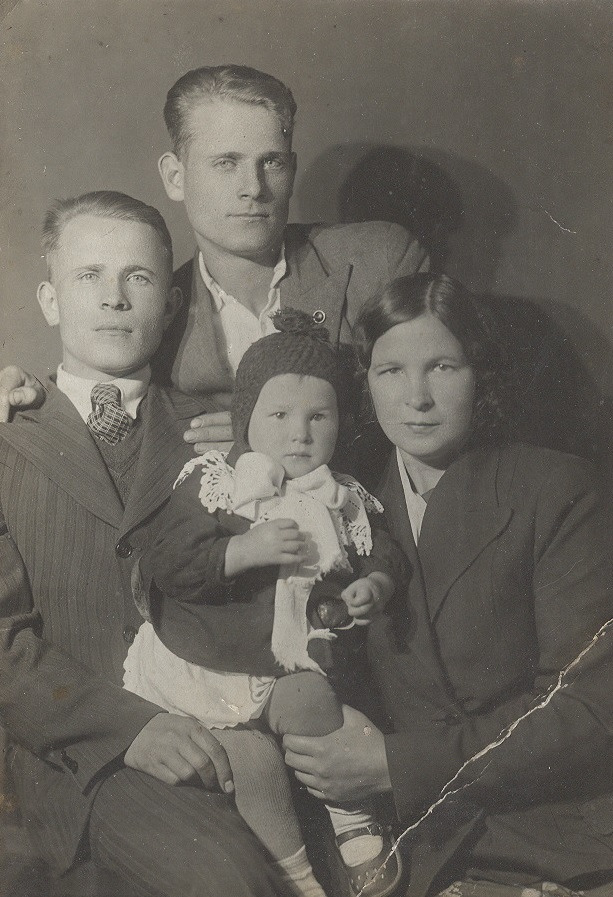

Кстати в то время Островский район специализировался на выращивания льна. Его колхоз, называвшийся «Рассвет», тоже специализировался на льне. Школьников часто посылали на прополку, но это мало что давало. Когда появились гербициды, и сорняков не стало, лен вырастал по пояс. Отец рассказывал, как он ложился в льняное поле и любовался, как над ним колышутся голубые цветочки льна. В рамках реализации этой технологии в Островском работал льнозавод, который из высушенного льна и делал волокна. Как отходы производства, были целые терриконы из внутренней части льняного волокна, называемого трестой. Учитывая, что земли Островского района, это в основном довольно тяжелые суглинки, эта самая треста, вывезенная на поля, могла бы сильно их облегчить, да и органикой подкормить. Но эти терриконы гнили годами без использования. Мало было руководителей, которые читали академика Вильямса. Даже к себе на огород отец отказался привезти торф, который сильно бы облегчил как весенние, так и осенние работы, да и урожайность бы поднял.
К сожалению, и в то время идеологическая тупая составляющая и желание сохранить свой пост мешало провести это мероприятие с пользой для региона. Я этого не видел, а вот Городков Александр Николаевич, будучи хоть маленьким, но руководителем, насмотрелся этого. Людей, таких как отец, которые могли резать правду-матку, при этом давать результат, было не очень много.
Жаль, что отсутствие образования не дали ему реализоваться в полной мере. Как бы сейчас сказали — «талантливый менеджер». Как то недавно я подумал, сколько же лет ему в то время было. С большим удивлением обнаружил, что ему всего было каких-то тридцать семь лет. Как же трудное время заставляет рано взрослеть.
Жизнь он знал хорошо. Когда уже в Островском, разбирая какой-то школьный конфликт, я много возмущался, говоря о несправедливости к какому-то школьному товарищу, он сказал: «Ой, Юрка! Тяжело тебе будет жить с твоей справедливостью». Не ошибся.
Драчливый характер сохранил до конца жизни. Запомнился один эпизод. Мы с ним и сыном Романом постоянно ездили на рыбалку на Половчиновское озеро. Он это озеро хорошо знал с детства, т. к. находилось оно примерно на половине пути между Займищем и Порослем. Один раз мы задержались на рыбалке и отец предложил не ехать домой, а ночевать в одном оставшемся в Половчинове, доме. Половчиново, это деревня, когда то стоявшая на берегу озера, собственно, и давшая ему название. Ну, оставаться, так оставаться. Приходим в этот дом, а там на ночлег уже расположился мужичок, примерно одних лет с отцом. Этот мужичок каждое лето приезжал из Иванова, и ловил крупных окуней в самом глубоком месте озера. Он был родом из этих мест. Входим мы в этот дом, и начинается примерно такой разговор.
Отец: Здравствуй, Вася! Мы тут вот немножко припозднились. Мы тут вот на полу приляжем.
Вася: Нечего тут вам делать. Это только мне Валентина разрешила тут жить. (Валентина, это хозяйка)
Отец (обескуражено): Да что ты, Вася. Мы же тебе не помешаем. Давай выпьем понемножку.
Вася (грубо): Нечего вам тут делать.
Отец (уже раздраженно): Вася! Ты кончи!
Вася (опять грубо): Это только мне Валентина разрешила!
Отец (раздраженно): Последний раз говорю! Кончи!
Вася: Нечего вам тут делать!
Отец: А-а-а, б..дь!!! Забыли, как я тут вас гонял!!! (Это про молодость)
С этими словами подбежал к оппоненту, и тремя ударами переубедил. После чего предложил повторно выпить и больше не скандалить. Вася, на всякий случай, согласился. Так мы и переночевали, можно сказать, спокойно.
Недели через две, когда у Ивановского гостя спросили, как рыбалка. Он сказал, что окунь клевал плохо, да еще Пакин морду набил.
Кроме драчливости, он сохранил в себе кое-что другое. Когда в 65 году я ему сказал, что мы с Лариской ездили на Скомороховское озеро, он оживился и спросил: «Ну, ты как?» Я ему ответил: «Как ты мог подумать?» Ответ был аналогичен фразе Барбоса, который будучи в гостях у Шарика, сказал, что у него в холодильнике колбаса бы не лежала. Отец сказал, задумчиво глядя в сторону: «Я бы не упустил!»
Сейчас сильно жалею, что у меня не хватило ума понять то, что поняла мать. Он жил для нас.
Переезд в Островское
Время текло, дело шло к окончанию семилетки, и надо было учиться дальше. Отцу работа нравилась. Люди, когда поняли, что ругается и требует не для себя, его приняли. Колхоз через два года его руководства всегда был в передовиках. Поэтому, уезжать из деревни он не хотел. А поскольку мне надо учиться в Островском, до которого 15 километров, решил построить там дом. Для чего в деревне Волчье, купил дореволюционный еще дом, подрубил три венца и перевез его в Островское только для того, что бы я в нем на время учебы жил вместе с Кокой. Если доучусь и куда-нибудь уеду, на дом наплевать. Как дом строили и где, я даже не видел. Привез меня отец в восьмой класс, договорившись пожить у каких-то его знакомых. Одел он тогда меня хорошо. Ботинки новые, опять же штаны. Но самое главное, был куплен (уж не знаю где) меланжевый пиджак, серый в мелкую разноцветную крапинку. Как потом выяснилось, этот пиджак запомнили многие одноклассники. С тех пор люблю такие пиджаки. Жил я у его знакомых, где то месяц. Помню, что было и холодно и не очень сытно. Не очень они были доброжелательные. Отец понял и перевел меня в интернат, стоящий прямо на въезде в Островское. Ничего хорошего о жизни в этом помещении сказать не могу. Хорошо, что в конце концов, интернат переехал в другое помещение за рекой, рядом с начальной школой. Там я и прожил целый год. К интернату еще вернемся.
Главное, первые впечатления о школе. Тогда проблем с демографией не было, и набралось два восьмых класса. Школа представляла собой двухэтажное, кирпичное внизу и деревянное наверху, здание еще дореволюционной постройки. Чистое и аккуратное.

В то время в Островском улицы еще не освещались. Освещение провели, когда поселок подключили, в том числе и с нашим участием, к центральной энергосистеме. Кроме отсутствия освещения отсутствовал и асфальт, поэтому вечером, особенно весной и осенью, пройти, не испачкав ботинки и штаны, было невозможно. Взрослые старались добраться домой до темноты, а мальчишки пользовались фонариками. Это был самый модный и нужный предмет. Фонарики были у всех, поэтому сразу установилось негласное соревнование, у кого лучше. Самые распространенные были обычные советские плоские фонарики, но они котировались слабо, т.к. светили недалеко, и не так ярко. Лучшими были китайские. Они были на круглых батарейках, имели хороший отражатель, лампочку с хорошо центрированным волоском, что позволяло сделать из фонарика микропрожектор, светящий далеко. У меня такого не было. У друга Женьки был.

Переехали мы в новый дом после окончания девятого класса. Сам переезд в памяти не остался. Остались в памяти трудности освоения нового жилья. Место, на котором разместился наш участок, раньше был дорогой, поэтому земля там была, как камень. Отец решил заложить большой сад. Поехал в Костромской питомник и привез оттуда, как помню, 24 деревца. Перед тем как это проделать, он предложил мне выкопать ровно столько квадратных ям шириной и глубиной в метр. Что я и сделал. Пригодился опыт копки ям, при проведении школьной практики, когда мы ставили электрические столбы в выкопанные самими ямы. Скорее всего, эти же ямы на двадцать лет отбили охоту заниматься огородничеством. Было посажено около двадцати яблонь, сливы, две невежинских рябины, вишни. Часть яблонь не выдержала морозов. Особенно жалко было яблоню китайка медовая. Яблоки были желтые, полупрозрачные и очень сладкие. Остальных не было жалко, поскольку с ростом они затеняли огород, а без огорода и цветника мать жизни не мыслила. Да и участок оказался меньше отведенного по старинной русской традиции. Поскольку отец стал строиться после соседей, оказалось, что и тот и другой прихватили землю, каждый со своей стороны. Потом это испортило отношения.
В этом доме опять напомнила о себе винтовка. По приходу в класс меня взяли в сборную школы по стрельбе. С целью совершенствования навыков дали и винтовку. Тогда и в районном центре с этим было просто.
Один раз послала меня мать за водой. Выхожу и вижу, что метрах в шести у забора сидит чей то нахальный кот. Прихожу с водой, он опять сидит. Сходил еще раз, он опять не уходит. Взял винтовку и решил его попугать. Выстрелил ему под ноги. Кот подпрыгнул выше метра и моментально скрылся. Я тоже скрылся к своему другу Женьке, сразу забыв про кота. Прихожу с гулянки, а мать ругается, зачем я убил соседского кота. Ей сосед выговорил, что мы убиваем котов и кидаем к нему на участок. Оказалось, что пуля срикошетила от земли, и бедный нахальный кот умер на соседнем участке.
Второй случай почти такой же. У нас была кошка. К ней, естественно, ходили коты. Они же, естественно, орали. Все это происходило на чердаке. Один раз у меня лопнуло терпение и я, взяв винтовку, полез на чердак. Они разбежались. Я выстрелил, но не попал. Как оказалось, это я в кота не попал. А попал в окно соседского дома. Пуля, пробив наружное стекло, застряла на втором. Пуля замедлилась фронтоном дома, который она пробила. Опять ангел-хранитель.

Самое главное, когда родители переехали, это закончились интернаты и прочее бомжевание, походы каждую субботу и понедельник в Воскресенское и обратно. Школа стала рядом.

Знакомство с классом
Перекличка. Восьмой А направо, шагом марш в класс номер такой то, на второй этаж. Зашли, расселись. Со мной за партой оказался симпатичный здоровяк, с виду очень хмурый. Начинается перекличка. На букву «П» я оказался один. Дошли до буквы С. Классный руководитель, Гумилина Елена Ивановна (жена Лехи партизана), говорит, читая по журналу: «Соловьев Владимир». Встают двое, один из них мой сосед. После минуты легкого смеха и соответствующих шуток, стали разбираться глубже. Дошли до отчества. Оказалось, один из них Алексеевич, он стал Соловьевым первым, а мой сосед оказался Иванычем, и стал Соловьевым вторым. Но самое главное, на всю жизнь для всех остался «Иванычем». Потом из двух классов путем естественного отбора и в силу ряда причин, образовался один сводный, поэтому вспомнить, кто был во время первого набора, уже не получится. Из ребят еще запомнился, кроме Соловьевых, Серега Ляпунов, Сашка Лобанов, Лешка Беляев, Сашка Мазин, Валька Барышев. Из девчонок хорошо помню Нину Кумбашеву, Галю Гурову, Элечку Мазину, Таню Добрину, Ларису Смирнову (настоящая русская красавица, но, как и положено русской красавице, с несчастной судьбой), Алю Доброхотову. Вот на май поеду к Иванычу, еще вспомним. (Съездил, Иваныч делает вид, что ничего не помнит). Общее впечатление было хорошее. Практически все ребята красивые, доброжелательные, простые. Как потом выяснилось, девчонки, двумя классами младше, ходили специально на нас «любоваться». Немного выбивался Лешка Беляев, косил под блатного, но это было чисто возрастное, как потом выяснилось. Уровень подготовки, за редким исключением, был хорошим. В девятом классе девчонки стали из нас делать кавалеров. Принесли откуда-то патефон и стали нас учить танцевать. Особенно старалась Лариса Смирнова. Она к тому времени уже полностью сложилась. Ходила в деревне на все праздничные мероприятия. Научили довольно сносно. В то время мы уже умели танцевать вальс. Сейчас, когда молодежь видит танцующих вальс, это вызывает уважение и удивление. Да и как не вызывать, если сегодня даже в городе никто не умеет танцевать, так называемые, бальные танцы, а просто дергаются под какофонию. За исключением тех, кто занимается в хореографических ансамблях.

Наше взросление совпало с появлением, так называемых, стиляг. Мы тоже слегка подверглись их влиянию, несмотря на эту безобразную моду. Да и чего хорошего, когда короткие и узкие брюки безобразят даже хорошую фигуру, а про прическу, так называемый, «хок», и говорить не хочется. Некоторые так зауживали брюки, что приходилось одевать и снимать с мылом. У друга Женьки ширина брюк внизу было 16 см. Самый лучший «хок» был у Сереги Ляпунова.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.