
К несчастью для нашей родины, что имела сынов, прославившихся заслугами, храбрых, мудрых, способных, склонных к наукам, — нам не оставлено хроник об их достоинствах, и погибли те и другие бесповоротно.
Инка Гарсиласо де ла Вега
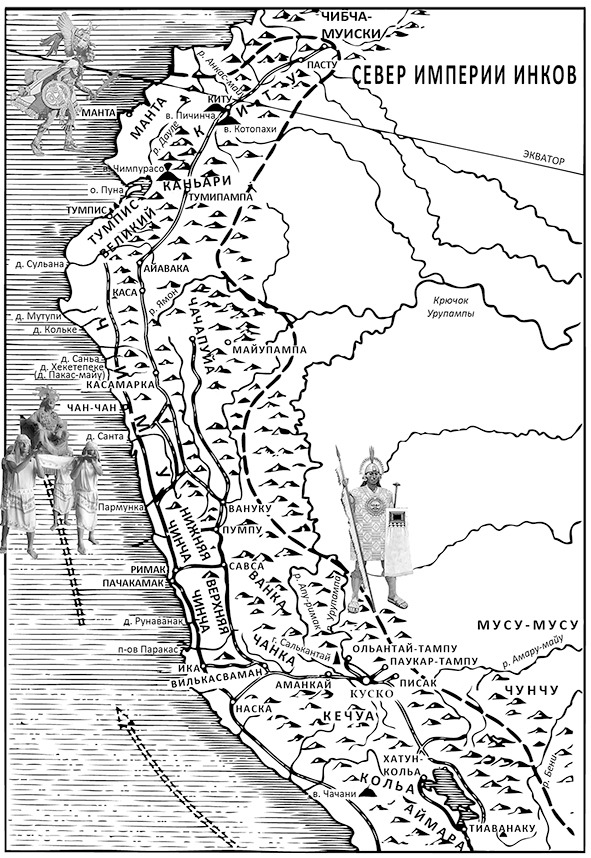
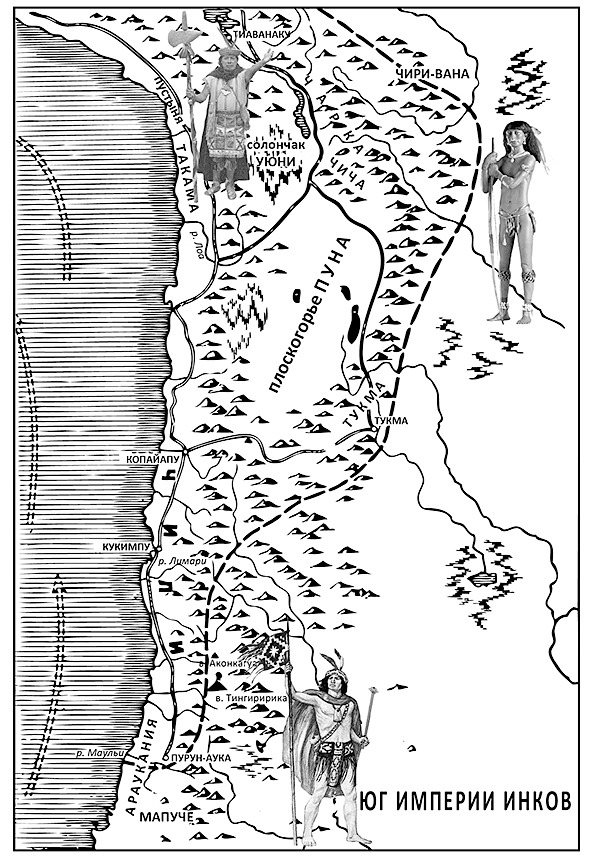
Действующие лица
Тýпак Инка Йупáнки, Набольший, Ясный День, Благодетель и Светоч, пр. — верховный правитель Четырёх Сторон Света
Йýки — общинник (пýрех) из племени пóкес
Уайна Кáпак, он же Божественный — первенец Тýпак Инки Йупанки от Мамы Óкльо, императрицы
Мама Вáко, пальа — бывшая императрица-супруга, дочь Титу Йáвара
Апу Кáмак Инка — первенец Тýпак Инки Йупанки от Мамы Вáко, наместник Западной Стороны Света, претендент
Пача Кýтек Инка — бывший верховный правитель, родоначальник правящих инков, дед Уайна Кáпака, ныне дух
Титу Йáвар Инка, наместник Востока — идеолог старых родов — «косоплётов», «косоплетущих», старший в роду айльу-панáка
Рау-Áнка Инка — идеолог древних родов — «гривастых», старший в роду раурáу-панака
Ольáнтай — инка-самозванец, правитель горских народов áнти, великий полководец
Има-сýмак, ньуста — внучка Пача Кýтека и племянница Тýпак Инки Йупанки, дочь Ольáнтая
Има-сýмак — дикарка из страны Мусу-Мýсу, любовница многих
Вáрак — инка-по-милости, самоотверженный, телохранитель Тýпак Инки Йупанки
Синчи-рýка, инка — инка-бастард, сын Пача Кýтека от наложницы, военачальник
Рока-кáнут — праведник, гений узелкового письма-кипу
Кóхиль — дипломат и великий батáб (лорд) Тумписа Великого
Тýмпальа Первый, он же Синекровый, Векоизвечный и пр. — царь (халач-виник) дряхлеющего государства Тумпис Великий со столицей на острове Пуна
Ши́ри, он же Сейбоподобный, пр. — царь горного агрессивного царства Киту
Тéва, он же Изумрудноблестящий, пр. — король торгово-менного государства Мáнта Великая
Минчансамáн, он же Луннорождённый, Носоукрашенный, Чи́мор Великий, пр. — царь царей (кич кичей) прибрежной империи Чиму
Ханко-вáльу — вождь чанков, некогда инкских соперников за гегемонию в Андах
Халь — вождь каньаров, вассал Тýпак Инки Йупанки
Чáвча — поэт, музыкант, певец
Мамáни Инка — инка древнего рода апу-мáйта, военачальник
Также другие цари, вельможи, инки, общинники, духи и привидения.
Книга первая
Великий Погонщик
Эти народы были как стадо без пастуха, наивны и неразумны.
Инка Гарсиласо де ла Вега
О событиях, приключившихся после гибели основателя грозной инкской державы, что отбыл в вечность, препоручив трон сыну Тупак Йупанки, кой в ходе многих войн подчинил себе Анды и мириады разных владений, стран и народов, там проживавших. Инкские рати жгло солнце Киту, нежил бриз Чили, гробили страшные амазонские заросли и морозила Пуна. В том числе, зрел мятеж инкских кланов и бунт вассалов
ГЛАВА ПЕРВАЯ
рассказавшая, как в страну Мусу-Мусу, жившую скотски и развращённо, хлынуло благо и отец Чавчи сделался богом…
После того как инкский властитель, вздумавши, что в стране Мусу-Мýсу (юг Амазонки) маются варварством и желают развития, снарядил туда армию, у трясин той страны под моросью замелькали вдруг тени. Красная жаба, звать Уху-Уху, в страхе нырнула. Тени притихнули по командному хрипу:
— Тут Уху-Уху, муж Маморé! Ищите!
Кто-то, ступив в топь, начал тонуть визжа, но, зашикан другими, быстро смирился и молча сгинул, сунув прядь длинных, чёрных волос своих в рот, чтоб смолкнуть. Лес успокоился, и, расслабившись, жаба выплыла… Вопль потряс омертвелую заунывную дрёму пасмурных зарослей; тени сгрудились; полонённого Уху-Уху вынесли к хижинам, — привязать к шесту на поляне… С громом на джунгли свергнулся ливень. Тени исчезли.
Сумрак сгустился. Ливень, иссякнув, вызвездил небо. Жаба скакнула — петелька, обвивавшая лапу, не отпускала… Вышла луна, багровая, в жёлтых пятнах, как Уху-Уху. Рыкнули пумы; вскрикнули птицы; хор земноводных истово грянул, полня окрестность.
Стукнули бубны… Вскоре близ хижин сталась орава голых индейцев, зверогловых, каждый при факеле. Вёл их старец в вычурной мантии, связанной из кишевших жаб, и в большой жабьей маске; это был вождь. С подскоками племя начало буйствовать у шеста с Уху-Уху. Вождь скакал за грудастой дикаркой в шлеме москита. Бубны стучали, темп убыстрялся. Пляски сменились яростным воплем; старец накинулся на «Москита», чтобы поить его дынной водкой. Прочие тоже пили и пели:
Ты, Уху-Уху, муж Маморé, —
царь влаги!
Слушай, что нужно,
нам, детям леса!
Дом в воде,
илльи!
След в воде,
илльи!
Мошек не кушай,
илльи!
Слизней не кушай,
илльи!
Пей ливни, илльи!
Пей ливни, илльи!
Пока одурманенного «Москита» жарили, вождь, камлая, приплясывал да мотал своей мантией, так что жабы с неё срывались.
Съев человечину, дикари подытожили, что и впредь будут кушать «мошек-москитов, слизней-улиток за Уху-Уху», «лишь бы пил ливни!», и, ковыряя в зубах, вразвалочку, скрылись в хижинах. Из двоих задержавшихся возле съеденной, у костей то бишь, он снял шлем муравьеда, спутница — мармозетки-игрýнки; и под луной потекла беседа.
— Ты, с твоей нежной бархатной плотью, можешь быть мне женою? — тихо спросил он и прикоснулся к груди её.
— Муравьед Жапорé! — И она подала ему, сняв с себя, травяной поясок с сучками.
Он считал: — Пять по пять… Двое были с тобой; всё? Этого мало! Значит, не можешь быть мне женою.
Дева журчала (сладок был голос): — Очень люблю тебя! В нашем маленьком племени пять по пять взрослых воинов. Я нашла в чаще пришлых, их было трое. Двух не хватает, чтобы тебе стать мужем, мне стать женой твоей. Ты прекрасный живой муравьед, ох-илльи!
Он ей советовал: — Ты, прекрасная дева-женщина, ляг иди с Урурá. Давай! Недостанет сучка всего! Старики-муравьеды, может, смирятся и нас поженят.
— Ох, Урурá не дорос ещё… — Она тронула плоть его. — Твоя крепкая плоть прекрасна!
— Ты к суарá иди, к злому племени, за сучками.
— Ох, я боюсь, боюсь! Суарá моей кровью жажду свою утолив, съедят меня.
— Дева-женщина, мной не взятая и со мной не пылавшая! — ворошил он угли костра. — Иди давай за сучками! Или не хочешь быть мне женою?
— Очень хочу!
Со вздохами он влез в хижину, а она, опоясавшись, оттого что не замужем, влезла следом… Утрело; и она воскликнула:
— Урурá был со мною — маленький муравьед! Повешу на пояс ещё сучок!
Скрипнул голос вождя: — Молодушка, не хватает сучка всего, дабы стать женой Жапорé. Добавь сучок! Ибо так будет правильно. Ибо так я велю тебе — вождь чад Матери-Маморé. Молодушка, ты иди к суарá. Иди!
Распущенность пышным цветом цвела в стране Мусу-Мýсу, в коей невесты «были дурными, сколько желают; порченным отдавалось в замужестве первенство, — так, как будто быть хуже мнилось там честью и добродетелью».
Много лун низвергалась вода с небес, и над вздувшейся Маморé-рекой вяло ползал туман. Все кашляли и чихали. От Уху-Уху (или, научно, bufo marinus), пойманной жабы, не поспевавшей глотать дожди, отгоняли всю живность, чтоб поглощала только лишь влагу.
Милая Жапорé, — с сучками на пояске её, — к суарá не пошла: те прибыли сами, с женщинами, с детьми, с имуществом. Мýсу, им уступавшие по количеству воинов, разыграли сердечность гостеприимства. Двигая щепками по углам верхних губ, пришедшие хмуро вторили, указуя на чащи: «Инкапаруна!» Мýсу, пронзавшие уши жабьими лапками, потрясали дубинками, притворяясь, что поняли. Спины тех и других сёк ливень. Вождь суарá взял лидера мýсу зá руку и направил к носилкам, где средь иных голов выделялась особая: стриженая, ушастая. Мухи роем взлетели; в мёртвом глазу фантомами стыли горы, пёстрые толпы, каменные чертоги… Старый вождь мýсу вскрикнул от страха.
— Инкапаруна, — вёл суарá, — оттуда, где на хребтах спит солнце в шкурах из снега. Инкапаруна нам говорили: плохо живёте, мы вас научим, как жить не плохо. И нас учили. Мы не хотели. Инкапаруна нас убивали, вас убьют.
— Уху-Уху ест мошек, — скрипнул вождь-Жаба. — Мошки — врагов едят. Мýсу что, слабей мошек? Нет, мы сильней.
— Запомните, что взойдёт солнце раз, взойдёт солнце два — придут к вам инкапаруна, — вёл суарá. — Придя к вам, будут учить вас, как жить не плохо.
— Ох! — прокричала милая Жапорé из чащи. — Здесь суарá со мной! Есть последний сучок. Смотрите! Мне можно замуж!
Все убедились. Старый вождь мýсу, вздев руки, крикнул:
— Свадьба-женитьба! После мы, муравьеды, род Уху-Уху, выйдем на битву с инкапаруна.
— Много их, как воды! — долдонили суарá, ворочая разноцветными щепками по углам верхних губ. — Их много, не сосчитаешь.
Мýсу, хихикая, скрылись в хижинах. Суарá пошли дальше в мокрые джунгли. Сквозь тростниковые стены их провожал злорадный мстительный взгляд; вождь-«Жаба» скрипел: «Убьём их — всех суарá, сказал! Нужно свежее мясо к свадьбе-женитьбе!»
Вооружившись, род Уху-Уху, выпрыгнув в заросли, заскользил там под ливнем с луками, с копьями и с большими дубинками… Раздались звуки битвы, вопли и стоны… Мýсу вернулись с громкой победой: пленных несли на палках; маленьких стадом гнали сторонкой. Вечером было пиршество. Жапорé спутал милую и себя лианами, утверждая супружество. Пару жаренных пленных съели. Кто-то призвал съесть «инкапаруна».
Сказано — сделано. Рейд по джунглям в дожде был дерзостным. Возвратившись к кострам близ хижин, мýсу в личинах птиц и животных сели под пальмой, к коей примкнули нескольких пленных в странных нарядах. Вождь стал срезать с них мясо. Пленные корчились и стонали, и лишь один молчал, коренастый со шрамом. Вождь всё срезал с них мясо. Женщины, тычась в раны на жертвах, мазались кровью. Младший из пленных начал вопить, обмякнув. Мýсу, убив его, оттащили в болото. «Если при казни некто выказывал боль гримасами на лице и трепетом, также стонами, то они разбивали ему все рёбра, внутренности топтали». Пленный со шрамом выдержал муки; он даже пнул жену Жапорé, сосавшую его кровь. Сожрав храбреца с почтением, племя спело:
Ох-илльи!
Бог Уху-Уху, муж Маморé-реки,
слушай, слушай:
были к нам суарá —
их съели!
инкапаруна пришли —
их съели!
Мы всех на свете съели с кишками!
Нет нас храбрее!
Илльи! ох-илльи!
Зубы убитых как амулеты тут же украсили шеи воинов, а берцовые кости стали дубинками. В платье пленника, — в безрукавной рубахе из то-ли-кожи-то-ли-не-кожи, — старый вождь прыгал через костёр, куражась; но подражатель сгорел упав, чем и вызвал веселие. Накурившись сон-трав, заснули. Дождь брызгал в крышу лиственных хижин… Племя пришло в себя в луже, в путах. Инкапаруна, сплошь в безрукавках из странной кожи-то-ли-не-кожи, рослые, злые и с топорами, брали мужчин из племени, чтобы каждому отсекать верх черепа. Из верхов получались чаши, и эти чаши клали в корзины. Злыдни ругались и торопились; после ушли с женой Жапорé, красавицей, будто их вовсе не было. Мýсу зажили прежней жизнью, съев соплеменников, умерщвлённых врагами.
Восемь лун-месяцев шли плоты вверх по Амару-мáйу, мутной реке, и дикая спала с дюжим, сильно хворавшим инкапаруна в маленькой рубке из веток пальмы. Он был вождь воинов, что пришли и казнили, помнила мýсуска, Жапорé, её мужа, и соплеменников.
К ним на плот заявились вдруг златоухий вождь очень лисьего вида и вождь понурый. Инкапаруна трясся в горячке, но быстро вылез из-под накидки и поклонился им.
— Инка-милостью Йáкак!
— Вáрак, ты храбрый пятидесяцкий! — вкрадчиво начал лисоподобный. — Ты бился смело. Мы одолели дальние страны, где всходит Солнце. Чунчу и мýсу и остальные рады жить новой правильной жизнью и подчинились нам. Покорив Восток, возвращаемся, взяв вождей его, чтоб узрели Великого, Сына Солнца и Светоча, повелителя инков и полубога. Вáрак, скажи мне, так ли ты мыслишь?
Тот свесил голову. Вождь с понурым лицом вздохнул. (Жена Жапорé притихла).
— Пятидесяцкий? — лисил пришедший. — Нет, храбрый Вáрак. Ты новый сотник! Помни: герой, как ты, может стать пятисотником. Выздоравливай и начальствуй. Воины ленятся, пьют, болтают. Действуй же!

Златоухий вождь кончил и по мосткам пошёл на большой плот, флагманский. Вáрак, падая в шкуры, буркнул:
— Я, Рока-кáнут, много лун маюсь от лихорадки. Тяжко мне.
Вождь с понурым лицом из своей серой сумки вынул шнуры, сказав: — Вáрак, справишься… Доложи мне расходы, смерти, трофеи в пятидесятке, новый курака. Впредь ты обязан будешь вести счёт в сотне как новый сотник.
Вáрак, встав, запустил руку в ларь из прутьев — вынуть горсть листьев.
— Да, Рока-кáнут… Коки сжую и скажу тебе. Кока силы поправит… Слушай, начальник: коки три меры, вот что осталось… в пятидесятке восемь осталось; сорок погибли. Так-то, начальник.
Слушая, тот вязал узлы на шнурах.
— Фасоли — девять корзин всего, — буркнул Вáрак. — Проса — корзина… Чýньу-картофель, вроде, закончился… Пробавляемся фруктами, тут их тьма в лесах. Также тут мы зверей бьём, их не учли пока Сыну Солнца… Ты, Рока-кáнут, знающий счётчик, в Куско учился. Ты вот ответь мне: чтó мы пошли сюда?
— Тýпак Инка Йупанки, наш главный инка, думая, что в стране Мусу-Мýсу маются варварством и желают порядка…
— Знают порядок! — Сотник скривился. — Свой тут порядок! Эта вот дикая с её родом ели друг друга и поклонялись, видел я, жабе. Мы их побили и говорим: бог — Солнце… Мы воевали некогда чи́му, нам говорили: чи́му тупые. А у тех чи́му есть города, как Куско, ходят в одеждах, бог их Луна, считай, как у инков… Мне сорок лет почти, с двадцати воюю. Только придёшь с войны, поле вспашешь — вновь бить предателей посылают… — Вáрак стал кашлять.
Счётчик продолжил: — Все люди алчны. Голый вначале грезит о тряпке, как эта мýсуска, — он кивнул на дикарку подле накидки, что Вáрак сбросил. — Тряпку получит — грезит о бархате. Сотник хочет быть темником, и так далее. А над всеми — Владыка; он хочет власти; значит, он алчный.
Вáрак смутился. — Это не надо… про Господина-то, про Лучистого Отче…
Счётчик, встав, вышел и в челноке поплыл к остальным плотам, а их было до сотни… Вáрак же, сидя, что-то обдумывал, пока дикая вдруг не кинулась в пляску — голая, лишь в своём пояске с сучками. Ноги летали, руки порхали.
— Ты Има-сýмак, — выложил Вáрак, дав ей рубаху. — Вот, приоденься… Кость сними… — И он ткнул в позвонок, болтавшийся на лианке на её шее. Дикая вскрикнула. — Има-сýмак! — хмурился Вáрак. — Ты и твои в лесу съели воина, моего земляка, хорошего. Ты взяла его кость? Дурища! Дух прилетит оживлять его, не найдёт кость — убьёт тебя.
— Кость его бог могучая! — она спела.
Вáрак, ругнувшись, вышел из рубки. На исполинских брёвнах плота, за мачтой, пили солдаты. В туче москитов он спрыгнул в лодку и взял к другим плотам, глядя в джунгли, что по-над руслом.
«Инкапаруна… — думала дикая, глядя Вáраку вслед. — Могучие муравьеды, злые! Много одежды, много еды, ох-илльи!.. А Жапорé не имел еды. Ничего не имел он, кроме прекрасной и сильной плоти…»
Воин-гигант, склонясь и схватившись за лодку, высадил Вáрака на корму плота у жаровни, где были чаши. Там оба выпили.
— Ну, земляк, — начал Вáрак, — слушай, что было. Инка-по-милости не имел права дать мне чин сотника, то есть Йáкак. А он вдруг дал мне чин, будто он чистый инка. Инки погибли, хоть были инками, а вот сам Йáкак — жив… И мы с тобой, Укумари-десяцкий, живы, хоть мы общинники. Мы никто, а, глянь, живы.
— Ты стал куракой… — молвил десяцкий, глядя в жаровню. — Йáкак?.. Припомнил я, как до чащ Мусу-Мýсу бились мы с чунчу и враг насел на нас. Инка бился отважно, а этот Йáкак был недалёко. Диких прибавилось; инка-милостью смылся — а вот у инки видел я нож в спине… Чёрт! Возьми меня, если ложь сказал!
Оба замерли, ожидая суда злых духов; и Укумари опять повёл:
— Йáкак врал, что наш инка погиб от чунчу. А как вошли в леса, инки быстро пропали, кто от болезней, кто от стрел диких. Главный стал Йáкак, хоть у нас в войске инки-по-милости старше есть. Потому как он, вроде, сын от наложницы Титу Йáвара, кто наместник Востока. Йáкак велит: воюй! Я иду — а врагов чую сзади; жду, что убьют свои… Йáкак злится, так как я видел, как сгинул инка.
Он замолчал, прислушавшись к плеску волн о плот, посмотрел в чащи берега, где таилась опасность. Сеяла морось; мошки кусали.
Вáрак заметил: — Да, он был храбрый — инка начальник!.. Все инки пали. Главный стал Йáкак, инка-по-милости.
— Он с наместником над Востоком, — вёл Укумари, — скажет Владыке: чунчу и мýсу, он скажет, наши. Но он не скажет, что их не выучишь доброй жизни. Мы тут напрасно бились и гибли. Тропы, что сделаны, заросли уже; кровь от битв и сражений смылась дождями. Так что получится, будто не было нас вообще тут, в этих чащобах. Взяли мы пленных, редких животных… А что наш Йáкак льстил этим чунчу, вещи дарил им, — и не узнают… Зря Йáкак льстил им. Чунчу ведь рядом: три дня пути до нас, до владений Великого Сына Солнца.
— Да, — буркнул Вáрак. — Было нас десять два раза тысяч; нынче лишь сотни… И непонятно: что это Йáкак чунчу задабривал? Чунчу вздумают, мы боимся их, и до нас за три дня дойдут…
Раздались вопль и всплески. Пиками отбивали кого-то около мачты у анаконды…
Вáрак лежал в трясучке. Вдруг налетели многие лодки, мелкие, вёрткие. Има-сýмак забилась в рубке под шкуры. Что за злодеи?! Жуткие! В ноздрях перья, в волосе перья! Крашены красным, листья на бёдрах! Воют, грозятся, тянут тетивы, стрелы пронзают плоть! Люди-инки хоронятся за щитами, сопротивляются. Два плота обросли туземцами и отстали… За поворотом лес разрядился, небо открылось, заголубело. Области мýсу разом закончились. Начинался край чунчу… Вырос посёлок хижин на сваях. Инка-по-милости, высадившись с подарками для вождей и старейшин, льстиво твердил им: «Дам вам одежду, дам топоры, дам чашки. Вы мне поможете, если вас призову, друзья?» Чунчу в юбках из трав танцевали в честь гостя и заверяли: «Друх! Тебе тоже друх!»
Начались перекаты… Близ водопада, бросив плоты и высадясь, зашагали отрогами под пылающим Солнцем. Пахло каттлеями (орхидеями) … травы были по пояс… ящерки, змеи грелись на скалах… птицы носились и верещали… Ночью напали дикие с копьями. Укумари, десяцкий ростом под пальму, бился дубинками — четырьмя одноврéменно… Гнус откладывал в кожу яйца, воины мёрли в страшных нарывах. Но Има-сýмак никто не кусал. Никто.
Вскарабкались в плотный вязкий туман. Кустарники обдирали руки и ноги злыми шипами. Пленные кашляли и чихали, будучи голыми, только в юбках из трав да листьев; плюс они кладь несли. Ночи стали морозны. Днём обсыпáло градом и снегом либо пуржило; воины падали и недвижно лежали; дикая хныкала, что лицо её «щиплет»… Раз шли вдоль бездны, и златоухий вождь инка-милостью Йáкак сбросил кого-то…
На седловине были владения стылых мертвенных скал, над коими плыли кондоры и сверкал злой Солнце…
За перевалом стало полегче, ибо спускались к тёплой долине с вьющейся речкой… Вышли к дороге, возле которой в будках из камня им попадались изредка люди, — вроде «гонцы» звались. Рать плелась строем рваным, усталым. Встретив животных с ношей на спинах (лам, род ламóидов), Има-сýмак дразнила их и швырялась камнями. Звери плевались, ибо обвыкли драться слюной, «выплёвывая в того, кто ближе, дабы попасть тому прямо в глаз». Оплёвана, Има-сýмак в испуге влезла на будку пары «гонцов» в тюрбанах. Вáрак прогнал её… Ночевали в сараях либо на склонах, где поудобней.
Вдруг у дороги справа и слева выросли стены дикого камня. Это был город. В центре, на площади, где отряд путь кончил, высились здания под соломенной кровлей, все сплошь из камня и на платформах. Скоп златоухих в тонких одеждах был возле трона с царственным старцем. Йáкак воззвал к нему:
— Титу Йáвар, всесильный, знатный правитель! Отпрыск божественных Трёх Пещер! Вернулись мы из чащоб Востока, где утвердили власть мудрых инков. Вот дар Востока!
Горбясь от страха, пленные подносили длинной колонной торбы с плодами, клетки с животными, сумки с перьями и мешки с изумрудами, но и с кокой, и с алкалоидными корнями.
Бликнули нити в косах наместника, золотые узоры на его мантии вспыхнули под полуденным Солнцем. Он отозвался голосом громким, хоть и скрипучим: — Подвиги ваши радуют предков, подданных моего отца Йавар Вáкака, кто был царь Четырёх Сторон в незабвенные годы! Вы победители. Покорён Восток вашей храбростью! Отличившихся я пошлю к Дню Ясному для наград. Герои! Честь Трём Пещерам Паукар-тáмпу. Айау-хайли!
Все отвечали: «Хайли-ахайли!»… Скатерть легла на площадь. Воины пили с местными инками, вспоминая сраженья.
В каменном доме — стены с накидками на крючках, постель из шкур, крыша — сплошь из соломы без потолка. Бьёт в узкие клиновидные окна Солнце… Сунувшись в серый, грубый куль с дырами, бывший главной одеждой андских народов (попросту — в робу), дикая сдвинула плотный складчатый полог перед собою… Комната? По столбу в середине вьются вверх ленты; пол — под циновкой; есть табуреты, ложе, посуда. Илльи, прекрасно! Прямо напротив тоже есть полог? Что за ним?.. В спальне, устланной ламьей шкурой, в глиняной миске ел кашу мальчик.
— Ох, муравьедик, кто ты сказать мне! Я Има-сýмак.
— Дура-наложница! Я — Печута. Мой отец Вáрак. Зря он привёл тебя. Мать придёт из могилы, даст тебе!
Она порскнула прочь наружу. Общий двор замкнут общей стеной, домá кругом; в ямках, чтоб не сбежали, — дети, чем-то играют. Много простора, света, прохлады; нет змей и мошек, нет испарений, нет ядовитых всяческих трав, не прыгнет вдруг ягуар. Ох, илльи!.. Рослая девочка повлекла с собой Има-сýмак.
— Переоденься: ты обрядилась, точно мужчина.
— Что?! — отбивалась та и ругалась. Но вдруг увидела тонкошерстный наряд, сандалии с ремешками. Волосы девочка убрала ей тоже очень красиво.
— Род наш, род пóкес — лучший из лучших главного инки. Женщины носят пóкес-причёску, как я и сделала, а иначе нельзя. Побьют тебя, если сменишь причёску. Ты стала наша. Ты как наложница господина сотни — всем нам пример, общинницам.
Има-сýмак, взяв ликлю, тоже потребную, объяснила ей девочка, андским женщинам, побежала гулять.
На площади, за стеною квартала, высились, друг на дружке, три постамента, или платформы, меньшая сверху. Дикая влезла каменной лестницей. Плоский каменный верх был тёплым, верно от солнца; ветер трепал подол. Она встала и выпрямилась с опаской.
За огороженными кварталами простирались всхолмления, вился тракт вдали, и террасы сходили строем к речушке, видной за садом посверком ряби. Возле хранилищ что-то таскали.
Очень везёт ей! Съела на пользу «инкапаруна», храброго пленника, в амазонкских лесах своих, напилась вдоволь крови из его ран. Ох-илльи! Видно, душа его — сильный бог, дал ей счастье! Нынче душа его — в позвонке живёт, позвонок — на верёвочке из душистых трав на её смуглой шее. Вытащив из-за ворота, Има-сýмак погладила и упрятала позвонок обратно.
Кто там? хозяин?.. Вон, у кварталов… Надо спускаться. Дикая слезла вниз. Вдруг старик с красным носом, выскочив из кустов вблизи, начал бить её палкой.
— Дура! — гнусил он. — Что ты там делала?! Храм поганила?! Смерть тебе!!
Вáрак, сразу примчавшийся, удержал буяна. — Бьёшь её, Умпу жрец? Моя женщина!
— Вáрак, ты?.. Глянь, куракой стал? господином? Мне, значит, ровня?! — и жрец ощерился. — Девку к чёрту спалим! Сегодня!! — громко гнусил он. — Дура сквернила сельский дом Солнца!! Вот ты какую добыл мерзавку, сотник из черни!.. Скажешь что?
— Умпу жрец, она глупая.
— Грех бесстыдный!! — дёргал тот палкой. — Добрый огонь зажжём, чтобы сжечь её! Осквернила храм!
— Девка глупая, — буркнул Вáрак. — Девка из леса…
— А нарядил, гляжу, точно знатную? Я от предков курака, чёрт! Но моя жена ходит бедно, ходит в обносках. А? Это как так?
— Я из страны пришёл Мусу-Мýсу. Есть изумруды, две пумьи шкуры…
Громко сморкаясь, жрец прошагал в дом сотника взять мешок отступного, и оба вышли, в лад признавая:
— Если собака храм вдруг обмочит — что за спрос?
Има-сýмак спала, когда Вáрак явился с мальчиком в старой порванной робе, хрупким, тщедушным и большеглазым.
— Чавча, сын воина. Того самого, какового вы съели, ты и народ твой. Дай ему кость, велю. А не то изобью.
Ох-илльи! Дать?! А как жить потом? Где найти бога нового?
Мальчик ждал.
Она вынула позвонок, журча: — Твой отец очень вкусный! Кровь его вкусный! У мусу-мýсу он — как наш бог Уху-Уху, как Маморé-река!
— Твой отец стал им богом, — выложил Вáрак. — Кто, поедаем, терпит без стонов — те у них боги.
ГЛАВА ВТОРАЯ
с переплетением стольких дел, что в момент разобраться в них невозможно, и увлекающая в Куско…
Птицы безумели, проносясь над ним, и, ослепнув от блеска, падали.
Глазом кондора, ухом кондора, клювом кондора, там упавшего в дни властителя Тýпак Инки Йупанки, мы ознакомимся с этим городом. В центре — площадь Восторга и Ликования, коя пахнет пустынями и лесами, сходно и скалами: почвы всех сторон света смешаны здесь намеренно. Окоём — пирамиды пышных чертогов, или же зáмков. Слева, на север, видно Касáну, «Видом дивящую»; близко к ней — Кора-Кора, то есть «Лугá». Восточнее — строй Имперского Арсенала, чёрного Города Виракочи, также Большого Дворца (Квартала) и остальных громад. Золотой, в инкрустациях, Дом Избранниц виделся к югу, подле фундаментов под строительство толстых искристых стен. А западней тёк ручей под ивами, отделявший скоп серых лачуг от центра; звался он «Первый Ручей».
Очнувшись, кондор немедля прянул на лапах в долгом разбеге, правя к сиянию в толстых крышах соломы царственных зданий балок из золота, и поднялся ввысь…
Виден люд в узких улочках… Два Ручья нистекают в общее русло, и городской квартал Пумий Хвост — в развилке… С севера Города — Саксавáман, холм с цитаделью… Много кварталов всходят к предместьям, что на холмах, садами, редкими рощами… Средь окрестных полей — дороги, или же тракты, в стороны света… Далее горы в снежных покровах…
Что-то сверкнуло в облаке пыли, двигаясь к Куско из-за всхолмлений… Кондор унёсся.
Восемь руканцев — царских носильщиков — поспешали с носилками по имперскому тракту перед колонной воинов в чёрном, секироносцев. Кнут находящегося в носилках, взвившись, ударил в спины руканцев, чтобы ускорились. Впереди с пенным ртом мчал гонец без тюрбана, сползшего в гонке. Он сильно горбился, слыша крики:
— Йау, догоняем!!
Встречные падали в пыль от страха.
Мчали к предместьям. От воплей личности на носилках вскинулись ламы подле обочин.
— Мы будем первые!!
Кнут ожёг тела, ойкнул ближний носильщик… Вот уже Город… стены кварталов… каменный мост… Гонец пересёк Ручей, дуя в раковину-каури.
— Стой, гуанако!! — снова последовал визг с носилок.
Точно подкошенный, тот свалился на площади, и носильщики перешли на шаг… задержались… остановились… Мелкий, в морщинах, властный мужчина, спрыгнув по спинам, живо подставленным под его сандалии, захромал вперёд, наддавая подолу чёрной рубахи острым коленом. Руки с браслетом мечены шрамами; семицветной тесьмой сжата стриженая головка. Лоб — под накладкой пурпурных нитей; ниже — пронзительно-повелительный взор вприщур; выше — два чёрно-белых, очень больших пера коре-кенке, сказочной птицы. Грузно, до плеч почти, с удлинённых ушей хромавшего висли диски из золота.
— Что за весть принёс?
Но гонец лёг ничком на почту, не отвечая, и хромоногий бодро изрек:
— Молодчик! Правила знаешь! Мы будем пить с тобой на ближайшем из праздников!
Группа женщин в накидках засеменила от знати, севшей на корточки, под лихой топот гвардии, подоспевшей на площадь с пыльных окраин. Круглая и румяная от волнения дама запричитала:
— Ты не был год! Воюешь?! Кондор упал к несчастью… Ты не воюешь! Тешишься с девками! Муж, ответь мне! Слышал, детей твоих убивают?
— Ты вновь брюхата, о, Мама Óкльо, койя-супруга?.. — бросил мужчина и, оглядев её, устремился вдоль гвардии, задыхавшейся после дикого бега.
То были инки в чёрных одеждах, с круглыми маленькими щитами, все сплошь с секирами, златоухие (был обычай растягивать мочки золотом, а размер кружка означал ранг, статус).
— Бросили нас?! Отстали?! — слышала гвардия. — Видеть вас не хотим, ленивые!! — И хромой устремился мимо встречавших.
Молча, на корточках, провожали его глазами, лишь дряхлый инка сипло зашамкал вслед:
— Мальщик! Тýпак, племяннищек!!
Тот, услышав, сдержал свой шаг и помог старцу встать, пеняя:
— Что ты, Воитель, дядя любимый, Правая Длань родителя? Стоя, стоя встречай нас!
— Вижу тебя, Швет, ноги ломяютша! — говорил, тихо гладя племянника, старец. — Как твой поход, Владыка? Што ты там взял?
— Что? Многое! Кáса наша теперь, да Кáльва, да Айавáка; много иных стран, уйма народов… Дядя, устали; трудная получилась война. Мы с благом — погань противится!! — распалился Владыка и подытожил, что, «если земли, кои он целит завоевать в дальнейшем, станут решительно подражать злодеям в гнусном упрямстве, то он откажется от войны, дождётся, дабы задиры расположились к инкскому благу».
— Будет! Не мучься! Дикие — шловно глупые ламы… Помню, племянник, был ты нашледником, мы ш тобой и ш отшом твоим шлавно били Минчаншамана в Щиму!
— Дядя, постой-ка! Из Мусу-Мýсу вроде бы рать пришла; ты про это не слышал? Нам от наместника Титу Йáвара весть была.
— Титу Йáвар?.. Племянник, не воевал я ш ним… не припомню… — старец мучительно вспоминал. — Он рода-то уж не айльу-панака? Што ни чиновник, што ни охальник — айльу-панака, штарые кланы. А вот воюют только лишь родищи Пача Кýтека, кланы соксо-панака с инка-панака да кáпак-айльу. Этих я помню…
— Пить будем, дядя, сегодня! — крикнул Владыка и захромал прочь.
Знать расходилась и толковала, что «неспроста» -де кондор рухнул на площадь: «быть переменам».
Около улиц, созданных длинным Домом Избранниц вместе с другими зáмками центра, был тёмно-красный фасад с проёмом, что охранялся секироносцами. Тёмно-красные стены, монументальные, высоченные, заключали внутрь собственного периметра сад, пруд, клумбы, мелкие и огромные башни с кровлями из соломы. Не было в Куско, за исключением Храма Солнца, места величественней и краше, ибо досель и не жил муж доблестней и влиятельней Тýпак Инки Йупанки. Се резиденция императора — Красный Город… Лестницей он взошёл к площадке; в башню вели ступени меж стен багровых, искристых блоков, кажущих в стыках золото, что скрепляло те блоки вместо раствора. Твари из золота, — змеи, ящерки, птицы, кролики, — прикреплённые к кладке, вид украшали. Ныла спешившая вслед супруга… Смяв в конце хода бархатный полог, Тýпак Йупанки втиснулся в спаленку под соломенной крышей. Рыжий затылок был на постели… Вдруг воробьи в клиновидном окошке порскнули и влетела стрела. САМ ринулся к спящему, остриём не задетому. А потом, со стрелою в шкуре, сложенной в узел, он захромал прочь, слушая хныканье Мамы Óкльо: «Видел?! Стрела! Ты видел?! И был удав… Откуда?! Еле спасли его! Я гонца посылала; ты воевал, муж, не отзывался»… Входы сменялись; лестницы путались… «Сына травят-изводят, ты всё воюешь!» — ныла супруга. В нишах мелькали то постовые, то золотые либо серебряные фигуры.
— Кто охранял?! Кто?!! — гаркал властитель; гул разносился в каменных сводах. — Мы их повесим! вниз головами!! Чья здесь власть?! их власть?!! Стрелы — с востока, дар Титу Йáвара!! Им, поганым, неймётся?! Айльу-панака с викакирау — воры, смутьяны! Дескать, их кланы — от Йавар Вáкака, от законных правителей!! — крик Владыки усилился. — От того, кто владел лишь Куско и приседал, как раб, под аймарским владыкой?! Ишь, Йавар Вáкак… Сдох он, не знает, что наш отец и мы покорили аймарцев и всю вселенную!! Сын его Титу Йáвар хочет быть первым, ждёт нашей смерти?! Вышлем сейчас же самоотверженных в его земли, в Паукар-тáмпу, в гнусное логово!! — Потрясая стрелой в узле, САМ бежал и столкнулся вдруг с инкою, долговязым и бледным.
— В Паукар-тáмпу!! Бить косоплётов, брат! Время!! Гибнет Династия!
Тот, склонясь, поднял узел, выпавший из дрожащих рук, и увёл властелина вместе с женой его, Мамой Óкльо, в спальню.
— Амару Тýпак!! — взвизгнул Владыка, сев в стенной нише на одеяла. — Ты Голос Трона, наш заместитель! Где, брат, порядок?! В Куско смутьяны! Кондоры падают! Стрелы в спальне наследника и удавы к тому же! Многое терпим от косоплётов с той поры, как их свергли. Надо прикончить их!!
— Ссора с ними опасна. — Амару Тýпак, прежде откашлявшись (алым тронулись скулы), сел на скамью из золота. — Косоплёты — враги. Однако, как прогнать попугая, чтобы смолчали прочие? Тронем косы плетущих — вызовем гнев гривастых. Есть обстоятельство и важней, чем это: те и другие правили не один век. Мы — новодельцы. Что мы умеем? Древние кодексы излагают нам инки прежних династий; звёздные знáменья разъясняют они же, как и обряды. Власть низших рангов и рангов средних, власть на местах, в захваченных государствах — там власть у них, брат. Наш род использует их существенный опыт по управлению. А что мы? Знамениты мы войнами…
— Помолчи! Он заснул уже! — прервала Мама Óкльо. — Может спать сидя, я это знаю… Мчался как ветер! Он покорил стран десять… или пятнадцать?
— Ох, сестра, — молвил канцлер, или «Вещающий за Великого», а равно «Голос Трона» Амару Тýпак. — Знай, что Владыке надо быть сдержанней и пристойней. Нет бы войти в Град чинно, а не влететь безумно вслед за гонцом, как мальчик.
— Он беспокоился! Он спешил, брат!
Амару Тýпак, взяв узел шкуры с длинной стрелой в нём, встал.
— Пойду, сестра, разберусь с покушением…
Тот, кто ценит культуру Старого Света и понял значимость рода Юлиев, Канулеев ли, Фабиев в общих подвигах римлян, тот будет рад узнать кланы инков, зиждивших Новый Свет. Вспомним чима-панака, строивших Куско; айльу-панака, храбро стоявших за независимость против царств Чинча-Чанка с Аймарá-Кольа; ну и, конечно, инка-панака, распространивших власть и законы города Куско в области Андов. С инициала напишем их, констатируя значимость и таланты, — дабы не мёртвой строчкой был, скажем, «Инка-панака Амару Тýпак Инка ауки», но поразил бы вескостью, громозвучностью имени: «Рода Инки, Принц Крови, Змей и Сияющий Отпрыск Солнца».
Но покидаем дворец, что сложно. С разною ношей молча и споро бегает челядь… Всюду толпятся знатные лица… На перекрёстках секироносцы, или гвардейцы-«самоотверженные», угрожают секирами и впиваются взорами: кто такой?!.. В блеске длинных порталов и коридоров тучный блистательный некий муж при посохе всходит лестницей в гуле: «Это Верховный Жрец! На приём, видно, к Набольшему, к Владыке!»… Сколько носилок жмутся на улице, где носильщики, сев на корточках, ждут господ своих!.. Кто там к нам поспешает?.. стража?! Мчим к главной пл. Ликования и Восторга… Стоп! живо в сторону, к стенам Дома Избранниц, прочь от носилок: пусть проплывёт надменный, гордый вельможа… Дальше — строительство с суетящимся людом: плавится золото и потом разливается, в кладку бухают блоки, и, ряд за рядом, кладка растёт, растёт…
Вот Ручей в ложе камня с ивовой кромкой… Главная площадь — площадь Восторга и Ликования — за мостом обращается в площадь Радости, зачиная там тракт, что уносится между многих кварталов серых окраин…
Ламы навстречу, — целая сотня! — вьючены грузом, поступь и морды высокомерны, как у верблюдов… Мчится куда-то потный гонец в тюрбане, следом — две шавки.
Дальше в предместьях — два ряда древних каменных башен. «Малые, по размеру в три роста, — между больших двух; малые отстоят в семнадцати футах или чуть более друг от друга; с боку от каждой за промежутком — башни большие». Рядом — ни кустика, жутко, мертвенно. Птицы падали, пролетая здесь, зверь сбегал перепуганный, ибо в выступах и в пазах сих башен часто выл ветер. И только Солнце холил-лелеял древность за службу ясным холодным призрачным светом.
День миновал. Тьма яркими и мохнатыми звёздами созерцала Пуп Мира, кучно ответствовавший огнями. Не было в Андах и в Кордильерах города больше. Меньшим был Мани, главный центр майя, меньшим — Теночтитлан ацтеков… Выли собаки, пахло жилым от крошечных, но бесчисленных очагов столицы инкской державы. Башни заплакали влагой рос…
Заутрело, когда путник, шедший по тракту из-за холмов на Куско, встретил портшез из Куско. Инка с большой головой и путник двинулись к башням и подошли к ним.
— Ну, Рока-кáнут, лучший наш счётчик, как верят мýсу?
— В птиц и в зверей и в чащи, даже в болота, о, Тýмай Инка.
— Варвары! — было сказано. — Как все прочие, сколь ни есть их. Ищут опору в мире гниения, пребывая во мраке, а ведь над ними яркий бог Солнце!
— Я славил Солнце, — вымолвил счётчик, что вместе с Вáраком был в восточном походе. — Но постепенно я изменился. В диких, сырых лесах Мусу-Мýсу богом становится необычное. Если в редкость там ткань — поклоняются ткани. Там наводнения и дожди, поэтому там вода — богиня. Солнце не чтится; мýсу не видят в нём редкостного и властного, ибо мир их под тучами.
Инка вскинул бровь.
— И я понял, — вёл Рока-кáнут, — Солнце лишь вещь, как прочее. Я хочу знать творца всего. Я понять хочу, отчего кто-то беден, а кто-то славен, и отчего все враги друг другу, и почему изо всех слов главные говорит лишь Светоч, то есть Владыка.
Инка, сев в каменное и влажное от рос кресло, бывшее перед башнями, поместил темя в выемку в спинке, и наблюдал затем, как светило восходит меж малых башен.
— Срок установлен; близится праздник, — встал Тýмай Инка, главный астролог, и вопросил: — Куда ты? в Куско?
— Я, инка, в отпуске после трёх лет войны. Хожу везде, говорю о войне, о нравах чунчу и мýсу.
— Непозволительно!.. — Тýмай Инка, нахмурившись, возвратился к портшезу и подытожил: — Помню, ты спас меня. Я послал тебя в школу, где ты освоил счёт, а затем — на войну, чтобы, бывший раб, ты в бою отличился, начал жить лучше. Но, как я вижу, ты еретик? Заносишься, философствуешь. У нас есть кому думать. Ты, мастер счёта, будь при своём полезном, нужном всем деле… В общем, одумайся и воспользуйся даром счётчика, коим ты обладаешь…
Молча носильщики унесли портшез.
День спустя, на рассвете, стылый туман, курясь, обнажил подле башен много жрецов. Бог Инти, то есть Светило, встречен был гимном.
В Куско глашатаи объявили:
— Тýпак Йупанки, наш Господин, Сын Солнца, Ясный День подданных и Заступник живущих, Светоч народов, Отче Лучистый! Он повелел в честь Солнца три дня до празднеств пить только воду, есть только травы, жён избегать, огней не палить. Поститься!
Разом Империя погрузилась во тьму, — кроме трёх мест, однако.
Мчит Урубамба в узком ущелье. Выше, над городом, на крутых горных склонах, — площадь с дворцами. В узкие окна плещутся звуки песен и дудок, храпа и возгласов; мельтешат челядинцы; всюду вповалку спящие пьяницы… А вот зал под соломенной кровлей с грубыми стенами: все шумят; пол грязен; чад от светильников и дымы очагов уносятся сквозняками… Трон занят мужем, рослым и статным, чуть поседелым: в золоте уши, блёклая бахрома на лбу; на обрюзглой щеке — слеза, что катится и вдруг падает в неопрятный подол изношенных пыльных царских одежд.
Товарищи умолкают, и поднимается хищноликий курака с чашей в руке.
— Ольáнтай, наш повелитель, выпьем за доблесть! Мы твои слуги. Вот старший темник, твой Пики-Чаки (с боку от трона спал некий воин); спит он, наперсник твой; его дед — гуанако. Вот Рау-Áнка (глядя в пространство, стыл древний старец); знает он мудрость неба и звёзд, а предок его сам Солнце. Вот вождь Марýти (щёголь лет тридцати встряхнулся), главный застав твоих, внук удава. Вот Чара-Пума (муж в чёрной шкуре пил из кувшина); ярый, как пума, он меч и полог над Урубамбой; все перед ним — как мыши; предком его был пума. Я — управитель Орку-Варанка. Ты, когда выгнали Пача Кýтека, заповедал мне управлять всей Áнти, коей владеешь, а прародитель мой — лис… Ольáнтай! Ты всех сильней. Ты — истинный Господин! Владыка!
— Пьём, благородный Орку-Варанка! — Выпив, Ольáнтай кликнул певицу. Люди примолкли, а Пики-Чаки, как раздалась мелодия, поднял голову, всю в трухе.
Голубка, где ты, родная?
Милая, где ты?
Кличу тебя я, не уставая,
но — нет ответа.
«Звёздная» — твоё имя.
Знай, в небе нашем
прелесть твою не сравнить с другими:
ты всех звёзд краше!
Выискать слово для взоров милой
тщится мой разум:
будто бы утром встали над миром
два Солнца разом!
Ольáнтай вскочил, толкнув Пики-Чаки, кой ухватил его за сандалию и держал.
— Марути, Орку-Варанка и Чара-Пума! — крикнул он. — Вы, бесстрашные Áнти! Ядом облейте гнев ваших копий и отточите души отвагой! Братья! На Куско!! В пепел сожжём его!.. Коси-Кóйльур! Где ты? Найду тебя!
Ужасающ был его взгляд. Все съёжились, а Марути, начальник всех крепостей и стражи, и управитель Орку-Варанка пали к стопам его, чтоб удерживать. Укрощённый, как пик подножием, постоял полководец — и опустился на трон без сил.
— Царь Ольáнтай! — начал речь старец (что именован был Рау-Áнка), глядя в пространство, точно незрячий. — Много лет минуло, как покрыл я чело твоё красной царской махрой в честь Солнца, и ты стал инкой и государем. Но за все годы не возвеличился ты ни в битвах, ни в руководстве. Нет у тебя наследника, нет династии, нет страны: ты царь верхней излучины Урубамбы, диких племён её, называемых Áнти. Люди твои — разбойники. Ты пастух вольных пум, опоссум, правящий птицами.
— Смолкни! — цыкнул, ощерясь, Орку-Варанка.
— Знай, — старец встал, продолжая взирать в пространство, — нам надо действовать. Прежде надо взять Куско, восстановить чин древних обрядов. Солнце, не пьющий кровь человеков, слаб, дабы зиждить Миропорядок. Часты обвалы, землетрясения, рушащие жилища, пашни, дороги. Ливни и стужа губят посевы. Мор истребляет люд. Полувек назад Пача Кýтек, — раб, ставший инкой, — сел с твоей помощью на престол. В итоге инкские кланы служат не Солнцу, кой есть Отец их, — служат династии Пача Кýтека. Предстоит возвратить власть инкам. Встань и очнись! Отправь слуг в Паукар-тáмпу к людям наместника Титу Йáвара Инки, старшего клана айльу-панака, и заключи союз. Он, хотя рода старого, а не древнего, но поможет нам. Ты и он — господа Востока, сил у вас много. Выпроси помощи у лесных племён. Соберёшь войско в сто, в двести тысяч — вот и бахвалься! — И Рау-Áнка, бликая диском в старческом ухе — символом инки, сел на скамью из золота.
Жгли огни также в Паукар-тáмпу, в сердце Востока, выяснил Лоро (бойкий агент спец. службы, тайной полиции Сына Солнца). Он заприметил вспышки в предместьях. «Выведать и возвыситься!» — ускоряли шаг мысли. Он, пройдя рощей, сел под куст — наблюдать за посмевшими жечь огни перед праздником.
В чёрных жреческих робах, с факелами, у лестниц, ведших к трём входам в мрачные скалы, стыли рядами «косоплетущие» — инки старых родов.
Под гром затряслась земля и ночные светила! Лоро вцепился в куст, чтоб не шлёпнуться; инки вскрикнули. Гласом гулким, ущельным молвили Анды (или же Áнти):
— Верите? Внéмлите?
— Внемлем, Мать-Анды!
— Высший Творец, мой муж, дал мне доброе семя, злобное семя, вялое семя. Солнце мне тоже дал своё семя. Я родила Четырёх; их жён родила я. Айар-Саýка, плод Творца Мира, создал Мир Жизни; а Айар-Учу, плод Творца Мира, создал Мир Смерти; а Айар-Кáчи, плод Творца Мира, создал Земной Мир; а Манко Кáпак, плод бога Солнца, выковал Разум. О, Титу Йáвар, знатный праправнук мой! Я дала тебе предков — дай мне потомков. Я, Анды, Мать твоя!
Инки с песнями проводили детей в пещеры и возвратились… Каменный топот ожил; гул сдвинул тверди и удалился… Факелы гасли один за другим во мраке… Лоро бежал, взволнованный, и, подкравшись к наместникову дворцу, стал слушать, влезши на дерево. За окном при светильнике Титу Йáвар беседовал с инкой-милостью Йáкаком. Лоро встал на сук и напрягся. Слушай-подслушивай! Донесёшь по начальству — быть рангом выше! пить вместе с инками!
— Господин! — молвил Йáкак. — Нынче день Андов, Матери нашей. Я торжествую!
— Правильно, — воспоследовал скрип. — Мать инков — Анды. Знай, мои предки, выступив с Трёх Священных Пещер, отсюда, отняли у гривастых, — у древних кланов, чья мать Луна, ха-ха! — город Куско, с ним же и власть. Мать-Анды вынянчила не трусов!
О, не зевай, Лоро! тьма компромата!
Но заговорщики перешли на язык мудрёный. «Был там особый говор общения, непонятный профанам, и изучали его лишь инки; он был божественным языком тех инков». Дёрнувшись от досады, Лоро слетел с сукá и расшибся.
— В Чунчу, — вёл Йáкак, — инка-панака всяко мешали, и я убил их. Льстя глупым чунчу, я заручился, что за ножи и тряпки варвары выставят сорок тысяч и более. Их заложники, что привел я, — будто бы отпрыски покорённых вождей, — бродяги, коих отправим мы Хромоногому. Пусть он, думая, что Восток покорился, к нам расположится. И пакт с дикими утаён будет прочно. Вот чудо-лама, давшая двойню рвением тени твоих желаний с именем Йáкак!
— Близок день, — скрипнул голос, — в кой я верну венец, нагло отнятый Пача Кýтеком! Род мой сядет на трон, клянусь! Ты же, сын от наложницы, будешь признан законным сыном от пáльи и, инка крови, будешь возвышен. Я удостою смётку и верность.
— Раб твой навек, отец!
— Где ещё взять нам помощи?
— У Ольáнтая-самозванца, якобы инки…
Крик перебил их. Вызнав, в чём дело, Йáкак поведал:
— Там лекарь Лоро! Мёртвый! под окнами!! Он подслушивал! И на нём, отец, найден знак соглядатая!
— Что?!.. Измена!! — вскрикнул наместник. — Живо гасить огни! Кончить службы Матери-Андам! Всех, всех хватать! Допрашивать!..
Свет горел даже в Куско, в опочивальне Дома Избранниц, где, наблюдая тень от лампады, слушая дальний горестный стон, подрагивали две девочки. Дивна первая! Мало ей уступала вторая, вдруг произнёсшая:
— Стонет каждую ночь… Ужасно! Кто, Има-сýмак, там ночью стонет?
— Инчик, посмотрим.
Кутаясь в ликли, то есть в накидки, вышли за полог. Просеменивши около склада, пахшего шерстью (делом затворниц было шитьё для инков и для семей их всякой одежды), девочки выскользнули на улицу, — что делила Дом надвое, так велик он! — улицу под соломенной кровлей. Вслушиваясь в храп евнухов, вышли в сад, озарённый луной… пошли… ножки мяли траву опасливо… С тихим плеском ручей тёк по рву из золота. Близ него обе стали.
— Инчик, ты видишь: время цветенья! Видишь, цветы цветут, сладко пахнут!
— Нет, ньуста.
— Ньуста? Вовсе не ньуста! Мне говорят: ты ньуста. А кто отец мой — и неизвестно. Все настоящие ньусты знают свой род; все знают! Дочь Йавар Вáкака дряхлая, но твердит, что отец её — инка чистый-пречистый. Дочь Пача Кýтека хвастает: мой отец потряс мир, сломил всех, начал династию. Это — ньусты. Я для всех ньуста, но я не знаю, кто мой отец, не знаю.
Инчик вздохнула. — Уай! Мой отец — вождь Чи́му, Минчансаман, вот так вот. Луннорождённый… Я была маленькой, к нам пришли ваши инки. Очень злой инка бил отца по щекам, бил, бил… Увели меня в Куско. Мне не хотелось, ведь у меня был брат, дом, слуги… жили у моря, рыбы в нём — страшные! А в столице Чан-Чан в ритуальном пруду были лунные рыбы… рыбы священные, серебристые… Ты не плачь, Има-сýмак! — Инчик отёрла слёзы подруги. — Старшие скажут: Инчик, твоя госпожа что, плакала?.. А она, наша мамка, тоже раз плакала! Вышла в сад — стала плакать. А увидала меня — в крик: ой, птицы гнёзда вьют! палку дай птиц прогнать!.. И плакала…
Повздыхав, Има-сýмак направилась к высоченной стене из золота, ибо Дом сих Избранниц чтился священным, и наклонилась к низкому своду, в кой уходил ручей, устремлявшийся в город.
— Виден дворец… Вон стражник… Инчик, ты помнишь, как я смотрела так же на город здесь под стеною? Сёстры заметили и сказали: срам, Има-сýмак… Слышишь? Стон!! Рядом!.. Кто стонет?.. Сходим?
— Страшно! — молвила Инчик и отшатнулась.
Но Има-сýмак прошла в сад к погребу, куда слуги носили изредка пищу. Стоны послышались под ногами. Девочка вскрикнула.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
в целях примера, как припеваючи жили в инкской державе люди, кои имели всё для их жизни, как восславляли они власть Ясного Дня — Владыки…
Склонный к бурлескному, грандиозному, я сию главу был готов начать с Пира Солнца, проистекавшего при стечении масс на площади Ликования и Восторга при соучастии родовитейшей знати всех Сторон Света. Ибо на сём пиру главный инка пил с близкими, с быстроногим гонцом затем, кто его обогнал в пути, и с героями, покорившими Кáльву и Айавáку, Кáсу и Чунчу и Мусу-Мýсу. Вáрак, способностью пития дививший, мигом повёрстан был в инки-милостью и назначен гвардейцем, «самоотверженным»; Рока-кáнут, вычислив камни, коими сложен был Красный Город, выпросил снова месячный пропуск для путешествий, ибо «ходили они в том царстве не ради выгод и удовольствий и не для собственных дел и прочего, а по воле царя, курак», — отчего и ценна награда. Порфироносцу сброд из восточных чащ подарил изумруды и мармозеток, перья и коку, плюс «лозы дýхов» как психоделик. Йáкак вертел хвостом перед Вáраком, вдруг вознёсшимся. «Я тебя вывел в сотники и взял в Куско! Став охранителем Сына Солнца, ты возгордишься и позабудешь бедного Йáкака из Восточного края. Ты позабудешь?» — «Не позабуду». — «Что же, друг Вáрак, пью с тобой, с тем, кто будет ходить с сих пор в чёрной форме!» — «Буду ходить, а как же? Я тебе верный, хоть я стал тоже чуть ли не инкой — инкой-по-милости!»… Крайне жаждалось описать и действо в капище Солнца рядом с кварталом, прозванным «Пумий Хвост»… но следует отступить к неброскому.
Брызжет Солнце, пики сверкают! Зелены пастбища Чачапуйи! Много преград поверг император, уйму солдат сгубил на седых перевалах и в жутких схватках, дабы страну сию осчастливить. И вот поэтому, воздавая за блага, коих не ведали в прежней варварской, подлой, мерзостной жизни, чача работают и жалеют, что близок вечер и что придётся бросить работу. Пятятся медленно и, вбивая тяжёлые палки-заступы в землю как по команде, роют мужчины. Женский строй махом садит в ряд клубни… Дивные клубни! Верх упований! Ибо здесь родина триумфатора, покорившего чуть поздней Европу: мы в Папамарке, в «Месте Картофеля», где родится он крупным и претворяющим идеальную суть Solánum, или Паслёновых, к каковым относится.
Лица чача внимательны, дабы с темпа не сбиться. Градоначальник, славный Римáче, инка-по-милости, наблюдающий с верхней узкой террасы, — рад, несказанно рад. Прежде дурно садили: толпами, с разговорами да с ленцой, как вздумалось. С властью инков исправились: каждый с таклей, все ходят строем, трудятся от зари до зари… В сандалиях и в добротной одежде, градоначальник, гордый собою, смотрит окрест. Прекрасно! Много террас кругом, и все с людом! Взвод древоухих племени кéчуа (оккупантов-наставников), опираясь на пики, бдит диких чача ради порядка. Ибо днесь праздник: сев на полях Заступника, Сына Солнца и прочая… Надо, всё ж, вдохновить мешкотных. Хекнул Римаче и, заложив начальственно руки зá спину, произнёс:
— Вы вот что… Вы, чача, пойте: айау хайли! айау хайли! йэх, чудо-такля, йэх, борозда! потрудимся, попотеем! Женщины, отзывайтесь: хайли, герои, хайли!
Зубрят отсталые туповатые чача общеимперский слог руна-си́ми, светлый язык: вмиг поняли, в лад пошли! Вновь Римаче советует:
— Праздник!! Чача, старайтесь! Трýдитесь на полях Владыки! Счастливы быть должны! Пойте песни про то, как вы были плохие, а Светоч Мира прибыл к вам с благом. Такли, однако, не забывайте!
Чача запели сбивчивым хором… Солнце спустился к снежным хребтам… Прохладно… Градоначальник живо накрылся толстой накидкой. Мёрзнет Римаче — чача потеют. Горбятся женщины, торопясь отсадиться; стонут мужчины, бьющие такльи в шаткое стремя грубой подошвой… Чача кончают петь. Тронув диск в чутком ухе, градоначальник злится на чача, глупых строптивцев. Но сухопарый чача со шрамом вдруг начинает:
Вот что у нас случилось:
с войском пришёл чужеземец;
я, говорит, Тýпак Инка,
ваш господин. Айау хайли!
— Хайли-ахайли!!
Мы укрепили крепость
и отбивались отважно.
Нас люди инков разбили,
нынче поём: айау хайли!
— Хайли-ахайли!!
Мы живём в Чачапуйе,
Клубня Великого дети,
петь не хотим: айау хайли!
Гордый народ и могучий!
— Хайли-ахайли!!
И заработали исступлённо! Такли рвут землю! Волосы мечутся перед лицами, как трава в диком поле! В страхе Римаче, ноги трясутся и в голове круги. Как-то высказалось само собой:
— Хватит!
И заспешилось к стражникам, к древоухим защитникам. Ох, не хочется сгинуть! Дух, отлетя, услышит: рано почил, дух… мудр ты был и чинов бы достиг… Песнь гнусная, наказать певца!
Подбегающие чиновнички и туземцы-кураки слышат: — Плох руна-си́ми у глупых чача! Путают трудовые спевки; вспашка не спорится! Мы начнём учить руна-си́ми, очеловечивать чача вечером.
Юркий прыткий вождь ластится: — Всем учить руна-си́ми! Два моих сына в городе Куско! Учат в нём руна-си́ми!
Дурень! Пращой, хе-хе, стянут жбан его мыслей, перья за ухом, роба — из меха горной лисицы. Прочие сходно.
«Чача невежды, — мыслит Римаче. — Глупые… Шиш! Сыны ваши в Куско не языка ради, а для покорности, дабы вы не восстали, если впадёт в башку! Они в Куско заложники». Остр ответ его, сопричастного государственным тайнам, едка улыбка:
— Мудрыми сыновья вернутся, честный вождь Мáйпас! Будут знать толк в правлении!
Солнце сел, и раздался рёв раковин. Мигом женщины понеслись бегом к очагам, а сильный пол, — такли нá плечи, — потянулся колонной, как и предписывал Пача Кýтек: «Труд в полях схож с военным. Рать идёт на врага с криком: айау хайли! Чернь землю роет под айау хайли. Рать марширует с брани рядами. И земледельцам шествовать сходно».
Нервен Римаче, мчится за строем, ищет кого-то пристальным взглядом и, заприметив чача со шрамом, тихо корит его:
— Таклей машешь, болтаешь… Ты дебошир? Как звать тебя?
Тут как тут юркий Мáйпас, прыткий курака: — Кáвас звать!
— Надо парня исправить, — молвит Римаче. — Парня накажем.
И полегчало. Близ — древоухие со щитами и пиками. Хорошо. Славно. Благостно!.. Тяжко править, однако: туп народ, порывается к прежней варварской жизни… Градоначальник хекает:
— Чача, слушайте. Было некогда, Солнце с запада на восток ходил. Воробьи жили в глиняных хижинах. Он велел им селиться в хижинах каменных. Воробьи же противились. Налетели вдруг тучи, дождь лил, лил, лил. Глина стаяла. Воробьи мокли, плакали… Почему же не слушали добрых мудрых начальников?
Скалят зубы вожди, не смысля, что, как те самые воробьи тупые, гневают пастыря папамáркаских чача. Он для них — что Сын Солнца для всех вокруг. Он им царь почти, этим чача, и благодетель… Хекнул Римаче. Позже, на площади над покрывшими склон лачугами, объявил: — Всем ужинать — и сюда всем. Будем бить Кáваса и вникать, зачем. Будем также учить язык руна-си́ми.
Рубленной в скалах лестницей, власть имущие взобрались вверх в крепость. Чача, сдав такли — палки-копалки — в такля-хранилище («ведь у подданных инков не было собственности»), рассеялись.
Кáвас, тот сухопарый чача со шрамом, что пел задиристые куплеты, шёл и задумчиво скрёб в затылке. Спутники спрашивали:
— Сказали, мы будем бить тебя. А за что?
— Смотрите: шрам мой от инков, я не смирялся, с ними боролся… Быть бы мне пумой, чтоб убежать в леса, чтоб умчаться в долины, в дальние страны, где инков нет!.. Накажут меня за песню. Пел я, что чача — гордый народ, могучий. Или не гордый?
— Гордый, да! — восклицали попутчики и на миг распрямлялись. — Гордый, могучий!
— Надо прогнать кусканцев.
Все замолчали, глядя под ноги.
— Клубень Великий так приказал, — вёл Кáвас. — Он обнаружился.
Взоры вскинулись.
— Бились, помните? Клубень сгинул, Мáйпас сказал нам: боги нас бросили, нужно сдаться. Мы, испугавшись, инкам сдались, признали их. Ночью Сиа, жена моя, говорит: зовут тебя; не ходи, муж, вдруг это дух? Как быть? Известно: к духу не выйдешь — сам войдёт.
Закивали.
— Вышел на голос — он убегает, манит в ущелье; в трещине голос: Кáвас, я тут, брат! Сунул я руку — Клубень Великий, бог наш!!
Все обмерли.
— Приложил его к уху, слышу: возьми меня; буду правду вещать и истину… Приходите, Клубень Великий правду объявит.
Кáвас направился к стенке диких камней, в лачугу. Грубый очаг светил красным отсветом в шкуры слева, в женщину справа, сыпавшую в чан клубни. Дым тёк сквозь крышу прелой соломы; а на стропилах — вяленый кролик… Сев на пол, Кáвас сдвинул колени под подбородок.
— Сиа!.. Ты, Сиа, не говоришь со мной. Раньше ты говорила.
— Кáвас, устала. Да и не знаю, что говорить тебе. — Опустив чан на угли, чтоб разогрелся, Сиа вздохнула.
Кáвас сказал: — Накажут.
Женщина охнула. — Муж, за что же?
— Таклей размахивал. Мол, за это. Но не за это. Я ведь пел песню. Сеяли в поле, я пел про чача, храбрых, могучих…
— Кáвас! Казнят тебя — как мне жить одной? Отберут детей — как им будет?! Кáвас, не пой ты песен, не затевай дел с Пи́пасом! Пи́пас — вождь, отвертится. А кто ты? Общинник!
Кáвас завёлся: — Нет, Сиа! Надо спровадить инков! Мы отдыхали бы. Ведь поля мы засеяли? Для чего рыть землю инкским владыкам? — Быстро вскочив потом и завесив вход пологом, Кáвас вытащил и поднёс к огню крупный Клубень из золота, зашептавши: — Грейся, Великий, сил набирайся! Жизнь дай хорошим чáчаским клубням, порть клубни инков! Выпусти корни, вбрось семя в женщин, пусть множат воинов! Срок настал инков гнать!..
Он сунул божественный Клубень в нишу. Сиа свернула полог при входе — дым опрокинулся снежным вихрем, ибо изменчив высокогорный взбалмошный климат. Дети пришли, уселись. Варево Сиа вылила в чашки; выпили… После Кáвас замазывал щель в стене жидкой глиной с соломой; Сиа лежала и дожидалась, чтобы младенец сам подполз. «Ибо он должен сам лезть к матери и достать её грудь; сосать приходилось, став на колени и никогда — в подоле и на груди у матери».
Под вой раковины на площади в снежных сумерках собрались порошённые снегом толпы. Градоначальник, кутаясь в мех накидки, ласково молвил:
— Чача, упрямцы, что мы обсудим? Как мы работали — это первое. И за что судим Кáваса — вот второе. Что кому нужно — третье. Плюс зачем руна-си́ми — тоже обсудим. Пусть же десяцкие, всех исчислив, скажут наличность пятидесяцким, те скажут сотникам, пятисотникам и так далее.
Когда Мáйпас и Пи́пас, лидеры местных трёх тысяч чача, люд подсчитали и доложили, градоначальник начал с упрёком:
— Нет двоих?.. Плохо. Мелочи сказываются в большом. Сегодня — как вы работали? Должных личным трудом служить Сыну Солнца — тысяча триста, и на поля вышли все, — при том при всём вместо ста двадцати полей взрыто сто полей. Для чего же начальник план составляет, ночи не спит в тревоге? Плохо работаем и поём трудовые песни… Выдать ленивых! Где они?
Лунный свет через редкие, клочковатые тучки высветил чача, вытолкнутых из толпищ.
— Бей нерадивых! — крикнул Римаче. — Кáвас!.. Где Кáвас?.. Вот он, смотрите! Кáвас за что будет бит? Сказать вам? Он не на том плече, мы все видели, таклю нёс, этой таклей размахивал. Мог убить кого — и тот пýрех убитый впредь не работал бы. Покалечить мог — и тот пýрех увечный жил бы из милости и за счёт Благодетеля, ну а мы бы трудились. Вот вам и Кáвас!.. Будем стегать его. Так, старейшины Папамарки, мудрые?
Старики подтвердили. Родичам трутней выдали палки, и экзекуция состоялась. Кáваса сшибли, он повалился… Градоначальник грозно спросил:
— Одумались? Проявите покорность.
Много побитых стали просить в слезах, чтоб и впредь «колотили, били, учили».
— Славно!.. — Довольный инка-по-милости перешёл на другие важные темы. — Что кому нужно — мы подсчитали. Сказано Потрясателем Мира, а Тýпак Инкой Йупанки удостоверено: у кого нету нужного — дать тому. Виноват подлый Кáвас, но получает шерсть на одежду, целый мешок. Ликуйте. Айау хайли!
— Хайли-ахайли!! — вторили толпы.
Кáваса унесли с мешком, и Римаче продолжил:
— Про руна-си́ми… В чём тут смысл? Почему руна-си́ми, а не ваш глупый чáчаский говор? Тёмный язык — мысль тёмная; светлый язык — мысль светлая. А светлей руна-си́ми нет вокруг; и на нём говорят подвластные Сыну Солнца. Главный учитель вам назовёт слова.
Вмиг плюгавый чиновник вскрикнул: — Тýпак Йупанки!!!
Толпы сказали: — Тýпак Йупанки!!!
После вникали в смысл «митимáе», также в смысл «рýрай»: «пóдать» и «делать». Уразумевши эти два слова, чача немедля одушевились, взоры прояснились; ведь наличествовала тенденция, что они, «усвояя речь инков, сбрасывали отсталость, невосприимчивость, и у них бралась склонность к тонким предметам; ум устремлялся к высшим» идеям.
Жрец Айуана выпалил здравицу:
— Повторим за мной: Солнцебог Победительный, жизнь питающий, день рождающий, нас кормящий! Возблагодари, бог, инку из инков! Он, милосердный, с тёмных стезей нас вывел в мир света! Много картошки мы соберём ему, Сыну Солнца! Мы его любим!..
Чернь повторила и удалилась с кладью духовности. Господа скопом двинулись в крепость. Выше её был дом в пещерах, сдобренный блоком внешних стен и увенчанный крышей свежей соломы. Он вис на пике и достигался маршем ступеней, узких, высоких и кривоватых, так что Римаче и Айуана шли потихоньку, не без опаски. Прежде был двор; затем коридор ввёл в зал с паласом, где в клиновидные окна бил свет луны, а печка, — ёмкость на ножках в виде яйца, рефлектор, — пыхала заревом.
— Славный дом! — произнёс жрец, греясь. — Будто у принца! Что помогает тебе жить справно? Мудрость твоя иль духи?
Андские духи, то есть деревья, скалы, могилы, храмы, подвалы, совы и прочее, населённое сверхъестественным, были чтимы, как, скажем, лары либо пенаты в римской культуре, и столь же властны.
Выйдя, Римаче вскоре вернулся с крашеной керамической головою в шапке. Жрец, тронув ручки, соединявшие два наушника этой шапки, вскрикнул в восторге:
— Кто это сделал?! Точно живая! В Куско не сыщешь!
Градоначальник, вынув из ниши чаши из глины, сдвинул к рефлектору табуреты.
— Да, в Пупе Мира нету такого… На голове сей леплена шапка с как бы наушниками от ветра. Что за народ их носит, друг Айуана? Ну-ка, подумай.
— Инки, аймарцы… больше не знаю.
Хекнув, Римаче присел. — Друг, выпьем.
И «голова» засочила вино из горлышка, в кое ручки сливались.
Жрец, глотнув, подскочил. — Йау, вкусное!
Опрокинув в рот чашу, градоначальник опять ушёл — и доставил иной сосуд: расписную чету в соитии. Жрец взирал, как она льёт пьянящую влагу из ручек с горлышком.
— Айуана! — начал Римаче, ёмкость отставив. — Я точно сокол, видящий кроликов и не ведающий, что выбрать. Много событий; странные происходят дела. Предчувствую перемены. Наш Хромоногий Тýпак Йупанки скоро вторую ногу сломает.
— Йау!! Сломает?! — жрец изумился.
— Ночью однажды мне повелели от Виса Тýпака принца, многомогучего: здесь послы царства Тумпис, ты размести их. Принял я тумписцев, спать лёг. В полночь посол с кувшинами, из каких нынче пьём с тобой, просит чести с ним выпить, сам узкоглазый, в шубе из меха. Пили по-нашему — знает свычай! — и я спросил, откуда он. «Из Великого Тумписа, из огромной страны!» — шумит. «Славно знаешь язык наш». — «Близко, — шумит он, — Тумпис Великий от Чачапуйи. Тумпис могуч, силён! А в друзьях его — земли Ки́ту, Каньáри, Сáнку и Чи́му». — «Куско, — веду ему, — эту Чи́му разбил давно». — «Пью за вас, за героев!» — он говорит мне. Я всё хмелею. «Тýмпальа Первый, Тýмпальа Вечный, — снова шумит посол, — самый знатный! Он отпрыск Моря, он синей крови!» — «Солнечной крови, — я отвечаю, — мой благодетель, звать Титу Йáвар!» Щурит он глазки, смотрит в упор. «Где муж сей? — вдруг вопрошает. — Мне управитель над Чачапуйей принц Виса Тýпак сказывал, что у вас царь — Тýпак Йупанки, главный из инков. Я был обманут? послан не к равному моему властителю?!» — в крик орёт он. Сколько селений — столько, известно, и соглядатаев. Я признался, что главный — Тýпак Йупанки. Тумписец снова: «Я попрошу тогда проводить меня к Титу Йáвару, как советовал мне Римаче-градоначальник»… Ох, Айуана, солнцуугодный! Вмиг во мне Апу-ри́мак грохнул, ибо смутьянов без разговора вешают вверх ногами, дом засыпают, род истребляют. «Нет, я солгал!» — воплю. А посол этот сбросил пышную шубу, встал в яркой мантии. «Знай, — орёт, — что зовут меня Кóхиль. Сказывай правду!» Я рассказал тогда всё об инках древних и старых родов, а после — о Пача Кýтеке, захватившем власть, и услышал: «Чистых кровей царь Тýмпальа Вечный! Равен ему солнцекровый муж Титу Йáвар, будущий царь ваш! Нынешний царь — пройдоха!»
— Каверзные дела! Чудесные! — Айуана наполнил чаши. — Грозные страны за Айавáкой, что уже наша!.. Вдруг нас захватят?
— Страны могучие… — и Римаче придвинулся. — Кóхиль так сказал, что у Тумписа двести тысяч дубинок. Ежели Тумпис этот державный да Титу Йáвар наш сговорятся, Куско не сдюжит!
Оба со смехом выпили «Голову» и «Любовников», ведь они «были склонные к питию чрезмерно», и опьянели.
— Я очень предан айльу-панака, старым родам! Ты понял?.. Мне Титу Йáвар… Что он сказал мне? Шлю в Чачапуйу, там жди приказа, вот что сказал мне!.. Айау хайли!! Ты, Айуана, срок придёт, будешь главным жрецом здесь, я — управителем… Понял, нет?.. Я дарю тебе! Забирай, друг, «голову» и «любовников»!
— У меня их найдут — накажут! — ныл Айуана, но таки принял дар и побрёл прочь, хныча: — Явно накажут… Ибо закон есть: взял подношение — смерть тебе…
А хозяин, выставив гостя, начал амурничать, но наложница выскочила во двор, где кручи росли к созвездиям… Вон дом милого, вниз от площади… Для чего пришли инки и её отдали старику?
— Так, чача! — днём наставлял Римаче. — Сеять закончили — будем строить дорогу. Эта дорога Куско приблизит; войско поспеет, коль нас обидят. Завтра с рассветом строим дорогу!..
Темень спустилась на Папамарку… но псы молчали, так как не видели в небе Лиса. Встарь Луна не имела пятен, сплошь была светлая. Воспылав ярой страстью, Лис с ней сошёлся и к ней приклеился; с этих пор они вместе. Нынче, однако, псы не брехали. Что брехать, ведь Луны в небе не было — значит не было Лиса…
Тени скользили; Сиа впускала их за оборванный полог. Кáвас их пересчитывал. В очаге тлели угли.
— Тридцать пришли… Давай!
Он вытащил золотой самородок в образе Клубня — местного бога. Все повалились, забормотали:
— Предок! Родитель!..
— Землю Сосущий!!..
Также приветили птичье чучело, вытащенное из тряпок и почитаемое вторым кумиром.
— Тучегонитель!..
— Бог Всекрылатый!!..
Дёргая крыльями, Кондор спел баритоном:
Лис, взобравшийся на небо,
был ещё лисёнком малым,
когда я любимым чача
из-за гор высокоснежных,
Клубень-брат, тебя доставил.
А теперь ты мне поведай,
как живут герои-чача.
Ответствовал слёзный писк:
Брат, крылатый и могучий,
знай: герои-чача нынче —
никакие не герои;
покорились чужеземцам
и поют: айау хайли;
только Солнце почитают
и не славят нас с тобою.
Боги всплакнули. Зрители утирались ладонями.
Унеси меня, крылатый,
из трусливой Чачапуйи!
Я любил свободных чача,
но рабы мне ненавистны!
Кондор вознёсся и захрипел:
Позабывшие отвагу,
променявшие оружье
на копалки чужеземцев
не достойны нас с тобою.
Да останутся презренны!
Гости молили:
— Не улетай, бог Тучегонитель! Не уноси прочь Землю Сосущего!! Мы не трусы! Боги, мы с вами!
Кáвас прижался поочерёдно к Клубню и Кондору. — Говорят они: завтра делать дорогу… кирками бейте инков! И говорят ещё: знак к началу подаст вождь с крыльями… И в Селении Пумы бьют инков тоже. Братья, готовьтесь!
Как все ушли, он шлёпнулся возле идолов, изнеможенный пением и спинной острой болью, ибо недавно был измолочен волей Римаче.
Утром люд вытянулся вдоль склона. Кирки кололи скалы и камни. Вздрагивали концы пращей, стянутых, по обычаю чача, вкруг их голов; от пота чернели робы. Вскоре затишье лопнуло спевкой:
— Айау хайли! Айау хайли! Йэх, топорами! Йэх, камень в пыль! Общинники, попотеем, потрудимся!
Кéчуа, — главный инкский народ, имперский, — с пиками и щитами бдели. Градоначальник щерился: «Славно трудятся и поют, лентяи! Вникли во блага, кое приходит в их жалкий быт!» Из сумочки, что висела на локте, он вынул коки, чтоб угостить старейшин óбщины и курак. Вождь Мáйпас кланялся и заискивал:
— Кока вкусная! Наш Римаче — царь Папамарки!
Вдруг длинный Пи́пас, кутанный в плащ, вскричал для черни:
— Лучше трудитесь, хайли-ахайли!
— Знаешь молвь руна-си́ми! — хекнул Римаче в качестве шутки (длинный курака был туповат, считал он) и пошутил опять: — Пи́пас, Пи́пас! Ты завернулся в эту накидку, будто в шерсть лама!
Все рассмеялись.
— Чача! Нельзя без дороги! — хекал с ухмылкой градоначальник. — Мáйпас и Пи́пас — маленькие кураки, им хватит стёжки. Мне хватит троп. Но Ясный День, иль наместник Востока, иль управитель — им дай дорогу, столь они славны!
Мудр инка-милостью! Знает тайну: будет дорога цепью окраине, прочной связью с Империей. Как обвал, если чача восстанут, хлынут и сломят бунт древоухие, главный инкский народ! А тракты направят дальше и дальше — до Ханко-вáльу и его чанков, смывшихся на Крючок Урубамбы от гнева Куско, и до иных стран. Градоначальники будут там нарасхват, по опыту знал Римаче… Пики, извергнувшись из туманов, княжили в высях. Мыслилось, что низины вроде как чернь, а склоны — как бы кураки, Солнце над ними — как Титу Йáвар, что и возвысил предков Римаче в инки-по-милости. Хорошо вознестись бы некаким пиком, грезил Римаче… С этих глобальных дум восхотел он надрызгаться и ушёл в Папамарку вместе со стражей.
Вскоре вождь Пи́пас скинул свой странный кожаный плащ и выставил крылья кондора, подавая знак восставать.
— Айя!!! — крикнул Кáвас, приковылявший на костылях с пращой в руке.
Чача бросились на солдат; их кирки стучали в шлемы. Кéчуа пятились, но когда покатились в них валуны — рассеялись, и мятежники стеклись к крепости. Древоухие защищались там от снарядов, сыпавших из пращей восставших. Видя, как милый лезет на приступ, чача-наложница с воплем ярости побежала к Римаче. Он с ней управился, а потом подвёл к крепостной стене близких Пи́паса.
— Сброшу их!!
Но те прыгнули сами да и убились. В крепости струсили и решили Римаче выдать повстанцам, прежде порвав ему петли мочек ушей, где каждая — «в четверть вары (83.5 см), а толщиной в полпальца», и удивительно, что «такой мизер мяса, коим кончалось ухо индейцев, был так растянут, что помещал внутрь вещи, формой и мерами походившие на предобрый круг гончара; ведь диски, кои вставлялись в петли ушей их, были огромны».
Вдруг взвыли раковины; в селение ворвалась рать инков с пиками и щитами. В красных носилках был Виса Тýпак, многомогучий, принц и сын Солнца, волей Владыки князь Чачапуйи и управитель. Чача пленили, выстроили на площади. Молодой Виса Тýпак, спрыгнув с носилок, выбросил взлаяв:
— Бунт?! Убиваете?! Возвращаете скотство?!
Дёргая грузными золотыми ушами, он стал дробить лбы пленных. На триста пятом казни закончились. Позже, в крепости, он сел к скатерти с ламьим мясом, водкой, фасолью и обнажил из-под шлема стриженную под ноль голову, стянутую всецветной, как и у всех пачакýтековых чад, лентой. Волос сидевших с ним пятитысяцких перетянут был лентой чёрной, что ниспускала толстые жёлто-красные нити. Тысяцкие, с их меньшей толщью лент, нитей и вставок в уши, кучились на другом конце. Это всё были инки, высшая раса Анд.
Подумав, градоначальник с чашами встал от скатерти, чтоб почтить принца речью и рассказать про бунт: — Эти чача злодеи…
Тот оборвал его: — Повторится впредь — казнь всем! Казнь и тебе, раб! Дай мне зачинщиков. Я отправлю их в Чили… Слово Великого! Пью с ним! — Принц сел на корточки, фасом к югу, выпить с Владыкой, чем вызвал трепет, так как могли это только лишь родственники династа (к ним Виса Тýпак и относился в качестве сына не от какой-нибудь там наложницы, а от пальи высшего ранга).
В сумерках чача молча отправились погребать тела убиенных в ямах ущелья, где, взявшись зá руки, хороводились.
А Римаче их совестил: — Что сделали? Небо в тучах, Солнце не хочет вас! Плачет добрый, могучий наш Благодетель, Светоч Народов! Сколько убито — плачет он — верных кéчуа, кротких, преданных! Но Владыка вас любит, он вас прощает: переселяет вас жить в пустыню, в Чили, в Такаму. А в Папамарке будут жить кéчуа, кои любят Владыку. Выберем должных переселиться!
И отобрали переселенцев.
— Кáвас остался? — тронул Римаче сшитые петли собственных мочек, порванных в бунте. — Он ведь мятежник.
— Нет, не мятежник.
— Таклей размахивал, песню пел…
— Как побили мы Кáваса, — возразили чиновники, — после песни бесстыжей, он стал недужный, мирный, покорный.
— Вот как? Прекрасно… — хекнул Римаче. — Пусть будет сотник. Будет рассказывать: я упрямился, не хотел подчиняться. Градоначальник сильно побил меня, и с тех пор я хороший…
Ибо в вожди назначались лишь те из них, кто являл себя «честным, порядочным, другом общему благу».
Чача скопились около тракта, и их погнали переселяться. К всяким строптивцам стражники строги: стукнет дубинка — череп раздроблен… Много стран видели и прошли в пути: Вамачýку и Вáнка, Чáнка, Ванýку и Вакрачýку. Видели сёла и города на склонах, пастбища, прииски и террасы; видели реки, горы, долины, тракты, мосты и лачуги гонцов в снегах. Акведуками нистекала вода с вершин на поля кукурузы, проса, картошки. Чача шептали:
«Всё земли инков!»
«Светоч — огромный!»
«С небо размером!»
«Он сто мешков ест сразу!»
«Ходит он быстро: шаг — в Чачапуйе, два шага — в Чили!»
«Видишь, гора в снегу? Это шапка его. Да!»…
Вдруг конвоиры грубо теснят строй. Мчит вихрь носильщиков с кем-то сгорбленным и с сигарой в зубах. Взволнованно начинают шептаться стражники-кéчуа, что ведут чача к новому месту жительства за три тысячи миль от прежнего.
«Что, узнал?» — «Стар я, вижу нечётко. Кто там, скажи мне?» — «Там на носилках Вáман Ачачи, брат Благодетеля, и он также наместник инкского Севера. Я с ним, помню, в поход ходил!» — «А я, знаешь, ходил с кем? С Кáпак Йупанки! Брат Пача Кýтека! Я ходил с ним на чинчей. Чинчи такой народ, что теперь всё на север звать стали „Чинча“… Жили у моря и говорили: бог Чинчакáмак лучше, чем Солнце. Мы и пошли на них. В их пустынях мы мёрли, так как мы горцы. Кликнешь, бывало: „Чилька!“ — нет Чильки, высох, как лужа. „Калька!“ И Калька мёртв. Мы костры из тел жгли — еду варить — и решили: Солнце не хочет нашей победы, ежели жжёт нас, так что мы сохнем… Чинчи напали! Дротики мечут, громко хохочут. После сражений стало нас мало. Сели в пустыне, ни отступать нам, но и вперёд нельзя, потому как сил мало, это во-первых; также трусливых Кáпак Йупанки строил у бездны и говорил: вниз разом!»…
(Чинчи, однако, зря ликовали. С гор приходили новые рати, и враг «утратил часть своей гордости». Генерал генералов Кáпак Йупанки вздумал кончать войну, ибо чувствовал, что его «милосердие для противника обращается против собственных армий, кои страдают в зное пустыни». И он отправил чинчам послание, предуведомив, что-де «выполнил волю главного инки, кто его брат, которая в привлечении чинчей миром, а не войной; случилось же, что чем больше те получали, тем хуже делались; он клянётся им, что, когда не смирятся, их всех прикончат, земли их отдадут хорошим переселенцам, кои прибудут»).
Сей экскурс в прошлое приведён ради отдыха перед сценами знойными и жестокими, поелику уносимся в страны чудные и не ведающие инков.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
в коей видим, в сколь гнусном варварстве жили страны, не знавшие добрых инков, но возжелавшие, чтоб восстала звезда, которая принесла бы им представление о могуществе разума, для того чтобы род звезды, в устремлении к лучшему, превратился из диких во человеки…
Солнце жёг океан близ острова под названием Пуна. Восемь носильщиков воздымали вид ложа, в коем в обнимку были два мальчика, друг на друга похожие, точно капли воды. Сложны, прихотливы их одеянья. Вот, скажем, шапки: антропоморфная голова с клыками, злыми глазами из бирюзы, свергавшая из затылка перья, висла над тварью, убранной лентами; зев её изливал сноп змей, обкладывавших пасть пумы, кою терзали страшные когти и под которой валом спускались грозди из монстров; весь этот хаос был в изумрудах, схваченных кольцами из электрума.
Шапки были сложны. Жизнь Тумписа, — нет, Великого Тумписа, — много, много сложней.
Упитанны щёки мальчиков, синью обведены их очи. Кожа нагрудников шита золотом с женским ликом по центру. На поясницах — по ягуаровой яркой шкуре; выше шнуры из золота обжимают полную рыхловатую плоть. Затянуты в дрель (газ) ляжки. Пущенная меж бёдер и через пояс лента, вся в бахроме, спускается до напяточников из золота. Пара скипетров на коленях у мальчиков — вроде карликов из электрума, изрыгающих изо ртов пук нитей.
Близ пары мальчиков в воздымаемом ложе стыли мужи с верёвками выше пояса да со шкурами пум на спинах; головы — конусом и со скошенным лбом, носатые. Были также и женщины благородных кровей, грудастые, тучные и весьма косоглазые, с пуком чёрных волос на темени, в узких юбках, с браслетами. Были воины в фартуках с броневыми пластинами и с огромными пиками.
Волны бились о берег; люди зевали.
— Тýмпальа Первый, — рек правый мальчик, — я хочу во дворец идти. Ибо я там вкушать хочу, видеть танцы, пить вина.
— Тýмпальа Первый, — зло сплюнул левый. — Здесь хочу быть. Понятно?
Оба насупились.
От мужей отделилась личность, телом сухая и хитроликая, староватая возрастом; сев на пятки, сделала из рук створки вроде двух раковин и сказала. — Смерд твой, я квакну?
Мальчики ждали.
— Чадо бурливой, в волны одетой Матери-Моря! — запричитала личность, помедлив. — Срок, чутко вняв речам, слитодвойственной мыслью разом извергнуть суть, как её достаёт из недр супротивников рыба-меч! Семь лун минуло с красок дня, в кой великий батаб твой, ревностный Кóхиль выехал в Куско. Царь Синекровый! Внемли, что пишет! — Личность явила с жестом дощечку. — «В день три Жары, в год Кими двойственной эры, был в Чачапуйе. Тамошний глупый батаб болтал. Я понял: два халач-виника в Четырёх Сторонах тех инков — только не слиты, как ты, в Едином. Инки настырно рвутся на север; в Киту, наверно, целят копьё. Извечный царь! О, Четыре-Ноги-и-Четыре-Руки! Двойной Кумир! Халач-виник! Шли послов в Киту врать-подстрекать к войне с теми инками, ибо инки до нас дойдут!»
— Всё! — велел левый мальчик. — Хватит. Домой!
Носильщики шли мощёной дорогой, свита шла сзади царского ложа в виде носилок. В роще налево были лачуги с травными крышами. Чернь валилась в пыль толпами с истеричным воплением:
— Хун-Ахпý и Шбаланке!
Левый злой мальчик ткнул своим скипетром на кого-то из падших, и офицер заколол троих.
За сплошной белоснежной стеной на площади тут и там были стелы возле домов на плитах (то есть платформах), одноэтажных и плосковерхих; к ним вели лестницы, частью узкие, частью очень широкие, без перил и с перилами. Главный, царский дворец, огромный и белоснежный, с многими входами, выделялся помпезной, вычурной лепкой.

Вставши из ложа, двинулось к лестнице, обнимаясь к удобству, парное нечто, общее тазом, то есть сиамские близнецы, — те мальчики. Это был Синекровый — царь, халач-ви́ник Тýмпальа Первый, Тýмпальа Вечный, проковылявший в сумрачный зал. На тумбах горели лампы. Газовой ширмой крылся помост с лежавшим там ягуаром красного дерева в золотых инкрустациях. Фавориты-наложники набежали немедля с винными чашами. Ведь, «помимо чванливости и безмерной гордыни», царь этих тумписцев «отличался дурными, гнусными нравами: он имел содомитов». Влезши на тронного ягуара, Тýмпальа (левый, злобный) велел:
— Хач, смерд, наш великий батаб, скажи дела!
Сев на пятки, личность, вещавшая до того близ моря, стала вопить и изредка трогать ширму, что отделяла царя от зала:
— Тот, Кто с Циновкой! Тот, Кто Шбаланке и Хун-Ахпý! Божественный! Отягчаю я слух твой! Слов нет изречь, сколь мерзостен преклоняющий высь к низинному, дух к материи! Послан нам, — Хач, вскочив, тронул пол десятью сразу пальцами, — ты наполнил довольством Тумпис Великий, сердце вселенной, место богов! Сель золота, серебра, какао, шкур и маиса бурно течёт к нам в славное царство! Лавы сосудов, раковин, соли, ярких одежд из Тумписа, кой Великий, ибо он правится-возглавляется Вечным, льются на Манту, Сáньа, Каньари, Кóльке, Пучи́йу, также на Ки́ту и Боготý, о, царь, в область чибчей-муисков!.. Но — боги! — вздумали Матерь-Море скиснуть, Месяц погаснуть?!.. — Хач пролил слёзы. — Горе нам!! Раб Великого Тумписа — Чи́му — сгинула! С южных далей от инков движется войско! Как не радеть в тоске, Сын Глубинно-Пучинистой? И решили мы, прочитавши в очах твоих, слать послов наших в Манту, в Ки́ту и к чибчам, брать в жёны птичек, маленьких рыбок, юных красоток. Женим тебя, царь, бог Синекровый! Тести дадут нам рати в подмогу, и воеводы, вздевши носилки, где ты воссядешь, пылом очей твоих инков сгубят! Вот что смиренно мыслят батабы по получении писем Кóхиля, соглядатая у премерзостных инков.
Хач замолчал склонясь.
Левый мальчик, роясь в носу (а брат его, «Правый», тискал наложниц), бросил угрюмо: — Хватит про инков. Танцы будем смотреть и мучить кого-нибудь.
— Внемля, маюсь восторгом, что претворится воля божественных Двух-в-Одном, халач-ви́ника халач-ви́ников! — Хач поспешно досказывал: — На плотах — вскоре, завтра же! — поплывут наши сваты. Стройные пальмы, вызнав, сколь Вышнее их возжаждало, вспыхнут ярой любовью к богу богов!.. Теперь же, хоть и досадно гневать Извечного, но взгляни на зловредных, скотоподобных, гадких рабов твоих, на восставших сульáна!
В зал ввели голых, грязных, лохматых, смрадных трёх пленников, повалили их. Кач, великий батаб, заплакал:
— Мне ли убить себя, чтоб не видеть мучений Лика Прекрасного, Слитодвойственной, Вечно Мыслящей Мысли бога Двойного?! Ведь вознестись от нас может нынче же! на Тринадцатом Небе может питаться манной с нектаром! Но — он есмь рядом, близ жалких смердов, благостно-милостив, для того чтоб нам быть, дышать! — Хач взглянул на поверженных приведённых невольников. — Кто жрёт кал, тот им всех чернит?! Значит, нам, взяв пример с вас, Вечному не служить? предать того, кто есть Тумпис и без которого его нет?! — За волосы вздёрнув пленного, Хач проткнул его шею ногтем мизинца, кровью окрасил всех и разрéзал всем пленным чрева ланцетом.
Глядя, как пленные разминают кишки в руках, и обняв свою половину, Левый подумал: «Брат мой плохой… Двойной бог? Я не хочу так. Делать своё желаю. Правый препятствует… Я хочу быть единственным богом — не двуединым!» Братья сцепились и повалились. Правый повизгивал и махал кулаком, не глядя. Левый же левой рукой бил молча и планомерно.
Пара сановников зашептала: «Что созерцаем, мудрый верховный жрец Май?» — «Божественное в двух лицах, производящее в пре историю, Хач, великий батаб». — «Полезно ли это Тумпису?» — «Есть борение как развитие, а оно нам в пользу». — «Немилосердный бьёт Благодушного. Он убьёт его». — «Тумпис побыл менялой, пусть станет воином».
Тощий вредный батаб подслушивал. Май и Хач продолжали: «Если, случится, Левый решит быть пастырем без советов всеведущих, то есть нас, верховный жрец Май?» — «Как долго он в этом случае будет хлопать бичом, великий батаб, друг Хач?»
В конце концов утомясь, Двойной Кумир прекратил борьбу и залез на трон-ягуара. Правый занюнил: — Спать хочу!
Левый сжал ему нос, твердя: — Сказки слушать хочу, как пращуры били-одолевали страны-народы. Сказки мне!
Тощий вредный батаб, кой был в оппозиции к Хачу с Кóхилем, да и к Маю, начал поспешно:
— Некогда Тун, царь Тумписа, мудрый предок твой, о, владыка Извечный, отбыл великой Матерью-Морем сыскивать земли и покорять их. Плыл он предолго. Сто двадцать пять скачков сделал Солнце, триста, пятьсот скачков — берега шли безлюдные, разве только с мартышками. Встретив красное устье, плыл Тун широкой красной рекой сто лет. Начался дождь кровавый с громом небесным; в красном тумане лодки увязли. Влез Тун на сейбу-небодержательницу сквозь тучи. Там — Ицам-на, верховный бог, с перебитым щитом, со сломанной молнией. «Дам тебе Опахало Небесное и Небесный Букет, Тун, Трон и Циновку, если спасёшь нас от великанов», — вот что сказал бог.
Тучи пробило темя гиганта, и бог помчал к нему. Воевали они сто, двести, триста столетий без перерыва.
Кровью мартышек трижды облив алтарь, Тун гадал по их лёгким. Выпал знак следовать дальше посуху. Шёл Тун год, шёл Тун три; в знойном царстве в пустыне видел поля в цвету; из щелей ночью вышли плоскоголовые и поля оросили, утром же спрятались. Тун мочился в их щели. Плоскоголовые в страхе вылезли. Тун спросил:
«Кто? чему поклоняетесь?»
«Мы пичýнси, а поклоняемся Ночи. Головы плющим, чтоб лазать в щели».
«Вы смерды Тумписа! ” — объявил Тун этим пичýнси и, взяв невольниц этих пичýнси, тронулся дальше.
Путь вёл по чащам. Люд, живший в дуплах, Туна заставил, чтоб он алмазными твёрдопрочными кирками им выдалбливал дупла. Тун был премудрым. Он разбросал жучков-древоедов, чащи упали. Люд, живший в дуплах, ползал по травам, горько рыдая.
«Кто? чему поклоняетесь?» — Тун спросил их.
«Пáсау; поклоняемся Чаще».
«Вы смерды Тумписа! ” — объявил им Тун, и с алмазными кирками этих пáсау он отправился дальше.
Шёл он брёл до страны в песках, где слепые бродили возле смарагдов, ибо смарагды их ослепляли.
«Кто? чему поклоняетесь?» — Тун спросил их.
«Мáнта; а бог наш — это Смарагд».
«Дам зренье, будете смерды Тумписа?»
«Будем смерды», — плакали мáнта.
И Тун сказал им: «Ваш бог слепит вас, ибо раздетый. Бога оденьте в царские грязи».
Мáнта так сделали — и прозрели.
Тун, взяв большой смарагд этих мáнта, шёл-брёл невесть куда. Встретил город мужчин в пустыне.
«Кто? чему поклоняетесь?» — Тун спросил по обычаю.
«Ничему и никто. Пришли великаны, отняли женщин, нас пожирают, дабы набраться сил на богов».
Встряслась Земля! Подошли великаны, съели мужчин, а тумписцев не заметили, так как Тун в них сверкал смарагдом. Вдруг великаны кинулись драться-биться с богами. Грозный Ах Пуч бог сто исполинов махом вбил в горы, сделав вулканом, звать Котопахи. Сто великанов грозный Бакаб расшиб, превратив их в созвездия. Но гиганты поймали в сеть Иш Чел-Радугу да и заперли под скалой, в колодце.
Тун подошёл к ним и предложил им:
«Будем, как смерды, рыть вам колодцы. Вот вам невольницы, ешьте-жрите их».
Великаны запели и заплясали, топотно, тряско.
Тун, выбрав место, где почвы плакали от тех топотных плясок чёрной горючей горькой слезою, кирками из алмаза вырубил щели, чтоб натекало больше слёз. Оросив алтарь человеческой кровью, Тун вызвал Солнце.
Солнце приблизился, и обуглились лица. Тун предложил:
«Бог ярый! Выручу дочь твою Иш Чел-Радугу, но свети жаркознойно».
Кирками из алмаза Тун раздробил скалу над колодцем; Радуга выскочила на небо, и великаны быстро вернулись, Тун им сказал:
«Пляшите и пожирайте нас».
Те пустились в пляс. Почвы стали лить слёзы; Солнце поджёг их. Вспыхнуло пламя с гребнем до неба, и великаны разом сгорели, вплоть до костей своих.
Бог богов Ицам-на в награду дал Туну Трон, Циновку, дал Букет Неба, также Небесное Опахало. Тумпис Великий принял династию и владыку — Туна-героя, предка преславного Синекрового Тýмпальи, халач-ви́ника Вечного, Вековечно-Извечного, повелителя Тумписа Превелико-Великого!
И действительно: там, где прежде вершил Тун подвиги, «находили огромные великанские кости, часто берцовые; о размерах не скажешь без восхищений; видно и место, где были стойбища великанов подле колодцев».
Инки поспешно распространялись и приближались к северным странам. По получении вести Кóхиля, что-де «инкское царство тысяч в четыреста больше Тумписа, о, Четыре-Ноги-и-Четыре-Руки, один халач-виник!» — Хач выплыл с Пуны на побережье, полное бальсовых и иных судов. То был порт королевства — Манты Великой. Путь вёл к столице, видной за дюнами и за рощами, и Хач тряс грузной шапкой, сидя в носилках, мысля печально: «Днесь древний Тумпис смотрит в рот Манте… Люди трёхруки, и не осилят третьей руки людской, называемой духом, тысячи ратей. Только у Тумписа в этой третьей руке лишь дань с мольбой…»
Скоп лачуг с тростниковыми крышами кучковался у площади, над какой зыркал идол жуткого вида ростом под пальму. А на дворцовом длинном помосте, застланном шкурой, ждал человек в тюрбане в искрах смарагдов, в юбке зелёной, в схожих сандалиях. То был Тева, длинный, мосластый местный король. Вблизи собрались сановники в шапках красочных перьев, все в ожерельях. Три опахала тихо развеивали жару.
Хач начал: — Как утешительно зреть тебя, Изумрудноблестящий, вождь вождей Тева, мучась, что страждет Векоизвечный, царственный брат твой, ибо не видел тебя лет двести! Он повелел мне: Хач, стань колибри, мчащим к возлюбленной! Стань пустыней, алчущей ливня! Глазом стань и в упор смотри, за меня смотри — до слепой слепоты смотри — на великого, бесподобного Теву!!
Тут же рабы поднесли кувшины с тумписским и пунийским, лучшими винами в тех краях, корзиночки с изумрудо-смарагдами вкупе с красными и зелёными шапками, с золотыми браслетами, скипетрами, подвесками, с колокольцами, с кольцами.
— Хорошо! — произнёс король. — Мать-Смарагд нам сияет, всем пусть сияет! К ней идём. Надо ей рассказать, дать жертву, посовещаться с ней. — Он слегка протянул мизинец с крашеным ногтем, кой Хач почтительно взял за край двумя пальцами. И пошли.
Поблизости было капище, где жила Мать-Смарагд всех мáнтасцев и где стены до верха крыли смарагды. Главный Смарагд светился. У чурбака стоял жрец, претолстый. Он держал кролика.
— Ката! — вымолвил Тева. — Жертвуй богине. После мы вместе будем пить с тумписцами, дела решать.
И чурбак окровавился…
Во дворце Тева сел в окружении знати. Под опахала и под жужжание мух гость вёл:
— О, Тева! Словно ткачиха, ткущая ткани, я потяну речь пылкой любви… Не смел бы, если бы Манта, коей нет равных, и славный Тумпис не были в дружбе с эры гигантов! Вот слово Тýмпальи для тебя, божественный… Робость мне крепостит язык. Ибо дожили, что Двойной Кумир, Вековечный, зрелость постигнув, просит сестру твою в крали-жёны, Мáнтаский Тева!!
Стали рядиться. Ката жрец попросил за невесту рать для войн с Ки́ту, горной державой; Тева же походя вздумал взять в свою длань руль тумписской государственности вообще:
— Хач, слушай! Я говорю тебе! Я, вождь óа, кофáнов, га, семига, ачуáр, тэн, манта! Младший брат дружбы, слышу я, просит? Хочет в вожди меня вместо Тýмпальи? Я готов стать вождём ваших тумписцев. Будем жить, воевать будем с Ки́ту. Я говорю так.
Хач, привстав, обратил ярость в блеф: — Что?! Ки́ту воюет с Мантой?! Плачу, терзаюсь! Ибо недавно дочь царя Ки́ту стала супругой Тýмпальи Вечного… Манта что, отказала мне? Я пойду за невестой в доблестный Куско: инки нас просят… Нет, ради Тевы, ибо люблю его, посещу прежде Ки́ту! Я умолю прекратить прю с Мантой! — И Хач побрёл вспять, мысля, что провалил визит.
— Говорю: стой!.. Стой же! — Тева с помоста подал мизинец, кой Хач, скакнувши, рабски почтил, треща:
— Рад близ Тевы вращаться! Алчу быть пяткой его, пупырышком, бровью, родинкой, ветром ануса!
— Говорю: расскажи про инков. Нужно подумать, нужно решить, как быть, — взволновался король.
— Да! — выли сановники. — Расскажи нам!!
Хач вновь уселся.
— Блеск халач-ви́ника пал на Жёлтую Сейбу; вскоре оттуда прибыли инки, дабы служить нам. Тýмпальа взял у них Чачапуйу в дар… — Хач повёл речь о дани, брачном союзе инков и тумписцев, о желании инков быть в подчинении «Слитодвойственной Мысли» и о могуществе царства инков.
Мáнтасцы стыли и не дышали; мухи звенели.
— Выслушал. Разыскать сестру, — был итог.
Пришедшую уложили, ибо женились там при условии, что «друзья жениха и родичи насладятся невестой самые первые». Плот с ней отбыл на Пуну — тумписский остров, бывший столицей.
Хач, минув джунгли, реки и горы, ввёл себя в зал других палат, мрачных, копотных, — к гегемону пространного царства Ки́ту.
— Сладко, о, сладко, Сейбоподобный, мне лицезреть тебя и завидовать, что ликуют народы, алча служить тебе…
На вместительном троне, сделанном из рогов, ник царь, схожий с огром. Знать размещалась вдоль стен на шкурах; пламя трещало в центре меж идолов.
— Ибо дожил, однако, наш Синекровый… — Хач не закончил, так как вбежавший в зал человек воскликнул:
— Манта не платит дань!!
В зале взвыли. Втащенный белый олень был свален, проткнут ножами, высосан ртами. В страхе, что вскроются отношения с Тевой, лидером Манты, Хач, выпив тоже кровь из оленя, начал крыть Манту пакостной бранью.
Трон стал хрипеть: — Кто, кто больше Шири?! нет таких?! Я могу превращаться в горы!! — И царь рванул стремглав с исполинской дубиной к выходу… Вскоре орды с квадратными, шаровидными, плоскими и трёхгранными головами, выставив пики, двинулись к Манте, на побережье, то есть на запад. Хач трусил следом, ноя:
— Мне дожидаться и пребывать здесь?
— Трус ты? Или не трус?! Ответь мне, и я размыслю, что надо делать! — выкрикнул Шири, не обернувшись.
Хач поспешил за войском.
У побережья в ливневых джунглях две рати сшиблись. Царь Ки́ту буйствовал, тряс лохматой башкой и крушил врагов. Наблюдая, Хач думал: «Глупые дурни! Здесь обессилев, здесь обломавши клык, голоротыми выйдут к инкам, что уже рядом, как пишет Кóхиль. Боги, что делать? Их ли руками Тумпис Великий будет спасаться?»
Армия Манты пятилась. «Хач, предатель, тумписец подлый!» — крикнул какой-то подданный Тевы, Хача узнавши, и наподдал щитом. Сухощавый и старый посол повергнулся… но душа, взрезав девять сфер из двенадцати, возвратилась в плоть, и великий батаб поднялся, щупая темя с пуком волос на нём на предмет невредимости. Он увидел: в красном тумане возле костров пьют ки́тусцы.
— Всех убил и ликую! Боги и люди мне угождают! Кто против Шири?! Палицу дошвырну до звёзд! Могу превратиться в горы! Мне служат мёртвые!
Срезав с пленников головы, победители наполняли их раскалённой в пламени галькой; так получались мини-головки, — кстати, с ресницами и с причёсками прежних, взрослых размеров. С песнями и с корзинами, где лежали головки, горцы пустились в отчие выси. В Ки́ту трофеи ссыпали в лужу, часть отослали прочим противникам для острастки.
В царских чертогах, полных орущих пьяных задир, Хач сватался от лица «Вековечного Синекрового Тýмпальи», чтоб связать Ки́ту с Тумписом прежде, чем грянут инки. Но вместо этого Хача стали швырять по кругу. День спустя зарядили дожди без продыха. В тучах прыгал олень, сшибая копытами гром и молнии. Горцы стихли в тревоге, ибо олень был богом. Шири, безмолвно сидя на троне, складывал чётки из позвонков убитых, пил и грыз ногти. Сырость, втекая в узкие окна, пáрила в пламени… Хач опять повёл «о желании Тýмпальи ведь хоть как-то вкусить от Ки́ту через женитьбу»; он дал подарки: бусы и кольца, чаны с пунийским вином да с тумписским плюс шлем древнего Туна, пращура нынешних халач-ви́ников. Шири, выставив девочку лет двенадцати, брякнул:
— Хач, я смял Манту, точно травинку. Все мне подвластны. Я даю Пакчу вашему выродку. Я царь Тумписа.
— Жутко! — ожил посол. — Мечтать не могли не смели о стольком счастье! Бог Эк Чуах к нам милостив! О, владетельный Шири! Ты наш спаситель от злого инки с именем Тýпак! Ладно всё ладится!
— Инка Тýпак?! — горцы дивились.
В телодвиженьях Хач описал беду от агрессоров с юга и услыхал: хха! будут дерьмо жрать инки!!
Белым оленем, с войском из горцев, девочка ехала к жениху на Пуну. В Манте дрожащий, бледный, мосластый, длинный вождь Тева вышел навстречу. Хач, опрокинув чан с головёнками мёртвых мáнтасцев, объявил:
— Царь Шири велел: «Я главный; мне подчиняйтесь. Я могу жить на небе и на земле. Я истинный! Так как я вас разбил, на память вам — высушенные манта. Кто против Ки́ту? Я вам отец, бог, царь и владыка».
— Я говорю вам, — выпалил Тева, — надо жить в мире! Что воевать? Мы мирные! — И он вывел из собственной свиты знатного. — Он был против, он всё затеял!
Ки́туский главный военачальник, срезав повинную во всём голову, прикрутил её к поясу; а принцесса на стройном белом олене плакала. Было то необычно, все замолчали.
Плот отвалил из Манты Великой в Тумпис Великий, то есть на Пуну. Семь исполинских бальсовых брёвен плыли по морю, крыты настилом. Ночью в каюте девочка Пакча, сидя на шкурах, слушала хлюпы где-то под днищем, думая о своём, плача… Реи стучали в прочные мачты; кили скрипели в щелях меж брёвен. Были гребцы при вёслах, что подгребали и препирались: «Мать-Море светится!» — «Ты, сульáна, дурак. Не Море — Солнце там светит. Солнце под Морем правит к востоку, чтобы там день зажечь». — «Ты, пуниец, и сам дурак! В небе Солнце малюсенький, а когда в Море падает — то большой вдруг? Так не бывает!» — «Пень ты, сульáна, хоть и прокалываешь нос костью. Солнце, он воздуху набирает, чтобы дышать в воде, раздувается». — «Почему он краснеет?» — «Ты, дурень, к праздникам наряжаешься? Солнце тоже, идя к Луне, ярко красится». — «Под водой Луна?» — «Ум твой рваный, как парус, дурень-сульáна! Глянь: коли нет Луны — значит, с Солнцем она в пучине!»
Волны в плот брызгали расшибаясь. Брызги тревожили. Возбуждённая мысль рвалась прочь на волю; Хач со светильником влез в каюту к принцессе.
— Дева, представь восторг, кой я чувствую, отыскав тебя, — ту, чей кровью возвысится без того кровь высокая. Возраст сколько лет?
— Мне двенадцать, — молвила умница, оставляя надеяться, что затмит она кóхилев план по инкам и, прельстив Тýмпальу, не преминет свернуть плот тумписской и пунийской политики в реки севера. Ибо Хач однозначно мнил: в инках гибель, а не спасение. Если Тева и Шири — глупые скаты, от коих тумписский хилый щитень спрячется в панцирь мудрости, инки — жёсткий расчётливый спрут с присосками. Надо строить альянс не с инками, а крепить альянс с северянами, кои проще, бесхитростней… Мыслей в Хаче — колодец, мы зачерпнули лишь на поверхности.
— Душно здесь. В высях легче. — Пакча вздохнула.
— Муки понятны. Плачу в душе я! — выдал Хач.
Встреча кончилась.
Пакча вышла на палубу. Море и́скрилось, рыбы прыгали и летали… Волны метнули в ноги ей пламя… Странное дело: пламя — и в мокром?.. Нет, это сайра… В тёмной пучине вспыхнули очи, молча взирали. Пакча дрожала, стыла на месте и опускалась ниже и ниже… Очи наплыли, выдвинув щупальца… Пакча вскрикнула и отпрянула к мачте.
Сверзился смерч. Рулевой заскакал меж килей. Хач бросил в волны в жертву ламёнка. «Ешь, Матерь-Море, ешь!» — бормотали все. Воды, блёклые, как рвань нищенки, опрозрачнились и разгладились.
За каймой редких мангров где-то под утро выросла Пуна, остров-столица… Вслед за охраной, белым оленем девочка въехала в белый город. Видит: на лестнице одного из дворцов два мальчика в жутких шапках; рядом — вельможи; вредного вида тощий сановник жжёт в чашах травы и прорицает… Девочка тихо слезла оленя. Мальчики сдвинулись говоря:
— Мы Тýмпальа. К нам иди.
Чуть живая, толклась она возле тронного ягуара, где восседал Двойной Кумир близ невесты, взятой из Манты. Газовый полог их отделял от сборищ громко вопившей праздничной знати и от кривляющихся паяцев. Слуги носили вина и яства.
— Царствуй, Четыре-Ноги-и-Четыре-Руки, владыка! — выл Хач слащаво. — Славлю честь Тумписа, кою в лонах своих обретают Манта и Ки́ту в браке с тобою, Векоизвечным!
Ночью двойной жених и невесты двинулись к морю. Знать им светила факельным шествием.
— Сладких жён тебе, Хун-Ахпý и Шбаланке!!!
С помпой верховный жрец ввёл невест в глубину, воззвав: — О, пучина морская! Высинь кровь девам! Волнорождённые, Синекровые правят миром!
Девушек вывели под распевы. Царь навалился. Пакча зажмурилась… И всегда с тех пор жмурилась; сердце билось колибри, пойманным в сети… Как-то злой Левый стал прогонять её, алча мáнтаскую девицу. Братья сцепились. Пакча, уйдя в сад, слышала речи в дальней беседке: «Тумпис — как килька в пагубном неводе, о, верховный жрец Май». — «Великий батаб Хач! Истинно: килька кружит на месте, кружит годами». — «Да, кружит к гибели». — «Есть борьба Слитодвойственной Мысли: та утверждает, эта противится». — «Два царя у нас, и у каждого свои помыслы. Что, верховный жрец Май, тем, кто носит циновку, думать и делать? Как мыслят боги?» — «Свергнуть Шбаланке. Так, Хач, великий батаб, мнят боги». — «Плачу от счастья!»
Пакча, не вникшая в суть беседы (как, скажем, вник в неё тощий вредный батаб, подслушивавший поодаль в зарослях циний), вышла из сада вслед за собачкой, что, попетляв у дворцов средь стел, потрусила в пролом в стене — обдирать ноги людям, висшим на пальмах подле дороги. Выбрав из прочих горца по облику и велев отвести её в царство Ки́ту, Пакча спасла его от оков. Сорвав с неё тонкий шейный браслет из золота с изумрудом в средине, пленник бежал, увы (то, признаться, был Вáрак, засланный со шпионскими целями главным инкой на Пуну и угодивший в плен). Пакча кинулась следом, но на маисовом поле быстро отстала и спела песню:
— Маленький олень скакал — на рогах звезду носил. А большой олень скакал — солнце на рогах носил.
Выйдя к берегу, где шумел прибой, и увидев, как горец, ею спасённый, прыгает в лодку, Пакча вздохнула. Вволю поплакав, с горстью ракушек и мелких камешков, возвратилась в гарем.
Хач начал: — Жуткий поступок! Мысль обмирает! Чуть не замёрз Извечный без девьей ласки!
Левый, однако, чьею была она, мрачно рявкнув: «Малявка!» — стал обниматься с ма́нтаской девушкой, многосильной из-за пятнадцати своих лет, ревнивой, ловко справлявшейся с парным мужем. Пакча страшилась ей непонятных каверзных дел двора и шептаний левого Тýмпальи с тощим вредным батабом.
Как-то Двойной Кумир променадствовал по террасе дворца так долго, что половина уступчивая — Шбалáнке — сникла:
— Хватит, брат. Спать хочу!
Левый хмыкал.
Правый поплёлся прочь. Уцепясь за рельеф колонны, Левый держался и сквернословил. Оба наморщились от усилий… Из-за колонны чья-то рука настойчиво протянула тесак. Схватив его, Левый стукнул по плоти, соединявшей их… братья рухнули, брызжа кровью. Знать и сановники кучковались над Левым, харкая в Правого и стеная:
— Мы суть столь гадки, что бог Шбалáнке чахнет от скорби и умирает! Мы его держим — да не удержим!
Пакча метнулась было к несчастному, но верховный жрец воспрепятствовал.
Правый умер.
Левый, промаявшись год, поднялся — сдвинутый набок, странно гнусавый и колченогий. Он, для удобств, ходил с фаворитом, тоже в обнимку, как прежде с братом… Женщин уменьшилось; развелись содомиты, сходно и пьянки, сотканные из здравиц:
— …Сдох, сгнил Шбалáнке! Правь, Хун-Ахпý бог!
— …О, почему нельзя день и ночь хвалить Синекрового, с неких пор Одинарного бога Тумписа?! Одинарный Кумир, да царствуй!!
— …Тумпис — перл неба и поднебесной! Пуна — перл Тумписа! Халач-ви́ник — перл Пуны!!
— …О! Это истина!!
Царь, лаская любимца, как-то вдруг выгнусил:
— Эту ки́туску-девку надо прогнать.
Хач плакал, брызгал слюною, сетовал и заламывал руки:
— Тестя обидим! Ши́ри — могучий! Он нас порежет! Он нас погубит!
— Мáнтаская — останется, — резюмировал Тýмпальа. — Манта с Тумписом — побережные. Ки́ту — горная. Мы её завоюем. Пусть воеводы скажут: не сможем, — я их казню.
Те сдвинули золотые напяточники, рявкнув: — Мы завоюем все царства в мире!
— Всех одолею. Я — Хун-Ахпý, — закончил царь и ушёл гулять с содомитами.
Хач, великий батаб, верховный жрец Май и Ушмаль, главный из воевод, признали, что деспотия сама по себе ужасна, но, если ищет войны, — прекрасна. Может, пора пришла угасавшему Тумпису править миром и небом?
Пакчу отправили восвояси — в Ки́ту, к отцу.
ГЛАВА ПЯТАЯ
возвестившая правду, в том числе о приятностях подданных, о фортуне и случае…
В очаге тлел помёт, что отсветом красил женщину, низкий чан, земляной ровный пол с малышкой и тощим мальчиком, большеглазым и хрупким. Он следил в щель в соломенной крыше звёзды.
— Мама, остричь бы Длинноволосую, из волос связать ликли и подарить их пальам — что тогда будет?
— Глупости, Чавча! — Мать улыбнулась. «Длинноволосой», также «Кудрявой», звали Венеру, спутницу Солнца. — Выдумал! Твой отец был бы жив — сказал бы, что ты придумщик. Но он пропал в стране Мусу-Мýсу, в дальнем походе. Он… — Разжевав горсть зёрен, женщина выплюнула их в чан. — Достать её как, Кудрявую?
— Просто! — Мальчик, метнувшись, палкой расширил щель в крыше. — Нож возьму и мешок…
— Прямь!
— Мама! Пойду к заре и поймаю Кудрявую, остригу её за день! За день успею! Будет садиться, я соскочу с неё. Свяжешь ликлю, я отнесу её жёнам инков, стану куракой. Я… — Он закашлялся дымом и сел на корточки.
Сплюнув жвачку в чан снова, женщина фыркнула: — Как пойдёшь к заре? По дороге пойдёшь — изловят. Что, мол, без спросу, скажут, гуляешь? И поколотят. Ибо нельзя ходить просто так. В горах пойдёшь — люд Ольáнтая схватит, он ведь разбойный… А перейдёшь Мать-Анды — чунчу и мýсу быстро съедят тебя, как отца… — Вздохнув и подлив в чан с жёванной кукурузой чашку воды, взболтав состав, она кончила делать áку, то есть пьянящий сытный напиток с запахом пива, правда, прокисшего.
Сдвинув полог при входе, молча в лачугу втиснулись люди в ладных рубахах, в шапочках, с белошерстными вставками в мочках смуглых ушей. В Империи был порядок, «дабы обедали или ужинали открыто, дабы вожди посещали их, чтоб узнать, сколь ревностны и заботливы и мужчина, и женщина в их семейных делах, послушно ли их потомство». Гость, меньший ростом, глянул на девочку.
— Сопли… Что не следишь?
Мать кинулась утереть нос дочери.
— Им одежды стираешь? Моешься?
Мать явила одежды, личные, после детские (каковые — мешки, но с дырками по углам для рук и по центру для головы).
Гость глянул в горшки. — Почистила… Пищи вдоволь сготовила?
Мать дала ему áки для экспертизы.
Гость почесался. — Блохи кусают… Плохо выводишь блох!.. Дети слушают? Пряжу сделала?
Мать явила корзину с пряжей.
— Мало… Лентяйка! Бог наш, Заступник и Благодетель, он опекает тех, что без мужа, и безотцовщину. Чем отплатишь, лентяйка?!
Мать задрожала.
— Вот тебе дело… — Гость пнул мешки, внесённые его спутником. — Налущи за ночь зёрен — чашка твоя.
Мать кланялась. — Господин ты наш добрый, добрый наш сотник! Óбщина добрая! Помогает нам, сирым!
— Встанет Луна — на двор иди: сходка вашей десятки.
Как гости вышли, мать всполошилась. — Труд!.. Они дали нам новый труд, а мы старый не кончили!
Чавча выволок разбросать у стен, обносивших квартал, куль клубней. Чвиркали воробьи; Кудрявая, а иначе Венера, висла в закате над горным пиком. Рядом был чан с водой, — в нём и мыли картофель, долго и молча.
— Быть бы мне птицей. Я бы летал… хоть в Куско! Мама, а близко он? Ты была в нём?
— В нём?.. Я тебя в животе носила и там была, в том Куско. Значит, и ты был. Поочерёдно каждое племя, всех отправляют каждый год в Куско. Мы там менялись нашей работой либо плодами; и поклонялись — Инти-Светилу и Сыну Солнца. Наши мужчины в Куско носили фрукты и просо, женщины — ликли… Уай, ликли ладные я ткала, сын! Нынче лишь пряжу мне поручают. Мол, я одежду вшами завшивлю или испачкаю.
— Ты про Куско скажи… Куда, стой! — Чавча меж делом поднял сестричку и сунул в ямку, чтобы топталась и не сбежала.
— Куско из золота… — Мать уставилась на закат в мечтах. — Там один квартал — наших десять селений! Башни — до неба. Пальи там — в сребротканых платьях! ликли их тонкие, как туманы! обувь их — золото с бирюзой! А волосы — все в серебряных нитях… Там много инков! Уши как Солнце, Чавча, сверкают! Ездят в носилках! Глянут на пýреха — и тот мёртв! Смотрел на меня там инка… я ведь красивая… — Мать, вздохнув, принялась тереть клубни грубыми пальцами.
Побросав их в солому, чтобы промёрзли, после в лачуге оба лущили им принесённый в листьях маис, высматривая сквозь дырявую крышу темень; ведь при луне, сказали, сходка десятки.
— Мама, мы бедные? Ничего у нас нет.
— Сын! Дом есть, áкой питаемся…
— Инки жадные? Только áку дают нам либо работу.
— Ты… Ох, за эти слова тебя в рудники, в рабы!
— А у тысяцкого раб сытый!
— Он всё равно раб. Ты же, став взрослым, землю получишь, пýрехом станешь; может, старейшиной даже станешь, дом свой построишь, да и меня с сестрой приоденешь.
— Ты мама, жадная? Хочешь много одежд, богатства?
— Твой язык — как у глупого воробья… Не жадная. Но все любят красивое. Вот и я люблю.
— Взял бы кто тебя в жёны, мама, из знатных! — выпалил Чавча.
Та, глянув в нишу в стенке над утварью, где пылились короткая прядь волос, часть ногтя и сыном отнятый у дикарки (у Има-сýмак, пригнанной Вáраком) позвонок, шепнула: — Дух-дух, прости…
Напомним «о целомудрии вдов империи, соблюдавших аскезу весь первый год печального их вдовства; бездетные выходили замуж; детные замуж не выходили и проводили жизнь в воздержании».
— Мам, Луна взошла! Сходка наше десятки! Ты, мам, иди туда!
Взяв накидку, та побежала к нескольким женщинам, что толпились за спинами их мужей и братьев, но стушевалась, как только полог над входом ладного дома сдвинулся и явился старик с клюкой да гигант Укумари, сын старика, десяцкий (он ходил с Вáраком и отцом Чавчи в дальний поход в леса, в Мусу-Мýсу и Чунчу).
— Славный Вискáча, добрый старейшина! — возгласили общинники. — Наш отец родной!
Сев по знаку на корточки, смолкли. Сам старик сел на камень, чуть отдышался.
— Что скажу? Время страдное… Нам полить надо пашни. Лам пасти надо. — И он повёл клюкой. — Так как наша десятка пажити Солнца, бога Великого, полила уже, пашни Сына его полила уже, надо пашни вождей полить, наши пашни полить пора, а мои полить — перво-наперво; жухнет колос; негоже…
Стоя, десяцкий часто поглядывал то на рядом сидевшего и неспешно вещающего родителя, то на чавчину мать, скрывавшуюся за спинами.
— Я, отец, за нас всех скажу! — Плотный пýрех поднялся. — Завтра польём твоё. Ты проси у старейшин, пусть дадут за рекой лужок. Там пасут стадо Кой. Зачем они? Мы бы там скот кормили лучше, чем Кой, отец, в благодарность Заступнику, также нашим начальникам, добрым ласковым инкам. Нам бы там пажить! Сделай, отец наш! Ты к предкам ближе, выбей нам пажить!
— Правду сказал! — общинники закричали, встав. — Пособи, отец!
— За десятку радею, — вёл тот, кивая. — Трудимся славно. Ибо в хранилища Солнца, также Заступника-повелителя, и в хранилища óбщины много сыплем картошки, проса и шерсти. Тысяцкий-инка очень доволен. Мы также воины. Титу Йáвар наместник очень нас ценит.
Все поглядели на Укумари и пробубнили:
— Был на трёх войнах!.. Пальца лишился!.. Воин отважный!..
— Я вас позвал сказать, — продолжал старик, — наш теперь тот лужок. (Вздох радости). Выпросил пажить я у старейшин!
Как подтверждение, полнолуние облило двор, стены квартала, крыши, холмы окрест и хребты вдали синим призрачным светом. Взвыли собаки.
— Так скажу. Всем работать. В óбщине выборы. Я старейшина сотни. Буду старейшина пятисотки — многое выпросим. Верьте. Уж постараюсь.
— Мы, — вступил плотный пýрех, — тоже потрудимся и почтим тебя, наш отец. Единственно дай побольше землицы — будешь в руне ходить!
— Я уйду скоро к предкам, — медленно встал старик. — К ним в сермяге удобней. Вот Укумари… вы бы ему руно… Станет сотником — он в старейшины вас повыведет; подчиним пятисотку, будем в ней править. Вот. — Он копнул клюкой землю. — Надо нам, то есть, пýрехов больше; нам земледельцы нужны и воины… Жёны, духов просите дать вам мальчишек; снадобья ешьте, чтоб ими пухнуть… Я постарался: нам дадут пýреха с малолетками вместо чавчиной матери. Чавчу мы в рудники сдадим. А сестру его — хоть в затворницы. Ждать не могут Вискачи, что Чавча вырастет. Надо власть брать скорее.
— Горе мне! — зарыдала вдова. — Тружусь, тружусь и что велено — делаю. Больше дайте работы, буду работать! Муж на войне погиб… Разлучаете?.. Помоги, Укумари! Ты наш десяцкий!
Чавча увёл её.
Утром мать накрывала клубни, что мыла с сыном, прелой соломой.
Вдруг пришёл Укумари, ростом под крышу. — Ты накрываешь? Правильно… Дни Ношения Мёртвых жарки… Ты постарайся…
— Да не учи меня.
— Не сердись, — он твердил смиренно. — Я отговаривал… Но он понял всё, мой отец… что мы с тобой…
— Наплевать тебе!
Он шагнул к ней. — Я…
— Стой! Увидят, плохо нам будет…
Он, опустившись, будто бы тоже сыпать солому, тихо сказал: — Тебя любил! С детских лет любил! Но отец запретил брать сирую… Я жену не люблю, — тебя люблю… Мой цветок!
Она замерла в волнении.
Предрассветный туман облёк их.
— Я в странах Чунчу и Мусу-Мýсу только и думал, как я люблю тебя. Сберегал тебе мужа. Но его выкрали мýсу, съели.
— Уай, господин мой! — выпела женщина. — Глаз моих господин! Губ, рук господин! Люблю тебя!
Женский голос звал: «Укумари!»… И он поднялся.
— Ты потерпи, цветок! Буду думать, как не погибнуть, как нам жить вместе.
— Кондор могучий! Мой ты медведь! Любовь моя! Сердце бьётся тебе всегда, будет биться тебе всегда!
Чавча, вымыв лицо из таза и выпив áки, с дудочкой выбежал. Подле дома десяцкого женщина, потрошившая кролика, прошипела вдогонку: «Сын пампай-рýны…»
Лам из загона гнали мальчишки. Сзади тащился, ставя увечную ногу боком, дед с пумьей маской на лбу, облезлой, драной, помятой. Около речки он отдал стадо юным подпаскам, сам же уселся. Чавча взял флейту и приложил к губам. Ламы двигали уши, слушая.
— Славно, мальчик, играешь!
— Утро, раб Чанка!
— Утро, сиротка! Чавча, присядь ко мне.
Солнце встал за хребтами. Мчались вдаль куропатки. Скот разбредался. Ветер нёс запахи очагов.
— Раб Чанка, знаешь, кто пампай-рýна?
— Вон там, за речкой есть пампай-рýна… Ты подуди-ка.
Флейта, печальная, словно ивы над речкой, пела.
— Лам пятнистых водят Вискачи… рыжее в белом — цвет лам красивый, добрый, весёлый… Вот всходит Солнце…
— Ты песню выдумал? — дед скрёб шею сломанным ногтем.
Чавча кивнул. — Десятка нас отдаёт… в рабы.
Дед охнул.
Чавча добавил: — Чтобы усилиться, взяли пýреха вместо нас в десятку. Старый Вискача хочет в кураки вывести сына.
— Правда?.. Послушай! — дед встрепенулся. — Мы, племя чанков, были от пумы! Предок мой — пума. Нынче же, пума, — я тут в рабах хожу. А Вискача, хоть кролик, ходит свободным. Ты — рода кролика, как Вискача, только ты сирый. С первого взгляда, нет справедливости. Но не спорь с судьбой и не жалуйся. Ибо, — дед шепнул, — Мать-Земля положила так.
Оба пали ничком в молитве.
Сев, дед продолжил: — Там вон пик снежный, дальше пик голый. Тут стадо мы пасём — дальше Кой пасёт. Я в рабах хожу — Умпу жрец. Этак лучше, что все несхожи. Стань все единым, Мать-Земля опрокинется, будем жить книзу теменем, вверх подошвами. Вон, — кивнул дед на горы в снежных покровах, — сок Земли из сосцов течёт, к нам спускается речкой и нас питает. Всюду порядок. Станешь рабом, как я, — будешь лам пасти. Ламам песни твои по нраву, будешь пастух им… Ну, подуди-ка. — Дед, улыбнувшись, вытер под глазом.
Спев песнь весёлую, так как Солнце поднялся, мальчик в одежде плюхнулся в речку, вылез, встряхнулся, сел на валун близ Чанки.
— Как стал рабом? Скажи!
— Что рассказывать? Сорок лет назад — или больше? — множество было кланов, чад пумы. Мы звались чанки. Жили в горах мы… там… — дед махнул рукой. — Рядом жили в соседстве дети холмов, ручьёв, жаб, кондоров… не упомнить всех!.. А у моря, в пустынях, — там жили чинчи, чинчи-менялы… Пумы, знай, сильные! И поэтому чанки — мы были первые. Ханко-вáльу наш, он ходил в пумьей шкуре, был Главным Пумой. Я, мальчик, вождь был! — Дед, сняв со лба пумью морду, пальцем провёл по ней. — Нас боялись. Слышали: чанки! — и покорялись… В те поры шла война с Чучи-Кáпаком, кто был царь Хатун-Кóльа, сильной империи; помогали нам чинчи. Мы покорили области кéчуа и дошли до их Куско, что был зависим от Чучи-Кáпака, — чтоб пленить там наместника, кой отец Титу Йáвара, — а он нынче наместник… Вдруг появилось сильное войско! Мать-Земля, осерчав, что чанки всех побеждают и перевесить хотят её, обратила все камни в горных долинах в грозные рати — да с Пача Кýтеком повела на нас! Мы дрались; Пача Кýтек посёк меня… — Дед явил шрам на голени. — Чанков, мальчик, разбили; стали рабы мы… Рыл я руду сперва, строил тракты. Сделался дряхлый — стал пастухом… На родине был однажды… чанков там нету. Вождь Ханко-вáльу, слух был, увёл всех, вроде за Анды, в чащи… Трудно двум пумам в близком соседстве. Чанки главенствовали до инков… Вы, пóкес, нóсите шерсть в ушах, инкам вы подчинились. Чанки не могут быть ни под кем, сынок! — Сжав ладонью тряскую руку, раб улыбнулся. — Спой песню, Чавча.
Висли из-под ободранной пумьей маски белые космы.
Вечером из загонов дети снесли навоз по кварталам — для очагов на топливо — и отправились в семьи.
Мать пряла пряжу. Чавча, услышав: «Сотне собраться!» — с дудочкой влез на стену, чтоб видеть сходку.
Низкий пузатенький вождь с жезлóм вёл: — Я сотник, звать меня Кáрак! Мне приказали люд на войну слать! Пýрехи в семьях Кой и Вискача — крепкие, мы от них пошлём. Брат сказал — брат мой инка-по-милости Вáрак: войны кровавые!.. Также нам надо скот пасти, надо крыть мой дом крышей. Тките ковры мне, — брат Вáрак едет. Надо работать!
Благообразный старец приблизился, говоря: — Втолкую, что хочет Кáрак, добрый наш сотник, в деле военном… Кто дом покроет и изготовит вещи для сотника, брата знатного Вáрака? Кой с Вискачей нижней усердной пятидесятки, Óскольо — верхней пятидесятки. Эти семейства — наша опора. Их на войну слать глупо; мы обеднеем и в пятисотке будем срамиться. Это негоже. Старые мыслят-судят за всех и знают: слать надо пýрехов вроде Йýки и Пако, леженей. Вменят подать трудами — с кем нам трудиться? С Йýки ленивцем? Он нерадивый…
— Хворь меня ела! — встрял тощий пýрех с язвой на лбу.
— Молчал бы… Кой, Кой работали! — отмахнулся старейшина. — А у них две руки, точно как у тебя, бездельника. Кой за Йýки работать? (Гневные крики). Им бы за Йýки не надрываться, пустошь поднять бы — сотня бы крепла лишним прибытком. Ты — духов предал, Йýки-нахлебник. Чем ты их кормишь? Кто к пампай-рýне ходит? А пьёт кто? Чья жёнка девок плодит? Запомни, сотня не будет вашей прислугой! Вы повоюйте и отличитесь, Йýки и Пако. Вам повезёт — вернётесь, как вот наш Вáрак, инка-по-милости.
— Верно! Всенепременно! Я стал куракой. Брат помог! — затрещал бестолковый, глупый вождь Кáрак.
Благообразный старец продолжил: — Мне, как старейшине пятисотки, дóроги все из вас. Я хочу, чтобы Пако богат стал и чтобы Кáрак, добрый наш сотник, стал пятисотником. Почему наша сотня в óбщине третья? И на торжественных смотрах третья? Будем стараться — нас отличат, земли дадут. А возможно, нас выделят — и начнём свою óбщину… Нужно? нет? Отвечайте.
— Нужно, Амáру! Нужно, старейшина! — надрывались Вискачи, Óскольо, Кой из богатых семейств. — Старейшина! Склон бы нам южный выделить! Уай, прорыть бы каналы к нашим наделам!!..
В криках стемнело. Пако, сбежавши, двинулся к речке (не замечая кравшегося вслед Чавчи). Ниже хранилищ, ниже садов, у пламени, никла стриженая красотка. Порскнула кошка, гневно мяукнув.
— Кто?
— Пако… В гости…
Женщина помешала в горшке. — Что надо?
— Поговорить. О всяком.
Пако был жилист, среднего роста, с взглядом смышлёным; губы открылись в лёгкой улыбке.
— Поговорить пришёл. Жёнка льёт слова: мол, работай, чтобы десяцким стать. Я не сладкая кость, но толку? Óскольо и Вискача лучшее взяли, а на моей земле день и ночь трудись — уродится лишь блох кормить. Мне б, как ты, жить привольно.
— Как я живу, ты знаешь? — Стриженая из ветхой низкой лачуги вынесла чашки. — Я без людей здесь. Хóдите ночью; женщины, те и днём дичатся, чтобы их тоже в поле не выгнали: не хотят вольной жизни!
Правда: «мужчины общались с ними небрежно. Женщины обходили их, не желая прослыть развратными и дабы не остригли и не прогнали, словно гулящих. Звали их не по имени, исключительно — пампай-рунами, то есть блудными, проститутками».
— Чад моих убивают… Так что не надо, Пако, про волю… Что ты жену брал, коли с ней в тягость? Ты б не женился, — кончила женщина, разливая уху по чашкам.
— Как не брать? У отца жить не будешь, а без жены ни земли не дадут, ни дома. Где холостые? Их у нас нет таких. — Пако взял в руки чашку и отхлебнул. — Прощаться я… На войну иду.
Пампай-рýна вздохнула.
— В Чили, сказали. К арауканам. Нет их свирепее, лам тупых!
— Не скотина они, а люди. Что им жалеть нас? Или под инками чтоб ходить, да? Мы, хоть мы пóкес, нынче на кéчуа говорим. Мы кéчуа? — она фыркнула. — Служим инкам…
— Пóкес не трусы! — выпалил Пако. — Пóкес у инков лучшие воины! Сколько стран покорили! Инки нас ценят! Вáрак стал инкой — инкой-по-милости — на войне с Востоком!
Женщина спорила: — Правят инки. Мы их прислуга. Думаешь, коли в мочке ушей у вас вставки с белою шерстью — вы инкам ровня, золотоухим? К югу от нас есть сáнку, носят в ушах костяшки; к северу — тáмпу, носят в ушах солому. Ламам мы нитки в уши вплетаем — так вот и инки всех вас пометили… — Она выплеснула суп кошке и принесла трещотки да барабанчик. — Хватит про грустное. Взвеселю тебя!
В необъятном Тауантин-сýйу — так называлось инкское царство — не было женщин без барабана; шлюхи бесспорно были искусницы в барабанной игре. Лодыжки в трещотках двигались, колотушка стучала. Чавча за ивой слушал в волнении. Пампай-рýна запела:
Девка-милашка
с мушкой на щёчке!
Коли нет мужа —
выпей со мною!
Муж есть —
ступай к себе!
А коль вдовушка —
мы посмотрим.
Девка-милашка,
чёрные очи!
Пусть мать узнает,
как я влюблён в тебя…
Она села на корточки, провела рукой по остриженным волосам, задумалась. Кошка ластилась к ней, мурлыча… Крякнула в речке поздняя утка… Чавча попятился и побрёл прочь садом анноны; цвет был в разгаре, благоухание разлилось до звёзд… Он вошёл в квартал. Его ждал Укумари, рослый десяцкий, кой и повёл его к дому сотника. Кáрак ел подле печки мясо ванаку; двое старейшин молча стояли в зареве углей. Благообразный Амбру молвил:
— Ты сочиняешь?.. Так. Сочини хвалебствия инкам-милостью: нашим тысяцкому и Вáраку, брату сотника Кáрака. Покажи в словах, как как мы любим их. Чавча, понял?
— Песню, — встрял Кáрак, — надо такую, как мой брат Вáрак храбро разил врагов, как он пил с Ясным Днём, с Владыкой!
— Подь, мальчик, — кончил Амбру, — и сочиняй песнь. Ты, Укумари, с нами останься, много вопросов…
Звонко паря в мечтах, Чавча брёл и очнулся около тракта. Кто-то кричал во тьме: — Не ночуем! Кóхиль торопится!
Крик донёсся от станции, что стояла на тракте, как ей и должно. Стража примчалась. «Кто и откуда?» Чин, шедший трактом, вытянул руку — и на запястье блеснул знак власти. Чин был при Кóхиле, ожидавшем приёма главного инки; тот же, захваченный сбором данных о странах, что на экваторе, посылавший туда разведку, — в частности Вáрака, — полагал преждевременной встречу с Кóхилем до анализа нужных сведений как основы успешных, аргументированных трактаций. Маясь задержкой, но и неведеньем, что и где происходит, Кóхиль мстил чину, кой состоял при нём, тем, что шлялся по градам, весям и долам вместо безделья в инкской столице. Мстил он и тем ещё, что разыскивал Титу Йáвара, о каком узнал у трусливого и тщеславного папамáркаского Римаче.
— Спать? — нюнил чин. — Вот станция. Заночуем в ней?
Кóхиль фыркнул. — Царь халач-ви́ник Кóхиля спросит: «Что, Кóхиль, видел?» Кóхиль ответит: «Спал и ленился»?.. Знай: Тумпис грозен! Спать мы не будем. В путь давай!
Чин побрёл тёмным трактом вместе с отрядом, их охранявшим, нёсшим носилки с кладью. Так Кóхиль мучил слуг Сына Солнца (кой, кроме прочего, избегал посла, дабы тот истомился в высокогорье, где вздохи стылого разряжённого воздуха драли горло, веки горели, как обожжённые, а ладони и губы трескались).
— Утром будем в Паукар-тáмпу? — выкрикнул Кóхиль. Здесь, чтобы слышали, все орут, ведь звуки в горах слабеют.
— Да, — чин ответствовал.
Кóхиль начал хитрить, шагая: — Я где-то слышал: сей славный город Паукар-тáмпу как бы столица инкских владений, что на Востоке. Где же границы этих владений?
— Плыть год рекою, — лгал чин, согласно твёрдым наказам брата Владыки Амару Тýпака, то бишь канцлера.
— Слышал, инкским Востоком правит наместник, звать Титу Йáвар? Он разве инка солнечной крови?
— Инка. Он инка. Солнечной крови все наши инки.
— Тумпис воюет — сто двадцать тысяч гневно крушат врага! — выдал Кóхиль, ускорив шаг. — А Восток ваш имеет много военных?
— Дважды по двести тысяч и больше, — лгал чин упорно.
— Как царство Ки́ту, младший брат Тумписа! — ляпнул Кóхиль заносчиво и стал чина прельщать. — Ты мудрый! В Тумписе управлял бы городом, как ваш главный… — Он не закончил.
Люд в волчьих масках, выскочив сбоку, всех разогнал, как крыс. Чин грозил знаком власти, но некто в шкуре сильно побил его. Их вдвоём, вместе Кóхилем, взяли в плен и погнали. Ночью взбирались с кручи на кручу; днём шли в туманах… Срок спустя, поздно вечером, оказались у города на заоблачных высях. Крикнув: «Пропали! Мы у Ольáнтая, самозванного инки!» — чин полетел со скал в бездну с шумной рекой, а Кóхиля провели во дворец, к огромному, седовласому, полупьяному «инке», возле какого никнул курака с грустной улыбкой.
— Что он за племени? — рек Ольáнтай. — Где ты нашёл его, Чара-Пума?
— Где? На дороге. Вместе с охраной в Паукар-тáмпу шёл. — Великан в шкуре хмыкнул.
— Я посол Тумпис! — Кóхиль коверкал речь преднамеренно, ибо мы снисходительны к говорящим неверно как к неумеющим здраво мыслить. — Очень друззя ищу! И со мною вино, безделицы. Будем нет их посмотрим?
— Инка Ольáнтай, пусть принесут скарб гостя, — молвил насмешливо Пики-Чаки подле Ольáнтая.
Чара-Пума исчез. Лот тумписской хитрости ввергся в бездну.
— Ты есть великий Инка Ольáнта? Мой видел в Куско чима-панака, айльу-панака, инка-панака. Ваша Ольáнта тоже клан инков?
— Друг Пики-Чаки, ну-ка, ответь ему, — попросил сребровласый.
— Инка Ольáнтай — честного благородного рода, — молвил вельможа с грустной улыбкой.
— Мне нужно честных, — врал Кóхиль с жаром. — Кóхиль нашёл таких!
Принесли расписную винную утварь из клади Кóхиля.
Вскоре в чаши влилось пунийское.
После многих глотков лот хитрости вновь был брошен за борт.
— Молчат о честном инке Ольáнте в городе Куско. Что за причина?
— Куско, — ответствовал Пики-Чаки, — предал героя из-за жестокости Пача Кýтека…
— Его дочь Коси-Кóйльур?
Горцы застыли.
— Что в подземелье? — спрашивал Кóхиль.
Через мгновение он болтался, вздёрнутый Чара-Пумой. Брошенный, он оправился и на крики: «Вещай!» — изрек:
— Я знатный! Я есть великий батаб вам! Я отдыхаю, после беседа!
В комнате с ложем из шкур он ужинал. В узких, клиньями, окнах он видел кручи в лунной подсветке, слушал гул речки где-то неблизко, впутавшись в мысленный диспут с Хачем, ибо Хач начал: «Долго ли плавать проткнутой рыбе и без гримас взирать на того, кто спасения ищет в Куско? Лучше погибнуть, чем умолчать, что Кóхиль — килька тупая, криль скудоумный!» — «Я посмеялся бы, — спорил Кóхиль, — видя, как Хач, батабишка, клоп, скунс мерзостный, лебезит перед Тевой и перед Ши́ри! Нет, верный Тумпису, я пойду послом в Куско, дабы шпионить…» Так Кóхиль спорил мысленно с Хачем. Вспомнилась присказка: вошь убьёшь, но глиста не достанешь, — а это значило: Куско сломит Тумпис и Ки́ту, если не хватится бедствий внутренних. Кóхиль, мудрый, как лис, их вскормит!.. Чья-то рука отвела вдруг полог, что был над входом, и Пики-Чаки, пышно одетый, бросил вполголоса: — Инка ждёт тебя.
Выбрав в скарбе большие — дипломатические — напяточники и просунув меж бёдер ленту под пояс, в синей верёвке к низу от шеи вместо рубахи, плюс с прикреплённой сзади циновкой, Кóхиль закончил экипировку вычурной шапкой. С сумкой на локте, полной сокровищ, путь до приёмных апартаментов справил он в чинном тумписском стиле с неподражаемыми па тела (необходимыми для стабильности шапки).
«Инка» Ольáнтай на табурете-троне встречал его, стиснув скипетр дланью. Рядом — придворные. Чара-Пума был с палицей.
Сузив глаз, Кóхиль крикнул: — Знатный великий батаб, смерд Тýмпальи, государя Великого Тумписа со столицей на Пуне, перед тобою! Тумпис Великий жадно сосёт грудь Матери-Моря к югу от Манты, где правит Тева, западней Ки́ту, где правит Ши́ри. Тумпис Великий ищет друзей, Ольáнта! — Вынув из сумки воинский пояс, собранный из златых пумьих морд с клыками, он преподнёс дар «инке».
— Гость! — из толпы вельмож стал чеканить прямой, как столб, древний высохший старец с гривой волос. — Я здешний жрец Рау-Áнка. Я вопрошаю: что, чужеземец, делал ты в Куско? И для чего шёл в Паукар-тáмпу, подле какого был нами схвачен? Что ищешь друга не возле Тумпица, а вдали, у нас?
Только щёлка осталась от глаза Кóхиля.
— Пума, — фыркнул он, — нацепляла колючек и, дабы снять их, ластилась к зайцу, — так и избавилась. Жрец, вопрос тебе: будет кондор дружить с воронами, коль есть сокол? Виден из бездны камень на пике? Разве не ищут счастья повсюду? Шёл я за счастьем, да и попал к вам.
Старец ответил: — Будем друзьями, если расскажешь о Коси-Кóйльур.
«Инка» Ольáнтай молча напрягся.
Кóхиль, составив парой ладоней створки ракушки, начал: — Я, обретаясь в городе Куско и ожидая, что буду принят инкским Владыкой, ночью гулял вдоль Дома Избранниц и, где ручей тёк из-за стены, склонился, а за стеной лик вешней зари воскликнул: «Кто ты, скажи мне?» — «Местный курака», — молвил я, чтоб не сбить с толку девственность смерчем слов о великом батабе дальнего Тумписа. «Ходишь ночью… Ты не разбойник?» — «Разве злодеи дарят подарки?» — так я ответил, вынув колечко. Ручка взяла его и воскликнула: «Уай, курака, прошу тебя! Поспеши к Сыну Солнца, главному инке; пусть он узнает: в Доме Избранниц в яме сестра его Коси-Кóйльур и Има-сýмак, дочь Коси-Кóйльур».
Бледный, Ольáнтай резко привстал хрипя.
— Зашумели вдруг за стеною. Девий лик сгинул, сунулась рожа с факелом, — завершал посол. — «Любодей! Окаянный! Портишь дев Солнца?!» Я и убрался.
«Инка» Ольáнтай поднял свой скипетр.
— Объявляю войну! На Куско!
Город надменный, Куско могучий!
Стал ты Ольантаю недруг лютый!
Видишь, я меч подымаю грозный,
будешь ты мною в щепки расколот.
Яркого Солнца город-столица!
Город богатства, славы и власти!
Знай, что на ложе мрачном, кровавом
инкское счастье скоро затмится!
После Ольáнтая вдохновился жрец Рау-Áнка, и на морщинистых, словно мощи, щеках его были слёзы.
— Храбрый Ольáнтай! — он отчеканил. — В битвах верни власть Нижнему Куско, древним родам гривастых! Вечные войны — вот жребий инков! Пусть инки поят Инти-Светило варварской кровью, дабы исправить мир!
Кóхиль слушал. Страсти под толстой синей верёвкой вкруг его торса воспламенились; мысли кипели под круто скошенным лбом его. Вот вдруг новая группа инков — древние кланы, или «гривастые»? Титу Йáвар был, вспомнил Кóхиль, вождь «косоплётов» (старых родов то бишь, проболтался Римаче-градоначальник). В Куско же видел он только стриженых, что общались с ним. Значит, инков три касты?
Громко Ольáнтай начал: — Долгие годы был я царь Áнти, доблестных горцев, и царство Áнти было свободным. Инки нас не могли сломить. Пусть же áнти помогут мне. Я нашёл мою горлинку Коси-Кóйльур, дочь Потрясателя. Я нашёл мою дочь… Война, сказал!! Вырву милых у инков!!
Все забряцали грозно оружием, призывая:
— Стань, вместо Тýпак Инки Йупанки, главным из инков!
— Сына родит тебе Коси-Кóйльур!
— Будет династия от Ольáнтая!
— Мы пойдём с тобой!!
— В ламе — воля богов, — изрек Рау-Áнка, высохший старец.
Вышли на площадь возле обрыва. Ветер потрясывал завитки чёрной шерсти жертвенной ламы… Кóхиль продрог. Край жуткий, собран из гор; похоже, будто бы волны некого моря окаменели и вот во впадинах взялись страны, чуждые Тумпису… Ламу кинули на алтарь, связав. Рау-Áнка, убив её, бесконечно гадал по лёгким.
— Надо войну! — объявил он. — Инка Ольáнтай! Ты, самый лучший из полководцев, Куско захватишь! Шли же послов твоих к Титу Йáвару, к племенам Урубамбы и к Ханко-вáльу, главному чанков. Шли послов к Инке Чури Катáри, главному кланов древних. Ты, чужеземец, кличь к войнам Тумпиц.
— Да! Сообщу про всё Синекровому! — ляпнул Кóхиль. И написал на плашке: «Царь мой божественный! О, Четыре-Ноги-и-Четыре-Руки! Двойной Кумир! (Он не знал ещё о распаде сиамцев и об убийстве Правого из двух царственных братьев). Плот плывёт к истине. Трое бьются за власть в сём Куско. Писано Кохилем». (Его раб прикрепился днями позднее к воинским силам, шедшим на Север, и оказался вскоре на Пуне, острове, где жил Тýмпальа и откуда сам Кóхиль отбыл в посольство).
Сам посол, перепачкав одежду, с помощью горцев выбрался к тракту в Паукар-тáмпу, — в кой в это время тайной тропою шёл Рау-Áнка. Люди Ольáнтая также отбыли к чанкам, к чунчу и в Куско.
Днём фехтовали «Инка» Ольáнтай и Пики-Чаки, действуя то мечами, то копьями. Вскоре тучи сгустились и стало мрачно. Сразу поникнув, царь царства Áнти сел на валун поодаль.
— Минет немало, прежде чем Куско будет повержен. Ждать?
Пики-Чаки молчал.
— Я помню, — начал Ольáнтай, — лгал Пача Кýтек, мой лже-союзник: всех победим — поделим власть. Я повергнул пум-чанков, сбил спесь с хананцев; позже и йунков сделал рабами. Я инкам вверился — только в инкских дворцах был лишний. И мне не дали ни Коси-Кóйльур, ни титул инки. Я самозванец. Если скончаюсь, кто будет править храбрыми áнти? Мне нужно сына от Коси-Кóйльур, женщины инков, чтоб он был признан ими как равный… О, Коси-Кóйльур! Звёздная Дева! С нею мне видно будто с Салькáнтая. Без неё видно плохо.
Оба сидели в клочьях тумана, кой наплывал на них.
— Коси-Кóйльур я помню… — встал Пики-Чаки. И ночью сгинул.
Царь Áнти запил. Он из дворца выходил на площадь и возглашал: — Скажите, где Пики-Чаки? Всех, всех возвышу, кто его сыщет!! Где ты, друг? Жив ли?
Люд, чтоб помочь царю, шёл на поиски, опасаясь злых духов, прячась от стражи в инкских пределах, чая наград.
В селении лучших воинов инков племени пóкес Солнце встал рано. Толпы на площади зашумели:
— Тысяцкий, инка, инка-по-милости! Вáрак наш, инка, инка-по-милости! Здравствуйте!!
Два вождя взобрались на подий, вставши над знатью рангом помельче, также чиновниками, их скопом. (В инкской державе, — где уклонялись к сепаратизму, где тыща триста всяких начальников, приходившихся на любые и каждые десять тысяч индейцев, плохо справлялись, — эти чиновники назначались из Куско ради контроля).
Тысяцкий поднял жезл, объявляя: — Наш славный Вáрак, самоотверженный, наш презнатный земляк, к нам прибыл и говорит: Заступник и Благодетель жив и здоров. Да правит!
— Айау хайли Светочу Мира! — крикнули толпы.
— Вáрак явился, чтоб выбрать воинов и пойти с ними в Куско, где место сбора; после всё войско тронется в Чили бить там предателей. Будет трус — дом развалим, близких сожжём, двор вытопчем и засыплем камнями! — вскинулся тысяцкий. — Всё, достаточно. О войне мы закончили. День Ношения Мёртвых празднуем завтра. Наши старейшины утверждают: нынче отличники — предки Кáрака. Сотне Кáрака, в общем, двигаться первой в праздничном шествии и нести предков первыми. Есть ли жалобы?
Всюду лезли почтенные старики, вопя:
— Дай землицы пять мер, начальник, нам, сотне Чильки!
— Нам бы, начальник, пажить за трактом, сотне Капáна! Дал бы, начальник!
— Пять нижних сотен ложью живут! плутуют! в лучшие дни поля орошают!
— Нам бы, начальник…
— Цыц!! — рявкнул Вáрак, что был в гвардейских чёрных доспехах. — Спорите?! Так земля и не ваша, а Сына Солнца. Дéлите, что не ваше?! — Он стукнул в грудь свою кулаком.
Старейшины, пятясь, кланялись.
— Вáрак, брат… — молвил Кáрак и прогорланил: — Вáрак наш Вáрак! Инка-по-милости!!
Площадь вторила: — Вáрак, Вáрак! Воин геройский!!
Тысяцкий резким взмахом жезлá оборвал крик. — Тихо, вы!! Погань, заритесь на имперское?! Позабыли законы, данные инками вам на благо?.. Пóкес! Не лгать, не красть, не лениться! Вот вам законы! Думать над ними!
Люд распустили, чтобы в оставшийся до сна срок покаялся. Ибо туп люд и жаден, дело его — рыть землю. И воевать.
Два пýреха, Йýки с Пако, шли домой и болтали: «Земли общинные были прежде — стали имперские? Плох закон!» — «Йýки, как у нас хлеб растят? Взял зерно, бросил в ямку, сдобрил землицей и тем, что с зада, — вырастил стебель. Так же закон растят: сдавят задом сиденье, поднапрягутся — вот и закон тебе, подставляй лишь корзину, чтоб не рассыпать». — «Ты, Пако, лгун большой!» — «Йýки, что, хочешь в Чили? Вот тебе сказка. Кролик, увидев, как одна женщина варит кроликов, говорит ей: „Очень плохой закон, чтоб есть кроликов. Не вари нас“. Женщина сразу: „Ладно, не буду“. А на другой день — драть с него шкуру. Кролик взмолился: „Ты обещала!“ Женщина поместила его над костром, смеясь: „Не варить обещала — и не варю, а жарю“… Йýки, балбес ты! Бедным законы — как враки женщины её кроликам».
Но вожди подле Вáрака, что шагал в свой дом, говорили иное:
«Я с нашим знатным доблестным Вáраком в детстве змей ловил! Но я знал, что он будет в славе!» — «Инка-по-милости храбрый был! Голопузиком, помню, сел вдруг на ламу и прокатился!» — «Нынче он в инкском городе Куско служит Владыке!» — «Близок он к Солнцу, близок он к Светочу!» — «Он вельможный начальник!»
— Вáрак — мой брат, я сотник! — выкрикнул Кáрак. — Предок мой рыба! Мы будем инками!
Все дрожали от чести шествовать близ двух личностей, столь судьбою отмеченных. Оживали обиды: «Предок мой — пик был, он больше речки. А в речке рыбы. Рыбы меня превзошли, выходит?!» Чтобы понять их боль, нужно знать, что «индеец не чтится, если он родом не от реки, иль озера, иль от моря либо зверей, хребтов и утёсов либо пещер, скал, кряжей либо от звёзд, рыб, кактусов, каждый собственной прихотью ради собственной чести».
В комнате под соломенной крышей гости уселись нá пол за скатерть. Вáрак возглавил стол, сев на маленький табурет из камня. Женщины принесли чан с водкой и удалились. «Самоотверженный» (чин гвардейцев, кои носили чёрную форму), Вáрак подумал и ухмыльнулся:
— Умпу, я пью с тобой.
Жрец селения, подскочив, почтительно взял из рук столь славного и геройского мужа чашу.
Все заорали наперебой:
— Наш Вáрак, инка-по-милости! Пью с тобой!
— Вáрак, пью с тобой!
— Выпей, Вáрак, со мною в конце концов!!
Кáрак сел подле брата и прослезился. — Вáрак!
Тот начал снова: — Умпу, я вспомнил, ты мою девку бил Има-сýмак. Старый, ответь мне.
Жрец заелозил. — Бил, славный инка?.. Память плохая…
— А назовите, — рявкнул вдруг Вáрак, — власти общинника, все по рангу, в нашем Восточном краю, к примеру.
— Есть!!! — Кáрак, выпучив глазки, затараторил, глядя в пространство: — Первая власть — десяцкий, низший начальник. Пятидесяцкий — это вторая власть. Сотник — третья власть; я теперь тоже сотник! Выше начальник — он пятисотник. Далее — тысяцкий, пятитысяцкий… А седьмой — это темник, правит тьмой пýрехов! А восьмой ранг начальников — управитель, правит страной! Девятая власть — наместник; наш Титу Йáвар правит одной Стороной — Восточной. Он глава управителей. Но изменник Ольáнтай не подчиняется!.. А десятый начальник — наш повелитель, Отче Лучистый!
— Правильно! — хмыкнул Вáрак, выпивши водки. — Знаешь начальство! Но затвердите-ка о девятом начальнике Титу Йáваре: тут в Восточном краю он главный. Он тут наместник. Слушаться надо всем вам, однако, инков из Куско. В Паукар-тáмпу, где Титу Йáвар, — ложные инки, звать косоплёты; вы их не слушайте. Чтить их чтите, но что прикажут — не исполняйте. А коль пошлют вас против кусканцев — вы убегайте к главному инке, к Тýпак Йупанки, кто есть ваш бог земной, и возвыситесь… — Гость повёл пьяным взглядом. — Знал я десяцкого рода кáнку: нынче десяцкий стал инка-милостью… Я за главного инку в Чи́му и в Чунчу и в Мусу-Мýсу преданно бился… В Тумписе, в Ки́ту был я разведчиком… Голова чёрной лентой, гляньте, украшена за мою ему верность!.. Также коль тысяцкий вас пошлёт с войной против главного инки, — вы не ходите, весть посылайте в Куско Владыке.
— Вáрак наш Вáрак! — Благообразный, ладный старейшина пятисотки мудрый Амару встал возле скатерти. — Пóкес — верные напрочь главному инке, не сомневайся. Скажет — мы, старцы, пики подхватим и побежим на бой! («Йа, воистину!») Только пусть государь Заступник наш даст нам стать не одной стопой, а двумя стать. Мало земли нам! Верхние сотни землю прибрали! А почему, вопрос? Потому что их предки — с викакирау, с айльу-панака, с этими инками-косоплётами, ты открыл нам глаза, герой, чей вожак — Титу Йáвар. Дали бы нижним больше угодий, мы бы старались; мы бы хранилища переполнили! Ибо нам, хоть мы верные Сыну Солнца, выгоды нету. Верхние любят Паукар-тáмпу — и их участки лучше, чем наши. Надо, чтоб верные, то есть нижние сотни, крепли-взрастали; верхние сотни пусть бы слабели.
— Истинно! — начался гвалт «нижних». — Нужен порядок!! Верхние — кто они? Вошки-блошки-козявки! Нижние — пумы!!!
— Цыц! — рявкнул Вáрак и подытожил: — Ясный День — он наш царь, Владыка! Он верных любит… Землю ведь делят в Праздники Солнца? Вас не обидят; я им скажу, начальникам…
— Брат мой мудр! — вскрикнул Кáрак.
Умпу жрец, буркнув, спрятал багровый нос в чаше с водкой.
Сотники, кланяясь, поднесли земляку подарки. Вáрак, приняв их, встал с табурета.
— Мне завтра в Куско; дело там делать…
И он отправился вон из дома… Лунно и ветрено. Из садов птичьи песни… Инка-по-милости брёл, шатаясь. Он притащился к нужному дому в нужном квартале, но вдруг звук дудочки задержал его и заставил прожить жизнь в ярких моментах… — прежде чем, сдвинув полог над входом, он прошагал вовнутрь и нашёл в полутьме десяцкого Укумари, мерно вязавшего из верёвок кипу — письменность инков.
— Гостя, друг, примешь?
Тот распластался всем своим ростом.
— Встань, — бросил Вáрак, севши на корточки подле каменной печки с искристым пламенем. — Полуночничал?
— Я отчёт вязал. Кто и сколько работал… Ты был десяцкий. Много забот, хватает.
Гость посмотрел на кипу. — В сотники хочешь?
— Инка-по-милости, не хочу.
— Как?
— Хоть ты стал знатный, ты мой друг сызмала… — Укумари понурился. — Я с тобой покорял мир инке-Владыке. Но я остался бы с теми мýсу или же с чунчу, будь моя воля.
— Водка есть?
Оба выпили. Вáрак вяло стряхнул сор с чёрной гвардейской, с бляхами, формы, и хрипло начал:
— Мы воевали в Чи́му, и в Чунчу, и в Мусу-Мýсу… Были никем, общинники… Нынче я, глянь, при инках, тайны их знаю… Послан был в Тумпис; псы чуть не съели, девка спасла меня… Снял на память браслет с неё; а браслет-то хоть шейный, мне на запястье в самую пору. Набольший вызовет, чтоб послушать про Тумпис. А для примера — буду с браслетом; вещь золотая, ценная, царская… Тумпис — царство у моря.
— С Тумпицем, значит, война, да? Нас-то шлют в Чили…
— Кабы лишь с ними! — Вáрак похмыкал. — Тут дело хуже. Инки из этих, из косоплётов, мыслят подняться.
— Не понимаю. Инки на инков?
Вáрак помедлил. — Ты инков видел, разве не понял, что инки разные: стриженые, гривастые, да ещё с косицами? Мы с похода явились — помнишь? — к наместнику Титу Йáвару, у него были косы… Я раньше тоже не различал их. После как выпил с нашим Владыкой, с Тýпак Йупанки, он и поведал: чистые инки — инка-панака с соксо-панака и с кáпак-айльу — стрижены коротко; остальные не инки, то есть не чистые… У меня теперь дом есть в Куско, где Красный Город… А Има-сýмак моя — в наложницах… помнишь дикую девку из Мусу-Мýсу? И две жены есть — дочки наложниц главного инки… Также имею, — кроме Печуты, доброго сына, что от покойной, — несколько дочек…
Флейта запела, и оба смолкли.
— Славно дудит… Кто?
— Чавча… Ты помоги ему, безотцовщине; их в рабы целят вывести.
— Я отца Чавчи знаю; воин был храбрый… — Вáрак задумался. — В Чи́му, помню, вошли в Чан-Чан, эти чи́му меня в пруд кинули, лунным рыбам в корм. Я лежал и хотел уже воду пить, но отец Чавчи спас меня… Мýсу съели его… Проклятье!
— Знаю, друг Вáрак.
— Храбрый был воин… Я их пристрою… Эту, вдову его, я служанкой возьму к себе.
— Вáрак, инка-по-милости! — ликовал Укумари.
— Ты, будешь в Куско, тоже бывай ко мне… — И гвардеец Владыки, самоотверженный поднял чаши.
Утром, проснувшись, пýрехи мыслили: «Славный день!» — и лежали блаженно, глядя на ленты, цепи цветов, гирлянды, висшие сверху с балок под крышей, после — на грубые обветшалые стены с глиной меж блоков дикого камня, также на женщин, что собирали «праздничный стол». Хозяин, встав и одевшись, важно садился около печки на земляном, но выметенном полу. Съев завтрак, все пили áку, быстро хмелели и вспоминали доблестных предков. «Мы, род Вискачей, с тех самых пор живём, как упали с туч яйца. В первом, из злата, там были инки, в медном — кураки; в третьем, из глины, наш предок Кролик…» — «Мы, Пако, малые да удалые. Мы живём, но не тужим, инкам всё служим…»
В праздничных масках, в ярких рубахах, с бубнами и трещотками, каждый род и квартал сходился. Сотники и старейшины наставляли: «Мы нынче третьи (первые, пятые и так далее)! Все на площади пойте! Не разбредайтесь! Нужен порядок! Праздник Ношения Мёртвых Предков!» А за общинниками и знатью бдили чиновники, посылаемые из Куско.
В полдень по площади чинно двинулся люд с носилками, на которых сидели мумии. Предок Пако в латаном саване, с волосами до плеч и в шапке из перепрелой высохшей тыквы, не вызывал внимания. Предок Вáрака в блёстках шествие возглавлял. Кой всячески норовили затмить Вискачей.
Выполнив действо около храма, шествие тронулось к мрачным скалам, к древним могильникам, и украсило их цветами. После расселись подле напитков, женщины — за спиной мужчин. Пили водку друг с другом и предлагали пить мёртвым, скорбно сидевшим рядом в носилках. Дудочник Чавча спел о заслугах племени пóкес. В сумерках жгли костры, болтали. «Это час духов…» — «Чуть от огня ушёл — нет тебя…» — «Предки, коих не чтили, вмиг уведут с собой!» Колотились сердца; хороводились семьи, плача о смерти.
К полночи мёртвые на носилках ожили, выстроились, задвигались в танце смерти, саванами бия живых… и умчались вдруг с воплями.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
прельщающая феериями занятий, коим, в течение лет за войнами, предавался Сын Солнца ради вассалов и для себя…
Под осень, в месяце Жатвы, двое в пустыне серого цвета, убранной кочками, наблюдали холмы, предшествовавшие вулкану.
— Вплоть до Поры Созревания тут дожди, — твердил один, местный сотник в выцветшей шапке. — Наш солончак тогда под водой, как озеро, и он больше, чем Тити-Кака. Ну, а как сдует бог ветра тучи — влага уходит, вновь только кочки. Нынче дней сорок полная сушь стоит, Рока-кáнут. Высокогорье!
Слушая, мастер счёта, посланный на строительство тракта в Чили, резко вздохнул. Кольнуло в носу и в лёгких. Сух и студён здесь воздух, хоть небо чисто; хочется спать, в ушах шумит. В отдалении толпы делают насыпь, но звук не слышен. Так постоянно здесь на равнине на высоте пяти километров, меченной кочками, соляными озёрами, называемой «пуна». Здесь бродят смерчи; чаще же пуна спит в ласках холода под лоснящимся тусклым слепеньким Солнцем.
— Трудно?
— Непросто. Край тут суровый. Это задворки царства аймарцев. Инки разбили их, царства нет сто лет. Лам же много. Шерсть стрижём, мясо вялим, ламий навоз сдаём…
— Вы давно здесь?
— Как Ясный День, Сын Солнца, в Чили пошёл впервые, нас и пригнали — склады тут строить да сторожить, чтоб воины запасались перед Такамой… Сами мы кéчуа. Много померло, пока шли сюда, обживались… Просу тут стыло, и не растёт тут просо. Что тут растёт? Картофель, холод выносит… Также есть мясо нам разрешили. Мы, точно инки, мясом питаемся. А в других странах мясо и тысяцким есть нельзя. Коль помрём — души сытые разлетятся. Так, Рока-кáнут?
— Нет, не поднимутся, — пошутил тот, — с сытости.
— Ну и ладно! — Сотник помедлил. — Выше не надо: пуна — над небом.
Что-то сверкнуло неподалёку. Счётчик и сотник сели на корточки. Люд вдоль насыпи заработал быстрей… Носильщики в голубых одеяньях остановились. Старообразный, мелкий, подвижный нервный мужчина в чёрном наряде, в чёрной же шапке с белыми перьями, с ярко-красною бахромой на лбу, соскочил с паланкина пнуть возводившего подорожную стенку мастера.
— Что за кладка?! Ты черепаха?!
Дланью в браслетах он, самолично черпая глину в длинном корыте и растирая глину по кладке, левою дланью, тоже в браслетах, клал в неё камни. Стенка росла стремглав.
— Рока-кáнут! Исчисли! Если спешить, как мы, сколько сделаем за день?
Счётчик Империи проследил цикл кладки и подытожил: — Тысячу мер, Великий.
— Нам посчитали — тысяча сто мер.
— Нет, не получится. Чернь слабей Сына Солнца.
Тот вытер руки в светлом растворе прямо о мастера и откликнулся: — Льстишь без лести, нравишься этим… — После озлился: — Если к закату стенку не сделаете дотуда — всех вас повесим! — И захромал прочь, бросив: — Ты, Рока-кáнут, следуй за нами. Сотник, ты тоже — быстро вставай, идём… Вы здесь сколько скота поели?
Сотник шёл следом и бормотал: — Сто двадцать… Сто двадцать лам, Сын Солнца! В пуне скота у нас — как воды в Тити-Каке или как гор в твоих Сторонах. Приказывай! Всё умрём — лишь бы ты правил-царствовал. Мы рабы твои…
— Будешь каждые две луны, раб, слать в Чили войску сотню голов. Запомнил? Войско туда идёт.
В отдалении при кострах был лагерь, вяло дымивший в тусклое небо; всюду бродили воины с пиками; а у хижин, где рос картофель, стойкий к морозам, с криком на ламах ездили мальчики в ярких детских рубахах. Бедные сверстники наблюдали.
— Ну? — бросил Светоч. — Спят на уроках? Ленятся? Ты скажи, Рока-кáнут, мы их накажем. Ты их учитель.
— Инка-Владыка Тýпак Йупанки! Старший фехтует; он любит воинские занятия, остальные не любит. Младший — способней; он знает счёт; на память знает легенды андских народов. Знает обряды священнодействий.
Дети направили лам к родителю. Больший — рыжий, зеленоглазый, сильно веснушчатый — неподвижно сидел на ламе с маленькой пикой, точно со скипетром. Меньший, щуплый, чернявый, бил ламу пятками и манил: «Отец!»
— Рока-кáнут учитель нам похвалился, вы сосчитали искры на Солнце! — встретил их смехом инкский властитель.
Больший нахмурился; меньший крикнул:
— Неправда! Я не считал их!
— Плохо, сын, Третий. Что ты умеешь? Можешь ли счесть нам кочки или песчинки в пуне?
Меньший слез с ламы и молча тёр глаз.
— Кто сосчитает клубни у пýрехов? Будет óбщина голодать, а?
Меньший помчался к куче картофеля.
Чем объём измеряли в инкской империи? Единица объёма как называлась? Как сочеталась с бушелем, литром или арробой? Ведомо, что индейцам давали «тупу, дабы возделывать кукурузу; это фанега плюс половина. Этим же словом обозначалась лига дороги, и мера жидкости и иного напитка, также заколки, коими женщины закрепляли одежды, их надевая».
Вымерив кучу, мальчик воскликнул: — Двадцать мер! Двадцать мер здесь!
Простолюдины с помощью чана пересчитали, и оказалось подлинно двадцать мер с небольшим.
— Ох! — вымолвил мальчик. — Будут голодные.
— Будут? — ткнул император сотника кулаком в плечо.
Тот, упав, затвердил трясясь: — Нет, не будем голодные! Будем сытые…
— Хорошо сказал! Мы на год избавляем вас от налогов.
Сотник хрипел: — Заступник!! Отче Лучистый!!
А император спрашивал старшего сына, рыжего и в веснушках, зеленоглазого: — Ты учён чему?
Мальчик искоса глянул и, повернувшись, кинул вдруг пику, коя воткнулась в кучу картофеля, а затем посмотрел победно.
Центр селения украшал царский дом под крышей свежей соломы. Ветер раскачивал на шестах всецветные, в виде радуги, ленты около входа; рядом топталась пара гвардейцев (самоотверженных) в чёрной форме. Тýпак Йупанки в дом прохромал.
В ночь Вáрак, что прибыл с пóкес, вызван был в зальчик с печкой-рефлектором, с золотым грубым троном, где и услышал:
— Сказывай.
Он упал ничком, информируя: — Ты велел, я отправился в Чи́му. Там я сказал, я беглый и надо в Тумпис. Беглый из местных плыл со мной. Он знал страны, что проплывали. За Пакас-мáйу есть страны Сáньа, Кóльке, Мутýпи, — страны долинные, Чи́му раньше служили, нынче же вольные, потому как ведь Чи́му инкская стала. Страны там жаркие, а вот море холодное. А долина Сульáна рядом под Тумписом поклоняется пуме: видят её и просят, чтоб сожрала их. Я, их язык враз выучив, — хмыкнул Вáрак, — вызнал про Тумпис. Эти сульáна вышли на тумписцев воевать. Я — с ними. Шли по пустыне в Тумпис на битву. Тумписцы прытки, остроголовы; женщины — косоглазые. Город Тумпис — у гавани. Нас разбило их войско, что было в перьях, словно туканы… В общем, я в Тумпис с ходу не мог попасть, потому как неострая голова моя выдавала бы, что я пришлый. И я сульáна вновь подбил на войну. Продвинулись до предместий. Все их дворцы — из камня белого цвета… Нас разгромили, пленных убили ихним богам. В том Тумписе правит Хау, он их батаб, курака. Главный царь — Тýмпальа, что на острове Пуна. Я и попал туда как особенный пленник. Жрец нас калечил и надувал в зад, но не меня, а диких. Нас привязали к пальмам до казни. Ночью собачка стала мне икры рвать. Заявилась вдруг девка да и спасла; браслет её… — Вáрак, встав, отдал Светочу золотую дугу со вставленным в ней смарагдом. — После я морем плыл до Каньáри, — это такое ихнее царство тоже восстало и прекратило слать подать Тумпису; а потом — в Айаваку, коя твоя уже, а потом сразу в Куско… Тумпис могуч был, нынче он слабый и разделился. Военачальник был бы умелый с теми сульáна, — Тумпис бы взяли, — кончил речь Вáрак.
— Пей! — Император вручил кувшин даровитому и лихому разведчику, бросив: — Стало быть, Тумпис чучело в перьях?..
— Был я на родине — разузнать дела. Титу Йáвар наместник «верхним» спускает, пустоши раздаёт. Люд мыслит, что он к ним добрый, ты же лишь труд берёшь, губишь в войнах общинников.
— Псы проклятые!! — Главный инка ушёл стремглав.
Пуна — красная от заката. Шествуют, волоча бесконечные и корявые тени, ламы… Бликая, едут чьи-то носилки… Воины в лагере спорят: «Это Великий». — «Нет, не Великий. Мало носильщиков; у Великого восемь их, а порой до шестнадцати».
В паланкине вразвалку нежился инка. Грива волос ниспадала в бархат белой накидки. Светлая кожа, тонкие руки, мягкие губы, томные взоры значили знатность. Ехал наместник инкского Юга (с южным пределом в Чили-Такаме, с северным — в Кóльа). Тысячи тысяч разных племён пас барственный Анта Кéна в качестве отпрыска от отцов-основателей расы инков, то есть «гривастых», «древних» родов то бишь. Но затем пришли варвары, — «косоплёты», «старые» кланы, — правили в Куско в качестве «верхней», преобладающей, главной óбщины, кличась «инками» тоже. «Древних» и «старых» смял Пача Кýтек, родич Хромого, милостью коего он — наместник, ибо негоже брезгать вельможностью, у какой мандат на правление от Великого Солнца, а не в итоге всяческих бунтов и узурпаций, мнил Анта Кéна. Столь дерзок мыслью, в воинский лагерь въехал он чванно и, встретив инков, слез с паланкина. САМ, поманив его, захромал тотчас (свита следом) прямо в лачугу простолюдина.
— Глянь, разлюбезный!
Ламий помёт в печи вяло тлел, дымя в кровлю из обветшалой тёмной соломы; простолюдинка в рвани дрожала подле посуды; рядом возились голые дети. Пýрех на шкуре ветхой постели трясся от страха, видя властителя.
Тот пустился с наместником (свита следом) в хранилище. Сотник с главным старейшиной посветили в сусеки, в них было пусто.
— Глянь, разлюбезный, сколько зерна! Ну, где оно?
Анта Кена молчал, теряясь.
— Враг!! — взвизгнул Светоч. — Дом в Куско строишь, здесь губишь бедных?! — Он взял у свиты пару сандалий, снятых с солдата. — Лам здесь — что волосу в твоей гриве. Значит, и кожи здесь в преизбытке — ты же люд в гниль обул?! Воевать идём, не на пир идём! В Чили обувь разлезется — будем в ней, как в грязи, елозить?! Так ты здесь правишь?! Нам умертвить тебя?!
Анта Кéна бледнел сгибаясь.
— Мы не на танцах! — нёс император. — Нам надо Чили брать!! Дел, забот с Тити-Каку! Или гривастые, твои родичи, в Чили нас заморить хотят?! Мол, они кровью чище?! первые инки?!!
Военачальники обступили их, и наместник почувствовал: знака ждут, чтоб убить его здесь, в хранилище! Подогнулись колени, и благородное тело, пачкаясь, рухнуло.
— Исправляй, враг! Завтра же!.. Всё, идём говорить о прочем.
Инки исчезли.
Сотник и местный главный старейшина помолились.
— Душу не вытряс, и не прибил… Ругался.
— Громко ругался!
— Будь мы под Куско — нас бы казнили.
— Он понимает, наш Благодетель: тут неудобья. Мы невиновны. В наших лачугах крыши гнилые — сам он под толстой. Наш склад пустой давно — а его склад полнёхонек.
— Год не будем трудом платить. Он мне сам сказал, наш Владыка.
— Верно! Он знает, где нужно милостью, а где гневом и карой. Он правосуднейший!
— Он Заступник! Он — Светоч Анд!
Тракт сделали. Рать направилась к югу вместе с гвардейцами в меховых чёрных, в бляхах, мундирах и при щитах с секирами. Синчи-рýка (áпу по чину, или же генерал) рассказывал царским детям, едучи с ними и с императором: «Ох, племянники! Я Такаму сломил мгновенно. Праздны такамцы, как их пустыня. Им бы возиться на огородиках да ловить в море рыбу. Рубятся кучей, как обезьяны, и трусоваты: крикни погромче — вмиг разбегутся». — «Земли Такамы, — вставил Владыка, что ехал сидя меж сыновей, — без пользы, но рядом с Чили; вот и нужны нам». — «Верно, Великий: нища Такама, знойна, пустынна. Чили иная, Чили богатая! Там земля без семян родит, зверь кишмя кишит; реки там золотые. В Чили я, помню, крепко завязнул! — Áпу смеялся, смуглый, весёлый и моложавый. — Люд там свирепый — арауканы. Я так прозвал их, сами же называются „че“… Че разные! Кто на север от Мáульи от реки — пикунче, а кто в верховьях реки — пуэльче. Я их побил, все наши. Но вот за Мáульи есть мапуче, не покоряются, не желают принять власть инков. Я им, про нас сказав да про Солнце, начал сражаться. Войско угробил, в Куско приплёлся битый-разбитый. Ваш отец мудрый: тракт провёл в Чили и поселил там кéчуа, а на Мáульи крепость соорудил. Мы рать ведём, также темник Мамáни рать ведёт. Смерть врагам! Будут знать и правление, и порядок!»
«В древности был бардак в стране, что зовётся Перу. Тупые были настолько, что в это трудно нынче поверить; все были дикие, кровожадные звери, тати, садисты и людоеды, что матерей своих и своих дочерей притом брали в жёны и допускали прочее скотство».
— Арауканы, дядя, плохие? — спрашивал меньший мальчик из двух, чернявый.
— Очень! — встрял император. — Мы их научим нашим порядкам, станут хорошими… Рока-кáнут, измерь-ка: горы неблизко?
Счётчик, шагавший близ паланкина, глянул в даль пуны. — Пять мер до гор, Великий.
— Хмуришься, счётчик?
— Думаю. Кто живёт так, кто этак. Надо ли изменять порядок?
— Мыслим, не надо. Всё в воле Солнца.
— Верно, Владыка. Кролик не плавает, вьюн не скачет и не летает. Что же ты рушишь правило Солнца — арауканам жить их порядком, а не по-инкски?
Тот, отшвырнув лист коки, что доставал, воскликнул: — Хочешь, раб, смерти?!..
Тракт взвился в горы.
Ветры завыли; тучи, сгустившись, плюнули градом. Всюду лишь камни, мокрядь, туманы… Подле вулкана, густо дымившего, Пако ткнул друга в бок дубинкой. «Глянь, Йýки! Видишь? Ауканкильча!» — «Пчхи!!» — зачихал тот. — «Не гомони ты, дурень безносый. Ауканкильча чих твой услышит, топнет ногою — вылетишь к чёрту. Там тебе место: дымно, студёно, а по болотам бегают предки, ищут тебя, вор». — «Пако, я в Чили буду сражаться, сделаюсь сотник! Йýки от пум пошли…» — «Врёшь ты, дурень! Йýки до пумы — как Кой до сокола. От кого ты, сказать? — от áньас». Все засмеялись, ибо те лисы так «смрадно пахнут, что, источай они аромат в той мере, в коей смердят, ценились бы выше амбры; если они забегут в селение, ни закрытые окна, ни затворённые двери не защитят от смрада. Их очень мало; было бы много, эти зверюшки вмиг отравили бы мир зловонием». «Пако, шутишь?! — выпалил Йýки. — Этот вулкан и тебя, враль, видит. Я хоть без носа — ты недомерок…»
Вечером лезли на перевал, вслед Солнцу. Неунывающий Синчи-рýка был среди первых. Йýки сорвался вниз, поскользнувшись. Но Пако спас его, заарканив, и сбалагурил: «Он на Кудрявую засмотрелся! Он парень прыткий: с неба звезду подай! Будь Кудрявая ближе — Йýки в кусточках ей показал бы (то есть Венере)!» Йýки, польщённый, из благодарности стал нести щит товарища.
На вершине — пурга и стужа. Маги, гадатели, колдуны, юроды шумно скакали близ пирамиды, сложенной из снежков, что клали духам природы на перевалах. Тýпак Йупанки молча швырнул к снежкам золотой самородок… После спускались западным склоном… Быстро темнело. Вáрак нёс грузное золотое оружие Урку Инки — шефа гвардейцев-«самоотверженных» (принца, сына Владыки), коему фатум прочил погибель… ну, а пока он шагал вперёд, устремляя вдаль взоры, внемля рассказам оруженосца. «Я воевал и в Чи́му, и в Мусу-Мýсу… я там куракой стал, — разглагольствовал Вáрак. — Был в странах Ки́ту, Тумпис, Каньáри… Мыслю я, принц мой, арауканов мы всех побьём. Будет Ясный День рад премного». — «Я воевал, чёрт, лишь в Айаваке! Это вторая война моя, — отвечал ему юноша. — В Чили были Мамáни да Синчи-рýка; днесь и отец пошёл. Смерть изменникам! Мой отец самый лучший из полководцев! Дед Пача Кýтек был Потрясателем, Куско сделал империей, начал нашу династию, а отец уйму стран поверг. Вот и я хочу!»
Шли два дня с перерывами… Исчезали снегá, льды, тучи — и появлялись травы, викуньи, птицы и кактусы. Начиналась Такама. В бедных долинах были селения, где вожди выводили люд восхвалять императора. Открывались хранилища. Войско ело — и устремлялось в сердце пустыни… Редко встречались пятна оазисов, где в маисовых зарослях кучковались лачуги… Небо синело мертвенным светом… Через пески шёл тракт меж стен, плюс отмеченный вехами. Для чего этот тракт широкий, было понятно: чтобы колонны воинских ратей шли десять в ряд свободно… Раз грянул вихрь с песком, бушевал до рассвета, после унёсся. Йýки поднялся и присмотрелся: всюду пески… все сгинули! Но пески, шевельнувшись, выросли в воинов, что в испуге вопили: «Духи пустыни нас унесли к себе! Нет пути! Мы пропали!!» Йýки со всеми горько стенал. Пройдя к нему, генерал Синчи-рýка дал ему в зубы и тихо рявкнул: «Видишь, пёс, палки? Топай к ним!» Вдоль торчащих тех палок вышли к селению, где такамцы тракт чистили. Йýки вник, для чего здесь вехи… Тракт вывел к берегу, где шумел океан. Судачили: «Тут край Запада; в море не с кем сражаться. Чили возьмём — останется воевать на севере да востоке, в двух Сторонах всего. Слава Солнцу!» Видели рыб с фонтанами ростом с гору Чачани и ужаснулись, так как, раздевшись, Пако поплыл к ним. Войско следило, полное страха, в том числе инки. Пако вернулся, не обогнав китов, и свалился в песок, чуть дышащий. За отвагу его возвели в десяцкие.
В Копайáпу, знойной долине, где тракт прибрежный встретился с горным, их ждал Мамáни — немногословный сдержанный инка древнего рода с гривой волос под шлемом; он был хороший военачальник в звании áпу; с ним было войско.
Дальше, в Куки́мпу, в копях ущелья видели, как из шахт вылезали белые от докучливой пыли пýрехи и невольники, для того чтобы сдать руду — и влезть в шахты опять; а женщины загружали породу в сетки, что опускались в воду бассейнов. Шлаки всплывали. Золото, сортируя, сыпали по мешкам и ёмкостям. Император спросил:
— Вы сколько в день набираете?
— Семьдесят, — отвечал управитель рудной долины, инка из малых, из захудалых. — Много рабов здесь — арауканы; метят сбежать от нас, так как их земли близко.
Мальчик постарше (зеленоглазый, сильно веснушчатый рыжий принц) прошёл к сортировщикам и сказал поджарому: — Все по двадцать корзин ссыпают, ты — только восемь.
Раб, подхватив его, отшатнулся к бассейну посередине глиняной жижи — ткнуть носом в воду изобличителя. Вáрак бросился с пикой — раб утопил нос мальчика и воскликнул на «руна-си́ми», общеимперском говоре:
— Дай макана!
— Постой! — вскричал Рока-кáнут, бывший при принцах как их учитель. — Лучше меня возьми вместо чада!
— Дай мне макана! — вёл раб своё.
— Мапуче… это мапуче… — нёс растерявшийся управитель.
Все, прекращая труд, подходили. Стражники пятились к группе инков. Схваченный мальчик ник на коленях, в грязных потёках.
— Раб, возврати его — отпущу!
— Макана!!
— Дать ему!
Получив меч, раб стал близ принца и прогорланил на «руна-си́ми»: — Кура уходит! Кура за Мáульи, за рекою-границей, парня отпустит. Кура сказал!
Вдруг женщина его племени укорила его за что-то. Раб отпустил заложника; и немедля Мамáни, доблестный инка древнего рода и генерал, взял пику, чтобы сражаться.
— Нет, благородный! — вышел, оскалившись, Синчи-рýка, тоже из áпу (из генералов). — Я, сын наложницы-мамакуны от Пача Кýтека, родич мальчику. Оскорблён мой племянник… Инки не лгут! — воскликнул он. — Кура вправду свободен и пусть уходит. Но родич мальчика вправе мстить ему.
И рабы подтвердили: — Да! Родич вправе!
Женщина поддержала: — Сын за отца, за деда. Брат за сестру. Воистину.
Синчи-рýка шагнул вперёд… Раб разбил его щит… Кружились друг против друга… Ноги тонули в глине по голень… Инка метнул свой дротик, брызнула кровь. Раб, кинувшись, смял мечом вражий шлем и гаркнул:
— Вождь Кура сильный!! — Он тряс оружием, наблюдая, как супротивник стал оседать.
— Победа! Кура уходит! Он идёт родина! — Победитель побрёл по жиже хлюпавшей глины прочь от бассейна.
Принц, рыжий мальчик, бросился и воткнул ему в спину нож. Все смолкли. Раненный Синчи-рýка привстал с трудом… Поздно вечером на рудник пришли усмирители — перебить рабов вкупе с женщинами и малыми.
Вновь войска шли на юг. Томительный зной спадал; пески охлаждались бризами да туманами с океана, также и речками. Подорожные стенки с вехами кончились, но прибавилось зелени: рощ, лугов и болот. Дождило, ели москиты…
Южный форпост державы, крепость Араукания находилась за валом по-над рекою. Рать стала лагерем. Император устраивал то и дело учения и военные смотры, слал гонцов в Куско, где через треть луны получали известия о событиях в Чили…
Как-то в дождливый пасмурный вечер инкские рати с áпу Мамáни крадучись перешли реку, тем нарушив границу. Арауканы протестовали. Инка велел проводить его к вожакам племён.
— Пять вас пустим в наш лов, не больше. Прочие — здесь ждут. Мы их не пустим, — был ответ.
И посла понесли в носилках с маленькой свитою.
В роще были плетёные глинобитные юрты с конусной крышей, рядом — тотемы; а у жилища с символом Солнца — группа индейцев, женщина и старик с клюкой. Полководец дал им подарки: бусы, браслеты, чаны из бронзы. После он начал, встав на носилках:
— Ваш бог есть Солнце, наш — тоже Солнце. Мы вопрошаем: вы чтите Солнце, Сына отвергнув? Смысла нет. Дайте нам опекать вас, оборонять от бед, обучать новой жизни, здравым законам, истинной вере.
Ибо Сын Солнца, вёл честный инка, прибыл из Куско, кой вдалеке от них (от мапуче), лишь для того, фактически, «дабы делать добро, как делал он в отношении подданных, подчинённых империи, но не ради господства или для выгод»; главное, что «их собственность не убудет — даже умножится от внедрения рыночных, оросительных, земледельческих и других новин; всем оставят их земли, где проживают»; инкам лишь нужно, «дабы служили их богу Солнцу, выйдя из варварских отношений».
Женщина спорила:
— Я мать лова. Я не хочу вас. Вымазав кровью стрелы и копья, скоро пойдём на вас. Год назад приходили — мы вас прогнали. Прочь, прочь за Мáульи! Там рубеж!
И старик ткнул клюкой своей тоже к северу.
— Прочь, прочь! Мать правду знает.
Женщины и мужчины сдвинулись с криком: — Прочь, прочь за Мáульи!!
Генерал сел в носилках и подытожил: — Инки не ищут ссор, тем не менее воле Солнца-Отца послушны. Мы вас научим жить.
И он отбыл. Арауканы, или мапуче, сопровождали, вздевши оружие.
Через месяц всё повторилось, только: «За Мáульи!!» — говорили шесть-семь вождей и посла провожали толпы. Тьмы огней зажигались каждою ночью на порубежье.
В третий раз генерал видел тридцать старейшин арауканов и, возвратясь, рассказывал: — Говорил Кила-кýра — главный мапуче-камнепоклонников. Набралось тысяч сорок. Злятся, война не вовремя, им-де надо поля полоть.
Молодой Урку Инка пылко вскричал: — Вели, отец! Я с мешкотными и тупыми аймарцами их сейчас разгоню, клянусь!! Дай прославиться и вернуться с триумфом! Дай победить! Что медлишь?!
— Пусть прибывают, Урку, поганые; пусть стекаются, — возражал император. — Разом их и побьём!
Сын меньший, рыжий и хмурый, что отирался около взрослых, выложил ломаным детским голосом: — Будем ждать — превзойдут числом.
— Обоснованно! — согласился Владыка.
Утром рать вышла, выставив пики… Вот Солнце брызнул, и золотой доспех Тýпак Инки Йупанки, крепко державшего в дланях кубки, вспыхнул в лучах. Он молвил:
— Мы, волей Солнца, нынче пришли сюда. Дай победу, Отец! Испей перед битвой с сыном!
Кубок он выпил, правый — пролил в траву, а затем взошёл в боевые носилки.
Трубы завыли, стукнули бубны и барабаны; взмыли штандарты. Йýки и Пако, бледные и со вставками шерсти белого цвета в мочках ушей, — знак пóкес, — в страхе болтали: «Выдь, Йýки, первый! Ты мордой в язвах их напугаешь». — «Пако, ты тоже… Ты стал десяцким, ты плавал к рыбам! От храбреца злыдни вмиг сбегут!» — «Йýки, верно! Пóкес храбрее арауканов!» — «Пако, десяцкий! Вместе не страшно!»
Армии прянули друг на друга… Стрелы посыпались… Йýки в страхе согнулся и обмочился. Пако водил щитом, жмурясь стрелам, глядя на раненных и убитых, и, вдруг рванув вперёд, сшибся с кем-то неловко; после свалился в яростной давке, встал затем и с копьём налетел на дылду, кой его сбил щитом, а пришед в себя, различил Синчи-рýка, темника, в самой гуще врагов и — толпы, страшные, в шкурах. Он замахал копьём, точно бешеный. Синчи-рýка, оскалясь, выкрикнул издали:
— Бейся, храбрый!
Видя героя, САМ отрядил в бой тысячу. Враг попятился.
Инки шли в наступление.
— Вáрак, Вáрак, сюда его! — повелел император.
Самоотверженный прыгнул в битву.
Весь окровавленный, Пако бился и охнул, ибо почувствовал сзади руку. «Ты, Пако?..» — «Вáрак?.. Инка-по-милости?..» — «Пако, стой. Ясный День зовёт…» Оба, вырвавшись из сражения, поплелись в тылы. Император ткнул скипетром Пако, павшего ниц.
— Смельчак, кто по морю плыл?! Сотник! Айау хайли!!
Все подхватили: — Хайли-ахайли!!
Пако поднялся и опоясан был поясом в знак того, что он сотник.
— Вновь иди и злодеев бей!
Пако брёл следя, как несли с поля раненых и как лекари лили в раны бальзамы, сыпали травы для воскурений, громко камлали.
Солнце упал в холмы. Стяги в ставках сторон качнулись. Раковины взвыли, инки попятились. Отошли и мапуче…
В лагере, у костров на шкурах, воины ели, пили и спали. Ночью начальники пяти тысяч (звали их «мастера, ассы боя», или полковники), с генералами (áпу), ведшими десять тысяч и больше, смыли кровь с лиц своих и пошли к шатру на совет к императору. Тем и тем жёлто-красные нити крыли виски; до плеч у них висли диски из золота на огромных ушах, как следует инкам крови. Только куда там «мастеру боя» Пáваку до Мамáни — вроде бы родича, но от брака их предка с главной женой, не с младшей? Чтó даже доблестный Синчи-рýка — сын от наложницы, не от пальи-супруги, а уж тем более не от койи?
САМ был усталый и вопросил: — Потери?
— Лишь восемь тысяч! — вёл Синчи-рýка, весело скалясь. — Живы все лучшие, вроде Пако из пóкес, кто новый сотник. Мы победим их!
— Пять тысяч двести — убыль в моих войсках, — отчитался Мамáни; зарево от костра, трясясь, осветило помятую, в пятнах крови, броню его. — Срок ввести в бой самоотверженных.
— Да! Воистину! — загорелся шеф гвардии Урку Инка, юноша-принц.
— Сплошаем, — вставил Мамáни, — если не…
Император взорвался: — Ты нам, Мамáни, как косоплёт врёшь, хоть и гривастый!! Ты с Титу Йáваром?! Ты ему хочешь трон отдать?!.. Где, Мамáни, людей взять, думал?! Скольких на севере держим, и в Чачапуйе, и даже в Чи́му, — знаешь, Мамáни? Скольких мы держим в городе Куско против смутьянов? Сколько Ольáнтая стерегут в горах? Ждут, ослабнем?.. Нет! Всех уложим!! Слуг пошлём и сынов наших малых, но гадов кончим!
Утром, взывая к вставшему Солнцу, САМ разместил рать с гвардией в центре. Стяги взметнулись, войско всей массой прянуло с копьями. Орды пёрли навстречу… Сталкивались секиры, камни крушили плоть… Сея смерть, мчал принц Урку; дротик пронзил его, и, воззрившись на Солнце, юноша рухнул. Через мгновение его голову поднял пикой мапуче ростом с утёс.
Бледнея, инкский Владыка что-то велел хрипя. Вáрак бросился в бой, к ристалищу, где гигант, смеясь, тряс добычею — головой сына главного из вождей Америки. Вáрак с лёту ударил злыдня секирой — и поволок в тылы. Инки долго терзали и расчленяли тело убийцы и осквернителя инкской «солнечной плоти» — плоти священной.
Битва велась под вечер. Обороняя бок, Пако выдвинул ногу — обух ударил в кость. Проревели путýту — раковины моллюсков, и оба войска разъединились.
Раненых снесли в крепость Араукания. Пако — тоже снесли.
Дождило. Пахло цветами, если не дуло с поля сражений. В стане кусканцев возле костров шушукались: «Пóкес все легли». — «Правда, правда… И у врагов негусто». — «Слышишь? воняют-то, из кого дух вышибли…» — «Уай!»…
Дождливой зарёй проснулись. Падая и скользя, построились. В боевых блёкло-красных, сильно обшарпанных и побитых носилках, в стёганой чёрной, в бляхах, рубахе встал главный инка с длинной пращой в руке. Бахрома густо-красного налезала ему на глаза под шлемом, и с неё капали, накопляясь, капли ненастья.
— Йау! — возопил он. — Наш незабвенный сын Урку Инка отбыл на Солнце и рассказал о гадах. Солнце хотел их сразу поджарить огненным светом! Нам стало стыдно. Мы попросили грозного бога скрыть гнев за тучей. Сами побьём врагов! — Император махнул пращой в направлении юга.
Там, в дожде, были толпы мапуче, злые, недвижные, в балахонах и шкурах, с копьями, луками, топорами, дубинками, а над ними — тотемы лис, пум, волков, медведей.
Внемля Владыке, рать разъярялась. «Чёрт! Из-за них сдыхай!!» — «Как колы, торчат!» — «Ишь, предатели! Не хотят служить сыну Солнца» — «Шавки! Айýски!»… Это «айýски» было хулою невероятной.
В брызнувшем ливне толпы пустились встречно друг другу, яростно сшиблись. Темник Мамáни бился маканой, то есть особым инкским мечом, и шёл вперёд. Удалой Синчи-рýка дрался без жалости топором, швырял также бóлы (болеадоры, или же бóлас). Бился Владыка; махом сломав стрелу, что пробила нагрудник, он из пращи метал самородки чистого золота.
Волосатый мапуче тряс пикой с криком:
— Я Кила-кýра вождь!
Самородок разбил ему рот. Со стонами варвар выплюнул зубы.
— Хайли!! — взвыл император.
— Хайли-ахайли!! — И с этим рёвом гвардия повалила в бой.
Враг подался в центре и с фланга…
Вырвался из-за тучи солнечный луч — знак добрый!..
Инки приблизились к вражьей ставке…
Гром раскатился в хаосе молний… всё потемнело… Вновь хлынул ливень, и появились сонмища диких…
Бились жестоко: ни наступая, ибо силён враг, ни отступая, ибо таков приказ божества с двумя перьями коре-кенке над тёмно-красной, вымокшей бахромой на лбу.
Потерявши пол-армии, инки скрылись за Мáульи, не сумев победить.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
дающая нам понять, как жили инки в их добродетели, как трудились для подданных — мирных, не бунтовавших…
Куско сиял, дул ветер. Брёл караван вьючных лам по улице. Семенили куда-то при веретёнцах, кои крутили, женщины в платьях пёстрых расцветок, пряжа стекала в сумки-кошёлки. Шли и кураки разных народов как по служебным, так и по частным всяческим нуждам… Подле большого Дома Советов — уйма носилок; в них прибывая, инки всходили парой ступеней к узкому входу и достигали зала со склоном, венчанным троном. Всё звалось «зал Холма», то есть инкский сенат (парламент и госсовет). С вершины Холма по склону шли золотые, ниже — серебряные сиденья. Как все расселись, встал долговязый, бледный, усталый Амару Тýпак, брат властелина, канцлер.
— Инки! Всесильные! Трон вменяет законы. Первый — земельный. Чури Катáри — Вождь-Говоритель Нижнего Куско — пусть возражает, буде намерен… — Канцлер скосил глаза.
Седовласый, подвижный, с гривой, старик внизу распрямился.
Амару Тýпак тихо продолжил: — Прежде про землю. Инки и óбщины и кураки больше не собственники в смысле, что вся земля теперь — Сына Солнца, кой волен дать её, но и волен отнять. Все инки, óбщины и кураки землю получат только за службу Солнцу и Трону. В силу речённого, и причин бунтовать не будет, знай возмутитель, что он живёт на земле царя лишь монаршею милостью.
Титу Йáвар (староста инков Верхнего Куско) с Чури Катáри (Вождь-Говоритель Нижнего Куско и «Вождь Кусканский») переглянулись, хоть и сидели: первый внизу, а второй наверху Холма.
— Ныне старшие кланов, — выложил канцлер, — сколько ни есть их: чима-панака, айльу-панака, викакирау и остальные, — властны и знатны, точно наместники дней аймарских владык. Любой из них и любой член Совета правит таким числом простолюдья, коим владел, отцы, Йавар Вáкак — инкский последний вождь при аймарцах. В этом заслуга нашей Династии, прекратившей рознь инков. Днесь Нижний Куско явственно знает, что он не меньше, чем Куско Верхний, что серебро его кресел чтится как золото. Ибо чтó семя мужа без лона женского, Верхний Куско без Куско Нижнего, породившего Перво-Инку вместе с супругою Мамой Óкльо? Сын Пача Кýтека, Тýпак Инка Йупанки, наш повелитель, поднял всех инков, не разбирая, кто инка «верхний», кто инка «нижний», и все народы подданны инкам… Слава Династии! Трон велит: Чава Инке рода викакирау сдать его вотчины и быть в Чи́му наместником. Ильма Инке рода викакирау завтра сдать Пи́сак и ехать в Тукму. Сходно тебе, Вождь Куско, из Кота-нéры и Кота-пáмпы завтра же выехав, получить взамен лен восточней — земли народов пóкес и кáнку. Вот вам один закон. А второй закон…
— Как?! — привстал Титу Йáвар, злобно швырнув себе в ноги горсть табаку, что нюхал. — Пóкес и Кáнку — гордость Востока, где я наместник… Старые кланы! Нас истребляют!
— Недопустимо!! — сжав кулак, крикнул Чури Катáри (он же Вождь Куско, Вождь-Говоритель Нижнего Куско). — Чима-панака исстари правят кéчуа! Как так: «сдать» Кота-нéру и Кота-пáмпу?!
— Нет! Пи́сак мой, сказал!! — рявкнул ражий заносчивый Ильма Инка. — К дьяволу Тукму, эту дырищу!!
Инки полезли к верху, ругаясь. Сбившись у трона, главы Совета, инки от кланов соксо-панака, инка-панака и кáпак-айльу, «стриженых», защищались. Сгорбленный одноухий старик из них прохрипел:
— Убью!!
Атакующие смолкли, остановились.
— Хватит, всесильные, — бормотал Анта Кена, бледный от страха инка из древних родов «гривастых», он же наместник инкского Юга, кой дальновидно пробыл на месте в самом низу Холма.
Златоухие разошлись. А сгорбленный одноухий грубо добавил:
— Всем слушать тихо, не бунтовать! Я, Вáман Ачачи, косы вам срежу, гривы и уши за беспорядки!.. Дальше вещай, брат.
Амару Тýпак, кашлянув и зардевшись, хлопнул в ладоши. Слуги внесли конструкцию с золотыми хребтами, синими реками, изумрудными чащами.
— Остр вопрос и восточный: вспомним набеги диких народов, против которых наш Саксавáман спешно построен… — Став у макета, он тронул крепость в северной части города Куско. — Мы воевали с чунчу и мýсу. Есть ещё Áнти — царство Ольáнтая. Ни одна Сторона не грозит, как эта. Диким, что в Чили, месяц пути к нам, а не неделя, как диким чунчу, и не два дня, как горцам, людям Ольáнтая. Замирённые чунчу и мýсу шатки, коварны. Только хананцы с их Руми-Ньáви — верные. Остальные упорно склонны к нашествию.
— Кто спасёт земли пóкес, троном мне данные?! — подскочил петушком Вождь Куско. — Отняли вотчины, а удел, что всучили, вдруг объявили полем для битвы, дабы молить вас, клянча защиты, и подчиняться вашим чиновникам?! Триста лет мой великий род, кой почал расу инков, пестовал кéчуа, — нынче вы мне любезно дали окраины: пусть-де чима-панака их обустроят?! Амару Тýпак! Этот имперский закон убийственен! Инков подло унизили! Что земля и мошна без власти? Чи́муский царь, скажу, тоже носит руно, ест с золота, но любой мелкий инка — бог ему в его собственной Чи́му. Ваш закон выдрал инкам перья. Орды востока вырвут им крылья. Выгода — вам. Нам — гибель!
— Правда, Вождь! Беззаконие!! — поддержали все.
Зал неистовствовал, вопил, не решаясь двинуться к трону, что Холм увенчивал и где правящий клан сплотился. Кто-то вскричал со зла: «Полукровки!!!»
Все посмотрели на Ильма Инку.
Вáман Ачачи, сгорбленный одноухий старик у трона, яростно свистнул; стража Совета вывела горлопана.
Канцлер продолжил: — Инка-Владыка кончил победой войны с мапуче-арауканами и пойдёт в поход на Ольáнтая, для чего подготовил рейд на Вануку, дабы отсечь его от племён Урубамбы, кои в союзе с этим злодеем…
Мýсуска, что наложница инки-милостью Вáрака, Има-сýмак спешит по улочке. Веретёнце в руке её, а подол подлетает в быстрой походке. Щёчки пунцовы, глазки кокетливы, на запястье браслеты… Что, Красный Город?.. Ой, целых два их, слева и справа! Правый — обманный, отсвет на стенах Дома Избранниц, сложенных золотом. Но дикарка направилась в Красный Город реальный, к царственной даме в дивном саду.
— Уай, где я? Ты, Мама Вако, очень красивая! Что звала?
Мама Вако давай расспрашивать. Има-сýмак сбивалась, мысль её путалась. Странен сад вокруг! В нём растут и обычные, и златые кустарники, травы, розы, деревья. Птичка подсела к птичке резвиться, та же — из золота!! А над садом — домища с разным добром; там платьев — не перемеришь… Слуг сколько ходит! Вот бы приказывать: ты туда, ты сюда ходи… Мама Вако — вторая по знатности в Четырёх Сторонах. Что дщери Луны — незнатная муравьедиха? Все-все жёны гвардейцев лопнут от зависти! Даже пальам не так легко к Маме Вако попасть. Ах!
Обе, пройдя сад, близ водоёма сели на камень. Глянув, как плещут красные рыбки, дикая молвила:
— Мне работу! Мне бы работать, слушать бы добрая Мама Вако!
Подали пряжу с маленькой прялкой. «Ежели женщина, что не пальа по рангу, а лишь супруга (мать, дочь) кураки, шла в гости к палье, то, после первых слов, гостья требовала работу, сим намекая, что прибыла не в гости, ибо не ровня знатной хозяйке, но лишь прислуживать. Пальа ей предлагала работу. Это награда, выше какой и мечтать нельзя». Има-сýмак пряла. Мама Вако, следя, спросила:
— Слушай, любезная, сколько лет и откуда?
— Лет? Три по пять мне! Жить в Мусу-Мýсу, после — кусканка! Я любить инку и Маму Вако!
— Твой ведь муж — Вáрак? Что, вызывал его мой великий супруг Владыка? Вáрак твой храбрый, и он доверенный Сына Солнца. Впрочем, о чём я… Сколько там жён вас? Есть ли детишки?
— Маленький мальчик есть, муравьед!.. У Вáрака много жён. Мне наложница. Ты есть главная пальа? Я главная из наложниц. — Гостья забыла прясть свою пряжу. — Знать всех сынов твоих, Мама Вако! Знать Апу Кáмака, Виса Тýпака, Урку Инку. Знатные пумы и муравьеды! Храбрые! Как ты их родила? Скажи!
Мама Óкльо, всплакнув, приложила край ликли к чёрному глазу.
— В душу ударила… Солнце взял Урку Инку. Пал на войне он, в Чили… Ну, и что Вáрак? Что говорит про инков? Где он бывает?
— Он, как вернётся, платье подарит!.. У Мамы Вако ликля красивый! мне бы такая!
Высокородная бросила ей накидку, сняв с себя.
Има-сýмак заахала. Сребротканая ликля!! Все будут думать: вон госпожа идёт родовитая! может, женщина инкской крови!.. Уай, птички, пойте! рыбки, плещитесь! Солнце, тронь ликлю, чтобы сверкала! Надо пасть в ноги знатной хозяйке!
— Так любить Маму Вако!
Дама погладила ей плечо, спросив: — Где недавно был Вáрак, милая, знаешь?
— В Тумписе Вáрак! Там ели псы его! Дева-ньуста спасла его!
— Тумпис — это страна? Что, сильная?
Надо ей угодить. Как спросит — то Има-сýмак доброе скажет, «да» сразу скажет.
— Сильная! Очень много домов, курак!
— Ну, а Вáрак боится, милая, тумписцев?
— Да, боится их Вáрак! Храбрые, страшные!
— Воевать Тумпис с инками будет?
— Уай, Мама Вако, да, Тумпис будет!!
— Хватит. Пойдём, пойдём.
Шли по саду. И вдруг со свитой — императрица. Быстро потупясь, пальа присела. А Има-сýмак в полном восторге стала глазеть на «койю» — на Маму Óкльо, лучшую дщерь Луны, блиставшую, как Луна в расцвете. Главная в мире!.. Что говорит?.. Как кружится голова, уай!..
— Ты, Мама Вако, к нам не заходишь… О, ты без ликли? Так не пристало… Кто с тобой?
— Има-сýмак звать… Съесть хочу Маму Óкльо!! — пела дикарка с пламенным взором. — Где наступаешь — дай поцелую! Дай, муравьедиха!.. — Она чмокнула землю и руку койи (так называли императрицу). — Ты муравьедиха муравьедих!
Все рассмеялись, за исключением главной пальи.
— Что ты с ней делала, Мама Вако?
— Сказки мне сказывала дура.
— Мне пусть расскажет! — было приказано.
В госсовете с Холма вещал канцлер Амару Тýпак:
— Перед чилийским дальним походом взяли мы Кáльву и Айавáку, это на севере, и приблизились к царствам Ки́ту и Тумпис, также к Каньáри, где верховодит Тумпис Великий. Дóбыты сведенья, что он выставит двести тысяч солдат, отцы. А наместника Севера Инку Вáман Ачачи Тумпис уведомил, что до сей Айавáки, что нынче инкская, Тумпис будет нам другом, далее — недругом.
— Оскорбил нас! — встал внизу Анта Кена, инка из древних кланов «гривастых». — Тумпис накажем!
— Думай о Юге, где ты наместник, — встрял одноухий, сгорбленный старый Вáман Ачачи. — Север — моя боль. Тумпис да Ки́ту вместе с Каньáри — это, считай, отцы, под четыреста тысяч. Поняли?
Зал опешил от мощи трёх тронов Севера. Канцлер, кашлянув, отчего разрумянился, начал:
— Худо, всесильные. Вор Ольáнтай давит с Востока. В Чи́му бунтуют. Кóхиль, посланник этого Тумписа, не садится на корточки и заносится, ибо грозен, велик сей Тумпис… — Канцлер указкой ткнул на макете местностей Севера в территорию Тумписа. — Инкам следует быть одним с сих пор. Сто птах выгонят и орла, коль вместе. Чима-панака, инка-панака, айльу-панака! Мы — представители трёх рас инков. Хватит считаться, кто благородней! Все равны, как вода в Тити-Каке! Все чисты, как снега Вильканоты! Все мы суть перья крыл инкской славы! — Так возглашая, Амару Тýпак мерно сходил с Холма и касался всесильных.
Выкатив грудь и сжав кулачки, с серебряного седалища подскочил Вождь Куско Чури Катáри. — Слушайте сказку про ягуара. Он, одряхлевши, начал мурлыкать: «Вы мои братья! будем жить мирно!» Звери, поверив, не беспокоились, и он живо их съел, хитрец… Благозвучны слова твои, о, Вещающий, — пусть и твёрдостью будут крепче стен Саксавáмана! Инки просят Династию отпустить Ильма Инку, кой вами схвачен.
Зал поддержал слова громким криком.
Стриженые на Холме у трона, что на вершине, чуть поразмыслив, вызвали главного стражи (Связывающего Преступника) и отправили за пленённым. Все ликовали. Лишь Титу Йáвар, каверзный лидер старых родов, нюхнув табак, хмыкнул: «Лам ведут на заклание золотым поводком».
Верховный Жрец, восседавший близ трона подле вершины, встал грузно с посохом и повёл басисто:
— Мы тут надумали, усмирения ради стран Четырёх Сторон и величия Солнца, в капища Куско ставить богов народов, сколько ни есть в Империи. Впредь культ Инти-Светила сопровождать велим ритуалами малым богам. Да будет!
Чури Катáри двинулся к выходу, из ушей вынув диски.
— Стой! — бросил канцлер Амару Тýпак. — Не покидай Совет, Говоритель Нижнего Куско!
Порох ждал спички, и уходящий начал задорно: — Стыдно быть инкой! Солнце сквернится низшими тварями! Завтра варвар предложит выпить с ним инке, раз его идол в храме близ Солнца? Я, чадо Солнца, буду чтить жаб, червей и болота?!
Зал поддержал его.
— Если гнусным соседством порчен Отец мой, Инти Великий, — вёл Вождь Кусканский, — нам ли терпеть, отцы? Я пойду поселюсь у вод Тити-Каки, где зародились чистые инки!
— Ложь!! Пустобрёх ты!! — встрял Титу Йáвар, муж рассудительный в политических дрязгах, но из нетерпимый в тонкостях веры. — Как родила нас вдруг Тити-Кака?! Мать инков — Анды, это известно. А Тити-Кака, — не без содействия Чучи-Кáпака, кто был некогда царь аймарцев, но и гривастых, — вывела трусов, коим из милости нашим предком жалован титул инков!
Вождь Куско взвизгнул: — Вот как раскрылся косы плетущий? Смерть косоплётам, свергнувшим нас, гривастых!! В ад блюдолизов, выкравших трон!! Вы выдумали про Анды, что-де вам Матерь, дабы прикрыть плебейскую вашу чёрную кровь!!
Сидевшие в креслах золота встали — и восседавшие на серебряных креслах, то есть гривастые, побежали к ним драться.
— Эй! — Титу Йáвар побагровел вставая. — Чури Катáри, гнусный предатель! áра бесхвостый! Прочь лети!! Прочь на грязный насест свой чистить блохастые и облезлые перья!!
Члены Совета стали таскать, ругать друг друга, дёргать друг другу гривы и косы. Как только сшибли Чури Катáри, сразу раздался голос негромкий, но прекративший бой:
— Я, Уальпайа, главный начальник тайных и прочих служб, говорю, что законы обсуждены без злобы, ссоры и зависти. Расходитесь, всесильные.
Паланкины в молчании растеклись по Куско.
Ёрзая, бормоча под нос, ехал Чури Катáри. Около крепости Саксавáман, в роще на склоне, были кварталы чима-панака — в массе постройки дикого камня и с щелевидными каждый входами, возведённые той порой, когда Город был островом в море варваров. Подле лестницы, на разбитых коленях ждал друг Ольáнтая Пики-Чаки в платье кураки и с тростником в ушах.
— Рода тáмпу? — продемонстрировал старый инка, Вождь-Говоритель Нижнего Куско, знание ушных вставок. — Древний род! Он служил моим предкам… Что тебе?
— Инка, шествуешь — и сияет свод неба, светится след твой! — начал гость с жаром. — С просьбой я, сотник тáмпу, коему предок твой Манко Кáпак, кто Перво-Инка, дыры ушные сделал пошире, чем у других племён, дав для этого мерку дыр и тростник для вставок. Нынче мы, тáмпу, — под Титу Йáваром… Инка, инка великий, можешь помочь мне?
— Вон косоплётов, также их присных!! — Взвизгнув, хозяин начал звать челядь вышвырнуть гостя. Но передумал. Полуистёртые вековые ступени входа дворца его навевали дух древней сгинувшей славы, сходно желание возвести свой род на престол, для чего кстати помощь от косоплётов. Милость к просителю будет шагом к сближению с Титу Йáваром; ну и, плюс, доброта инков чима-панака врежется в память племени тáмпу, бывших и будущих, может, подданных. — Говори свою просьбу, — вымолвил инка.
— То, — шепнул Пики-Чаки, — лишь для твоих ушей — светлых инкских державных, самых больших ушей, ничьих больше!
Льстив был гость! Ибо только носивший красный венец Владыка мог иметь уши сверхъвеличин.
Отправились в комнату с клиновидным окном. Вождь Куско присел на ларь.
— Ты, — взмолился гость, — опекаешь Избранниц, инка из инков! — Дай блюсти женщин в Доме Избранниц, о, всемогущий!
Тот изумился. — Хочешь скопцом стать?! В Дом не за подвиг шлют, но враждебных владык, пленив и затем лишив мужества, посылают блюсти дев Солнца.
Гость сокрушался: — Уай, мне беда грозит!! Предок мой был ванаку; сам же я сотник знатной семьи. Сыздетства пил и распутничал, а женился в семнадцать. В те годы не было, чтоб жениться и жить потом со своей семьёй в двадцать пять, как нынче… Взял я, короче, много наложниц — всё было мало. Шлялся к замужним, и поседел до времени от услад и от страха, ведь оглашён закон, что распутник и бабник — вор целомудрия, смерть ему… Я прельстил женщин тысяцкого, нас выдали, я бежал к тебе… — Пики-Чаки заплакал. — Все знают добрых чима-панака. Спрячь от беды к избранницам! Выручь, инка великий! Лучше быть там, чем сгинуть!
— Да ты колибри, вождь! — старичок вдруг пристукнул себя в колено. — Бабник… Пригожа супруга тысяцкого?
— Уах! Стройная, как викунья! Белая, как снега! И очи — словно озёра; в них люди тонут, как в Урубамбе! Груди торчат, у пумы! Лона коснёшься — тысячу чаш испил!
Инка, выслушав, предложил: — Спасу тебя, хоть блудник ты последний. Выйдешь — иди ко дворцу направо; там попечитель Дома Избранниц, это мой шурин…
Так Пики-Чаки встал на путь вызволения из неволи дочери и жены Ольáнтая, самозванного инки.
Вздумавши в свой черёд примириться, вечером лидер «косы плетущих», старых родов то бишь, Титу Йáвар втихую шёл к Вождю Куско, и, укрываясь от соглядатаев, повернул в квартал иноземцев, где недовольно слушал речь варваров, обонял чуждый запах и раздражался видом плащей, туник, балахонов, мантий из тростника, шкур, перьев. Вверх по Ручью затем прошагал он почти что до Саксавáмана и, взглянув на гигантскую крепость, втиснулся в щель меж блоками в глубине переулка, там постучал; блок сдвинулся. Маршем лестниц он опустился с факелом… долго шёл… надавил рычаг… отвалясь, блок стал узким мостом из дерева над подземным, звенящим гулко ключом… В конце пути он протиснулся в низкий сумрачный зал из золота при светильниках. Все там бывшие обернулись. Чури Катáри молвил вставая:
— Мир тебе! Распри наших родов — тень случая, но вражда к полукровкам новой династии — чувство вечное!
Гость, согласно кивнув, уселся и осмотрелся. Все узнавались. Вон Анта Кéна, робкий, бездарный, но и тщеславный. Вдаль смотрел Рау-Áнка, старый советник и жрец Ольáнтая, муж суровый и гордый. Дальше столбом стоял вождь чилийский. Тумписец Кóхиль в вычурной шапке тихо шептался с чи́мусцем Чи, вельможей, кой тряс висевшей прямо под носом длинной подвеской. Дальше означилась Мама Вако в платье служанки. Вдруг прибыл инка из клана правящих, клана инка-панака — стриженный, импульсивный, встреченный возгласом:
— Апу Кáмак!
Тут же хозяин, Чури Катáри, начал: — Часто ли кондоры собираются? Но пришла пора! Срок решать, открывать ли створки нашей плотины.
— Честные, благородные! — крикнул Кóхиль, так и не принятый главным инкой и раздражённый. — Что словá? Лишь скажите, в пользу ли Тумпису, кой владычит над Севером, и его брату Чи́му, если высокий всесокрушающий океанский вал укрепит ручей ваших тщет?.. Кто Кóхиль? Он батаб из батабов! Он в Куско мёрзнет! Он вопрошает: чтó вы на Север пришли и в Чи́му, кою томите? Чи́му — брат Тумписа. Вот вам копья вражды, кусканцы! Плюс триста тысяч яростных копий — за Айавáкой! Инки, вы слышите?
Апу Кáмак, несдержанный молодой человек с норовистой нижней челюстью и надменный, хмыкнул: — Пусть царь твой шлёт войско, все триста тысяч против Империи. Я отдам Айавáку с чёртовой Чи́му.
— Кто ты — бог Солнце, что обещаешь? Дождь лил — пруд пучился, а в зной высох.
— Нет, ты неправ, батаб… — Титу Йáвар влез в сумочку за понюшкой пальцами. — Это принц Апу Кáмак, сын моей дочери Мамы Вако и сын правителя Тýпак Инки Йупанки. Сей Апу Кáмак будет на троне, коль победим. Обманем — Тумпис нас шапками закидает. — Старый политик громко нюхнул табак, бросив взгляд на огромную шапку тумписца. — Мы дадим вам весь берег к югу от Тумписа вместе с Чи́му Великой.
— Как?.. Неприемлемо… — прошептал Анта Кéна, ёрзнув и тронувши свою длинную, благородную гриву, знак древних кланов. — Как?!.. Апу Кáмака — главным?! Не понимаю я…
— Что, наместник Востока за всех сказал?! — взъерепенился старичок Вождь Куско. — Страны у моря — дивны, богаты; ими разбрасываться глупо! Ибо в Чан-Чане, — Чи мне не даст соврать, — мы в последней войне, вы помните, взяли золота столько, что хватит выстроить целиком Дом Солнца. Я, кроме прочего, мыслю там иметь вотчины. Ибо я — главный гриву носящих.
Чи́мусец Чи скривился, Кóхиль же фыркнул.
Вновь вступил Титу Йáвар, но на особом говоре инков:
— Будем горланить, как обезьяны, дабы все поняли, с кем связались? Будем твердить: всё наше и не уступим? — Он перекинул косы через плечо. — Нет: выгодней потерять ряд стран, но взять власть в свои руки! Мне и Востока будет довольно. Ты, Анта Кена, не удовольствуешься аймарцами и всем Югом, где ты наместник? Также Ольáнтаю, Рау-Áнка жрец, разве мало покажется взять женой Маму Вако, пальу Империи, дочь мою?
— Вместе с землями ванков, — та настояла, — чтоб опереть на них ножку трона будущего супруга; плюс земли Йýкай, чтоб не встречать препон посетить, коль вздумаю, Апу Кáмака, сына, будущего Владыку…
— Верхнекусканского лишь владыку, смею напомнить! — вмиг вскипел Вождь Кусканский. — Нижняя Óбщина будет наша, или, считайте, видите спины инков-гривастых… Что же друзья молчат? — перешёл он на руна-си́ми, общеимперский то есть язык (до этого, повторяем, споры шёл на тайном инкском жаргоне).
— Чили! — выкрикнул вождь чилийцев.
Чи́мусец Чи, мотнувши подвеской под вислым носом, медленно выпел: — Чи́мор Великий мыслит, как ему быть. С одной стороны, он в гневе; просит у Тумписа — у Великого Тумписа! — двести пять тысяч копий, дабы проделать с Городом то, что и он сотворил с Чан-Чаном, с нашей столицей. Вы ведь сожгли её… Но нужны прежде дочь, что в Куско в Доме Избранниц, и сын-заложник. Пусть их спасут всесильные — и царь Чи́мор Великий сразу начнёт бунт.
— Чили, — чилийский вождь крикнул, — наша! Я, Лаутаро, брат Тайлятаро, в Куско заложник, всё сказал.
Ибо, кроме стремления приукрасить столицу массами иностранных вождей, «сим способом береглись от бунтов, так как империя была длинною. Много стран находились в тысяче лиг от Куско; были огромные, агрессивные, вроде Киту и Чили. Инки страшились, что, по причине как расстояния до тех мест, так сил жителей и их варварской дикости, те державы могли бы восстать однажды; а в этом случае они запросто столковались бы, дабы вместе напасть на центр. Это стало бы грозной, смертной опасностью и, как знать, привело бы к погибели инканата». Что, как мы видим, предполагалось. Смуту наметили на Пору Созревания (то есть март) «миллион триста пятого года тумписской эры», вычислил Кóхиль, но — сорок пятого года от Пача Кýтека в датах инков.
И заговорщики разошлись, довольные. Кóхиль брёл в Дом Послов проулком, мысля: «Домой хочу… Утомился нырять в опасность… О, в море Пуна, мой милый остров!»
Кто-то дотронулся до плеча.
— Не сметь! — он вскрикнул. — Я есть посол!
Его повлекли в мешке, втолкнув туда вместе с шапкою.
В Красном Городе, в светлой комнате, в чёрной робе, с красною бахромой на лбу, восседал муж мелкий, робко нудивший: — Кóхи, помилуй, мы не друзья?
— Ты кто?! В чьём я доме? Нет, я на небе… Дом твой богатый! — Кóхиль взирал с опаской, взяв свою шапку и надевая её на темя.
Вáрак принёс кувшин и вручил его Кóхилю. Восседавший муж вёл со вздохом: — Инкский Владыка, царь всего мира, мы возжелали быть смердом Тумписа. Вот такое вот дело.
Влив в себя водку, Кóхиль стремглав оценивал ситуацию. Император понурился, уперев длань в колено.
— Просим пощады, Кóхи, бесценный! Ниц лежим! Знай, каньары повергли нас, а они слуги Тумписа. Инки ропщут, бунтуют, мы отступаем… Кóхи, спаси нас! В дар тебе Тукма в наших владеньях и Чачапуйа, будешь царём там. Оборони от Тумписа!
«Чудо чудное! Опахало Небесное и Небесный Букет по реке судьбы вдруг ко мне плывут… — егозил в мыслях тумписец. — Чачапуйа страна — в двести раз больше Пуны…» Вдруг он взмыл в воздух, вздетый могучей чьей-то рукой.
— Жить хочешь? Сколько у Тумписа войска? Ну, говори!!
Он шлёпнулся, шапка брякнулась; нос разбился в кровь.
— Сто… сто тысяч…
Вáрак швырнул его в стену.
— Врёшь!! — гнул Владыка. — Нас не разбил никто! Можем Тумпис взять завтра! Тýмпальу кончим, род твой повесим!! Ну?!
— Десять тысяч.
Вáрак сказал: — Так точно. Тумпис, он слабый.
— Сказывай страны за Айавáкой, враль!
— Это Тумпис… — Кóхиль зажал нос, — Ки́ту и Манта, северней — чибчи, также муиски; далее — майя, древний народ…
— Молчи, батаб! С майя сын наш покончит; нам хватит Тумписа… Ты служи нам. Нет нас сильнее!.. Тропы покажешь к этим народам.
Через неделю чи́муское посольство отбыло с почтой Кóхиля, чтоб её переправить Тýмпалье: «Хун-Ахпу! (Кóхиль знал уже про конец Шбалáнке, доброго брата в паре сиамцев). Червь копошится. Полог над тайной в клочья изодран». Вскоре посольство с хладных предгорий вышло к пустыне. Тракт вился в дюнах по побережью. Зной был ужасный. Подле стекающих в море речек виделись нивы, рощи, селенья; дальше тянулись складки барханов; и так без счёта с юга на север. Это и было собственно Чи́му — древней империей из десятков долин, лет двадцать как взятой инками. Стольный город Чан-Чан, отстроенный после войн, был белым. Улочка длилась меж глинобитных стен к площади, окаймлённой домами с храмами. Городская река отражала вид. Близ пруда, где плескались лунные рыбы, круглые, серебристые, на дворцовой террасе, средь скопа знати, под опахалами, пребывал, в белой мантии и в тюрбане из перьев, царь этой Чи́му; рядом с ним — инка, местный наместник, стриженый, клана инка-панака.
Чи́муское посольство, пав ниц, вскричало, славя царя: — Великий! Луннорождённый! Носоукрашенный!
Солдафон инка, хмурясь, грубо велел вещать на имперском наречии, и царь начал с досадой на руна-си́ми:
— Инкский Владыка, верно, сияет?
— Ярко-преярко, Минчансаман! — ответствовал Чи, алáек, главный посольства, чувствуя, как со лба пот стекает к носу с длинной подвеской из изумрудов.
— Слава, здоровье инке из инков, Светочу!
Все направились к храму инкского стиля, грубому и массивному, зиккуратоподобному; помолились во здравие императора и прошли во дворец с паласом меж гобеленов птичьего пуха. В тронном, белейшем, с окнами, зале, идол — серебряный диск Луны — выпрастывал языки электрума, на какие царь сел, ибо это был трон его. Ветер с моря сквозил прохладой; тихо шумели три опахала.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.