
Бесплатный фрагмент - Гродненский сейм 1793 года: Последний сейм Речи Посполитой
Источники
В основу настоящей монографии легло богатое собрание дипломатической корреспонденции, которое хранится в Московском Архиве министерства иностранных дел именно польские дела 1792 и 1793 годов, заключающееся в связках 70, 71, 72 и 73. Тут находятся депеши русского посольства в Польше, а также рескрипты и инструкции, препровождавшиеся к нему из Петербурга (за немногими исключениями, вся эта корреспонденция на французском языке). Излишне распространяться о достоинстве этих материалов. Русский посланник в Польше находился в самом центре событий, а в данном случае он был их главным двигателем; таким образом, донесения его знакомят нас не с одною их наружною или официальною историей, а также и с их закулисною стороной, то есть с самими пружинами механизма.
При помощи своих польских друзей и многочисленных агентов посланник имел возможность собирать подробный сведения обо всем происходившем вокруг и сообщать их своему правительству. А так как монография наша имеет довольно специальный характер, ограничиваясь сравнительно небольшим объемом времени, и главною своею задачею полагает разработку подробностей, то означенная корреспонденция представляет такой материал, без которого исполнение этой задачи было бы невозможно. Она служит также лучшею проверкою и для всех прочих наших материалов.
Затем идут следующие материалы и пособия для нашего труда:
Korrespondent Krajowy у Zagraniczny. Roku 1793. Варшавская газета, помещавшая довольно подробные отчеты о заседаниях Гродненского сейма. После закрытия Тарговицкой конфедерацией органов патриотической партии (какова, например, была «Gazeta Narodowa у obca») польские газеты в то время выходили под строгим надзором конфедерации, или что-то же под русским влиянием, и, следовательно, отчеты их составлялись в одном известном направлении. Но для нас «Корреспондент» важен собственно со стороны сообщаемых им подробностей и официальных дипломатических документов.
Ein russischer Staatsmann. Des Grafen Jakob Johann Sivers Dencwürdigkeiten. Von K. L. Blum. Dritter Band. Leipzig und Heidelberg. 1858. Весь этот труд посвящен деятельности Сиверса, как чрезвычайного русского посланника в Польше в эпоху Гродненского сейма. Он заключает в себе многие документы из официальной корреспонденции посланника, и даже иногда такие, которых мы не встретили в Архиве МИДа. Но главный интерес в этот том представляет со стороны переписки Сиверса с его дочерьми. Тут он откровенно высказывает свои впечатления, планы и суждения об окружающих его лицах, и эта семейная переписка прекрасно дополняет его официальную корреспонденцию. Что касается до цвета, в который окрашена биография Сиверса, то автор ее, при несомненных достоинствах своего обширного труда по отношению к фактической обработке, не избежал сильного пристрастия и больших натяжек по отношению в своим воззрениям. Он без меры прославляет своего героя и слишком резко нападает на политику Екатерины. В своем старании выделить Сиверса из этой политики, Блум доходит иногда до того, что впадает в явные несообразности. Например, он жалуется на неискренность императрицы к его герою: будто бы, отправляя его послом, она не открыла ему своих видов на Польшу, в будто бы он не знал заранее, орудием какого дела он призван был служить, между тем как Игельштром получил более подробные инструкции и глубже был посвящен в планы Екатерины. В доказательство он приводит сущность инструкции Игельстрёму и только начало первого рескрипта Сиверсу.
Geschichte des Hussischen Staates von Hermann. Erganzungs-Band. Diplomatieche Correspondenzen aus der Revoutionszeit 1791—1797. Gotha. 1866. Содержит в себе дипломатическую корреспонденцию, заимствованную из государственных архивов Берлина, Дрездена и Лондона. Значительная часть этого тома посвящена польским делам.
Recueil des traités et conventions concernant la Pologne 1762–1862. Par le comte d’Angeberg. Paris. 1862. Значительное и полезное собрание дипломатических и других документов, относящихся преимущественно к эпохе польских разделов, хотя в подборе этих документов не всегда видно беспристрастие, о котором издатель говорит в предисловии.
Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Documenta do Historyi drugiego i trzeciego podziału. Wydal W. Kalinka. Poznań, 1868. Это издание заключает в себе довольно интересную корреспонденцию Станислава Августа с разными лицами, впервые обнародованную. Особенно заслуживают внимания его письма к Букатому, польскому послу в Лондоне.
Переходя к отделу польских мемуаров, мы должны вообще заметить, что они принадлежат к тем источникам, которыми надобно пользоваться весьма осторожно. Притом же, по большей части они были писаны в старости, много лет спустя после событий, о которых рассказывают; причем память не всегда служила верно авторам. Тем не менее, они представляют интересный материал, особенно для характеристики лиц, общественного и семейного строя Польши в данную эпоху.
Memoires sur la Pologne et les Polonais depuis 1788 jusqu’ à la fin de 1815 de Michel Oginski. Paris, 1826—1827. Так как эти мемуары пользовались некоторым авторитетом и на них часто основываются иностранные сочинения о данной эпохе, то мы в течение своего рассказа не раз указываем на их недостаток добросовестности.
Pamiętniki Iana Dukłana Ochockiego. Wilno. 1857. Интересные по бытовым чертам, но весьма хвастливые воспоминания.
Pamiętniki Bartołomeja Michałowskiego od roku 1786 do 1815. Warszawa, 1857. Вроде предыдущих, но более скромны по тону.
Pamietniki kziędza Kitowicza do panowania Stanisława Poniatowskiego. Poznań. 1845.
Pamiętniki Kajetana Kożmiana. Poznań. 1858.
Два последние сочинения принадлежат к наиболее добросовестным из польских мемуаров.
Pamiętniki czаsów moich Iuljana Ursyna Niemcewicza. I. ipsk. 1868. Сообщают много интересных черт; но многое неверно и перепутано. Сам автор сознается, что записывал в старости по памяти и в беспорядке. По отношению к России он отличается желчною неприязнью, и доходит до того, что известную распущенность польских нравов в конце XVIII века приписывает ничему иному, как влиянию русских войск.
Pamiętniki pułkownika Gąsianowskiego z r. 1793–1794. — Lwów, 1861. Страдают явными неверностями и противоречиями.
Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego przez jednego z posłów wielkiego Sejmu napisane. — Poznań, 1867.
К тому же отделу можно отнести: историко-полемическое сочинение известного Гугона Коллонтая: О Ustanowieniu i upadku Konstitucyi polskiey 3 Maja 1791.
Żywot Tomasza Ostrowskiego. — Paryż, 1836.
Pamiętniki o Ianie Sniadeckim przez Michała Bolińskiego. — Wilno, 1865.
Polska w roku 1793 według podróży Fryderyka Szulc’a. — Drezno, 1870. Это есть перевод из немецкой книги, изданной в Берлине в 1795–1797 гг. под заглавием: Reise eines Liefländers von Riga nach Warschau etc. Наблюдательный лифляндец развертывает перед нами яркую и беспристрастную картину польских нравов и обычаев в эпоху падения.
Из русских мемуаров к нашей монографии имеют некоторое отношение:
Записки Храповицкого. Чт. Об. Ист. и Др. 1862;
Записки Л. В. Энгельгардта. — Москва, 1867.
Из общих обзоров и брошюр по данному вопросу укажем:
Histoire des trois demembremens de la Pologne par Ferrand. — Paris, 1820. Весьма пристрастное сочинение, имеющее цену собственно по своим приложениям, заимствованным из Лейденской газеты прошлого столетия.
Panowanie Stanisława Augusta. Ioachima Lelewela. — Poznań, 1859. Сочинение подобно предыдущему, только в сокращенном виде.
Dzieje Polski od 1733 do 1832 roku. Skreslil H. Scmitt. — Krakow, 1867.
Sejm Grodzieński ostatni. Uśtęp od 26 sierpnia do 23 września 1793. Zestawił Leon Wegner. — Poznań, 1866. Книга посвящена описанию самых бурных заседаний Гродненского сейма, на которых решена уступка земель Пруссии; снабжена, кроме того, обширным введением и приложениями. Автор ее известен исследованием Революции 3 мая и другими сочинениями по той же эпохе; по своим размышлениям почти не отличается от трех предыдущих.
Die österreichisch-preussische Allianz und die zweite Theilung Polens. Von Herman. — Gotha, 1861. Полемическая брошюра, направленная против Зибеля по поводу несходных мнений о политике Леопольда II.
Polens Untergang und der Revolutionskrieg. Von H. Sybel (Historische Zeitschrift. 1870. Erstes Heft). Продолжение той же полемики, интересное по многим данным, заимствованным из Венского государственного архива.
Из русских сочинений о данной эпохе мы имеем две интересные монографии:
История падения Польши. Соловьева. — Москва, 1863. Это сочинение написано преимущественно на архивных материалах.
Последние годы Речи Посполитой. Костомарова. — Петербург, 1870. Построено преимущественно на источниках изданных.
Труд Смита, Suworow und Polens Untergang, к сожалению, прекратился на 1792 году.
Не перечисляем многих других пособий, которые имелись под рукой для справок или разных соображений, как, например: Полное собрание законов, Епcyklopedja powszechna, Herbarz Polski, Historyczne Pamiątki znamienitych osób Dawnej Polski Бартошевича, сочинения немецких историков: Шлоссера, Хёйсера, Зибеля и т. д. Не указываем также и русских газет того времени по крайней скудности их известий относительно нашей политики; мы встречаем в них только манифесты и указы, то есть то, что можно найти в полном собрании законов. Точно так же недавно изданный Архив Государственного совета почти ничего не прибавляет к нашим источникам.
Кроме того, мы пользовались следующими неизданными материалами:
Несколько документов из рукописного отдела Виленской публичной библиотеки и библиотеки Красинских в Варшаве.
Journal de la diéte de Grodno 1793. Рукопись принадлежит Петербургской Археографической Комиссии. Это довольно краткие записки о сеймовых заседаниях, отличающиеся полуофициальным тоном, неизвестного автора. Может быть, это были бюллетени, составлявшиеся каким-либо иностранным посольством для своего двора.
Opisanie Sejmu Grodzieńskiego w r. 1793. Записки Людвика Гинета, посещавшего заседания в качестве арбитра. Рукопись находится в частной библиотеке в Варшаве; копия ее передана автору хранителем главной Варшавской библиотеки И. Ф. Скимборовичем. Она включает заметки о некоторых сеймовых заседаниях, начиная с 10 августа н. ст. Автор ее — горячий сторонник оппозиции.
В последние времена республики речи, произносимые на сейме, немедленно издавались тетрадями. Кроме того, в обязанности сеймового секретаря, как известно, входило ведение дневника сейма, или диариуша, который потом также выходил в свет в печатном варианте. Такой дневник последнего польского сейма остался ненапечатанным, вероятно, по причине разгрома Речи Посполитой. После кропотливых поисков нам удалось, наконец, найти копию сеймового дневника, находящуюся в частной библиотеке варшавянина г. Лаского. Она озаглавлена так: Diariusz Sejmu Extraordynaryinego pod zwąskiem konfederacyi Targowickiey 1793 roku dnia 17 junij w Grodnie zebranego za uniwersałami Króla imsci w Radzie Nieustaiącej po przywrуceniu iey przez Konfederacyą Targowicką. Приводим по-русски продолжение этого длинного заглавия: «Списанный беспристрастным пером одного из присутствовавших тогда; в нем заключается значительная часть речей напечатанных, но с удержанием тех мест, которые часто переходили в печать уже в выражениях смягченных или с цветами красноречия, на деле не существовавшими». Внизу на заглавном листе есть заметка, в которой отмечено, что это труд Матвея Нелюдовича, скарбового литовского комиссара, благодаря припискам которого (кто-то) написал еще более полный диариуш и для потомства положил его в библиотеку гродненских ксендзов доминиканов. Для нас не совсем ясно, говорится ли в этой заметке о данном экземпляре или о другой копии. Во всяком случае, экземпляр г. Лаского не есть простая копия сеймового дневника, так как он содержит дополнения, сделанные спустя некоторое время. Этим обстоятельством и объясняются многие подробности, которые не могли войти в дневник, который должен был иметь официальный характер; вообще диариуш этот сочувственно относится к оппозиции и враждебно — к России. Подобный диариуш едва ли мог появиться в польской печати, которая тогда находилась под русским надзором. Кроме приписок, и сама первоначальная его редакция, вероятно, носит также оппозиционный характер, и это обстоятельство согласуется с некоторыми данными о сеймовом секретаре Езёрковском, которые мы встречаем в приведенном выше сочинении Pamiątniki о Janie Sniadeckim (хотя там он ошибочно назван секретарем Тарговицкой конфедерации). А тот факт, что первоначальная редакция принадлежала именно ему, следует из указаний в самом дневнике; например, неоднократные упоминания о его неусыпных занятиях, вопрос, поднятый на сейме о вознаграждении за его труды, и пр. В диариуше размещены печатные списки с именами послов и сенаторов и с отметками голосов при вотировании. (Отсюда мы заимствовали тот список, который приложен в конце нашей книги.)
ВВЕДЕНИЕ
Избирая предметом своего исследования несколько месяцев из истории Речи Посполитой в эпоху разделов, мы не будем останавливаться на причинах и обстоятельствах ее падения. Прибавим только одно соображение к тому, что уже написано об этом предмете.
Всякому сколько-нибудь знакомому с ходом польской истории известно, что Польша пала жертвою своей анархии и что анархия эта была следствием крайнего ослабления центральной власти и чудовищного развития шляхетского сословия, в себе одном воплотившего все Польское государство и весь польский народ. Но эти очевидные или ближайшие явления, в свою очередь, были также следствием разных причин и условий. Тут на первом плане представляется нам народный тип или народный характер.
Народы, завоевавшие себе важное место в истории цивилизации, обыкновенно отмечены многими и разнообразными достоинствами их характера. Храбрость, энергия, предприимчивость и подобные качества составляют в большей или меньшей степени принадлежность народов исторических. Но выше всех этих качеств стоит у них способность творческая или способность организации. В тесной связи с этой способностью находится народный инстинкт самосохранения. Мужество и талантливость польского народа не вызывают никакого сомнения. Но едва ли можно сказать, чтобы он в достаточной степени обладал тою способностью и тем инстинктом, который мы сейчас назвали. Из ряда многих фактов, подтверждающих нашу мысль, укажем только на два наиболее выдающихся: во-первых, добровольное призвание на свою землю Немецкого ордена; во-вторых, пассивное отношение к чрезмерному размножению еврейского населения внутри своего организма. Всем известно, какую роль в польской истории играл потом Немецко-Прусский орден; но далеко не определено участие евреев в разложении польского организма. Остановимся подробнее на этом важном вопросе.
Польские писатели обыкновенно указывают как на акт особенного добросердечия и гуманности своих предков то радушие, с которым они принимали в свою среду толпы еврейских переселенцев, спасавшихся из Германии от жестоких гонений, особенно проявлявшихся во времена Крестовых походов. Но, что в сущности означали все эти гонения на евреев в Германии и некоторых других странах Западной Европы? Обыкновенно их объясняют средневековым варварством и религиозным фанатизмом. Но почему же никакое иное племя не подвергалось такой ненависти в среде западноевропейских народов и никакое иное исповедание не возбуждало так часто религиозного фанатизма? Мы позволим себе искать другой источник этой ненависти и этих преследований. Тут действовал инстинкт самосохранения, которым в высокой степени одарены все народы, предназначенные к долгой исторической жизни. Такие народы обыкновенно принимали чуждые элементы только в той степени, в какой могли их себе усвоить, и без пощады устраняли или старались устранить то, что могло бы камнем засесть в их организме или парализовать их внутренние отправления. Евреи из всех этнографических особей бесспорно представляют элемент, наиболее трудный для усвоения. Их известная упорная привязанность к своей религии и связанные с нею условия быта поддерживают их отчужденность от местного населения и сообщают им способность при удобных обстоятельствах всегда организовать status in statu. К этой отчужденности присоединяется чрезвычайно важная черта, которая преимущественно настраивает против евреев местное население. Это их, так сказать, эксплуататорский характер. Никто не будет отрицать того факта, что евреи — народ даровитый и деятельный, но их даровитость и деятельность направлены односторонне. Их деятельность в основном непроизводительная. Некоторое количество артистов, медиков и ученых еврейского происхождения не изменяют нашего общего положения, потому что мы говорим о массе. Местность, где размножается еврейское население, обыкновенно беднеет — это факт. Мы не видим примеров, чтобы существовали процветающие колонии евреев-талмудистов, возделывавшие какой-либо уголок земли, хотя бы и богатый дарами природы, но дотоле пустынный. Напротив, евреи стремятся только туда, где уже скопилось значительное население, и чем гуще это население, чем оно зажиточнее, тем более оно интересно для евреев и тем быстрее последние размножаются. Евреи сами редко что-либо производят; все их способности устремлены на то, чтобы быть посредниками между производителями и потребителями. Работы полевые, строительные, фабричные и тому подобные, требующие значительного физического труда, обыкновенно чужды евреям; некоторое количество плохих ремесленников и хлебопашцев едва ли могут быть приняты в расчет. Мелкая торговля, арендаторство, корчмарство, ростовщичество, факторство и т. п. — вот их обычные занятия, и нигде эти занятия не достигли таких размеров и такого деморализующего значения, как в областях бывшей Речи Посполитой. В свою очередь, польская анархия, эгоизм аристократии и продажность властей оказывали весьма негативное влияние на характер и привычки еврейского племени. Это племя населило там почти все города и местечки и послужило немалою помехою к развитию среднего сословия в государстве; заняв его место, оно тем самым увеличило пропасть между высшими и низшими классами, то есть между шляхтою и поспольством. Шляхта осталась изолированною представительницею нации, и когда пришло время защищать свою самобытность, оказалось, что за нею нет массы, нет народа. Разумеется, не евреи виновны в том, что в Польше не выработалась единая польская нация. Они только пользовались недостатками польского характера, особенно его недостаточным инстинктом самосохранения. Против евреев раздавались в Польше голоса и с церковной кафедры, и в литературе, и на сеймах. (Начиная с известного проповедника конца XVI века Скарги и заканчивая лучшим публицистом конца XVIII века Сташичем.) Но эти иеремиады постигала та же участь, какую имели и все другие жалобы на злоупотребления и неустройство Речи Посполитой. Злоупотребления всегда находили своих покровителей и защитников; а если и случалось проводить на сейме какое-либо постановление, стеснявшее эксплуататорскую деятельность евреев, то последние умели обходить подобные постановления и в государствах лучше организованных, нежели анархичная Речь Посполитая. На сейме и в литературе также никогда не было недостатка в людях заинтересованных или просто близоруких, которые спешили заглушить предостережения более чутких людей.
Поляки до сих пор не осознали той роли, какую евреи играли в разложении Польши. Доказательством тому служат мнения польских историков и публицистов, которые основывают свои мнения о евреях на началах терпимости и гуманности, забывая, что гуманность, прежде всего, должна быть обращена на собственный народ, на ограждение его от всех разъедающих и угнетающих элементов. Подобные писатели и сеймовые ораторы, толкуя об отчуждении еврейства от местного населения, исходят из того положения, что их обособление и корпоративное устройство есть только следствие их неполноправности и тех стеснений, которым они всегда подвергались; что если они не стали земледельцами, то виною тому правительства, которые не давали им права приобретать в собственность землю; что если они привыкли сосредотачивать свою деятельность только на приобретении денег, то это потому, что деньги они легче могли скрыть от жадности своих преследователей; что если они уклоняются от военной службы, то опять-таки потому, что они неполноправны, и т.п.
Мы предполагаем противное, и приведенные причины и следствия взаимно переставляем. Некоторое наблюдение привело нас к заключению, что неполноправность евреев и их стеснения в большей степени являлись следствием их упорного обособления и эксплуататорского характера. В любом государстве есть или были элементы инородческие и неполноправные; неполноправность, однако, не мешала и не мешает им оставаться более или менее рабочим и производительным населением.
Конституция, принятая 3 мая, была последнею и самою значительною попыткой возрождения умирающей Польши. Но в жизни народа, так же, как и в жизни отдельного человека, закон своевременности действует одинаково. Сильное средство не спасает больного организма, когда оно применяется слишком поздно и когда организм уже не в состоянии выдержать борьбу с неблагоприятными условиями. Мало того, в подобном случае возбуждение обыкновенно ускоряет конец. Разделы Польши были естественным следствием ее истории; она существовала еще довольно долго при полном бессилии и посреди могущественных соседей, стремившихся к расширению своих пределов.

Такое существование обусловливалось соперничеством соседних держав между собою и могло продолжаться до тех пор, пока последние не пришли к взаимному соглашению. (Точно так же как в наше время Турция существует благодаря столкновению на Востоке различных интересов великих держав.) Но обратимся к событиям, последовавшим за майским переворотом, находящимся в тесной связи с предметом нашей монографии. Напомним только важнейшие факты.
После смерти Иосифа II рушился тесный союз России с Австрией. Преемник его Леопольд II начал деятельно противодействовать видам Пруссии и России на Польшу, чем побудил их к взаимному сближению. Приближавшаяся война и Французская революция, однако, парализовали его политику. В феврале 1792 года Леопольд II умирает. Сын его Франц II также попытался поддержать стремления патриотической партии в Польше и содействовать ее соединению с Саксонией под одною наследственною короною.
Но 20 апреля Франция объявила войну Австрии, и последняя должна была искать союза с Пруссией и Россией. Англия, примерно в то же время, ввиду приближавшейся борьбы с французами, сохранила свое враждебное настроение по отношению к России (по поводу турецкого вопроса) и стала искать общего союза с тремя северными державами. Тогда Екатерина II воспользовалась удобною минутою, чтобы уничтожить перемены, произведенные в Польше Майским переворотом, и снова подчинить ее своему влиянию. Главным предлогом к русскому вмешательству служило ниспровержение Конституции 1775 года, которая была гарантирована Россией. Чтобы придать этому вмешательству вид законности, Екатерина 3 мая обратилась к многочисленным противникам между польской аристократией и употребила обычное в Польше средство, т.е. учреждение генеральной конфедерации, выставившей своим знаменем возвращение бывших прав и вольностей.
Во главе вельмож, недовольных Конституцией 3 мая, стояли Щесны Потоцкий, генерал коронной артиллерии, и Северин Жевуский, польный коронный гетман. Щесны Потоцкий, владевший огромными поместьями на Украине, в начале Четырехлетнего сейма примыкал к партии патриотов; но когда его известное тщеславие и гордость подверглись на этом сейме некоторым испытаниям, он покинул Варшаву и перешел в лагерь противников. Северин Жевуский в молодости заявил себя горячим противником России; вместе со своим отцом и краковским епископом Солтыком он, как известно, во время сейма 1767 года был арестован Репниным и отправлен в Калугу. Впоследствии Жевуский возвратился на родину, но уже с изменившимися взглядами и симпатиями. К этим двум лицам присоединился коронный гетман Франтишек Браницкий, некогда друг Станислава Августа, а теперь один из его неприятелей, образец разгульного польского рубаки, человек без политических убеждений, но постоянный сторонник России, к тому же женатый на племяннице Потемкина.
Конфедерация составлена ими в Петербурге, но официально она завязана была в мае 1792 года в украинском местечке Тарговице под защитою русских войск, которые под началом генерала Каховского по окончании Турецкой войны из Бессарабии вступили в польские пределы. Щесны Потоцкий в качестве маршала конфедерации публиковал ее акт, в котором были выставлены главными пунктами: охранение католической религии, вольность и равенство всей шляхты, целостность границ Речи Посполитой, возвращение республиканского правления и отмена Майской конституции. Все обыкновенные суды объявлены закрытыми впредь до успокоения края. Манифест призывал нацию сохранить полное доверие к русской помощи, полагаясь на великодушие Екатерины II и на ее трактаты с Речью Посполитой. В то же время русский посол в Варшаве Булгаков подал польскому правительству декларацию от 7 (18) мая о составлении новой генеральной конфедерации и вступлении русских войск в польские пределы для защиты старых прав и вольнстей.
Посреди тревог и волнений, произведенных этою декларацией, варшавский сейм решил принять следующие меры: во-первых, вручил Станиславу Августу все полномочия для того, чтобы дать вооруженный отпор русскому вторжению; во-вторых, отправил в Берлин Игнацы Потоцкого, чтобы умолять прусского короля о помощи на основании союзного договора 29 марта 1790 года. Прусский король на эти мольбы дал следующий остроумный ответ: он заключал договора с Польскою республикой, а с того времени республика без его согласия обратилась в монархическое государство; следовательно, договор для него более необязателен; притом же в Польше начали распространяться французские демократические принципы, к которым он, как и остальные соседи, не может оставаться равнодушным. Не более удачным было и обращение к Венскому двору, куда отправился хлопотать о поддержке майской конституции Адам Чарторыйский. Австрийский кабинет отвечал, что его величество король Венгрии во взгляде на майскую конституцию согласен с кабинетами петербургским и берлинским.
Партия приверженцев Конституции 3 мая попыталась собственными силами вступить в борьбу с Россией. Она могла выставить войско, которое насчитывало 45 000 человек. Из них 30 000 отдано под начало королевского племянника Юзефа Понятовского, с тем, чтобы он оборонял Украину; остальные 15 000 поручены Людовику принцу Виртембергскому для защиты Литвы. Армия эта, конечно, не могла продержаться долгое время против русских войск, с разных сторон вступивших в Польшу. Численность русских войск составляла около 100 000 человек. И армия тотчас начала отступать вглубь страны. Единственным серьезным испытанием в этой войне было сражение генерала Костюшко против Каховского под Дубенкою, между Бугом и австрийскою границею. Поляки были выбиты здесь из своей крепкой позиции и вынуждены были продолжать отступление.
Между тем русское войско под руководством генерала Кречетникова, вступившее в Литву, не встретило практически никакого сопротивления и беспрепятственно заняло Вильну. Здесь 14 (25) июня в кафедральном костеле в торжественной обстановке была провозглашена Литовская конфедерация также для восстановления старинных вольностей. Маршалом ее назначен литовский канцлер престарелый князь Александр Сапега; а за отсутствием его вице-маршалом сделан литовский ловчий Юзеф Забелло. Но главными вождями и основателями Литовской конфедерации явились два брата Коссаковские: Шимон, некогда деятельный и отважный член Барской конфедерации, а теперь генерал русской службы и при начале Литовской конфедерации наименованный польным литовским гетманом; и Юзеф, носивший титул епископа Ливонского и бывший в то же время коадьютором Виленского епископа Масальского.
Епископ Ливонский обладал хитрым умом и прекрасными дипломатическими способностями; ему суждено было сыграть одну из важнейших ролей в том эпизоде, который служит предметом нашего исследования. Современник из лагеря противников Немцевич описывает его так: «Это был прелат огромного роста с физиономией барса и взглядом лисицы. Будучи ревностным противником партии реформы, он во время Четырехлетнего сейма редко повышал голос на сейме, а работал втихомолку и шепотом. Русского посланника Булгакова он посещал большею частью тайком, по ночам и сообщал ему все нужные вести и наделял своими советами. Он никогда не выступал открыто против какого-либо проекта; мало того, даже расхваливал его; но потом с помощью своих единомышленников умел ставить ему препятствия, затягивать, и если не совсем устранять, то по возможности парализовать». Другой современник, посторонний наблюдатель поляков Шульц показывает, что Юзеф Коссаковский был дальновиднее своих политических противников, и если не на сейме, то в частных разговорах откровенно предсказывал им последствия их увлечений. «Однажды, во время четырехлетнего сейма, — рассказывает этот наблюдатель, — я встретил у епископа Ливонского двух молодых послов из партии революционной. Епископ представлял им опасности, которым подвергается Речь Посполитая, выступая так резко против России и уничтожая все, что связывало ее с этою державою. Он доказывал им, что Польша была слишком слаба бороться с Россией; что полякам не хватает сильной и военными запасами снабженной армии, и что Пруссия с Австрией, когда дойдет до дела, оставят патриотическую партию на мели. Словом, он предсказал им все то, что после случилось. Послы, низко кланяясь, на все отвечали: так, так; а когда он стал советовать им, чтобы согласно с тем поступали, то они забавным образом начали выступать со своим „но“; оказалось, что епископ говорил на ветер».
Между тем как вожди коронной конфедерации, то есть Потоцкий и Жевуский, были представителями старой республиканской партии и наивно мечтали воплотить свои планы в жизнь, опираясь на бескорыстную помощь России, вожди Литовской конфедерации, то есть Коссаковские, понимали реальную суть дела и являлись самыми решительными сторонниками России, готовые служить ей видам со всевозможным усердием, но только не бескорыстием.
Когда вооруженное сопротивление оказалось бесполезным, а помощь ниоткуда не являлась, в Варшаве место прежнего одушевления и надежд заступило уныние. Еще некоторые рьяные патриоты, вроде Игнатия Потоцкого и сеймового маршала Малаховскаго, советовали продолжать отчаянную защиту; но Станислав Август упал духом, и обратился к Булгакову за советом: что делать в таких обстоятельствах? Затем он послал польским войскам приказ о прекращении военныхъ действий и отправил письмо к императрице с предложениями союзного договора и с просьбою дать ему в наследники внука ее Константина Павловича. Екатерина ответила королю простым требованием, чтобы он немедленно отказался от конституции 3 мая и приступил к Тарговицкой конфедерации. Станислав Август был в отчаянии, и грозил отречением от короны; но, по обыкновению, кончил тем, что подписал свой акцесс или приступ к конфедерации; в этом случае, как и во всех других, он доказал, что корона была ему дороже всего на свете. Вожди патриотической партии поспешили оставить Польшу, и удалились за границу, преимущественно в Дрезден. Тогда еще скорее пошло составление провинциальных конфедераций, которые становились под знамя Тарговицкой. Эти конфедерации завязывались конечно людьми приверженными к России и под покровительством русских отрядов.
В сентябре в Бресте Литовском коронная конфедерация торжественно соединилась с литовскою, и с тех пор стала называться генеральною конфедерацией обоих народов. Из Бреста она вскоре перенесла свою резиденцию в Гродно. После королевского акцесса эта конфедерация de jure и de facto сделалась польским правительством. Теперь она еще с большим усердием принялась издавать универсалы и декреты, объявляя своей задачей уничтожение перемен, произведенных майской конституцией, и восстановление прежних республиканских порядков. Но главное усердие ее вождей, конечно, обращено было на преследование своих личных целей. Так, фамилия Коссаковских, захватив в свои руки суды конфедератские в Литве, поспешила воспользоваться ими для обогащения себя и своих клиентов.
Между тем Пруссия и Австрия, отправляясь в поход против Французской революции, обсуждают вопрос о вознаграждениях за издержки предстоящей войны. Почин в этом вопросе принадлежал, конечно, прусской дипломатии, которая оставалась верна Фридриховой политике расширения и округления прусских пределов на счет бессильной Польши. Чтобы расположить к себе Венский кабинет, прусские дипломаты указали на возможные для него приобретения от Франции, а в случае препятствий с этой стороны они подали надежду на столь желанное Австрией приобретение Баварии, которую можно будет променять на Бельгию. В этом ключе велись переговоры между союзниками во время майнцкого свидания Франца II с прусским королем 1792 года, то есть перед вступлением союзных войск во Францию.
Когда поход закончился неудачею, и союзники вынуждены были покинуть Францию, в октябре австрийские и прусские дипломаты собрались в Люксембурге, и вместе с русским посланником при берлинском дворе Алопеусом обсуждали дальнейший план действий. 25 октября прусские министры подали австрийским ноту, в которой выражали решительную волю короля Фридриха Вильгельма продолжать войну с Францией только в том случае, если Пруссия получит вознаграждение в Польше, и это вознаграждение должно быть обеспечено ей Россией и Австрией. Венский двор ответил, что он дал бы согласие на требование Пруссии, если бы мог немедленно променять Бельгию на Баварию; но после занятия Бельгии французами он может согласиться только на условное вознаграждение Пруссии в Польше, то есть на такое, которое не исключало бы участия в нем Австрии. Пруссия настаивает на своем требовании и старается отклонить виды Австрии на совместное вознаграждение в Польше. Боясь лишиться союзника в трудной борьбе с Францией, Австрия, наконец, согласилась на занятие пруссаками некоторой части польских областей, но с условием, чтобы Пруссия и Россия содействовали бельгийско-баварскому обмену. Пруссия дала на это свое согласие, хотя и в довольно уклончивых выражениях. После того венский двор уже сам начал поддерживать в Петербурге прусские требования по отношению к Польше.
Настояния Пруссии, конечно, поставили русскую императрицу в затруднение, хотя пруссаки предлагали ей присоединить к своей Империи значительную часть польских провинций. Некоторое время русская дипломатия уклонялась от решительного ответа. Но обстоятельства все-таки вынудили ее уступить. Пруссаки в одно время и грозили своим выходом из коалиции, составленной против французов, и указывали петербургскому двору на сильное волнение умов в Польше, быстро возраставшее с успехами французского оружия. Донесения из Варшавы нашего посла Булгакова в некоторой степени подтверждали внушения пруссаков. Притом Екатерина видела, что поведение генеральной конфедерации могло Только усилить, а не успокоить это волнение. Императрица также опасалась, что Австрия не потребовала участия в новом разделе Польши; но когда венский кабинет сам начал ходатайствовать о вступлении прусских войск в Польшу, Екатерина решилась уступить еще несколько польских провинций в пользу беспокойного соседа в надежде подготовить остаток Речи Посполитой к будущему слиянию его с Россией.
В декабре 1792 года наш вице-канцлер Остерман передал прусскому посланнику графу Гольцу согласие императрицы на вступление прусских войск в Польшу; причем обе стороны договорились о новых границах России и Польши. Окончательный договор о разделе был подписан 12 (23) января 1793 года. Россия присоединяла к себе Украину, Подолию, Волынь и большую часть Литвы, всего 4157 квадратных миль с тремя миллионами населения; а Пруссия брала Данциг, Торн и часть Великой Польши, что составляло 1061 квадратных миль и полтора миллиона жителей. Содержание этого трактата сочли нужным держать в секрете от Австрии, так как все еще опасались ее желания участвовать в новом польском разделе.

Дав согласие на второй раздел, императрица решила отозвать из Варшавы Булгакова и назначить на его место Якова Сиверса. В молодости он служил при наших миссиях в Копенгагене и Лондоне и участвовал в Семилетней войне. При Екатерине он был новгородским губернатором, потом начальником Тверского наместничества и принимал деятельное участие в реформе областного управления. Нерасположение к нему Потемкина, Вяземского и другие обстоятельства побудили его оставить службу в 1782 году. С тех пор он вел тихую уединенную жизнь в своем лифляндском поместье Бауенхофе. Императрица ценила его способности, блестящее образование, трудолюбие и мягкие, приятные манеры и потому надеялась найти в его лице искусного исполнителя такой щекотливой задачи, как соглашение поляков на добровольную уступку провинций.
I. Назначение Сиверса чрезвычайным послом. — Его первые действия в Варшаве. — Характеристика важнейших лиц
13 ноября 1792 года Яков Ефимович Сиверс был внезапно потревожен в своем сельском уединении. В Бауенхоф прискакал из Петербурга курьер с письмом от графа Платона Зубова. Он от имени императрицы, используя лестные выражения, предлагал Сиверсу пост чрезвычайного и полномочного посла в Варшаве. Последний не колебался ни одной минуты. Продолжительное отстранение от государственной деятельности, очевидно, его тяготило, и теперь, когда он, пристроив своих дочерей, был одинок, предложение явилось очень кстати. Яков Ефимович отвечал Зубову, что хотя и чувствует себя не совсем способным по причине расстроенного здоровья и отвыкания от дел, но охотно принимает дипломатическую службу, которой были посвящены многие годы его молодости. Девять дней спустя он был уже в Петербурге. А 24 ноября, в день своих именин, Екатерина дала коллегии иностранных дел указ о том, что действительный тайный советник Сиверс назначается полномочным и чрезвычайным послом при Польской республике. На путешествие и обзаведение пожаловано ему 30 000 рублей, также 20 000 годового жалованья, столовых по 800 червонцев в месяц. В том же указе было предписано отозвать из Варшавы Булгакова, который, однако, должен был оставаться там до прибытия нового посла. Примерно в то же время начальником русских войск в Польше вместо Каховского был назначен барон Игельстрём; а войска, расположенные в Литве, Волыни и Подолии, были вверены Кречетникову.

Пребывание Сиверса в Петербурге продлилось более пяти недель. Он делал визиты к разным вельможам, проводил время в придворных обедах, балах, спектаклях и занимался прочими удовольствиями, пока в коллегии иностранных дел готовились инструкции и другие бумаги для нашего посла. Между тем он по возможности старался ближе ознакомиться с тем вопросом, в котором предстояло ему принять самое деятельное участие, то есть с положением Польши. Новое назначение не застало его врасплох еще и потому, что, будучи в уединении, он по сообщениям иностранной прессы усердно следил за ходом европейской истории. В Петербурге, разумеется, главным источником для изучения польского вопроса являлись его беседы с императрицей, в которых она раскрывала перед ним тайны своей политики, свои планы. Он мог также контактировать с некоторыми представителями русской партии между самими поляками, так как в нашей столице находилась тогда депутация от Тарговицкой конфедерации во главе с гетманом Браницким. Официальное назначение этой депутации состояло в том, чтобы выразить благодарность русской императрице за покровительство Польской республике. Кроме конфедератов, в Петербурге можно было встретить и других знатных поляков, находившихся там по частным делам. В числе таковых был Огинский, хлопотавший о снятии секвестра со своих имений. Мемуары его указывают, будто бы высшее петербургское общество отличало этих поляков от членов конфедерации и принимало первых гораздо благосклоннее, чем вторых. После своего назначения Сиверс поспешил наладить дружескую переписку со своим предшественником Булгаковым и предложил ему ответить на множество вопросов, чтобы иметь представление о тех обстоятельствах, которые ожидают его в Варшаве. В своих ответах Булгаков распространялся об экономической части русского посольства, то есть о помещении, прислуге, экипажах, сервировке и т. п. Сиверс обратился с целью получения сведений еще к одному из предшественников, а именно к графу Штакельбергу, который долгое время был нашим посланником в Польше. Штакельберг ответил вежливым письмом, но уклонился от суждений о политике, говоря, что новый посланник, конечно, получит все нужные наставления от нашей бессмертной государыни.
Наконец, Сиверсу был вручен высочайший рескрипт, датированный 22 декабря 1792 года. Он включает общий взгляд императрицы на отношения к Польше, излагает причины, побуждавшие ее согласиться на новый раздел, которого требует прусский король. Приведем краткое содержание этого пространного рескрипта: «Влияние, приобретенное «нами» на правительство Польши, устремлялось всегда на утверждение ее вольности и независимости. Но вместо признательности мы встретили злобу и кровопролитные мятежи, которые закончились разделом 1773 года. Наше участие в разделе было вызвано обстоятельствами; мы не только показали в этом случае большую умеренность, но и «лакомство и алчность» других дворов. Можно было надеяться, что это событие образумит поляков и побудит их соблюдать тесное согласие с нашею державой. Но время показало, что их вероломство и неблагодарность не могут быть исправлены даже бедствиями. Они, как только увидели нас озабоченными двумя войнами (Турецкою и Шведскою), тотчас поспешили расторгнуть все торжественные обязательства и 3 мая 1791 года ниспровергли форму правления, утвержденную нашим ручательством. Эта перемена не согласовывалась с пользой нашего государства, и мы решили ее уничтожить по замирении с Портою Оттоманскою. Чтобы не прибегать к открытой войне и напрасному кровопролитию, мы прибегли к средству, издавна в Польше употреблявшемуся, то есть к составлению генеральной конфедерации (Тарговицкой), которая и была обнародована под защитой нашего оружия. Король приступил к этой конфедерации, но неискренне. Сами члены присланной сюда конфедератской делегации сознаются, что как только войска наши выступят из пределов Польши, то все установленное конфедерацией немедленно будет ниспровергнуто. Но нас не столько беспокоит это обстоятельство, сколько распространение между поляками гнусного якобинского учения французов, которое из Польши может перейти и к ее соседям. Мы убедились, что никогда не будем иметь в лице польском народе спокойного и безопасного соседа. А так как прусский король грозит оставить союз с римским императором, если мы не согласимся на вознаграждение его польскими землями, притом, по известной горячности своего нрава, он, пожалуй, и без нашего согласия силою завладеет этими землями, поэтому мы решили, что «земли и грады, некогда России принадлежавшие, единоплеменникам ее населенные и созданные, и единую веру с нами исповедующие, избавить от соблазна и угнетения, им угрожающих, и присоединить их к державе нашей».
Далее рескрипт предписывает поспешить с отъездом в Гродно, остановиться там на несколько дней и разными обещаниями ободрить соединенную там конфедерацию (коронную и литовскую), которая обеспокоена движением прусских войск и слухами о новом разделе. После раздела Польшу надобно поставить в достаточно сильное оборонительное положение, чтобы она могла служить барьером, предупреждающим столкновение России с Пруссией. Пруссия, по всей вероятности, и потом будет хлопотать о расширении границ со стороны Польши, чтобы прийти в равновесие с Австрией и Россией. Это обстоятельство следует поставить на вид полякам, чтобы убедить их в необходимости дружбы с Россией. Подобного содержания рескрипт был вручен и Игельстрёму, которому предписывалось распределить в Польше свои войска сообразно с предстоявшим разделом между Россией и Пруссией и принять все необходимые меры предосторожности.
В начале 1793 года Сиверс отправился из Петербурга к месту своего назначения. Он дня два провел в Риге, в беседах со своим приятелем князем Н. В. Репниным, в то время лифляндским генерал-губернатором, некогда нашим полномочным министром в Польше. Из Риги Сиверс заехал в Митаву, посетил герцога курляндского Петра Бирона в его загородном дворце. Здесь уже началась посольская деятельность Якова Ефимовича. Он имел поручение императрицы, во-первых, сделать герцогу строгое внушение по поводу его распрей с курляндским сеймом, то есть с дворянством. Курляндия, как известно, считалась леном Польской республики, но в действительности вполне зависела тогда от России, особенно с тех пор как Екатерина возвратила герцогский престол знаменитому Эрнесту Бирону и облагодетельствовала эту фамилию. Герцог Петр, сын и преемник Эрнеста, выразил Сиверсу крайнее сожаление, что навлек на себя неодобрение своей высокой и единственной покровительницы, и уверял в готовности ей повиноваться. Второе требование, порученное нашему послу, относилось к раздаче арендных имений: Сиверс должен был настоять на том, чтобы эти имения раздавались преимущественно тем курляндским дворянам, которые находились на русской государственной службе или оказывали услуги русскому правительству. Петр Бирон обещал исполнить желание государыни. Третий пункт разговора касался свояченицы герцога, то есть супруги его покойного брата принца Карла, урожденной Понинской, которая просила увеличить размер ее пенсии. Скупой герцог ссылался на расточительность брата и его жены, но, впрочем, изъявил готовность исполнить ее просьбу. Прощаясь с русским послом, герцог и герцогиня униженно, со слезами на главах, уверяли его в своей преданности к священной особе ее величества. 20 января Сиверс прибыл в Гродно, на место генеральной Тарговицкой конфедерации, и остановился у русского поверенного при ней барона Бюлера. И нашел здесь умы чрезвычайно взволнованные.
Уже несколько месяцев распространялись зловещие слухи о новом разделе Польши, держало поляков в тревожном состоянии. Вдруг в Гродно прискакал курьер из Варшавы от коронного канцлера Малаховского с декларацией прусского посла Бухгольца от 16 января н. ст. Последний от имени своего короля возвещал польскому правительству о предстоящем вступлении прусских войск в Великую Польшу и приводил причины этой меры, а именно распространение вредного якобинского духа между поляками, особенно в Великой Польше, связь ее с французскими якобинскими клубами и необходимость для Пруссии обеспечить свой тыл в войне с Францией. Можно представить, какое впечатление произвела эта декларация на Тарговицкую конфедерацию. Все поняли, что дело идет о новом разделе. В то время барон Игельстрём по пути к своему посту в Варшаву остановился на несколько дней в Гродно. Маршал конфедерации Щесны Потоцкий и все ее члены обратились к русскому главнокомандующему с предложением стать во главе их, собрать польскую армию и идти против пруссаков. Игельстрём возразил, что союз, существующий между Россией и Пруссией, не позволяет ему сделать подобное. Он уехал, а конфедерация продолжала показывать патриотический пыл: решено было драться с пруссаками и собрать посполитое рушение. Канцлеру Малаховскому было отправлено повеление ответить Бухгольцу требованием, чтобы прусские войска не вступали в Польшу, а коменданту Варшавы Ожаровскому послан приказ приготовить лошадей для нужд артиллерии. Больше всех горячился польный гетман Северин Жевуский, только что возвратившийся из Петербурга, куда он ездил вместе с депутацией. Глава этой депутации великий гетман коронный Браницкий под предлогом семейных дел остался в Петербурге, и Жевуский был теперь главным начальником военных сил в Польше.
25 января нов. ст. прусское войско, разделенное на шесть колонн, перешло границу и с разных сторон вступило в польские земли. В Гродно поднялась целая буря: конфедераты переходят от одного решения к другому, они то хотят созвать посполитое рушение, то разорвать конфедерацию. В это время прибыл Сиверс, его встретили как «ангела-хранителя», по собственному его выражению. Волнение умов не помешало устроить в честь русского посла несколько обедов и вечерних собраний. Сиверс при содействии братьев Коссаковских и старого Сапеги постарался успокоить конфедератов. Ему это отчасти удалось благодаря его мягким, приятным манерам, щедрым обещаниям всякого покровительства со стороны России, а также намекам на строгие меры в случае упорства. Между прочим, он не преминул объяснить полякам, что все их несчастия свершаются по причине жадности Пруссии. Затем он оставил Гродно, поручив дальнейшее наблюдение за конфедерацией тому же барону Бюлеру, человеку умному и ловкому.
Сиверс спешил в Варшаву, где господствовало всеобщее уныние, произведенное вступлением прусских войск. Уныние это умножалось слухами о том, что цесарские войска также войдут в Польшу. После удаления за границу вождей Конституционного сейма многие члены этого сейма оставались в Варшаве. По известию Огинского, они везде находили радушный прием и были желанными гостями в польских семействах. А приверженцы Тарговицкой конфедерации, наоборот, встречали холодность и презрение. Патриоты не могли выносить их общества и при каждом удобном случае выказывали к ним свою антипатию, несмотря на присутствие в городе сильного русского гарнизона. Король, хотя и приступил к Тарговицкой конфедерации, но, невзирая на все приглашения ее маршала, не ехал на соединение с нею в Гродно и оставался в Варшаве. Он распускал слухи, что в случае нового раздела отречется от короны, лишь бы назначили ему хорошую пенсию, с которою он готов доживать свой век в Италии. Племянник его Юзеф Понятовский на требование конфедерации присягнуть ей в качестве шефа пехотной гвардии прислал Ожаровскому из Вены дерзкий ответ, который еще и напечатал. Напрасно Станислав Август пытался замять поступок племянника, приказав уничтожить те экземпляры ответа, которые появились в Варшаве. Юзеф написал еще более дерзкое письмо маршалу конфедерации Потоцкому, в котором предлагал ему дуэль.
В условиях печальных политических обстоятельств Варшава была в то время поражена и экономическим бедствием, а именно многими банкротствами. До 1792 года ее денежный рынок изобиловал звонкою монетой, а во время самых значительных контрактов в Дубно около Нового года и в Варшаве около Иванова дня в кассах банкиров и землевладельцев можно было видеть от двух до трех миллионов голландских дукатов. Аккуратность, с которою банкиры платили проценты, позволила им приобрести такой кредит, что даже самый неимущий помещик вверял им свои сбережения, чтобы увеличивать свой капитал посредством семи или восьми процентов. Очень многие легко могли брать взаймы деньги у тех же банкиров. Эти факторы, в свою очередь, способствовали еще большему развитию роскоши и расточительности. Чрезмерные выдачи рано или поздно должны были подорвать многие частные банки при первых же неблагоприятных обстоятельствах. Эти обстоятельства наступили в 1792 году в результате неудачной войны с русскими. Рост земледелия уменьшился, торговые обороты упали, некоторые вельможи, скомпрометированные перед русским правительством, поспешили обратить часть своих имуществ в наличные деньги и удалились с ними за границу. Звонкая монета начала исчезать из обращения. Известие о вступлении прусских войск, пришедшее во время дубенских контрактов, окончательно посеяло панику в торговых и финансовых оборотах.

В довершение к печальной картине из Парижа пришла весть о казни Людовика XVI. Теперь польский народ, обвиняемый в сочувствия якобинцам, еще меньше мог ожидать пощады со стороны соседних держав. Между тем пруссаки медленно, но постепенно занимали города один за другим. Те польские гарнизоны, которые не отступали заранее, вытеснялись силой и даже были взяты в плен. В Торуне магистрат велел запереть ворота. Пруссаки разбили их топорами и вошли в город. Польские отряды начали стягиваться к Ловичу. Щесны Потоцкий и Жевуский продолжали рассылать приказы о принятии мер для защиты отечества и особенно для обороны Ченстохова. Вопреки обещаниям, данным Сиверсу, конфедерация сразу после его отъезда выдала протест против вступления прусских войск и универсал о том, чтобы нация готовилась к посполитому рушению. Но Игельстрём отменил все приказы конфедерации о вооружениях, не допустил сосредоточения польских войск и направил их небольшими частями в юго-восточные провинции. Он поставил на вид полякам простую дилемму: императрица или за прусского короля, или нет; в первом случае ваши вооружения тщетны, а во втором — излишни, довольствуйтесь ее могущественною защитой.
Посреди этих смутных обстоятельств новый русский посланник в субботу 29 января 1793 года прибыл в Варшаву и остановился ночевать в ее предместье Праге. Поутру он въехал в город. Отчасти на санях, отчасти в лодке, он перебрался через Вислу. На берегу его ожидала карета Булгакова, которая и отвезла ко дворцу графа Борка, одному из красивейших зданий Варшавы, которое арендовало тогда русское посольство за 2000 дукатов в год. Рота русских солдат, стоявшая здесь в карауле со знаменем, отдала ему честь. Булгаков заранее сделал все приготовления, чтобы принять его достойным образом. Явился Игельстрём с русскими генералами. Она вместе отобедали, и Сиверс отметил, что серебряная столовая посуда, повар и вино были превосходны. Иностранные дипломаты поспешили поздравить нашего посланника с приездом; некоторые в тот же день, другие на следующий, то есть в понедельник. Во вторник папский нунций, не дожидаясь визита Сиверса, приехал к нему первым; такой чести он не оказывал другим послам. «Но чего не делают в нужде?» — замечает по этому поводу посланник в письме к своей дочери. Дело в том, что Тарговицкая конфедерация, опираясь на русскую силу, начала бесцеремонно распоряжаться не только гражданскими делами, но и церковными, причем два епископа, стоявшие во главе этой конфедерации, Масальский и Коссаковский, мало обращали внимания на представления нунция. В тот же день Сиверс обменялся визитами с великим коронным маршалом графом Мнишеком, которому сообщил свои верительные грамоты.
Через день после того, то есть в четверг, Сиверс торжественно представился королю. Ровно в 12 часов он сел в карету и отправился к королевскому замку. Улицы и окна были наполнены народом. На замковом дворе стоял под ружьем целый батальон. Сиверс прошел несколько передних зал, в которых толпились придворные кавалеры, все в трауре по случаю смерти Людовика XVI. Коронный маршал принял посла у дверей аудиенц-залы. Король в пурпурной мантии стоял у трона под балдахином. Когда посол, продвигаясь вперед, сделал три обычных поклона, Станислав Август сделал два или три шага ему навстречу, потом сел на свое кресло и подал послу знак сесть на другое, стоявшее напротив. Последний сказал приветствие и вручил свою посольскую грамоту. Король отвечал довольно длинною речью. Сиверс отметил, что Станислав Август, с которым он познакомился лет сорок тому назад на берегах Темзы, был красивым, хорошо сохранившимся мужчиной с бледным лицом. Когда он закончил свою речь, посол встал и сделал опять три поклона, продвигаясь к двери, а король опять сделал по направлению к нему несколько шагов. В передней зале маршал представил послу первых сановников республики.
После этого церемониального представления назначена была на следующее утро частная аудиенция в кабинете короля. Здесь, разговаривая с главу на глаз, посол объявил Станиславу Августу неудовольствие императрицы по поводу его поведения, а именно относительно его участия в Конституционном сейме и в революции 3 мая, отметил его сношения с польскими эмигрантами и, наконец, его уклонение от поездки в Гродно и от действительного соединения с Тарговицкою конфедерацией. Склонить Станислава Августа к этой поездке и было теперь ближайшею задачей Сиверса. Он представлял королю, что там его величество будет вдали от варшавских интриг и разных вредных влияний, что там удобнее принять меры для создания нового сейма и что, наконец, это единственное средство возвратить расположение императрицы. Король не оставил ни одного пункта без оправдания. Станислав Август, как известно, владел способностью говорить красиво и много. Все эти пункты он рассматривал со своей точки зрения, доказывал свою невинность, ссылаясь на обстоятельства, от него не зависевшие. Участие свое в Конституции 3 мая он объяснял невозможностью идти против потока и против головы целой нации. С эмигрантами польскими, если он и имел сношения, то единственно для того, чтобы склонить их возвратиться в отечество. В заключение он распространился в жалобах на генеральную конфедерацию за причиняемые обиды, и особенно на графа Потоцкого, который оскорбляет его королевское достоинство на каждом шагу и совершенно не признает за ним никакого авторитета. Соединение с этою конфедерацией, по его словам, бесполезно, а путешествие в Гродно было бы для него величайшим унижением, не считая препятствия со стороны его нездоровья, недостатка денежных средств и зимнего времени года. Он усердно просил посланника донести государыне о его печальном положении.
Итак, в первый раз Сиверс не получил согласия короля на поездку. Но подобное упорство не могло быть продолжительным, против него имелось могущественное средство: долги короля и его безденежье. Сумма королевских долгов составляла более полутора миллионов дукатов, что составляло до 30 000 000 злотых. Между прочим, банкиру Тепперу он должен был полмиллиона дукатов, и Теппер в качестве одной из главных причин своего банкротства указывал на несостоятельность короля и других своих должников из среды польских магнатов. Это банкротство причиняло много забот нашему посланнику, потому что Теппер был доверенным банкиром русского правительства. У него хранилась главная посольская касса, которую было опасно держать в посольском доме при анархическом состоянии польского общества, так как дом мог быть сожжен и разграблен.
Когда Сиверс прочел перевод изданного конфедерацией универсала о посполитом рушении, он немедленно призвал к себе великого канцлера Малаховского и потребовал, чтобы была остановлена публикация этого документа, и чтобы он не был сообщен иностранным послам. А в Гродно он отправил ноту с изъявлением своего крайнего удивления и прискорбия. Спустя несколько дней прибыл курьер с письмом от конфедерации. Она оправдывалась в своем поступке и даже уверяла, что ее универсал был неверно понят. Кроме того, она прислала другой универсал, в котором советовала нации всю надежду возложить на великодушие мудрой Екатерины. Сиверс через барона Бюлера отвечал, что он доволен новым универсалом.
Как лицо, имеющее чрезвычайные полномочия благодаря могущественной русской императрице, наш посланник по приезду в Варшаву стал центром, вокруг которого начали вращаться интересы высшего варшавского общества. Перед ним заискивала почти вся польская знать, вокруг него увивались всякого рода интриганы, льстецы, информаторы и т. п. Уже в первую неделю он жаловался, что здоровье его едва выдерживает бесконечные визиты и обеды. Он успел побывать только на трех обедах, а ему говорят о тридцати предстоящих. Вот что он сообщает в письме к одной из своих дочерей: «В воскресенье я обедал у нунция, где кушал превосходное, поистине неаполитанское мороженое и много говорил о Неаполе. В понедельник обедал у короля. Представь себе, как бедно он живет: он обедает в своей передней; налево его кабинет, направо спальня, она же вместе и гостиная; вообще он занимает только три комнаты, за исключением парадных зал, назначенных для аудиенций. Нас было за столом 17, в том числе две племянницы короля, то есть графиня Мнишек и графиня Тышкевич. Стол сервирован хорошо, хотя и без пышности. Король говорил мало и только со мною. Но заметно, что печаль застилает его душу. Он носит лорнет в петлице своего кафтана и маленькие карманные часы за обшлагом левого рукава. Прощаясь со мной, он представил мне своего частного секретаря Фризе как доверенного человека, к которому я могу обращаться в случае, если буду иметь необходимость сказать что-нибудь королю неофициальным образом. С тех пор Фризе был у меня уже раз десять. Во вторник я обедал у примаса. У него прекрасный дом. Во всем заметно, что он много путешествовал и сделал много покупок в Италии». Тут Сиверс с особым удовольствием распространяется о саде примаса и о цветах, до которых сам был большой охотник. Узнав об этом пристрастии посланника, некоторые владельцы садов и оранжерей поспешили прислать значительное количество горшков с цветами для украшения его жилища. Обед у примаса был великолепен и продолжителен. За столом находилось пять или шесть дам. После стола еще около часа разговаривали. Зная, что посланник не любит карт, его не принуждали играть. «Вечером, — продолжает он, — я отправился в итальянскую оперу. Театр довольно велик, с тремя рядами лож и парадизом. Господин Булгаков имел ложу подле самой сцены и платил за нее 40 дукатов в месяц. Что ты думаешь насчет такой цены? Везде в другом месте на эти деньги можно нанимать отличный дом. Оркестр был хорош, театр довольно полон. Давали Нину или Помешательство от любви. Опера очень серьёзная; первый певец и примадонна пели недурно».
Затем Сиверс описывает целый ряд обедов. В среду он угощал у себя дипломатический корпус и русских генералов; в четверг обедал у сестры короля, пани Краковской или, как он ее называет, madame de Cravovie, вдовы гетмана и краковского каштеляна Браницкого. В пятницу он посетил немецкий театр, который помещался в доме князя Радзивилла и существовал по подписке. «Здесь много немцев, которых привлекло сюда правительство саксонских королей, — замечает Сиверс, — многие мужчины и дамы из Великой Польши говорили по-немецки. В воскресенье обед у великого канцлера Малаховского, в понедельник — у другой сестры короля, графини Замойской, во вторник — у другого брата, князя Казимира Понятовского, прежнего великого подкомория, и т. д. Из всех людей, предлагавших свои услуги посланнику, наиболее полезным для него сумел сделаться некто тайный советник Бокамп, хитрый, проницательный интриган, родом голландец, во время Семилетней войны бывший агентом Фридриха Великого в Турции и в Крыму. Бокамп, выдававший себя за отличного знатока поляков и Польши, написал для Сиверса несколько характеристик, относящихся к важнейшим лицам Польской республики. Он обозначил их номерами, не называя по имени. Приводим сущность этих характеристик.
Под первым номером значится король Станислав Август. «Приятность его манер, а также кротость характера очаровывают всех окружающих. Он создан для общества, о делах говорит чрезвычайно хорошо и охотно. У него удивительная память и множество талантов, он знает гораздо более, чем обыкновенно знают люди в его положении. Он хочет всем нравиться, и у него никогда не вырывается ничего такого, что может кого-нибудь в обществе оскорбить или привести в замешательство. Все эти достоинства делают его весьма приятным придворным, но не более. Ему недостает некоторых качеств, необходимых для его сана». Далее следует оборотная сторона медали: «Он не знает ни людей, ни наиболее важных дел. У него нет собственного мнения. Подчиняясь влиянию окружающих, он нередко меняет свои суждения о людях и о делах. …Подсказанное ему мнение он так хорошо усваивает и так приятно объясняет, что только проницательные и опытные люди на этот счет не обманываются. Он не умеет истинно ни любить, ни ненавидеть. Из представленного очерка следует: кто хочет овладеть им, тот должен действовать посредством лиц, имеющих на него наибольшее влияние; а эти лица должны быть руководимы одним безраздельным авторитетом».
Следующий очерк относится к примасу Михаилу Понятовскому, брату короля. «Во многих отношениях он является противоположностью своего брата, преимущественно в отношении твердости, настойчивости и решительности. Брат боится его и часто скрывает от него то, что не делает ему чести. Он тут на привязанности, даже и к прекрасному полу, но умеет сильно ненавидеть. Он не терпит равного себе и не примыкает никогда к той партии, в которой не может быть главой. Он не таким образом уважает родственные связи, чтобы не приносить их в жертву своему честолюбию. Он создан более для монархии, чем для народного правления, и если бы мог, то сделался бы Мазарином». Ближайшее знакомство с примасом не подтвердило в полной мере эту характеристику в глазах русского посланника. Впоследствии Сиверс в письме к Игельстрёму выразился о нем таким образом: «Князь примас известен вам достаточно: если несколько польстите его тщеславию, то можете делать с ним что угодно».

Третья характеристика Бокампа изображает сестру названных братьев пани Краковскую, то есть Изабеллу, вдову гетмана Браницкого. «Вся ее внешность говорит в ее пользу: манеры приличные и исполнены достоинства, обхождение ласковое, осанка почтенной матроны, тон приятный, отзывающийся откровенностью. Она нередко высказывает своему брату, номеру первому, нелестные для него истины, почему он часто делает глупости у нее за спиной и говорит о них после. Ее симпатии обращены к Франции. Она желала бы убедить всех, что здесь, в Польше, существует такая же королевская фамилия, как и в других странах; следовательно, фамилия эта должна оказывать и такое же влияние на дела. Подобную мысль поддерживают в ней приезжие иностранцы, привыкшие у себя дома к иному порядку».
Далее следуют два очерка, которые относятся к великому секретарю литовскому графу Мошинскому и великому канцлеру коронному Малаховскому. Они считались самыми надежными приверженцами России. Известно, что после переворота 3 мая Малаховский единственный из польских министров отказался подписать свое имя под новою конституцией, хотя брат его был вождем этого переворота. Из всех министров он один продолжал носить старое польское платье и усы. Бокамп замечает, что «наружностью и характером он напоминает настоящего сармата, что он пользуется заслуженною репутацией благодаря твердости своего характера и непоколебимо предан русскому правительству». Граф Мошинский не менее его предан России, но он проницательнее и гибче Малаховского. «У него необыкновенная вкрадчивость, так что многие невольно высказывают ему свои тайны. Двор ласкает его и часто считает своим там, где он менее всего принадлежит двору; а это всегда случается, как скоро он заметит, что не держатся настоящей дороги в отношении к России, которая всегда была для него путеводною звездой». Бокамп советует Сиверсу опереться преимущественно на этих двух сановников и сделать их центром русской партии. Относительно Малаховского надежды его не оправдались. Великий канцлер не захотел служить более русским интересам, когда убедился, что дело идет о новом разделе. Он вскоре удалился с политического поприща и не играл роли в последующих событиях. Но Фридрих Мошинский действительно стал главным пособником Сиверса при выполнении его задачи и вступил с ним в самые дружеские отношения. Поэтому мы остановимся на этой особе, для чего воспользуемся его собственною защитительною речью, которую он произнес перед своими судьями, когда во время революции 1794 года его схватили и бросили в тюрьму как известного приверженца России.
Его отец умер коронным подскарбием и не оставил никаких счетов. Сын собрал его регистры и впоследствии возвратил в казну, между тем как наследники других подскарбиев удерживают у себя эту собственность, хотя и добывают расписки в обратном ее получении. Затем он посвятил себя службе республике. Почти одиннадцать лет работал в качестве комиссара скарбовой комиссии и показал, что может сделать человек своим трудолюбием, соединенным с ревностью к общественному благу. О том могут свидетельствовать кипы бумаг, исписанных его собственною рукой и находящихся в комиссии. Потом он стал вице-комендантом кадетского корпуса и отдал всего себя воспитанию будущих защитников отечества. А когда республика вследствие Барской конфедерации страдала безденежьем, он содержал корпус на свой счет. Несколько раз был сеймовым послом, но не извлекал для себя из того ни малейшей выгоды. Имени его не найдут ни в каком постановлении, направленном во вред отечеству; равным образом ни в какой сеймовой конституции, посредством которой назначался бы ему какой-нибудь подарок: староство, поиезуитское имение или что-нибудь подобное. Занимая разные должности, он дослужился до звания литовского секретаря, и все эти должности он приобрел благодаря своим заслугам. Он был послом на Четырехлетнем сейме и работал над тем, чтобы изыскать источники для пополнения казны без отягощения граждан новыми податями. Но он должен сознаться, что его почти трехлетняя работа в назначенной по этому вопросу комиссии осталась бесплодною. Во время революции 3 мая он находился не в Варшаве, но так как начала ее, основанные на наследственном троне, согласовались с его убеждениями, то он охотно пристал к ней. Когда русские войска вступили в Польшу, и завязалась Тарговицкая конфедерация, он удалился за границу и жил некоторое время в Дрездене, но, угрожаемый секвестром своих имений и судебным преследованием, возвратился в отечество и последовал примеру короля, то есть приступил к Тарговицкой конфедерации.
Так говорил о себе сам Мошинский и, конечно, говорил не беспристрастно. Судя по отзывам современников, это был человек умный, деловой, но большой эгоист и чрезвычайно скупой.
К портретам, набросанным Бокампом, прибавим несколько слов о лицах, окружавших короля, и именно о тех, которые по своему влиянию на него в последующих событиях обратили на себя особенное внимание нашего посланника. Трое из них — великий конюший Кицкий, главный эконом Рыкс и еще некто Крута — оказались до того вредными по своим интригам, что Сиверс собирался выслать их за пределы Польши, о чем он говорит в упомянутом письме к Игельстрёму. Только два лица из королевской свиты заслужили его одобрительный отзыв: это секретарь Фризе и ксендз Гигиоти, которые обнаруживали преданность русским интересам, но, конечно, преданность небескорыстную. А что касается женщин, игравших, как известно, большую роль в жизни Станислава Августа, то в данную эпоху, по замечанию Сиверса, ни одна из них не имела особенного значения, даже его явная фаворитка, то есть пани Грабовская.
Приведем и то, что написал прусский посол Бухгольц своему двору о двух главных представителях русской политики в Польше, то есть об Игельстрёме и Сиверсе:
«Генерал-аншефу Игельстрёму около 65 лет. Он несколько обветшалой, но видной наружности; это очень светский человек; он в совершенстве говорит на многих языках и легко схватывает понятия. Во всех его манерах отражается гордое сознание заслуг, оказанных отечеству. Говорят, он высокомерен и строг к подчиненным. Верно то, что армия боится его не менее, чем сами поляки». Отзыв слишком благосклонный: предыдущая деятельность Игельстрёма не давала ему никаких особых прав гордиться своими заслугами перед отечеством.

Мы даже недоумеваем, на чем был основан выбор этого лица на такой важный пост, как командование нашими военными силами в Польше в то критическое время. Императрица, конечно, видела в нем точного, беспрекословного исполнителя своей воли. Она принимала в расчет его знание Польши, так как он служил там еще под начальством князя Репнина. Но ее мнение о его способностях, по всей вероятности, было преувеличено. «В Сиверсе, — продолжает Бухгольц, — нашел я почтенного старика с симпатичною наружностью. Обращение его совсем не похоже на то, которым некогда отличались русские. С большою мягкостию характера он соединяет величайшую вежливость и много такту. На многих языках он объясняется с замечательною ясностию и точностию, а работает, насколько я мог заметить, с большою легкостию. Здоровье его, кажется, весьма слабо, но он очень себя бережет».
II. Король медлит с отъездом. — Дипломатические уловки. — Денежные затруднения. — Сиверс в Гродно
Наш посланник начал готовиться к отъезду в Гродно. Этот город, издавна служивший, наряду с Варшавой, местом сеймовых собраний, еще в июле 1792 года был выбран Екатериной для предстоявшего чрезвычайного сейма. Понятно, почему он был предпочтен Варшаве. Многочисленное население столицы, под влиянием последних событий, находилось в возбужденном состоянии. Общественное мнение, руководимое патриотическою партией, оказало бы слишком сильное давление на сейм, каков бы ни был его состав, и, конечно, он мог гораздо удобнее выполнить свое назначение в провинциальном городе. А назначение его состояло в том, чтобы подписать формальную уступку земель двум соседним державам. Но речь об этой уступке русский и прусский посланники должны были начать после, а пока говорили только о пересмотре конституции. Употребляя подобные извороты, дипломатия, конечно, имела в виду достижение цели с возможно меньшими потерями, то есть без новой войны, без нового кровопролития. Предстояло решить нелегкую задачу: во что бы то ни стало принудить нацию к формальной уступке земель! То есть к тому, что достигается только после упорных и разорительных войн. Союзные державы знали, с кем имели дело, и надеялись закончить его мирно при помощи обычных в то время дипломатических уловок. Они надеялись повторить только те маневры, которые с успехом были уже применены при первом разделе Польши. Дальнейшие события показали, что расчеты дипломатии на этот раз были не совсем верны.
Король продолжал писать жалобные письма к императрице и отказывался от поездки в Гродно, ссылаясь на безденежье, на долги, на слабое здоровье, весенний паводок, на приближающееся время его обычного говения и т. п. Наконец, он решился высказать свое настоящее опасение о том, что там его насильно заставят подписать новый раздел. Со своей стороны, русский посол старался опровергнуть все его доводы и утверждал, что никакого насилия ему не может быть сделано. Приведем сообщение посла вице-канцлеру от 19 февраля (2 марта). Накануне этого дня Сиверс обедал у короля в его загородном Уяздовском дворце. После обеда король пригласил посла в кабинет, чтобы поговорить с ним о всяких финансовых обстоятельствах. Он начал с длинного вступления, в котором представил свое стесненное положение и старался найти оправдание своим долгам, затем передал послу записку, в которой предлагал потребовать от генеральной конфедерации, чтобы она назначила комиссию для устройства его дел и для уплаты его долгов. Посол обещал ему похлопотать о том.
«Он еще много говорил мне о разных предметах, — продолжает посол, — и, наконец, признался в своей боязни, что его методом какого-нибудь постыдного насилия заставят подписать новый раздел Польши. Я усердно заверял его, что никакого насилия не будет причинено ни ему, ни кому-либо другому: это слишком противоречило бы образу мыслей моей государыни. Я сказал, что главная цель его поездки в Гродно — отдалиться от варшавских интриг, принять некоторые предварительные меры, определить сроки сбора сеймиков и сейма, на котором все внимание будет уделено возможно большему усовершенствованию Конституции 1775 года. Таким образом, приблизится тот момент, когда ее императорское величество соблаговолит раскрыть свои планы и те способы, на основании которых возможно примирение с ее величеством, если он, со своей стороны, докажет искреннюю преданность ее воле. Он осыпал меня еще тысячью вопросами и закончил заверением, что остается успокоенным и довольным этим разговором».
В тот же день курьер из Петербурга вместе с рескриптом Сиверсу доставил и письмо императрицы к Станиславу Августу. На следующее утро посол вручил его королю. Последний был тронут милостивым содержанием письма, и выразил послу свою благодарность. «Но, — прибавил он, — ее величество ничего не говорит о путешествии в Гродно».
Сиверс отвечал, что, напротив, он получил точный приказ убедить короля совершить это путешествие. Король опять говорил о своем безденежье и об опасностях, которые ожидают его, если он по требованию конфедерации созовет посполитое рушение, что, конечно, погубит его в глазах императрицы, а если он не подчинится этому требованию, то станет позором в глазах нации. Сиверс снова старался успокоить его и говорил, что в Варшаве он подвергнется тем же опасностям, но не будет иметь той поддержки русского посла, какую найдет в Гродно. Далее король просил Сиверса, чтобы он уговорил канцлера наложить печати на контору Теппера, так как кредиторы хотят насильно войти в нее, чтобы видеть книги.
Сиверс горячо вступил в это дело, потому что оно затрагивало интересы русского посольства: предместники его ассигновали па дом Теппера уплату пеней за услуги русскому правительству; обнародование банкирских книг навредило бы многим лицам и сделало бы их подозрительными в глазах нации, хотя теперь они более и не получали этих пенсий. Посол поспешил подать ноту канцлеру, и печати действительно были наложены. Спустя некоторое время генеральная конфедерация назначила комиссию по делу Теппера. При ближайшем ознакомлении с этим делом Сиверс высказал мнение, что Теппер, несмотря на свое критическое положение, не заслуживает снисхождения: он обманул многих и особенно нехорошо поступил с русским главнокомандующим. Король уплатил Тепперу 42 000 дукатов, чтобы дать ему возможность выдать эту сумму Игельстрёму, но Теппер значительную часть ее удержал для себя.
Упрямство короля по вопросу о поездке в Гродно, недостаток денег и другие затруднения Сиверса, очевидно, подействовали на него. Так, в одном из своих донесений он решается предложить в качестве места проведения сейма Варшаву в случае удачного выбора сеймовых послов. Но спустя несколько дней адъютант Зубова привез ему новый рескрипт (от 21 февраля) и новое письмо императрицы к Станиславу Августу.
Екатерина писала Сиверсу следующее: «Наши переговоры с королем прусским относительно Польши завершены. Вы получите инструкции, чтобы наложить руку на окончание дела, вам вверенного. Вы знаете мотивы, заставившие меня предпочесть Гродно Варшаве для сцены, которая должна произойти. Вы должны отправиться в Гродно, король пусть едет туда или вместе с вами, или прежде, или после, смотря по вашим соображениям, но только, чтобы это было при начале вашей операции, а она начнется подачей декларации, которая будет послана вам на днях. Я отвечаю на последнее письмо короля и тороплю его предпринять путешествие немедленно. Поручаю вам облегчить это путешествие. Я знаю о денежных затруднениях короля, но желала бы помочь ему только в случае абсолютного безденежья и совершенной невозможности обеспечить себя другими средствами. Уполномочиваю вас ссудить ему из вашей экстраординарной суммы до 10 000 дукатов. Но прежде этого вы предупредите прусского министра, что справедливость требует, чтобы издержки были разделены на равные доли, так как мы действуем заодно и по общему делу. Я уже сообщила мои намерения двору Берлинскому относительно издержек для достижения нашей цели. Не сомневаюсь, что этот двор последует моему совету и отдаст в распоряжение своего посла в Варшаве экстраординарную кассу, наподобие той, которую я вверила вам».
После таких решительных приказаний Сиверсу оставалось только в точности их исполнить. В тот же день он отправился к королю и передал ему письмо императрицы. Король начал читать его вслух, и был тронут его благосклонными выражениями. Но когда он дошел до того места, когда от него решительно требовали немедленной поездки в Гродно, он не выдержал и воскликнул: «Боже мой! Меня хотят принудить к подписи моего позора, то есть нового раздела! Пусть бросают меня в тюрьму, пусть сошлют в Сибирь, нет, я никогда не подпишу!» «Государь, — прервал его Сиверс, — все это плоды вашего воображения. Никогда не будет и речи о том, чтобы вас принуждать делать то, о чем вы говорите. Вы останетесь королем, в чем ручается вам в письме императрица. Я заверяю вас ее именем. Чего же вы хотите более?»
Далее последовало повторение прежних разговоров: зачем ехать в Гродно? полезно ли это? необходимо ли? Король хотел опять писать императрице или, по крайней мере, подождать ответа на свое последнее письмо. Но Сиверс назвал такой образ действия решительно бесполезным и даже оскорбительным для ее величества после того, как король в трех письмах подряд изъявлял готовность подчиниться ее воле. Наконец, Станислав Август объявил, что он поедет, причем заметил, что обещанные 20 000 дукатов не покроют всех издержек этого путешествия. Несколько раз он начинал плакать и упросил посла, который хотел отправиться в путь на следующий день, остаться еще некоторое время в Варшаве. Посол согласился, тем более что его отъезд и без того был задержан паводком.
От короля Сиверс отправился к князю примасу, от примаса — к пани Краковской. У обоих он получил обещание сделать все возможное, чтобы уговорить короля на поездку в Гродно. Хотя Станислав Август и согласился, но предстояло еще много хлопот, чтобы ускорить ее. Снова начались ссылки на разлитие рек, на приближение Страстной недели, во время которой он исповедовался, на безденежье и пр. Снова поднимался вопрос: не удобнее ли созвать сейм в Варшаве, чем в Гродно? Сиверс, наконец, потерял терпение и прибег к суровым мерам. Он написал холмскому епископу Скажевскому, председателю комиссии по делу Теппера, что часть королевских доходов надобно подвергнуть запрещению: она пойдет на уплату долгов Тепперу и таким образом предоставит генералу Игельстрёму средства платить за фураж и провиант. Письмо подействовало. Примас поспешил приехать к Сиверсу, чтобы вместе с ним обсудить средства с целью ускорить созвание сейма. Король объявил, что отправляется в путь, но не прежде Святой недели, которая в тот год начиналась 23 марта по старому стилю. Сиверс вынужден был согласиться. Он пишет в Петербург, что король по приезду в Гродно вместо красного яйца получит декларацию союзных держав об уступке провинций, а к тому времени будут готовы универсалы для королевской подписи и приняты все меры для скорейшего созыва сейма.
Между тем наш посол продолжал уверять поляков, что никакого раздела не будет, в Варшаве почти никто уже не сомневался в действительности раздела и в той роли, которая назначалась предстоявшему сейму. В личных разговорах короля с некоторыми лицами уже обсуждался вопрос, как вести себя на этом сейме. Когда борьба с оружием в руках казалась невозможной, то естественно появилась мысль о пассивном сопротивлении. Огинский, только что вступивший в должность литовского подскарбия, рассказывает, будто бы он первый предложил такой вариант Станиславу Августу. Однажды он пришел к королю и начал склонять его к принятию следующего решения: всем угрозам и всем требованиям русского посла противопоставить непоколебимую твердость, а на предстоявшем сейме ни под каким предлогом не соглашаться на трактат о разделе. Таким поступком король смыл бы с себя то пятно, которое легло на него с того времени, как он отказался стать во главе армии и приступил к Тарговицкой конфедерации, он снова возвратил бы себе любовь нации и уважение Европы, его пример увлек бы все собрание к такому же геройскому поведению. Русский и прусский послы будут поставлены в тупик, встретив единодушное и неожиданное сопротивление. Они вынуждены будут или отсрочить заседания, или распустить сейм и созвать новый. А между тем выигрывается время, новые события могут изменить положение дел, особенно можно ожидать этой перемены со стороны Французской революции.

Во время произнесения патетических речей Огинского в кабинет короля вошли графы Мошинский и Тышкевич, заранее предупрежденные подскарбием, и когда король сообщил им его план, то, к удивлению своему, услышал из их уст выражения полной поддержки этого плана. Король сначала, казалось, принял к сердцу убеждения Огинского, но потом стал высказывать сомнения в том, чтобы подобный способ действия мог иметь какие-либо серьезные последствия.
Огинский понял, что с этой стороны ждать нечего, что старый король останется слабым и бесхарактерным. Тогда он отправился к Сиверсу и сказал ему, что для освобождения своих имений от секвестра он принял на себя должность подскарбия, но только после торжественного уверения со стороны Зубова, что о разделе Польши не будет и речи. Но так как слухи о новом разделе распространяются все больше с каждым днем, то он не считает нужным продолжать министерскую службу и просит его уволить. В ответ на это заявление Сиверс начал снова уверять его в том, что толки о разделе — выдумки пустых и беспокойных лиц, что речь идет только об умиротворении Польши и обеспечении за нею хорошего государственного устройства. Слова Сиверса несколько успокоили патриотический пыл подскарбия, и он остался в своей должности.
Так повествует Огинский. Но мы имеем повод сомневаться в точности его рассказа. В донесениях Сиверса не упоминается ни о каких патриотических заявлениях со стороны нового подскарбия. Напротив, он постоянно причисляется к лицам, наиболее преданным русскому правительству. По всем признакам Огинский, как и многие другие его соотечественники, в то время играл двойную или даже тройную роль: в кабинете русского посланника он был покорным его слугою, в польском кружке изображал пламенного патриота, а когда приходилось стоять между двух огней, например, на сейме, он отличался скромностью и не бросался вперед со своими заявлениями. «Здесь все надобно делать деньгами, без денег ничего», — пишет Сиверс. А между тем с этой стороны он находился в затруднительных обстоятельствах. В редкой депеше он не жалуется на свое безденежье. Императрица назначила ему 100 000 рублей на текущие расходы и 200 000 рублей для чрезвычайной кассы, и то, и другое — из почтовых доходов. При отъезде из Петербурга Безбородко уверял его, что суммы эти уже готовы, но в Варшаве до конца февраля он получил только 10 000 рублей. Экстраординарная касса, принятая от Булгакова, составляла до 18 000 голландских червонцев, в том числе около 15 000 билетами Теппера, а Теппер объявил себя банкротом. Сиверс вынужден был занимать по несколько тысяч дукатов у других варшавских банкиров, которые охотно предлагали ему свои услуги в надежде получить выгодное звание придворного ее императорского величества банкира. Прусский его товарищ сообщил, что берлинский двор предписал ему во всем сообразоваться с русским послом и что он ожидает 50 или 60 тысяч дукатов для своей экстраординарной кассы. Сиверс заметил, что этого мало, и через несколько дней Бухгольц объявил, что ему назначено 100 000 дукатов, из них 10 000, определенные с каждой стороны на путешествие короля, он передал Сиверсу, так как Станислав Август не хотел ничего брать из прусских рук. Наш посол завидует своему товарищу и в одной депеше вице-канцлеру Остерману восклицает: «Не хватало еще, чтобы я занимал деньги у г. Бухгольца!» Между прочим, он обратился с просьбой о помощи в Ригу, к приятелю своему князю Репнину. Последний по собственному опыту знал, что без денег в Польше нельзя ничего сделать. Он немедленно обратился к генерал-прокурору за разрешением послать Сиверсу 10 000 дукатов из сумм рижской казенной палаты. Но генерал-прокурор ответил отказом и известил, что деньги уже посланы. Затем из Петербурга действительно прибыл в Варшаву курьер с деньгами, но их хватило только на уплату долга банкирам, и Сиверс вскоре опять должен был занимать у них деньги. После того некоторые суммы присылались еще несколько раз, но всегда в недостаточном количестве. Сиверс усердно жалуется императрице, описывает свое положение мрачными красками, намекает на интриги окружавших ее лиц, которые препятствуют исполнению ее приказаний, и просит наказать их достойным образом. Такие жалобы встречаем мы до второй половины июня, когда прибывший из Петербурга курьером капитан Ахматов вручил послу 50 000 талеров. Но опять новая неприятность: Сиверс просил прислать вексель на Голландию какого-нибудь петербургского или рижского банкира, а ему прислали сумму в талерах, тогда как эти деньги не были в ходу в Варшаве, и менять их было трудно, потому что варшавские банкиры почти все уже были объявлены несостоятельными.
Денежные затруднения русского посольства в Польше могут быть объяснены отчасти плохим состоянием наших финансов, но так как внешняя политика принадлежала к тем статьям бюджета, в которых мы не отличались особенною бережливостью, то в данном случае могла быть и другая причина. Автор известной биографии Сиверса Блум на основании некоторых его намеков причины всех затруднений приписывает интригам Зубова и компании. Мы не разделяем мнений биографа, который старается изобразить своего героя жертвою всякого рода интриг, простирающим свое благодушие до того, что он будто бы не знал, какая роль предназначалась ему в предстоявшей драме. Но мы не можем не согласиться с тем, что петербургский придворный действительно оказывал влияние на ход нашего дела в Польше. Зубов имел особое влечение к занятиям внешнею политикой, а так как сам он к подобной деятельности нисколько не был подготовлен, то взял себе в помощники Моркова, несомненно, даровитого и опытного дипломата, но также и опытного интригана. Морков и секретарь Зубова Альтести (родом из Рагузы) под видом помощников скоро стали руководителями фаворита в его дипломатических стремлениях. Так как официальный глава Министерства иностранных дел вице-канцлер граф Остерман был человеком, хотя довольно честным, но недалеким и уклончивым, то Зубов с товарищами почти беспрепятственно распоряжались делами этого Министерства и по мере сил парализовали высокий полет и энергию екатерининской политики. Сиверс посылал свои официальные донесения на имя вице-канцлера, а полуофициальные — на имя Зубова. Но зависимость от фаворита, конечно, была ему не на руку. Воспоминание о прежней благосклонности Екатерины, которая когда-то оказывала ему большое доверие и удостаивала личной корреспонденции, а также сознание всей важности порученного ему дела не позволяют ему успокоиться на официальных сношениях, да еще при таких посредниках. Он старается поставить себя по сравнению с ними в независимое положение, пытается наладить непосредственную переписку с императрицей и обращается к ней со своими соображениями и запросами. Небрежность, с какою относились в Петербурге к его денежным затруднениям, скоро показала ему, что попытки отстраниться от влияния фаворита не могут пройти безнаказанно. Некоторые признаки не замедлили обнаружить перед ним и то обстоятельство, что главный его помощник в Польше, то есть начальник русских войск Игельстрём, находится в более дружеских отношениях с петербургскими дипломатами и что этот человек не прочь подставить ему подножку, чтобы самому занять его место. Станислав Август также старался завязать с фаворитом отношения мимо нашего посла. Все это должно было значительно ослабить его влияние на ход событий.
Прежде чем покинуть Варшаву, Сиверс принял несколько мер, чтобы обеспечить по возможности спокойствие столицы на некоторое время. Брожение в варшавском обществе поддерживали преимущественно два элемента: агенты революционной Франции и участники 3 мая. После казни Людовика XVI Екатерина II издала указ, согласно которому французские корабли не допускались более в русские гавани и все французы, находившиеся в России, должны быть высланы. Могли остаться только те, которые присягой очистили себя от всякого сочувствия революционным принципам, а приезд в Россию был разрешен только лицам, имевшим на то особое разрешение русских посольств. Сиверс распространил действие этого указа на Польшу и велел арестовать некоторых французов. В числе арестованных был зубной врач польского короля и прежний секретарь французского посольства Бонно, который тайно продолжал играть роль политического агента. Его, по всей вероятности, выдал прежний его товарищ по этой части Обер, который теперь состоял на службе при русском посольстве. Когда полиция арестовала Бонно и начала просматривать его переписку, он обнаружил гордость настоящего республиканца. «Уважение к этому месту, — восклицал он. — Здесь заключаются бумаги, принадлежащие великой нации, которая отомстит вам за нападение на ее отечество!» Когда представили его Сиверсу, последний встретил его вопросом: «По какому праву осмелились вы вести преступную переписку с врагами моей государыни?» «По такому же праву, по какому вы меня опрашиваете», — отвечал Бонно. Сиверс вскоре доложил Екатерине, что, просматривая бумаги Бонно, он не раз приходил в ужас от его сообщений республиканскому правительству и от его якобинского образа мыслей, особенно по поводу казни Людовика XVI. Потому посланник не отдал его в руки варшавской полиции, а препроводил в Петербург. О тоне захваченной у него переписки можно судить по следующей фразе. В одном письме от Дюмурье говорилось: «Si la France est heureuse, la Pologne est sauvee». (Если Франция счастлива, Польша спасена. — С.Л.).
В то же время Сиверс потребовал от варшавской полиции, чтобы те польские эмигранты, которые осмелились снова появиться в Варшаве, не подписав отречения от Конституции 3 мая, были в течение 24-х часов высланы из города и отправлены на жительство в свои имения, а в случае неповиновения подвергнуты полному изгнанию. Такому же наказанию должны подвергнуться и те, которые, хотя и подписали свое отречение, но позволяют себе возмутительные речи в каких-либо собраниях. От генеральной конфедерации посланник потребовал декрета, запрещавшего ношение военного знака отличия, который был установлен польским королем во время последней войны с русскими. Сиверс постарался распространить подобные меры и за границей. Так как самое большое скопление польских эмигрантов находилось по соседству, в Саксонии, то он сделал представление правительству курфирста о том, чтобы учредить над ними строгий надзор, а в случае необходимости подвергать их аресту и конфисковывать их бумаги. Он рассчитывал при этом, о чем писал Зубову, что если курфирст и не исполнит его требований, то все равно эмигранты будут напуганы. В Вену, к русскому послу графу Разумовскому, он написал, чтобы тот настаивал на удалении королевского племянника Юзефа Понятовского как наиболее мятежного из польских патриотов и навлекшего на себя особое неудовольствие императрицы своим дерзким письмом к Щесному Потоцкому. Екатерина велела показать на его примере строгость и потребовать от конфедерации, чтобы наложили секвестр на его имения в Литве и Польше, что и было исполнено. Вместе с тем конфедерация издала декрет, согласно которому отменились все распоряжения, сделанные по войску в предыдущем году, когда главнокомандующим был Юзеф Понятовский. Станислав Август не замедлил обратиться к нашему послу с жалобами на несчастия своей фамилии и успел через него выхлопотать, чтобы староство Велюнское (в Самогитии) было оставлено в пожизненном пользовании матери Юзефа, урожденной княгини Кинской, которая жила у своих родственников в Богемии.
Покидая Варшаву, Сиверс поручил канцелярские дела служившему при посольстве надворному советнику Беккеру. К нему должны были доставлять все новости те агенты, которые состояли на русском жалованьи, то есть шпионы. Ему предписано было ежедневно или через день присылать в Гродно эстафеты, но предварительно сообщать свои донесения Игельстрёму. Последний оставался в столице, чтобы наблюдать за соблюдением спокойствия. Он обязался настаивать на непременном отъезде короля из Варшавы в назначенный срок, то есть 4 апреля (23 марта). Примечательно, что в Варшаве оставался Булгаков, и продолжал посылать от себя донесения в Петербург. По отъезду Сиверса он говорит в своей депеше следующее: «В бытность здесь посла все мое время было занято объяснением ему дел, так что теперь только могу приняться за свои домашние и путевые распоряжения».
8 (19) марта Сиверс отправился в Гродно. «Во вторник, около 4 часов пополудни, — пишет он своей младшей дочери, — я выехал из Варшавы, ехал всю ночь при лунном свете и по хорошей дороге, на следующий день переправился через Буг, покрытый плывущими льдинами, в час пополуночи достиг Белостока, где отдыхал несколько часов, а вчера (21 марта) прибыл сюда, в Гродно, при громе пушек, в добром здоровье, но очень утомленный. При выходе из коляски меня встретили начальники войск, расположенных в окрестностях, и много народу».
Сиверс остановился в доме королевской экономии, в том самом, который занимал граф Штакельберг во время сейма 1784 года. Сюда заранее отправлены были из Варшавы вина и другие припасы, необходимые для угощения членов предстоявшего сейма. Сиверс извещает Зубова, что ему недостает только портрета ее величества с соответствующим балдахином, которые и просил ему доставить. В одном из писем старшей дочери он так описывает свое помещение: «Это трехэтажный дом; низ занят хозяйственными принадлежностями, в главном этаже находятся мои комнаты и парадные залы, но они низкие. Третий этаж занят всякого рода чиновниками, в нем восемнадцать комнат, но их оказалось недостаточно, понадобилось еще несколько в другом доме, кроме флигеля с кухней, где также отведено три комнаты для караула, который состоит из роты солдат. До сих пор живу здесь уединенно, стол накрывается на 16 или 18 приборов, и еще другой — на 10 или на 12. Но на следующей Святой неделе мой дом откроется (для публики) балом и ужином. Будет 150 гостей, в том числе 45 дам и девиц».
«Вчера, в Великий Четверг, — продолжает он, — я был в церкви, в прежней иезуитской, и видел церемонию омовения ног, совершаемую епископом. Многого недоставало, чтобы эта церемония была такая же трогательная, какою я видал ее в Новгороде и Твери. Церковь очень красива, но много суетных украшений. Я сидел на стуле и читал некоторые молитвы по польской книжке, которую очень хорошо понимал. Но там я подхватил насморк. Вот уже три дня, как все здесь покрылось снегом, и он только сегодня утром начал таять. Варшавский климат заметно отличается от здешнего, можно подумать, что мы переехали на сто миль севернее».

Сиверс нашел коронную конфедерацию в состоянии анархии. Она была без руководителя, то есть без маршала. Когда не оставалось уже никакого сомнения в новом разделе Польши, и Щесны Потоцкий увидел в себе только слепое орудие екатерининской политики, он «почувствовал угрызения совести» и решился оградить себя от дальнейшего участия в этом деле. Он последовал примеру Браницкого. Императрица согласилась на его прибытие в Петербург и сообщала о том Сиверсу. Она отметила в письме последнему, что дальнейшее пребывание Потоцкого в Гродно уже бесполезно для русского дела, а для самого Потоцкого оно могло стать предосудительным. Но необходимо было еще победить сопротивление самой коронной конфедерации, которая не хотела отпустить своего маршала. Она уступила только решительному приказанию, присланному из Петербурга. Отъезд маршала, впрочем, облечен был в благовидные формы: он отправился в Петербург в качестве посла от генеральной конфедерации с весьма важными поручениями. Ему было предписано: во-первых, во время личных переговоров с ее величеством определить условия, которые могли бы упрочить союз двух наций; во-вторых, заявить, что генеральная конфедерация связана торжественною клятвой, сохранять целость владений республики, и потому в договор не может быть включено ничего такого, что бы нарушало эту клятву. Но подобные заявления, разумеется, не производили никакого действия в Петербурге; впрочем, Потоцкий был весьма ласково принят при дворе и получил много лестных, хотя и неопределенных обещаний. Примерно в то же время и великий маршал литовской конфедерации Александр Сапега по причине болезни также оставил Гродно и удалился в свои поместья, где вскоре и умер. Возник вопрос: кого поставить теперь во главе Тарговицы?
В среде коронной конфедерации оставался еще один из ее основателей — Жевуский. Но его непоследовательность, беспокойный нрав и ограниченность были хорошо известны, и нетрудно было предвидеть, что его пребывание в Гродно также не будет продолжительным. Внимание Екатерины остановилось на бывшем воеводе серадском Михаиле Валевском. Когда-то он принадлежал к Барской конфедерации, во время Четырехлетнего сейма был тайным сторонником России, а когда образовалась Тарговицкая конфедерация, Валевский снял с себя звание воеводы и выступил конфедератским маршалом Краковского воеводства. Когда Сиверс прибыл в Гродно, коронная конфедерация была занята решением вопроса о выборе маршала и члены ее никак не могли между собою примириться, хотя их количество не превышало 15 человек. Валевский отсутствовал и обещал приехать только в конце Святой недели. До прибытия его Сиверс после многих хлопот, уговорил выбрать временным маршалом Антония Пулавского. Больше уступчивости и покорности выказывала литовская конфедерация, душою которой были Масальский, епископ виленский, и Коссаковский, епископ ливонский; официальным ее главою после удаления Сапеги остался вице-маршал Забелло.
Каким способом поддерживалось усердие русских сторонников, видно из донесения Сиверса. При отъезде из Варшавы он дал коменданту столицы Ожаровскому 500 дукатов на месяц вперед и обещал давать по столько же на будущее время, если он того заслужит. Вице-маршалу Забелло дал 1000 дукатов с тем же обещанием. Столько же он предполагал дать епископу Коссаковскому и тому, кто будет избран маршалом коронной конфедерации. Кроме пенсий, русский посол должен был доставлять нашим сторонникам разные доходные должности и синекуры. Так, по его требованию король передал Ожаровскому начальство над своею пешею гвардией, которое принадлежало прежде Юзефу Понятовскому. Заболел епископ познаньский, и Сиверс поспешил предупредить короля, чтобы он устранил все притязания на это место, так как ее величество желает, чтобы коадьютором умирающего епископа назначен был один из родственников надворного маршала Рачинского. Чтобы поощрить епископа Коссаковского и «оживить умы, которые начинают падать» (как сообщается в депеше от 20 марта), Сиверс советует обеспечить ему 300 000 злотых в год из доходов Краковского епископства (конфискованных Четырехлетним сеймом). А беспокойного Жевуского он предлагает успокоить парою староств, которых тот добивается, кроме двух других, обещанных ему прежде.
Вопрос об отъезде короля из Варшавы все еще был на первом плане для русского посла. Мы видим его в деятельной переписке с королем и Игельстрёмом: первому он постоянно напоминает о его обещании выехать 4 апреля, а второго побуждает непременно настаивать на отъезде в данный срок. «Если король, — пишет он Игельстрёму, — начнет отговариваться болезнью или страхом пред варшавскою чернью, в таком случае поручаю вам именем императрицы, и, согласно с моим полномочием, сообщать ему на частной аудиенции, что он навлечет гнев ее величества на себя и на всю свою фамилию, что он не получит обещанных ему 20 000 дукатов, и не должен рассчитывать ни на какую дальнейшую поддержку. Мало того, доходы его будут остановлены, о проекте уплаты его долгов нечего и думать более, а дела республики будут приведены к окончанию в Гродно без его содействия».
«На случай страха перед бунтом вы можете его уверить, что не только полки генерала Ожаровского, но и войска, состоящие под вашим начальством, всего до 15 000 человек, могут быть поставлены под ружье, а на всех площадях выставлены пушки, и никто не посмеет сделать какое-либо движение. Для большего успокоения вы можете сообщить родным короля, что новые кавалерийские полки двинуты к Варшаве (для охраны его во время пути). Если король будет отговариваться болезнью, то я советую познакомиться с его лейб-медиком и вручить последнему подарок в размере 250 дукатов».
«Когда король пришлет к вам за чем-нибудь своего частного секретаря, то упомяните мимоходом, что 20 000 дукатов уже находятся у вас в руках, так как он не преминет сообщить о том королю и примасу. В случаях неважных надобно делать ему всевозможные уступки, ибо король очень дорожит мелочами. Прилагаю здесь вексель на банкира Мейснера, по нему он уплатит королю 10 000 дукатов. Этот вексель надобно при случае показать».
Игельстрём, со своей стороны, сообщал Сиверсу следующее: «Здесь, и во всех тех местах, где расположены мои отряды, все спокойно. Король готов к отъезду, и, наверное, четвертого или, по крайней мере, пятого числа отсюда выедет. Он отправится на собственных лошадях и будет проезжать только от трех до четырех миль в день. Он уже послал людей, чтобы приготовить ночлеги. Во всем этом меня заверяли секретарь Фризе, Кинский, министры и разные лица. Вследствие этих заверений я не мог отказать королю выдать 5000 дукатов, которые нужны ему на предварительные издержки для путешествия. Он обещал не присылать ко мне за деньгами, пока не выедет, но, я думаю, до тех пор придется еще выдать ему тысячи две дукатов. Г. Литльпаж, которого рекомендую вам с самой лучшей стороны, полностью принадлежит к нашей системе. Посредством своего влияния на короля он добился от него признания в том, что король, наверное, подпишет трактат о разделе. Тайну эту он доверил только ему одному, а в кругу своих родственников и друзей он постоянно твердит, что не подпишет трактат. Король придерживается мнения, что он должен быть заодно с нацией. А так как большинство голосов выражает нацию, то чести его не будет неприятно подписать то, чего хочет нация».
В том же письме к Сиверсу Игельстрём говорит о войсках, занимавших Гродно и его окрестности. «Весь Гродненский корпус находится в вашем распоряжении. Приказывайте, ваше превосходительство, все, что вы сочтете нужным и полезным. Я усердно прошу вас о том. Ваши приказания будут вместе и мои. Я и вы составляем одно целое. Еще до отъезда вашего я дал генералу Раутенфельду приказ, который он, конечно, сообщил генералу Дунину, чтобы приготовить кантонир-квартиры для всего Гродненского корпуса и все повеления вашего превосходительства исполнять самым точным образом. Гренадерам я велел выйти из Гродно и на их место перевел четыре роты егерей, чтобы полковой обоз, казначейство, лазарет и пр. не загромождали город. Ко времени сейма появится большая нужда в квартирах, и вы, благодетель мой, должны будете озаботиться помещением не только для господ, но и для их служителей. К этому времени пусть в городе останутся только солдаты, находящиеся под ружьем, и только в том числе, какое вы, мой благодетель, сочтете нужным. Относительно провианта, поверьте мне, что это только интриги Дунина, будто его нет на месте. Он всегда поступал так с Каховским, чтобы дать полкам повод к воровству, а теперь пробует то же со мной. Около Гродно собрано большое количество провианта, который уже весь принадлежит нашим магазинам, и надобно только его доставить».
Три дня спустя Игельстрём пишет опять Сиверсу: «Король поедет, и я имею честь послать вам его маршрут. Хочу отправить с ним моего дежурного подполковника. Он будет сопровождать короля до Гродно под предлогом отклонять от него все обременительные почести со стороны русских войск. Но моя главная цель — знать обо всем, что может случиться во время этого путешествия. Подполковник имеет приказание доносить и мне, и вашему превосходительству о каждом дне пути». Наконец, в назначенный срок, то есть 4 апреля (23 марта), Игельстрём уведомляет: «Сегодня в 11 часов утра король выехал. Все спокойно. Вице-канцлер Хрептович хочет ехать на днях, Мнишек послезавтра, канцлер Малаховский уверяет, что он поедет, но не определяет день. Рачинский поправился, но говорит, что он слишком еще слаб, чтобы выехать ранее 15 числа по новому стилю».
На следующий день Игельстрём продолжал свои сообщения: «Белинский не взял 500 дукатов, потому что этого слишком мало. Он клянется, что исполнен к нам рвения и готов сделать все, что желают, но долги препятствуют его отъезду. Если он необходим, как уверяют его друзья, надобно ему прибавить и пообещать награды на счет республики». Спустя несколько дней: «Я спрашивал Декаше (австрийского посла в Варшаве), говорил ли он такие слова, которые могут возбудить подозрение в том, что двор его расходится с нами и противится разделу. Он клялся мне, что никогда не говорил ничего подобного и что, напротив, он имеет повеление твердо держаться вместе с нами и ни в чем нам не мешать. Сегодня он получил от Тугута известие, что последний заменил в министерстве Кобенцеля и вместе с тем приказание ни в чем от нас не отделяться». Но эти заверения австрийского посла, как увидим впоследствии, были далеко не искренни.
С наступлением Светлой недели начались в Гродно пиры и увеселительные празднества. На второй день праздника русский посол давал бал, о котором он заранее извещал свою старшую дочь. «Было 44 дамы, — пишет он младшей дочери (Луизе Икскуль), — несколько старух, несколько помещиц, много красивых девиц и женщин. Они казались очень довольными, много танцевали и еще более удивлялись великолепию ужина на 50 приборов. После ужина бал продолжался, но около полуночи все разошлись. Я протанцевал несколько полонезов, и гости были так любезны, что нашли во мне хорошего танцора. Между прочим, была графиня Потоцкая, которая с чрезвычайною приятностью танцевала казачка, англезы шли плохо, а менуэт совсем не танцевали. В воскресенье я буду давать второй бал. Комнаты мои имеют тот недостаток, что очень низки, и потому очень жарки».
В воскресенье, 7 апреля, Сиверс продолжает: «Вообрази себе мои хлопоты. Вчера вечером я отправил трех курьеров, а сегодня утром — двух. В пятницу я давал обед на 50 приборов. К двум часам обед был уже готов, а господа эти только в 5 с половиной часов пришли из заседания. Представь себе, каково было мне ждать. У меня почти сделалась лихорадка, что, однако, не помешало мне отобедать у прусского министра и отправить своих курьеров. Сегодня большой обед у князя Масальского, виленского епископа, а вечером бал у меня для всего города. В эту минуту я растянулся на постели в своем шитом золотом платье, чтобы собраться с силами для предстоящего бала». Но главный интерес этого письма заключается в следующей приписке: «Нынешний день, моя дорогая Лизета, будет знаменит в летописях Польши, России и Пруссии. Сегодня будет объявлено новое разделение Польши: с русской стороны — в провинциях, занятых войсками Кречетникова, а с прусской — в той части Великой Польши, которую занимают войска Мёллендорфа. Так как ты любишь землеведение, то я хочу тебе прочесть лекцию. Возьми карту Польши и отыщи конец Курляндии, где ты найдешь городок Друю, оттуда иди прямо вниз и пальца на три в ширину найдешь Нарочь и немного вправо — Дуброву. Далее иди вдоль границы Минского воеводства до местечка Столпцы и потом до Несвижа, затем немного влево до Пинска. Отсюда на два твоих пальца длины, оставляя в правой стороне Острог, Кунов, равно и Заславль, иди немного вниз до Ямполя, а потом еще немного до Вышегородка и Новой Гребли, которая стоит на границе Галиции. Иди по маленькой речке вниз до Днестра, потом Днестром до Ягорлыка, где начинается новая граница России с Турцией. Все, что лежит справа, отходит к России и образует три новые губернии, исключая некоторые отрезанные куски, которые будут прибавлены к губерниям Полоцкой, Могилевской, Черниговской и Киевской».
«Обратимся теперь к другой стороне. Пруссия берет во владение, начиная от города Сольдау, направо от Торна в Старой Пруссии. Иди теперь вниз до места, называемого Вышгород, на Висле, веди пальцем вниз до Равы, потом отыщи пониже влево, подле Силезии, город Ченстохов, где находится чудотворный образ Богородицы. Все, что лежит слева от этой линии, отходит к Пруссии. Прилагаю также отпечатанную декларацию, которую я вместе с прусским послом в следующий вторник, 29 марта (9 апреля), передам генеральной конфедерации».
«Итак, вот тебе великая новость, ради которой я закончил свое уединение. Приобретение это представляет неизмеримые выгоды для России, потому что Киевская земля, Подолия и Волынь суть превосходные провинции, чрезвычайно плодородные и с очень мягким климатом».
III. Русско-прусская декларация о новом разделе. — Валевский. — Прибытие короля. — Издание универсалов
17 февраля произошел размен ратификаций между дворами петербургским и берлинским по январскому договору о разделе Польши. Недели две спустя Сиверс получил из Петербурга копию этого договора и декларацию, которую он 29 марта (9 апреля) должен был вместе со своим прусским товарищем Бухгольцем представить польскому правительству. Этой декларации предшествовало действительное занятие областей, присоединяемых к России. Последнее поручено было генерал-аншефу Кречетникову, которому предписано окончить занятое к 27 марта и обнародовать манифест к жителям вновь присоединенных провинций, приглашая их принести присягу на верность российской императрице. Подобный же манифест в тот же день генерал Мёллендорф должен был обнародовать в провинциях, отходивших к Пруссии.
Следовательно, время рассчитано таким образом, чтобы на третий день после обнародования манифестов подана была названная выше русско-прусская декларация. Вот ее содержание:
«Тарговицкая конфедерация, долженствовавшая восстановить порядок и спокойствие в республике, только с помощью войск ее императорского величества могла проложить дорогу к водворению своей законной власти. Виновники революции 3 мая и их приверженцы уступили только силе оружия, но после того они предались тайным козням. Потерпев неудачу у соседних кабинетов, они начали настраивать народ против русских, внушать к ним ненависть и даже угрожать им Сицилийскою вечерней. Императрица в течение 30 лет привыкла бороться с постоянными неустройствами республики и уповает на средства, вверенные ей Провидением, чтобы обуздывать злонамеренных. Она продолжала бы и теперь употреблять бескорыстные усилия против всех этих козней, если бы не обстоятельства, возвещающие о подстерегающих опасностях. Непонятное заблуждение нации (французской), некогда столь цветущей, теперь униженной, раздираемой и находящейся на краю пропасти, это заблуждение, вместо того, чтобы послужить примером ужаса для беспокойных (польских) умов, напротив, показалось им предметом, достойным подражания. Они стараются водворить в республике те же адские учения, которые безбожная, нечестивая и безумная секта изобрела для разрушения всех начал религиозных, гражданских и политических. В столице и во многих провинциях Польши уже образовались клубы, которые вступили в братство с парижскими якобинцами. Они распространяют свой яд тайком и сеют брожение в умах. Столь опасный очаг, естественно, вызвал внимание соседних держав, они сообща обсудили средства, как задушить зло в самом зародыше и предохранить от заразы собственной границы. Ее величество императрица Всероссийская и его величество король Прусский по соглашению с его величеством императором Римским признали самою действительною мерой заключить Польскую республику в более тесные границы, чтобы дать ей возможность иметь мудрое и хорошо устроенное правительство, которое было бы в состоянии ликвидировать беспорядки и партии, часто нарушавшие спокойствие республики и ее соседей. Итак, русская императрица и прусский король берут в свое владение часть польских провинций и приглашают польскую нацию созвать сейм, чтобы принять меры, необходимые для обеспечения прочного мира в республике.
Вместе с этою декларацией вице-канцлер препроводил Сиверсу следующие наставления: «Вы сами решите, по согласию с Бухгольцем, подавать ли ее в одном экземпляре с общею подписью, или раздельно, но с тем, чтобы содержание ее было одинаково и подача одновременна. Также на ваше усмотрение, подать ли ее прямо генеральной конфедерации, или посредством министерства, то есть канцлеров коронного и литовского. Также, если сочтете полезным, предупредите доверенные лица (из членов конфедерации), чтобы они помогли успокоить первые взрывы. Хотя это событие давно ожидаемое, однако, первое впечатление будет сильно и живо.
Крайние меры не страшны, но одна из них может произвести неприятное замедление: это внезапный роспуск конфедерации, сопровождаемый какими-либо формальностями и разъездом ее членов. Вы воспрепятствуете тому всеми вашими средствами, предупредите, что подобная мера не может быть допущена, пока не будет исполнено требование, заключающееся в конце декларации и относящееся к сознанию сейма. Заставив их остаться, вы потом, вместе с Бухгольцем, постарайтесь убедить их, чтобы они добровольно уступили закону необходимости. Вы по очереди представите им надежды, опасения и действительность. А именно: во-первых, вы будете обещать правительство твердое и независимое, устроенное по их вкусу и выбору, выгодную торговлю с соседями, а также поддержку на случай покушений извне. Во-вторых, вы пригрозите им продолжением смут, секвестрами, конфискациями, разорением их имуществ и, может быть, уничтожением Польши, то есть разделом ее между соседями. В-третьих, обещайте должности и староства, которые могут льстить их самолюбию или возбуждать их жадность, сопровождая эти обещания некоторыми подарками. Первою и ближайшею вашей целью будет издание универсалов в форме, употребляемой для созвания сейма чрезвычайного. Начало его должно быть назначено на первые числа мая. На сеймиках предсеймовых вы используете все свое влияние, чтобы выбор пал на людей, к нам расположенных. Разумеется, ни универсалов, ни выборов не должно быть в провинциях, к нам отходящих. Из смешанных подданных выбирать преимущественно тех, у которых окажутся значительные имения в наших пределах». Инструкция несколько раз повторяет, чтобы Сиверс во всем действовал согласно с Бухгольцем и с командующими генералами.
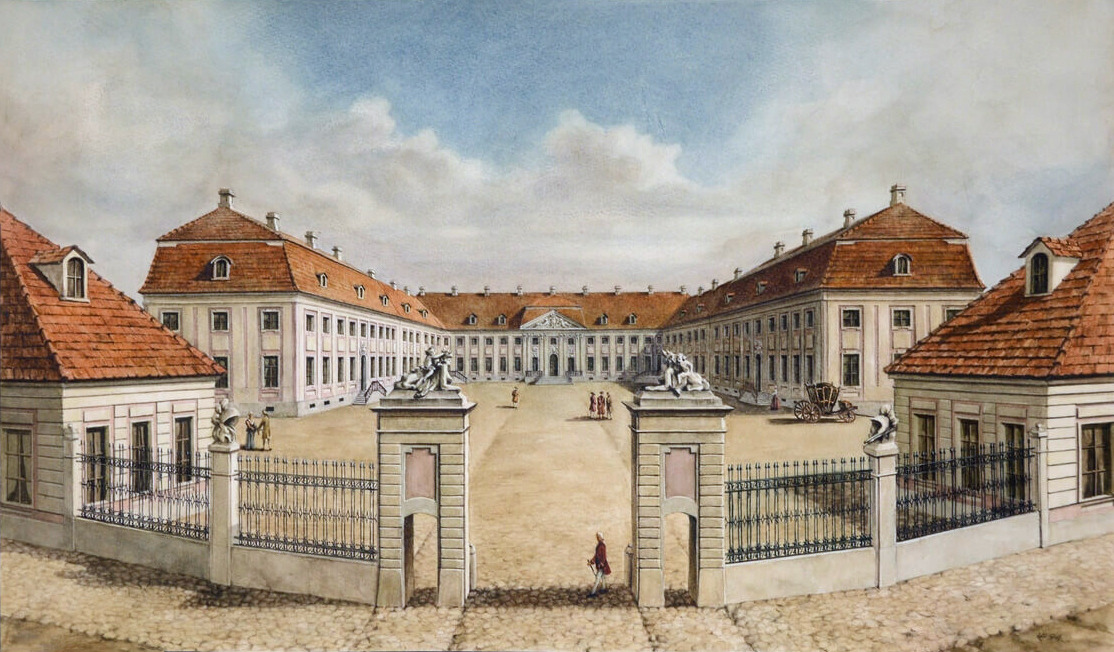
После получения этих наставлений русский посол принял все меры, чтобы предупредить какой-нибудь неожиданный взрыв со стороны поляков. Гродно и его окрестности оберегались сильными военными отрядами, которые имели приказание никого не пропускать из города без особого паспорта. Кроме войск Кречетникова, занявших важнейшие пункты во вновь присоединенных провинциях, князь Репнин придвинул к северным границам Литвы, находившиеся в его распоряжении полки, чтобы по первому требованию Сиверса направить их, куда он укажет. Подобные военные меры приняты были пруссаками относительно Великой Польши. Имея целью подготовить умы к предстоявшему удару, Сиверс, согласно петербургским инструкциям, за несколько дней до подачи декларации сообщил о ней тем вождям Тарговицы, на приверженность которых он рассчитывал, а именно: двум братьям Коссаковским, воеводе виленскому князю Радзивиллу и Валевскому. Последний только что прибыл в Гродно, чтобы вступить в должность вице-маршала в коронном отделе конфедерации.
В назначенный день, то есть 29 марта (9 апреля), Сиверс и Бухгольц подали общую декларацию с приложением от каждого из них особой ноты. Несмотря на то, что главные члены Тарговицы были предупреждены, впечатление было довольно сильным. На собрании поднялся шум, многие кричали, что ни за что не подпишут ни договор о разделе, ни универсалы о созыве сейма, потому что, приступая к Тарговицкой конфедерации, они присягали никогда не соглашаться на новый раздел. К русскому послу отправлены депутатами оба вице-маршала: Валевский и Коссаковский (родственник епископа, за отсутствием Забелло, временно занимавший его место в литовском отделе). Они объявили, что генеральная конфедерация как прежде, так и теперь питает единственную надежду на великодушие ее императорского величества, просили позволения послать нарочного в Петербург к своему маршалу, графу Потоцкому, и убеждали не торопить их ответом до прибытия короля и министров, за которыми пошлют курьеров. Депутаты эти имели приказ явиться только к русскому послу, но никак не к прусскому. Сиверс отвечал уверениями в великодушии императрицы и советовал конфедерации сохранять осторожность во всем, что она будет постановлять и обнародовать. Потом посол взял карту и провел по ней черту новой границы между Польшей и Россией. Затем он сказал о счастье, которое ожидает новых подданных ее величества, о будущем процветании их торговли при лучших сообщениях между Балтийским и Черным морями, чем воспользуются и жители Речи Посполитой, о юстиции, о службе и карьере для мелких и крупных дворян. А в ожидании всех этих благ он предлагал им заняться универсалами, сеймиками, подготовкой материалов для сейма и пересмотра конституции. Депутаты просили показать им на карте новые границы с Пруссией. Сиверс исполнил их желание. На их лицах выразилось сильное волнение, особенно казался удивленным Валевский, прежнее воеводство которого (Серадзское) отходило к ненавистным пруссакам.
Вскоре после ухода депутатов явился к Сиверсу епископ Коссаковский и просил выразить свою благодарность ее величеству за пожалованную ему часть краковских доходов. Но главною целью его посещения был, конечно, вопрос о сейме. Он утверждал то, что говорили его товарищи: конфедерация не может издать универсалов о созыве сейма, потому что связана торжественною присягой не допускать ни малейшего ущерба в границах республики. Умный, ловкий епископ предложил обойти это затруднение следующим образом. В основном акте Тарговицкой конфедерации было заявлено решение восстановить в Речи Посполитой тот порядок, который был ниспровергнут конституцией 3 мая.
Прежде всего, нужно восстановить постоянный совет (Rada Nieustająca), назначив в его состав людей самых верных и преданных. Этот совет вместе с королем издаст универсалы, новый сейм свяжется в новую конфедерацию, а Тарговицкая будет распущена. После многих рассуждений по этому поводу Сиверс сказал епископу, что он подумает над этим вопросом. Поразмыслив хорошенько и взвесив все обстоятельства, он не мог придумать ничего более удобного, принял план Коссаковского и сообщил о нем своему двору.
В тот же день, когда была подана декларация, Сиверс отправил копию с нее и манифест 27 марта в Белосток к королю, те же документы он препроводил и в Варшаву великому канцлеру. Для русского посланника, писал он Станиславу Августу, было очень прискорбно осознать, что печальные предчувствия его величества о судьбе Польши оправдались. Тем не менее, единственное, что оставалось королю, это безусловная преданность воле императрицы. Сиверс выказывает надежду, что король отдохнет день или два в Белостоке и поспешит приехать в Гродно. Он прибавлял, что сам хотел предпринять путешествие в Белосток, чтобы лично сообщить королю о случившемся, но воспользовался присутствием в Гродно кавалера Литльпажа и поручил ему отвезти документы.
Получив это письмо, Станислав Август вместо того, чтобы ускорить путешествие, напротив, начал двигаться еще медленнее. Все сопротивление его новому разделу Польши имело пассивный характер. Он писал Сиверсу жалобные письма, оттягивал свой приезд и, по меткому замечанию Блума, напоминал жертвенное животное, влекомое к алтарю на заклание и беспрерывно упиравшееся. Но у русского посла был магнит, который притягивал к себе короля — обещанные ему субсидии. За королем следовала большая свита, и он почти не имел средств содержать ее. А между тем тотчас после изготовления универсалов ему обещали дать 10 000 дукатов и потом в продолжение сейма уплатить вдвое больше, если он будет вести себя хорошо, то есть повиноваться во всем русскому послу. Все эти суммы могли только покрывать текущие расходы, и над бедным королем продолжали тяготеть его долги. Единственным выходом из такого положения, то есть возможностью пользоваться новым кредитом и делать новые долги, представлялась ему комиссия погашения, которую русский посол обещал устроить с позволения императрицы.
Примерно в то же время Сиверс простудился, по этой причине он не мог лично отправиться в Белосток на встречу с королем, о чем заранее было условлено между ними. А между тем король не двигался далее, на приглашение подписать декрет о восстановлении постоянного совета и универсалы о созыве сеймиков Станислав Август отвечал, что это может сделать только генеральная конфедерация, которая теперь совмещает в себе все правительство. В Белостоке, конечно, уже получили сведения о том, что русский посол встретил неожиданное сопротивление со стороны самой генеральной конфедерации в лице только что выбранного по его указанию вице-маршала Валевского. Последний не оправдал возложенных на него надежд: после декларации от 29 марта он вдруг стал горячим патриотом и на заседаниях конфедерации протестовал против нового раздела Польши. Хотя его поддерживали некоторые из товарищей и гораздо более многочисленный литовский отдел, руководимый епископом Коссаковским, готов был дать положительный ответ на русско-прусскую декларацию, но ответ этот не мог состояться без согласования с коронным отделом и без подписи его вице-маршала.
Напрасно Сиверс несколько раз пытался уговорить Валевского. Вице-маршал не только не уступал, но и подал лично от себя письменный протест. Тогда Сиверс прибег к мерам устрашения и объявил следующее: 1) он хотел уже для облегчения жителей удалить из окрестностей Гродно русские войска, но теперь оставляет их до тех пор, пока не будут выданы универсалы о сейме; 2) он посоветовал Игельстрёму не производить оплату воеводствам провианта также до того времени, пока не появятся универсалы; 3) он велел задерживать суда, идущие вниз по Висле и Неману, чтобы русская армия не нуждалась в припасах, если бесполезные замедления заставят держать ее в Польше долгое время, и 4) он отдаст приказ обезоружить польские войска, находящиеся в русском кордоне. Меры эти произвели надлежащее действие. Конфедерация вместо пассивного ожидания короля решила послать к нему депутатов с просьбой поспешить в Гродно и не оставить ее своими советами. Депутация состояла из четырех лиц: во-первых, епископ Коссаковский, вполне нам преданный, потом подскарбий Дзеконский, друг короля и человек двусмысленный в деле политики (portant le manteau sur les deux epaules, как выразился о нем Сиверс); два члена депутации, князь Четвертинский и Пясковский, являлись нашими противниками. Русский посол отправил к королю курьера с письмом, в котором предупреждал его о депутации, рекомендовал Коссаковского как человека, лучше других понимающего обстоятельства, и советовал не обращать внимания на слова трех остальных депутатов. Все это, конечно, сопровождалось убеждениями ускорить свой приезд в Гродно, а в перспективе рассматривался вопрос о погашении королевских долгов.
Между тем Валевский не уступал и прислал Сиверсу перевод на французский язык своей протестации. Тот назначил ему встречу в присутствии Анквича, Юзефовича и Забелло. Разговор продолжался полтора часа, но ни постой войск, обременяющий жителей, ни задержка платежей за съестные припасы, ни остановка судов на Немане и Висле — ничто не тронуло Валевского. Когда же посол объявил, что накануне вечером он послал курьера к генералу Кречетникову с приглашением секвестровать имения Валевского, как нарушителя общественного спокойствия, глаза последнего наполнились слезами. Окончательным ударом для него было сообщение о том, что пруссаки готовятся занять воеводства Краковское и Сендомирское, если польские войска не перестанут завязывать дело с их пикетами. В этих воеводствах у Валевского были земли. Он попросил дать ему срок два или три дня, то есть до прибытия короля и министров. Сиверс возразил, что ни король, ни министры не имеют с ним ничего общего в этом деле, и затем спросил, допустит ли он голосование. Валевский отвечал отрицательно. А подпишет ли он, как вице-маршал, если это сделают против его воли? И снова отрицание. Тогда посол прекратил разговор, дав срок Валевскому подумать до завтра.
Переговорив после с некоторыми преданными лицами, Сиверс отправил к Валевскому два вопроса, изложив их на бумаге, требуя письменного ответа. Так как ответ опять был отрицательный и примеру Валевского последовал Жевуский, который тоже выступил с протестацией, то Сиверс поспешил подать конфедерации грозную ноту от 9 (20) апреля. Он предупреждал, что впредь имения тех членов, которые позволят себе выдавать протесты, будут подвергаемы секвестру, и требовал, чтобы маршальский жезл был отнят у Валевского и передан его предшественнику (то есть Пулавскому). В то же время русский посол подал другую ноту с требованием секвестровать имения эмигрантов, чтобы отнять у них средства поддерживать интриги и составлять заговоры в Лейпциге, Вене и Париже.

В этот день на заседании конфедерации разгорелись споры по вопросу о восстановлении постоянного совета, которому особенно противился Валевский. Ноты, поданные русским посланником, усилили раздор еще больше. Тогда весь литовский отдел и пять членов коронного с прежним вице-маршалом Пулавским вышли, оставив Валевского с одиннадцатью противниками, и отправились в монастырь экс-иезуитов, где открыли отдельное заседание. На заседании следующего дня прозвучал приговор о восстановлении постоянного совета и о замене его отсутствовавших и умерших членов новыми. Валевский удалился из Гродно, впоследствии он, однако, принес присягу на русское подданство, и тогда Сиверс велел снять секвестр с его имений.
Между тем король все еще находился в Белостоке. Четыре депутата, направленные к нему генеральною конфедерацией, возвратились с ответом, что он приедет 21 апреля. Вслед за ними явились коронный конюший Кицкий и секретарь Фризе с поручением осмотреть, все ли готово в гродненском замке для принятия его величества. Фризе вручил Сиверсу королевское послание. Станислав Август писал, что хотя он и обещал прибыть в Гродно 21 числа, но чем более он обдумывает этот вопрос, тем больше колеблется. В заключение король просит уведомить, не считает ли русский посол приемлемым вариантом, чтобы он оставался пока в Белостоке, так как это обстоятельство нисколько не помешает восстановлению постоянного совета. Сиверс отвечал на это длинным письмом (6 (17) апреля), в котором применил все средства побудить короля к неотлагательному прибытию в Гродно. Он соглашался даже, чтобы король приехал только для открытия заседаний постоянного совета и для подписи универсалов, после чего он опять может направиться в Белосток и остаться там до созвания сейма.
Кицкий и Фризе, со своей стороны, придумывали разные способы, чтобы предоставить королю благовидный предлог для дальнейшей отсрочки. Они объявили, что в замке нужно еще многое привести в порядок для принятая его величества, что его спальня только накануне выкрашена, что дороги все еще дурны от весенней распутицы и т. п. Наконец, послу сообщили, что из 20 000 дукатов, полученных королем на путешествие в Гродно, у него оставалась только одна тысяча. «Тем лучше, — отвечал Сиверс, — это сделает его более уступчивым».
Все эти проволочки и множество мелких неприятностей, причиняемых русскому послу, начали выводить его из терпения. Вот что писал он своей младшей дочери 7 (18) апреля: «В самом деле, моя милая, ты правильно думаешь, что Гродно для меня еще хуже, чем Варшава. У этих поляков существует невероятная смесь пороков и добродетелей. Одни прячутся, а другие нагло выступают вперед, и именно с последними мне приходится иметь дело». Говоря о своем нездоровье, он прибавляет: «Обещаю беречь себя для вас. Но как скоро приходится мне бороться против укоренившихся здесь зол, особенно против слабого, несчастного короля, то я легко разгорячаюсь. Не далее, как сегодня вечером, имел я продолжительный разговор с одним епископом и тремя членами конфедерации. Они очень просили об одном предмете, и чтобы тронуть меня, сказали: „Вы сами отец, можете ли вы нам отказать?“ „Да, — отвечал я, — я отец, но добрых, умных детей, и делаю то, чего они желают. Но вы исполнены интриг и козней и думаете, что нет другой дороги для достижения цели. Чтобы исправить вас, я должен быть непреклонен. Может быть, я кажусь вам жестоким, но я справедлив“. Все эти дни они мне сильно досаждали».
Наконец, использовав все предлоги для отсрочки своего путешествия, 10 (21) апреля, в воскресенье, отслушав обедню, король выехал со своим двором из Белостока. На следующий день, между 2 и 3 часами пополудни, он достиг Гродно. Командующий расположенными здесь русскими войсками генерал-поручик Дунин с генералом Раутенфельдом и офицерами своего штаба встретил короля на левом берегу Немана. Полки, стоявшие в параде, отдали королю все военные почести, артиллерия произвела 51 залп! Король переправился через Неман и прибыл в замок, где его ожидали генеральная конфедерация, министры, сенаторы и многие дамы. Магистрат и еврейская синагога встретили короля еще за городом. Русский посол не участвовал в этой встрече, потому что у него была лихорадка и кашель.
Не все министры последовали за королем в Гродно. Канцлер Малаховский, дотоле верный сторонник России, отказался от участия в последнем акте драмы под предлогом болезни. Отказался от своей должности надворный маршал Рачинский. Это обстоятельство причинило немало забот русскому посланнику. Тщетно он уговаривал их остаться при своих должностях и посылал к ним общего их друга Бокампа. Переговоры не привели почти ни к чему. Малаховский уклонился от дальнейшей политической деятельности, а Рачинский, который на самом деле был серьезно болен подагрой, согласился присутствовать в Гродно, чтобы помогать Сиверсу своими советами. Когда решен был вопрос об отставке этих министров, Сиверс послал курьера в Варшаву к Ожаровскому и Мошинскому с приглашением немедленно прибыть в Гродно. Рачинский, Ожаровский и Мошинский должны были составить его тайный совет по делам короны, а епископ Коссаковский и вице-маршал Забелло — по делам Литвы.

После удаления Браницкого и Щесного Потоцкого со сцены действия в Гродно оставался третий основатель Тарговицы — беспокойный Северин Жевуский. Он не переставал протестовать против нового раздела Польши и в качестве польного гетмана рассылал начальникам польских отрядов и гарнизонов приказы готовиться к отчаянной обороне против пруссаков. Игельстрём часто извещал Сиверса о беспокойствах, которые причиняли ему эти приказы. Очевидно, Жевуский по примеру двух вышеназванных товарищей хотел отстраниться от вопроса нового раздела, но отступление свое старался сделать с шумом и со славой горячего патриота. А между тем Сиверс должен был беречь его, потому что императрица взяла под свое особое покровительство начальников Тарговицкой конфедерации. Относительно Жевуского она предписывает самый снисходительный образ действия. «Если Жевуский, — говорится в рескрипте от 22 марта, — не считает удобным сохранить свое место в конфедерации при настоящих обстоятельствах, вы не только облегчите ему средства удалиться, но я сочту удовольствием утешить его всем, что не противоречит принятой мною системе». Однако горячность Жевуского увлекла его в открытую оппозицию по отношению к союзным дворам и грозила им многими затруднениями. Вслед за Валевским он, как известно, тоже выступил с протестом, который предложил внести в акты конфедерации и потом напечатал. Там говорилось, что прежде он благословлял имя русской императрицы и в ее покровительстве видел надежную защиту Польши против всякого врага, но декларация от 9 апреля повергла его в отчаяние. Он торжественно протестует против нее, согласно присяге, в силу которой каждый член конфедерации не может согласиться ни на какое уменьшение границ Речи Посполитой. В упомянутой выше ноте от 20 апреля Сиверс пригрозил наложить секвестр и на имение Жевуского. Но императрица и после того осталась верна своей политике беречь вождей Тарговицы и продолжала предписывать своему послу величайшую умеренность. Она поручает оставить Жевускому полную свободу действий и не мешать, «если он постарается умыть руки в предстоящем событии всеми средствами, которые представляют ему обычаи и законы его страны». Дело закончилось тем, что Жевуский решил уехать из Гродно, но по просьбе Игельстрёма, все еще опасавшегося новых хлопот с этим оригиналом, Сиверс предложил ему не поселяться в Варшаве, а также не появляться на предстоящем сейме. Из посольского донесения от 10 мая мы видим, что он все еще проживал в Гродно и что он был вне себя от досады, получив известие о сдаче Каменца. Коменданту этой крепости Злотницкому Жевуский послал приказ защищаться до последнего, а Злотницкий сдал ее русским без выстрела.

16 (27) апреля последовала, наконец, ответная нота на русско-прусскую декларацию. Оба вице-маршала, Пулавский и Забелло, от имени генеральной конфедерации объявляли, что она не имеет средств противиться решению двух союзных держав. Связанная торжественною присягой хранить целость Речи Посполитой, она отстраняется от всякого участия в разделе Польши и призывает членов постоянного совета, который еще не отдал отчета в своем прежнем управлении. Она назначает новых членов на место умерших или законным образом исключенных из совета. Этому учреждению возвращаются все его полномочия, чтобы удовлетворить нужды Речи Посполитой. Хотя давно ожидаемый ответ конфедерации появился и не совсем в том виде, в каком он был продиктован русским послом, однако, по его собственному выражению (в письме к Зубову от 16 апреля), «надобно было несколько уступить их справедливой скорби».
Таким образом, было восстановлено учреждение, созданное в 1775 г., повлекшее общую ненависть поляков и устраненное незадолго до революции 3 мая. При выборе новых членов постоянного совета Сиверс, как он выражается в своей депеше, «следовал строгому правилу не назначать никого из лиц, окружающих короля».
Первым актом постоянного совета было издание универсала о созвании сеймиков предсеймовых. В этом универсале предполагаются известными настоящие обстоятельства Речи Посполитой. В таких критических обстоятельствах постоянный совет, возобновленный в силу конституции 1775 года, не нашел ничего лучшего, как предложить королю созвание чрезвычайного сейма. Поэтому шляхетство приглашается к 27 мая (по новому стилю) собраться по воеводствам и поветам на сеймиках для выбора сеймовых послов и для снабжения их надлежащими инструкциями. Днем открытия сейма назначается 17 июня, а местом его проведения — город Гродно.
Судьбе угодно было, чтобы день подписи универсалов пришелся в годовщину 3 мая. Такое совпадение вызвало у короля слезы. Эти слезы, замечает Сиверс, «служат очевидным доказательством, что он еще не избавился от своих заблуждений и что мне предстоит еще много труда излечить его от них». 23 апреля (4 мая) вице-канцлер литовский Хрептович начал прикладывать печати к универсалам. За ним была очередь канцлера коронного. После отставки Малаховского Сиверс предлагал коронную печать четырем лицам, в том числе своему приятелю графу Мошинскому, но все они отказались. Тогда он отдал ее воеводе калишскому князю Сулковскому. Хотя все имения его, обремененные долгами, находились по новому разделу в пределах Пруссии, но он был известен своею преданностью России. Этот человек не отличался ни положением своим, ни способностями, но издание универсалов не позволяло откладывать назначение канцлера. Между тем под рукою не оказалось никого более подходящего.
В одном из последующих своих донесений русский посол передает интересный разговор с королем по поводу его желания отречься от короны. «В прошлое воскресенье, — пишет он, — я обедал у короля за небольшим круглым столом в девять приборов. После обеда он позвал меня в кабинет и, поговорив о многих незначительных предметах, перешел к своему несносному бремени, то есть к долгам, а потом к оценке своего положения в глазах польского народа, Европы и потомства. В заключение он изъявил решительное желание иметь столько свободы, чтобы отречься от короны. Он говорил горячо, довольно откровенно, со слезами на глазах, желал только погашения своих долгов, жестоко его тяготивших, и небольшой пожизненной пенсии. По его словам, нашлось бы довольно много людей, которые охотно примут корову из рук вашего императорского величества. Наконец, он просил меня написать о том вашему величеству или позволить, чтобы он сам написал. Я уверял его, что ваше величество не желает его отречения, о чем довольно ясно дали ему понять в вашем первом столь благосклонном письме. Он сказал, что вполне это ценит и что если не возьмет короны великий князь Константин, который один только мог бы осчастливить Польшу, то нашлись бы другие, которые охотно примут этот подарок. Он тотчас назвал графа Потоцкого с видом презрения и ненависти, я отвечал отрицательно, потом упомянул принца Виртембергского, далее графа Артуа, прибавив, что они не сделают Польшу счастливою. «А саксонский курфирст, — спросил я с некоторым лукавством, — разве он не примет короны при настоящем положении Польши? — Нет, было его ответом, — он принял бы ее с готовностью. — Но у него нет сына. — О! У него есть дочь, которую он любит и которая будет очень богата. — Я полагаю, — отвечал я с серьезным выражением лица, — что этот государь не приобрел расположения ее императорского величества.
Он казался озадаченным, немного помолчал, и потом повторил, что ему остается только одно — отречение, если бы не несчастные долги! Я отвечал, что, без сомнения, их можно погасить при помощи больших жертв и лишений с его стороны. — Вы возьмете у меня мои столовые имения? — Да, государь, вы пожертвуете ими, ведь они приносят вам только половину своего дохода. — Что же вы мне оставите? — Пять миллионов, может быть, и шесть; из них половина пойдет на уплату ваших долгов. Могли ли бы вы, ваше величество, жить в уединении на полтора миллиона?
Лицо его мгновенно прояснилось. — Да это 80 000 червонцев! Так много не нужно даже в Риме или в Неаполе. Ах! — прибавил он по-немецки, с видимым волнением простирая ко мне руки, — если бы вы могли это сделать, мой любезный посланник! Отправимся в Италию. Там будем мы счастливы, и все забудем».
«Он был очень взволнован, я также немного, ибо это все-таки король. Он встал, и, казалось, хотел меня обнять. Но я охладил несколько его порыв, напомнив начало нашего разговора. Он повторил свою просьбу, чтобы я написал. Я отвечал, что если б и сделал это, то понапрасну».

«Из всего этого разговора я сделал заключение, что между ним и курфирстом саксонским произошло какое-нибудь соглашение с помощью эмигрантов, которым тот покровительствует, что ему обещано кое-что на остальное время жизни, если он отречется, и если курфирсту будет обеспечена польская корона».
IV. Сеймики предсеймовые. — Посольские выборы. — Проект польской конституции и виды императрицы. — Коссаковские и сохранение Тарговицы
Наступило время самой хлопотливой работы: это сеймики предсеймовые. Руководить польскими сеймиками было нелегкою задачей для русского посланника. Какая система выработалась в таких случаях, показывает письмо Игельстрёма, написанное примерно в то время к Сиверсу. «Во время Радомской конфедерации (1767 года), — говорит он, — я имел поручение от князя Репнина руководить сеймиками в Краковском воеводстве и постараюсь изобразить вам тот образ действия, которого придерживался. Маршалом конфедерации (Краковской) был граф Велепольский, принадлежавший русской партии, но князь думал, что этого недостаточно, и возложил решение вопроса сеймиков на меня и на графа Понинского. Мы были так тесно связаны друг с другом, что наши действия и наши слова находились в полном соответствии. Он за свои труды получил подарок в 500 дукатов, о чем я не должен был знать, однако, знал очень хорошо. Я получил 1000 дукатов, но обязан был дать о них точный отчет, и имел на случай нужды позволение, даже приказ, покупать голоса по указанию графа Понинского. Голоса эти принадлежали не вельможам, а мелкой шляхте, которая составляет большинство, следовательно, имеет преимущество на сеймиках, и она торгует своими голосами. Их покупают за 10, 15 и самые дорогие — за 30 дукатов. Bсе мои расходы на сеймиках в Прошовицах и Освенциме составляли, если не ошибаюсь, до 200 или 300 дукатов, не считая личных издержек. Мне также был дан тайный приказ осуществлять тщательный надзор за Велепольским и Понинским, хотя они считались в числе наших, но для того, чтобы не изменили в то самое время, когда уже поздно было бы поставить кого-нибудь другого на их место. Мне также поручено было заботиться о следующих пунктах: 1) чтобы на сейм избраны были те лица, имена которых находились в списках, сообщенных им посланником; 2) чтобы инструкции их были те же самые, какие составлены посланником и разосланы им на сеймики; 3) чтобы в маршалы сеймика выбирался маршал конфедерации; 4) инструкция послам, прежде ее подписи, должна быть мне прочитана; 5) при открытии сеймика обыкновенно читаются разные послания (от короля, от нунция и епископа, от воеводы, от гетмана и пр.), но князь Репнин предписал мне, чтобы читались только его письма и королевские, а все другие присуждались бы к вечному забвению посредством „nie masz zgody“. Оба уполномоченных вашего превосходительства (то есть маршал конфедерации и русский офицер) должны взять под надзор местный гродский суд и строго наблюдать, чтобы никакая протестация не была записана в суд без их согласия. Вот, по моему мнению, материал для инструкций, который вашему превосходительству угодно будет сообщить уполномоченным с прибавлением, чтобы в случае необходимости пускали в ход силу убеждения и щедрую раздачу дукатов, то есть, чтобы действовали при помощи страха, преданности или корыстолюбия. Денежные суммы штаб-офицерам для необходимых издержек, ваше превосходительство, назначьте сами, но менее 200 дукатов нельзя им давать на самые малые сеймики. Доля маршалов и президентов должна быть определена или по степени влияния, которым они пользуются, или по степени их жадности, впрочем, не менее 500 дукатов. Если есть такие, которые рассчитывают на получение староств или должностей, то они могут обойтись и без русских денег».

Сиверс действительно усвоил ту же систему. Но для успеха дела прежде всего нужно было золото, а в донесениях его мы продолжаем встречать постоянные жалобы на недостаток денег. В письме к Зубову от 29 апреля (10 мая) он говорит, что «председательствующие на сеймиках должны давать есть и пить избирателям. Прошло то время, когда склоняли на свою сторону вельмож и другие значительные лица надеждою на староства и прочие бенефиции. Времена так изменились, что четыре лица отказались принять место великого канцлера, и только пятый пожелал его взять, но он ничем не владеет в Польше и, следовательно, не будет иметь никакого влияния на выборы послов. А покупать голоса после выборов стоило бы гораздо дороже. Прусский посланник под великим секретом сообщает мне половину расходов».
Несмотря на задержки со стороны Петербурга, приготовления к сейму шли безостановочно. В устройстве коронных сеймиков Сиверсу помогали Рачинский, Ожаровский и Мошинский, а относительно литовских — епископ Коссаковский со своими братьями, воевода виленский Радзивилл, подскарбий Огинский и епископ виленский Масальский. Кроме выдачи денег, решено было, чтобы в коронных областях каждого президента сеймика поддерживал русский штаб-офицер с небольшим отрядом войска, а для Литовского Великого Княжества эта мера была признана излишнею. Главный надзор за коронными сеймиками принял на себя считавшийся опытным в подобном деле Игельстрём. Хотя подкупы и были самым действенным средством для достижения цели на выборах, однако русский посланник счел нужным подкрепить их и другими мерами. По его настоянию генеральная конфедерация выдала еще два постановления. Во-первых, кто не отрекся от конституционного сейма, не вступил в Тарговицкую конфедерацию, стал членом городского сословия, участвовал в депутации, выказывавшей благодарность за конституцию 3 мая, тот лишается права быть избирателем или избираемым. Вторым постановлением этого права лишались те, кто после своего вступления в Тарговицкую конфедерацию осмелились выказать протест против каких-либо ее решений. На основании таких постановлений можно было исключить из сейма практически каждого подозрительного посла.
Сиверс надеялся, что сдача Каменца (21 апреля) произведет такое впечатление, которое обеспечит нам успех на выборах. Но из следующих его донесений видно, что впечатление это не было сильно. Поляки необыкновенно мало обращали внимания на серьезные события и использовали любой ничтожный повод, чтобы предаваться несбыточным мечтам. Вот что доносили Сиверсу из Варшавы: «Тревожные известия волнуют здесь умы. Три дня ходят слухи, что император займет воеводства Краковское, Сандомирское и даже Люблинское. Эти слухи, кажется, основаны на том, что в Вене Кобенцель удален из министерства и дипломатическая часть снова перешла к старому Кауницу и его помощнику (Тугуту). Кроме того, вчера прискакал курьер от Бухгольца к королю прусскому, и это также встревожило здесь умы».
Со стороны польских войск, оставшихся в русском кордоне, также не обошлось без некоторых попыток сопротивления. В Несвиже восьмой полк пехоты, вследствие какого-то двусмысленного приказа гетмана Коссаковского, отказался дать присягу, и был обезоружен генералом Кноррингом. В то же время два отряда польской кавалерии (Сухожевского и Лазинского) переправились за Днестр в Молдавию. И вот, по донесению Сиверса, «глаза поляков устремлены теперь на эти два отряда. Они льстят себя возможностью войны Турции против России. Рассчитывают также на зависть венского двора и на молчание, которое хранит его поверенный Декаше, прибывший сюда дня два назад». «Все занимает этот легкомысленный и непостоянный народ до такой степени, что приписывают важность вчерашнему визиту Декаше у короля в дорожном платье, а у него просто украден был дорогою чемодан».
Несколько позже (в депеше 16—27 мая) он сообщает: «Можно исписать не один лист ложными вестями, которые распространяются по целой Польше и Литве для того, чтобы ввести в заблуждение добрых людей и помешать им отправиться на сеймики, или для того, чтобы там сделаны были глупости. Самый нелепый из всех слухов тот, будто третьего дня австрийские войска должны были вступить в Краковское воеводство, и там экс-маршал Малаховский, под покровительством императора завяжет новую конфедерацию. Не менее нелеп слух о союзе между Портой, Францией, императором, Англией и Швецией, чтобы сообща действовать на пользу Польши».
Станислав Август держал себя, как и всегда, то есть не обнаруживал никаких энергичных попыток к сопротивлению, а по возможности продолжал пассивную оппозицию. Он имел еще большое влияние на мазовецкую шляхту, и Сиверс объявил, что накладывает на него ответственность за успех выборов в Мазовии. Король умолял не принуждать его к участию в этом деле, но по настоянию посланника велел написать от своего имени тем лицам, которые предполагались для занятия председательских мест на выборах. Когда от короля добились всего, что было нужно, ему позволили отправиться в Белосток на месяц, то есть до открытия сейма. Туда же должна была приехать сестра его, пани Краковская. Для сношений своих с посланником король оставил в Гродно секретаря Фризе. Условлено было каждый вечер посылать из Гродно эстафету с тем, чтобы к утру она поспевала в Белосток. Сиверс хотел назначить в королевскую свиту подполковника Штакельберга, того самого, который провожал короля на пути из Варшавы. Но Станислав Август упросил отменить это назначение, так как оно давало ему вид находящегося под стражей. Чтобы не оставить, однако, короля без надзора, Сиверс вызвал из Варшавы в Гродно советника посольства Обера под предлогом принять от него присягу. При проезде через Белосток Обер должен был остановиться здесь на один день, а на обратном пути — два дня, именно в то время, как туда придут известия о сеймиках. Кроме того, и сам посланник собирался навестить короля в Белостоке.
Главными действующими лицами при выборе послов должны были стать члены Тарговицкой конфедерации. Они были отправлены Сиверсом на сеймики, так что в течение трех недель, по словам посланника, «генеральная конфедерация испытывала род летаргии за отсутствием большего числа членов». Руководство в деле выборов распределено следующим образом: Ожаровскому поручены воеводства Сандомирское и Краковское, в помощники ему даны граф Залусский для Сандомирского и граф Анквич для Краковского, генералу Миончинскому вверено воеводство Люблинское, Оссолинскому и Шидловскому — Подляхия, а вице-маршалу конфедерации Пулавскому — Волынь и Холм. Выборы в Мазовии, Раве и Плоцке оставлены на личном попечении Игельстрёма, а вся Литва предоставлена епископу Коссаковскому и его помощникам. Лица, отправленные руководить сеймиками, конечно, снабжены были русскими и прусскими деньгами. «Надобно было, — доносит Сиверс, — не только дать им на стол и напитки, потребные во время выборов, но также оплачивать путевые издержки, помещение, кормить их, снабжать экипажами и дать еще на обратный путь, с какою-нибудь наградой вроде места, ордена или денег. Признаюсь откровенно, все эти неприятные хлопоты не увеличивают моего уважения к полякам». О количестве расходов свидетельствуют следующие цифры. Игельстрём на коронные сеймики получил более 10 000 дукатов, он дал Миончинскому 3000, сверх того последний получил еще 1000 на выборы в Кракове и Сендомире. Пулавскому, кроме 1000 дукатов месячной пенсии, выдано 2000 на волынские выборы и 500 на Холмские, епископу Коссаковскому на литовские выборы — 4000 дукатов. Второстепенные деятели, конечно, получили гораздо меньше. Например, одному из помощников Пулавского, майору Лобажевскому, дано 900 дукатов. Однако Сиверс в донесении своем на имя Зубова от 13 мая говорит, будто никогда еще выборы сеймовых послов не обходились так дешево: Литва приблизительно стоит только по 200 дукатов на посла, а Польша — по 500.
Наконец настал торжественный день 16 (27) мая, «день всеобщей лихорадки в Польше», то есть посольские выборы. В Гродно Сиверс приказал удалить войска и пушки с площади, прилегающей к костелу, в котором должно было проходить избирательное заседание сеймика. Эта мера произвела благоприятное впечатление. «Выборы (гродненские), — пишет он, — совершились очень прилично, они пали на вице-маршала конфедерации Забелло и старосту Жинева». Спустя несколько дней, когда стали известны результаты других выборов, русский посланник в донесении от 22 мая говорит, что успех сеймиков превзошел все его ожидания, и хвалит усердие лиц, которым было поручено это дело. «На литовских сеймиках не было никакого русского отряда, ни даже русского штаб-офицера, но в Польше нельзя было обойтись без этой меры предосторожности. Холмский сеймик решил отправить ко мне депутацию с просьбой о принятии в русское подданство. Меня уверяют, что на многих литовских сеймиках был об этом вопрос».
Количество всех послов, выбранных на сейм, составляло около 140 человек. Значительная часть этих выборов пала на советников Тарговицкой конфедерации и на маршалов местных конфедераций, примыкавших к Тарговице.
В качестве примера того, как проходили сеймики и проводились выборы на последний сейм Речи Посполитой, приведем описание Люблинского сеймика. Описание это заимствуем из современной варшавской газеты, следовательно, не будем забывать его несколько официального характера, так как польские периодические издания в то время выходили под строгим наблюдением русской дипломатии
Урядники и обыватели Люблинского воеводства, значительное число которых съехалось на сеймик, в определенный час собрались у маршала Люблинской конфедерации, ясновельможного пана Миончинского, а от него перешли в ратушу. Здесь маршал вместе с несколькими советниками конфедерации открыл заседание конфедератского суда и, оставив тут выбранных им советников, со всем собранием урядников и обывателей отправился в костел отцов доминиканов, где обыкновенно совершались сеймовые обряды воеводства. Земский судья Анджей Кожмян как старший из присутствующих урядников открыл сеймик. В речи своей он обратился к Миончинскому и просил его как маршала конфедерации взять в свои руки президентский жезл. Тот не замедлил исполнить эту просьбу, а затем начал распоряжаться выборами с помощью советников конфедерации. Требуемые шесть послов немедленно и единогласно выбраны (конечно, имена их определены были заранее). Первым в их числе оказался сам Миончинский, а из остальных трое были членами той же конфедерации. Когда прочли посольскую инструкцию, маршал закончил сеймик и пригласил к себе на обед всех присутствующих, всего более 500 человек. Первые тосты были провозглашены за русскую императрицу и за польского короля. На другой день давался роскошный пир у начальника русского отряда генерала Милашевича. Столы были накрыты в саду под наметами, украшены цветами и зеленью, уставлены пирамидами из сахарных печений, фруктов и пр. Собралось до 200 шляхетских обывателей. Снова пили за здоровье императрицы и короля под грохот пушек и звуки военной музыки. Отличное вино в изобилии было предложено пирующим и вызывало неподдельную веселость участников праздника.
Как образец инструкций, которыми снабжались сеймовые послы от своих избирателей, приведем одну из них, составленную для послов Трокского воеводства.
Эта инструкция начинается риторическим рассуждением о бедственном положении отчизны, которая «сделалась жертвою иноземных замыслов, раздирающих ее на части и отделяющих брата от брата, сынов от лона материнского». В довершение своих замыслов соседние державы с великою поспешностью заставляют созвать чрезвычайный сейм. Не входя в объяснение этих обстоятельств, чтобы не умножать своей горести, обыватели надеются, что потомство отдаст им справедливость и поймет истинные причины приведения отечество к упадку. Далее следует инструкция, разделенная на 10 пунктов. В первом пункте говорится, что разделы Польши должны затрагивать интересы других государств и что Речь Посполитая напрасно упустила случай апеллировать к европейским державам во время первого раздела. Ее молчание было воспринято в Европе как знак добровольного согласия. Поэтому послам поручается хлопотать об отправлении полномочного лица к великодушному народу английскому, а также о снабжении надлежащими инструкциями резидентов польских при других европейских дворах. Если же приговор Европы будет не в пользу поляков, то они смирятся перед божественным предопределением. Далее следуют поручения: стараться о лучшем устроении правительства, о сохранении старой республиканской формы; о сокращении войска и числа министров сообразно с уменьшением пределов и доходов Речи Посполитой; ходатайствовать перед русскою императрицей о вознаграждении убытков, причиненных ее войсками, и о выводе этих войск; также просить императрицу и короля прусского о возвращении казенных касс в провинциях, ими забранных; хлопотать о восстановлении прежних трибуналов и судейских привилегий; о пересмотре постановлений (sancita) генеральной конфедерации и утверждении тех из них, которые должны быть обращены в постоянный закон. Если иностранные державы заставят возобновить Конституцию 1775 года, то послы пусть стараются, по крайней мере, лишить постоянный совет исполнительной власти и права толковать законы. Наконец, избиратели поручают послам никоим образом не соглашаться, чтобы долги короля были отнесены на счет государственной казны. Итак, инструкция, как мы видим, была составлена под влиянием русской партии, то есть партии Коссаковских, и, в сущности, заранее соглашалась на главные требования русской дипломатии. Она позволяет себе только тихие жалобы и скромную апелляцию к потомству и к иностранным державам.
10 мая внезапно умер Михаил Никитич Кречетников, которому поручено было устройство вновь приобретенных от Польши провинций. За несколько дней до смерти он был пожалован за свои труды графом, но курьер с указом не застал уже его в живых. Он был прежний сослуживец и приятель Сиверса, и последний в своих письмах разным особам выражает глубокое сожаление об этой потере. Но вместе с тем его интересует вопрос, кто будет преемником Кречетникова. Старший после него по команде генерал Дерфельден принял на время начальство в западном крае. Извещая посланника о состоянии дел в том крае, он прибавляет, что все, кто знает Сиверса, желают его видеть преемником Кречетникова. Кроме того, ходили слухи о назначении туда Игельстрёма, или князя Репнина, или Тутолмина. Сам Репнин в письме своему приятелю Сиверсу указывает на этот факт, но не считает их серьезными и выражает надежду, что Сиверсу по окончании его поручения в Польше будет вверено устроение западного края. В донесении императрице от 14 мая Яков Ефимович прямо говорит, что предложил бы себя на место Кречетникова, если б имел те же лета и те же силы, которыми владел в эпоху своего тверского наместничества. Он повторяет слухи об Игельстрёме, Репнине и Тутолмине и прибавляет: «Но, ради Бога, никого, вроде Пассека, Потемкина или Каховского. А для одного из праздных мест соблаговолите вспомнить о достойном губернаторе несносной Финляндии, если ваше величество не приберегает его для завоевания всей этой страны». Этот достойный губернатор был никто иной, как зять Сиверса, то есть муж его старшей дочери, генерал Гюнцель. В письме к Зубову от того же числа Сиверс еще откровеннее высказывает свое желание: занять место князя Репнина, то есть получить в управление родные ему балтийские провинции. По поводу вопроса о преемнике Кречетникова он говорит: «Если это князь Репнин, я сожалею о Ливонии, которую вы бы утешили, граф, сохранив ее для меня; первый генерал-губернатор тверской не был бы тем недоволен. Если это Игельстрём, то не посылайте мне ребенка за генерал-аншефа, лучше еще другого генерал-поручика, так, чтобы отдельные корпуса были сосредоточены в моем распоряжении»**. Но все эти предположения разрешились тем, что преемником Кречетникова был назначен олонецкий и архангельский генерал-губернатор Тутолмин.

В одно время с приготовлениями к сейму русский посланник трудился еще над другою задачей: пересмотреть и исправить главные статьи польского государственного устройства, так, чтобы предстоящему сейму оставалось только прочесть их и утвердить. Основою для этой работы должна была послужить Конституция 1775 года. В майских донесениях своему двору Сиверс представляет проекты отдельных частей по мере их изготовления. Сначала были изготовлены pacta conventa и основные законы. По замечанию посла, почти вся черновая работа над пересмотром польской конституции принадлежит двум графам — Рачинскому и Мошинскому. Он обращался за советами и к епископу Коссаковскому, но тот отказался делать свои заметки, потому что желал быть не второстепенным, а главным лицом в этом деле. Проекты отдельных статей конституции сообщались королю. Его заинтересованность и замечания, которые он делал, заставляли догадываться, что намерение отречься от престола было далеко не искренним.
Когда началась организация сеймов, посланник предложил на решение императрицы следующие вопросы: не увеличить ли срок между сеймами вместо двух лет до четырех; местом сейма должны ли быть непременно Варшава и Гродно? С одной стороны, он приводит соображения в пользу Гродно: надобно вознаградить Литву, так как столицею государства Варшава, притом в Варшаве сейм более подвержен влиянию двора и партий, а Литва всегда была предана России, и ею легче руководить. Но, с другой стороны, Гродно ближе к провинциям, отошедшим к России, и гродненский сейм, пожалуй, будет напоминать жителям этих провинций об их прежнем соединении с Польшей. Впрочем, чрезвычайные сеймы, по мнению Сиверса, должны быть созываемы постоянно в Гродно. В сеймовые заседания предполагалось ввести существенную перемену: отправлять их при закрытых дверях, тем самым будут предупреждаться беспорядки и смуты, производимые арбитрами (то есть публикой). Самая важная реформа относилась к сейму избирательному. Вместо собрания в поле под открытым небом и вместо общего права шляхты участвовать в избрании королей (права, конечно, воображаемого, потому что мелкая шляхта была при этом только орудием в руках аристократических фамилий) предполагалось созывать сейм из представителей, но в количестве, втрое большем по сравнению с обыкновенным сеймом. Для русского посланника, бесспорно, будет легче руководить таким собранием, чем беспорядочною толпой, которую до сих пор представляли избирательные сеймы.
Потом следовали проекты о сеймиках, о постоянном совете, судебных учреждениях, о количестве войска, общественном воспитании, о финансовой части и средствах погасить долги короля и пр. Мы только касаемся работы над новою польскою конституцией, так как дальнейшие события помешали ее осуществлению. Но для нас знаменательны следующие слова Сиверса в одном из его донесений по поводу этих работ: «Я смотрю в будущее. Потомок моей повелительницы будет некогда государем и осчастливит ту страну, в которой говорят по-польски, не домогаясь другой ее части, где уже забудут этот язык». Мы не знаем, были ли эти слова (относившиеся, конечно, к великому князю Константину) выражением личного усердия Сиверса, который думал в данном случае идти навстречу желаниям императрицы, или они почерпнуты из интимных разговоров с ней в Петербурге? Со стороны Екатерины мы видим только заботу о том, чтобы на будущее обеспечить наше преобладание в Польше и устранить от нее влияние прочих соседних держав. Эта сторона ее политики просматривается в дальнейших инструкциях русскому посланнику.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.