
Бесплатный фрагмент - Горожане
Рассказы, заметки, миниатюры
По тонким связям
«Горожане» — книга, герои которой — простые люди. Городок — затерян где-то в северных лесах и болотах. И люди в нем — небольшие, со своими удачами и печалями. Насколько они вплетены в общие связи жизни? Каковы их мечты? Кто поможет им достичь своих целей?
Книга составлена из рассказов, а также — зарисовок, заметок и миниатюр. Раздел «Из папки с вырезками» — художественные размышления, воспоминания. «Городские сюжеты» — ощущения, взгляды, cтоп — кадры городских улиц. Такая мозаика призвана, по мысли автора, составить «картину» провинциального бытия…
И по форме рассказы разные. Какой написан в духе пьесы, другой — как отрывок киносценария. Есть рассказ — рецензия, психологическая новелла, стилизация документа, компьютерная переписка, эротика (куда без нее?) Так, видимо, автору было интересней творить. Хотя, читать, наверно, — сложней.
А ниточки, связи в книге — чувствуются. Почти в каждом рассказе персонажу нужна помощь или он оказывает ее другому. Качество человеческих связей сегодняшнего времени и есть главное в книге. И в каждом рассказе — мысли, глаза людей. Образы эти, их озвученные или безмолвные просьбы, — сложены не искусственно. А — услышаны, прочувствованы. Пожелаем читателю того же.
Концерт
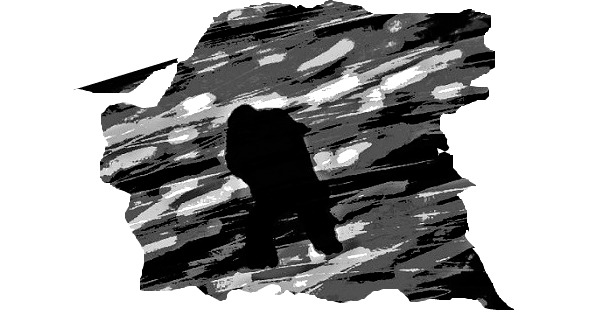
Как трудна порой бывает жизнь! Уже несколько дней Живков промучился у постели больного сына. Сколько раз он просиживал в духоте квартиры, встречал врачей, готовил лекарства, от которых его охватывала тоска. И все эти дни, проведенные как в тумане, ему казалось, будто кто-то руководит им, подталкивает, и он, словно привязанный за веревочки, исполняет чужую волю.
В последнее время Живков уверился, — судьба его не сложилась. Ушли мечты о карьере, серьезной учебе. Были мечты и поменьше, но и они, едва вспыхнув, остались позади огоньками прошлого…
Уныло Живков оглядывает комнату. Вот кресло, на котором он любил сидеть после шумной, изматывающей работы. Обычное кресло, какие выпускают тысячами, а потом ставят у таких же одинаковых телевизоров. Здесь он отдыхал от грохота станков. Порой он засыпал в кресле, забывая выключить телевизор.
Он и сам не заметил, как оказался на улице, между панелями серых домов. Мутное небо опустилось на плечи. Снег, подхваченный ветром у земли, врывался под воротник, колол щеки. Как, какими судьбами, он оказался в краю, где так мало солнца над головой? Кто же во всем виноват?
В глубине души Живков чувствовал, — болезнь сына лишь одна из причин его неудач. Просто там, в прошлом, он сам утратил порывы и желания, а с ними и полноту жизни.
Живков шел, охваченный тяжелыми мыслями, не разбирая дороги. Метель то усиливалась, то внезапно стихала, надвигая на него углы домов. Ему вспомнилась лекторша, выступавшая у них в цеху и ее слова: «Счастье человека — в нем самом. Только он творец своей жизни!» Ему хотелось крикнуть тогда: — Неправда! У вас все было! Деньги, время, учитель, наконец! Да, тот самый учитель и друг, которого он так и не встретил в своей жизни. Все сам, все своим умом!
Продрогший, осыпанный снегом, Живков остановился у здания, на котором ветер трепал афишу. Размытыми буквами его звала на концерт приезжая группа. Лицо музыканта с афиши показалось ему знакомым. Справа чернело окошко кассы.
— Концерт! — презрительно думал он, усаживаясь в кресло. — Опять кто-нибудь из «этих»… Какое им дело до него, Живкова! Уже сидя и чувствуя, как отогреваются пальцы, он забеспокоился. Человек пятнадцать сидели темными фигурами в креслах. Живков не знал никого из них, но чувствовал свое родство с ними. Напряженно проводил он взглядом по сцене. Вокруг лежали и стояли инструменты, а рядом — черные ящики аппаратуры. На одном из ящиков откололся угол, на другом — пузырилась обшивка.
Музыканты стояли, спокойно настраивая инструменты. Казалось, их не волнует, сколько зрителей в зале. Но они чувствовали людей. Живков это понял, когда один из них улыбнулся ободряюще в зал, и его обвитый блестящими трубками инструмент покачнулся и замер.
Живков все разглядывал музыкантов. Они казались ему неяркими, будничными, не похожими на артистов. Но почему-то захотелось верить им…
Он так и не дождался начала музыки. Понял, что она уже звучит в нем. Какая-то нота, похожая на дыхание ветра, охватила его. Постепенно звук нарастал, в него вплетались другие звуки, полутона, пробуя себя в странной гармонии. Все походило на слабую метель, окружившую вглядывающегося в нее человека. Незаметно погас в зале свет, и теперь музыканты виднелись сумрачными тенями. Неслышно выводил мелодию скрипач, увлеченно взмахивал барабанщик…
Живков вдруг увидел себя маленького, стоящего рядом с матерью и помогающего ей на кухне. Мальчик стоял, склонив голову набок и выставив живот — следствие перенесенной болезни. Потом он увидел школьника, задумчиво слушающего музыку у зеленого глазка радиоприемника. Толстая учительница зачем-то кричит на него. Сколько их было одноклассников, учителей… Он так и не встретил «своего» учителя. Только однажды, когда ему удалось какое-то задание, учительница внимательно посмотрела на него. Теперь он никого не помнит из них, и ту учительницу забыл, а взгляд ее — помнит.
А вон он — подросток, напился вина и его тошнит в детской беседке. Влекущие груди девушек, шумные танцы, драки… Сколько в его жизни было случайного, ненужного! А над всем этим — строгие родители. Они много работали и учили, как надо жить.
Тяжелые годы армии прошли, смазались серым пятном. Он не любил вспоминать их. Первая женщина… рождение сына. Ребенок родился слабым, недоношенным. Вот он, опухший, в больнице, а рядом такие же дети с пятнами под глазами. Они всегда просили посидеть с ними. Где были их родители? Кто они?
Живков слушал и не верил: музыка говорила о нем, о тех неудачах и радостях, что выпали ему на долю. Все было ясно, понятно ему. И главное, — она не осуждала его за то, что он шел по жизни прямо и честно, не толкая других локтями.
Но теперь, рассказав о прошлом, музыка говорила и о будущем. Что-то простое, светлое наполняло его. Сын поправится, говорила она, снова пойдет в школу. Самого его ценят на работе, ждут. Надо только взять себя в руки. Надо снова заняться сыном, как когда-то он занимался собой. Живков вдруг ясно понял, как много в его жизни не сделано. И годы, что он прожил, показались ему пустяком перед той вершиной, на которую еще можно взойти.
…Свет осветил лица музыкантов, их фигуры в клетчатых рубашках и джинсах. Они заметно устали и теперь молча укладывали инструменты. Ему захотелось сказать им что-то доброе. Он подошел к пианисту. Глаза музыканта смотрели спокойно, и опять показалось, что этот парень похож на него в юности, когда он тоже хотел что-то сделать для людей, да так и не собрался.
Обновленный, Живков вышел на улицу. Метель стихла, и теперь снег мягко освещался из окон. Он оглянулся: на вывеске Дома культуры стекло было надтреснуто в двух местах. Две ломаные трещины пересекали занесенное снегом стекло. Что-то имеющее смысл показалось ему в этой примете.
Живков шел домой, ощущая все больше пружинистость шага. Чутье подсказывало — кризис кончился, и пора снова браться за дело. Сын выздоравливает… Возможно, из него кто-то получится в жизни. Во всяком случае, тут много зависит от Живкова. Да и кто, как не он, должен стать сыну учителем, другом? Он разорвет эту цепь «неудач» и «невстреч». Может, в этом и есть его «большая задача»? Ну, хотя бы на первое время…
Один оборот

Ранней весной в городе сбивают ледяные сосули. Край наш снежный, и крыши, покрытые серым шифером, страдают вместе с людьми. Начинают очистку с главных улиц. Их у нас три — Ленина, Первомайская и Коммунистическая. Спецтехники на все дома не хватает, и мужчины, обвязавшись веревками, балансируют по кровле с деревянными колотушками.
— Левей, Васек… Вдарь еще! Куда?!
Сосули падают, с грохотом задевая жестяные карнизы, и разбиваются на сверкающие осколки. Но веселья мало. Солнце еще слабое, и горожане досыпают на остановках, прячась в воротники.
Вокруг домов на тротуарах выставлены самодельные «ежи». Конструкции сколочены из подобранных на мусорках оконных рам. К деревьям, урнам привязаны ленты, проволока. Женщины, минуя ограждения, выходят опасливо на дорогу и ругают чистильщиков.
— Для вас же, тетя! — обижаются дворники, толкая лед.
Весной, наконец, становятся нужными и таблички на домах. Краска на них облупилась, но еще можно прочесть: «Осторожно, сход снега!» Таблички висят круглый год, прикрученные намертво к углам зданий. Летом у этих плакатов останавливаются иностранцы. Приезжие гости смеются, тычут пальцами и фотографируют своими телефончиками. Потеха!
Но горожане невозмутимы. У нас и лампочки новогодние висят годами. Возможно, некрасиво, да удобно. Зато у нас нет террористов, всяких скинхедов и проституток на вокзалах.
Весной горожанам нужна поддержка. Люди устали и расслабляются по — своему, — кто напивается, а кто отдыхает, засыпая на концертах в местной филармонии.
Есть у нас и парк у реки. Дерева здесь разрослись и ежегодно стригутся бензопилами. Когда-то тут был и собор с огромной колокольней. Снесли в 30 -х годах. Но главная примечательность парка — вид на реку. Жители мало ценят эту особенность. Трудно поверить, но за двести лет город не выстроил набережную. Берег не ухожен — ржавые цепи и тросы, какие-то бетонные кольца, столбы. Кругом битые бутылки, следы от костров…
Три года назад решили залить бетонную набережную. Закатали метров двести. Оградили подход к берегу высоким забором. Да так плотно, не подойти к воде. Вот и стоит эта крепость… Строители исчезли, денег нет — кризис. Или — своровали? Но убрать забор нельзя, — вдруг деньги найдутся?
Ну и чем, прикажешь, душу поднять? Даже ледохода не видно. Хотя, конечно, можно отверстие просверлить в доске. Смотри, наслаждайся… Или лестницу притащить. Оседлав забор, можно провожать плывущие льдины и приветствовать обновление жизни.
Лето… Не раз приходило ощущение, — городу чего-то не хватает. Но — чего? И не скажешь определенно… Быть может оттого, что не видна городская аура? Не чувствуется дух города, его неповторимое своеобразие… Приедешь в иной городишко. И первый встречный: «Рассказать о нас?» И — «тра-та-та»… — не остановишь. Глаза горят, руки, что мельничные крылья.
— А сами откуда? — спрашивает.
— Из Усть — Сыровска…
— Да? Какой он?
Задумаешься. Как рассказать о том, что хочешь любить легко, а получается натужно. Что лицо города как будто правильное, а …пресное. Что нет у нас цирка и своих клоунов с умными глазами и ладными руками.
Удивительно, но за четверть века в городе не построено новых фонтанов. Словно в пустыне живем. Пара существующих фонтанов — у здания мэрии, да у кинотеатра. Так себе фонтанчики, без затей. Словно нет своих скульпторов. Можно ведь под струю дракончика посадить. Или сисястую русалку.
Шутка, конечно. Но в этих наших мемориалах так мало жизни! И все похоже на памятники других городков. Ну, может, рука не так повисла, другой ракурс… Город глух к малой скульптуре. Ведь есть зеленые скверики, газоны. Ну, поставьте туда какого-нибудь забавного зверька. Не надо уже бронзовых рабочих. Индивидуальность создается мелочами…
Читал, как в мексиканском городке спаслись от заезжих колдунов. Три местных мага на вертолете облетели свой городишко, чего-то нашептывая, да потряхивая. Магический ритуал не отнял много сил. Но с тех пор внутри городка хозяйничали лишь местные чудотворцы.
Еще свежа в памяти «работа» колдуньи Стеллы. Явилась в наш город с быками — телохранителями, разорила десятки горожан. А помогли ей наши газетчики. Такую рекламу устроили! Знали, что воровка, да хотелось «бабок срубить». Знали, — попадутся не они, а те бедные женщины, что несут последние деньги, лишь бы сынок «трою» не пил.
И вопрос местным магам. Вы — то чего смолчали? Корпоративная солидарность? Или струсили? Не видят над городом биополя, нужного для защитного кольца? Значит, приедут еще в черных одеждах, с черным нутром…
А душа несогласно волнуется, негодует. Должна быть аура! Сильная, крепкая! Может, маги наши хреновые?
Ежегодно отмечаем «день города». Концерты на площадках, поп-звезда залетная… «Ах, какой он мужчина, — рожу ему сына…» И обязательно — море выпивки. Праздник же! Центральная площадь на утро как помойка. Пивные банки в самосвал грузят.
На душе — зеленый сверчок. В чем он, дух нашего города? Неужели горожан объединяет лишь пиво, пусть и хорошее? И думаешь: а что, если завести место, объединяющее горожан независимо от возраста и веры? Нечто вроде культового поля, холма. Чем наш город выделяется? Слиянием двух рек! Так, может, здесь и устроить гуляния?
Представьте — зеленое поле у реки — матушки. С утра на берег стекается городской люд. Молодые, старые, начальники, подчиненные… Знакомятся, обмениваются самодельными корзинками, книжками. На лицах — светлые улыбки. Все чувствуют: происходит важное. Мы — горожане!
Глядь, а здесь уже — обнимаются. Горланит бард, танцует «балерун», а клоун ходит и всем хитро моргает. Поле. Нет толкотни, нет пьяных. Рядом — бурлящее устье. И что-то медленно поднимается над полем. Эх — ма! Народ головы запрокинул. Тихо плывет к небу дымка — радуга. Не серая и поникшая, как у больного человека. А задорная, горделивая…
Осень… Комаров уже нет, и с окон снимают потемневшие от пыли куски марли. Осенью лучше смотрятся старые здания — дореволюционные особняки купцов, толстостенные дома «пятидесятых»… Еще сохранилась лепнина, рустовочные углы солидных домов, сандрики, замки и розетки — словом то, что называли архитектурным излишеством.
Прогуливаюсь по улочке, на которой штукатурят известный «дом под шпилем». Сворачиваю на Карла Маркса — здесь тихо, и осень бросает на выступы под окнами желтый, красный лист. В одном из низких окон, сквозь темную гладь стекла вижу целующихся мужчину и женщину. Красиво и таинственно.
А вот у этого дома с лоджиями можно петь серенаду. Испания почудилась, а белье — то в проемах — наше, застиранное. Люблю смотреть на карнизы старых домов — ряд чередующихся модульонов ласкает взгляд. Хотя некоторые из них отвалились, и шифер побит у краев. А там — капители, словно модные шляпки, сидят на колоннах.
Иду вдоль парка, мимо художественного музея, а в воздухе — едва слышимый запах зимы. Или почудилось? И, кажется — ажурная решетка чугунно скрипит…
И опять зима… И опять — весна…
Пролетел еще год. Запахло теплом, суетятся грачи… Уже сбиты сосули с крыш, и почерневший снег дотаивает на обочинах. Ты идешь по улицам города, стараясь обрести душевные силы. Трудно на что-то надеяться, когда над тобой — лишь давящая серая пелена. Когда кажется, что и ты сам, и люди — уже не так интересны, как прежде.
Ты ждешь синевы небес, как пьяница — выпивки. И синева не обманет, — появится! Огромное синее небо внезапно раскроется и опрокинет в себя весь город. Ты идешь по улицам, вглядываясь в лица прохожих. Какие они, — горожане?
Ты подходишь к киоску, покупаешь газету. Киоскеры! Эти мягкие интеллигентные лица. Их сдержанные, доброжелательные улыбки. Прекрасное в незаметном. Как ты не видел этого раньше?
Завершился один оборот вокруг светила. Мы облетели его вместе с соседом по подъезду. Необязательно поздравлять друг друга. Достаточно поздороваться чуть теплей.
— Привет, мол… Снова — весна?
— Да я… то да се… И тебе не болеть.
— Спасибо. Летим дальше?
Встреча

Словно сорванный ветром лист ее носило по жизни. Осенью она оказалась в кафе-закусочной, куда ей удалось устроиться после ухода с телефонной станции. Здесь она восстанавливала нервы. Но ей никогда не хотелось работать официанткой.
Дни в ту пору стояли ясные, свежие, и она чувствовала эту свежесть по лицам посетителей, не выходя из зала. Работа в кафе оказалась нетрудной, а люди не злыми, а равнодушными. Было немного скучно, но вспоминая свой прежний срыв на станции, ей не хотелось возвращаться.
Работали они втроем, каждая на своем ряду, и ей достались столы подальше от кухни. Старшая из официанток, Валентина, говорила мало и думала лишь о муже, шофере местной автобазы. Когда муж подъезжал на машине, Валентина несла ему свертки через кухню, задерживалась, и приходилось смывать и ее столы. Третьей в кафе была Капа, уволенная из ресторана за обсчет посетителей.
Окна кафе, высокие, арочные, выходили в переулок, на котором сохранились старые здания, теперь — музеи. Здесь было тихо, и тополя, которые не стригли тут, разрослись, давая тень. Особенно ей нравились краснеющие листья рябин на фоне сухого прохладного неба.
В перерывах они усаживались с Капой у окна, прикрытого шторой, и о чем-то беседовали. Капа рассказывала о бывшем муже, летчике, с которым она разошлась, не сумев поделить его зарплаты. Было странно слушать о скупости летчиков, их высокомерии и распущенности, и порой казалось, а не приснилось ли это Капе.
Иногда они забывались за рюмкой портвейна и, включив томную музыку, грезили. Капе виделась белая машина, бегущая вдоль берега моря, а рядом — темноволосый красавец, сошедший с наклейки одеколона… Она вглядывалась в лицо Капы и почти верила ей. Та была молода, нахальна и полна желаний. А ей самой, что виделось ей?
Ее «бывший» бросил ее с двумя детьми, и она едва сводила концы с концами. Приходилось подрабатывать уборщицей, пока девочки не выросли. Но и сейчас ей не хочется возвращаться домой, где каждый угол, каждая вещь напоминают о том, как все досталось. Был еще человек в ее жизни, но тот не сумел стать даже нормальным квартирантом.
Как смешны теперь былые иллюзии! Вот и она говорит «мужик» вместо «мужчина», много курит и все чаще прикладывается к вину, от которого хоть на время поднимается настроение. Но еще случаются с ней странные минуты, когда проснувшись утром, она испытывает томление от увиденного незнакомого человека, с которым только что разговаривала, любила… И как ни старается она запомнить его черты, — они расплываются, уходят, оставляя чувство горечи от своей непонятной, плывущей куда-то жизни.
…Она сразу заметила этих двоих у окна. Один большой, грузный, с отвисшими щеками, что-то весело говорил товарищу. Другой — маленький, стройный, с аккуратной стрижкой. Глаза у него были синие и серьезные. Она поняла, они из тех, из «интеллигенции»… Ее всегда тянуло к таким людям. Она считала их умнее себя и завидовала их яркой, интересной жизни.
Она стояла с тряпкой в руках и прислушивалась к разговору. Доносились обрывки фраз… «искренность», «выражение», «свой путь в искусстве», еще какие-то слова, которые в этом кафе выглядели чужеродно. Слова были такими нарядными и чужими, как те иностранные вещи, которые изредка бывали в ее квартире.
Кажется, у них что-то не ладилось. Они спорили весело, уверенные каждый в своем. Толстяк жестикулировал, изображая кого-то в лицах. А маленький красиво ел, с улыбкой поглядывая на приятеля. Но она чувствовала его озабоченность, и ее тянуло помочь ему.
Когда она подошла к ним, оба уже уходили. Маленький художник стоял так близко, и она видела его светлый открытый лоб. Он смотрел на нее, и она чувствовала, как в груди ее прокатывается ветерок, — такой нежный и тревожный. Она что-то ответила, и оба удивленно переглянулись. Толстяк миролюбиво улыбался, а маленький еще раз поблагодарил.
Она смотрела им вслед, отодвинув штору. Большой шел, небрежно раскачиваясь. А маленький, в узком плаще с поясом, строго глядел вперед. Они продолжали разговаривать, и никто из них не оглянулся.
А ей почему-то хотелось плакать. Захотелось захныкать, как когда-то в детстве, когда накатывалась тоска, а мама гладила по голове и говорила, что все будет хорошо.
Три тонны масла

Первые полгода я лишь драил полы в казарме. Да еще работал на кухне, — мыл алюминиевые тарелки горчицей, чистил картошку и разносил бачки с едой по столам. Приходилось и туалеты тереть содой… Но вот, наконец, «дембеля» разъехались, их заменили «деды», а места тех перешли к «черпакам».
Тогда мне и доверили должность фельдъегеря. Проще говоря, стал я разносчиком телеграмм. Самое ценное здесь — возможность пробежать по лесу в одиночестве целых десять минут. Спасает от нервных срывов. Я сворачивал с дороги, подходил к деревьям, трогал их и на это тратил минуту — другую.
Так, вот. Прибегаю в штаб, звоню в окошко, и секретчик, принимая бумагу, расписывается. Мы познакомились. Парень, скажу вам, напоминал хитрого крота.
— Трапузин! — он протянул рыхлую ладонь. Возможно, пухлые щеки и бегающие глазки выдавали в нем некую черту. Такой солдат всегда берет лопату поменьше, а ложку — побольше. А если потащит вместе со всеми бревно, то встанет посередине. Он будет пыхтеть и тужиться, но в действительности, лишь держаться за бревно. Зато Трапузин знал анекдоты, и был начитан по сравнению с окружением в казарме.
Четыре месяца я бегал в штаб с телеграммами. Да и позже заходил к секретчику, уже работая на аппарате связи в бункере. Иногда мы задерживались в опустевшем штабе, где оставался лишь дневальный у знамени. Трапузин закрывал за нами секретку и делился новостями.
— Ты вот что… — говорил он, картинно затягиваясь выпрошенной у офицеров сигаретой. — Будут учения…
— Когда? Скоро?
Я понимал, он обижен на меня за то, что я не болтал о своей военной технике. И убеждал, что моя боевая «тачка», — всего — лишь несколько ящиков с кнопками.
Однажды он подсчитал:
— За день каждый из нас съедает кубик масла. Двадцать пять грамм. А сколько за всю службу? За два года? Восемнадцать килограмм!
— Ну, это чисто арифметически, — заметил я. — «Молодой» ест меньше, «черпак» больше, а «дед» — не размажешь по пайке.
…Будто сейчас стою в столовой с засаленным цементным полом. «Сесть!» — рявкает команда. За столы протискиваются десять солдат (по пятеро с каждой стороны). На края столов, примыкающих к стене, пролезают «салаги» и «молодые». За ними — «черпаки» и, наконец, у прохода усаживаются важные «деды». Прапорщики сидят за отдельным столом и едят вилками.
Масло солдатам выдают большим куском, и «деды» начинают дележ, — режут на порции. Кусочки при этом получаются разными. И когда тарелка приближается к «салагам», на ней остаются лишь крохи. И чем дольше служит солдат, тем ближе он двигается от нищего края стола к купеческому…
— В среднем, однако, — Трапузин поднимает жирный палец — получается то же. Что не доел на первом годе, догоняешь на втором. Закон тайги!
— Все зависит от нас, — мрачнел я. — Все будем «дедами».
— В принципе, можно, — снисходительно вещал Трапузин. — Забыть недоеденное, недокуренное… Этакая революция…
Мы размечтались. Всего месяц отделял нас от срока «посвящения в деды». Неужели станем такими, как все? Будем избивать, унижать других? Нет, мы начнем новую жизнь! Служить по совести, помогать «молодым»… А за нами пойдут другие. И подсчитывая масло, съеденное дивизионом за два года, кто-нибудь скажет: «Мы съели три тонны. И всем досталось поровну. И радостей, и невзгод…»
…Жаль, — не получилась революция… И, хотя наш призыв не злобствовал, мы понимали — это временно. А Трапузин? Видно, посвящение в деды ослабило его волю. За полгода до окончания службы он подделал документы и был переведен в хоззвод.
О, то было скопище отморозков! Мерзавцы служить не хотели и всячески мешали другим. Метлов, Кулаков, Шмургалов! — помню вас до сих пор. И — по прежнему, ненавижу.
Попав на работу трудней, Трапузин разительно изменился. Из сытого хомяка секретки стал злобнейшим «дедом» дивизиона. И видно, те наши разговоры о совести вызывали в нем особую ярость. Я избегал с ним встречаться. А он все искал, преследовал меня, словно виновника его неудачи. И никто, кроме нас двоих, не знал, что стоит между двумя «дедами», — кусок масла или нечто большее.
Иногда, вспоминая армию, думаю о тех ребятах, кто достойно вынес испытание солдатской жизнью. Но были и другие. Вспоминаю Трапузина, других жлобов… Кто виноват во всем? Офицеры, поддерживающие диктат насилия в армии? Или та мать, твердящая сыну: «Не пропусти своего! Дави слабых! Выкручивайся… Иначе — сомнут… отнимут…»
Не умеем мы жить вместе. Ни в казарме, ни в собственной стране. Ищем, где бы выгадать, где трудиться поменьше, а урвать — больше. И еще — стрелять, насиловать, или просто — кривляться или врать по телеку. Эх, человеки…
Где-то на Земле

Зимой он заходил в эту пельменную согреться и, не глядя на окружающих, суровый, отчужденный, сушил вырванные ветром слезы. Неулыбчивый гость стоял у стойки и смотрел на дорогу, по которой пробегали мимо прохожие. Головы их были опущены, лица укрыты воротником. Сероватые тени показывались из тумана и вновь растворялись в морозной дымке.
Отсюда начиналась окраина с ее приметами новостроек: ямами, рытвинами, грудами мерзлой земли. Дорога у стройки завалена досками, обрезками труб. Из прикрытой щитом канализации вырывается пар.
Дальше — уходящий в сумрак пустырь. Летом здесь сажали картошку, а сейчас ветер сгибает выступающие из снега сухие стебли. И в конце пустыря, словно волчьи глаза, — огни изб.
Такие дома видел он из окна поезда, когда проносился мимо заброшенных деревень. Лачуги кривились далеко в полях, подходя к железнодорожному полотну. Он смотрел на эти жилища, и ему хотелось выйти, постучаться в стены и, может, помочь кому-то. Но представляя себя живущим в этой глуши, — в сердце вползал страх.
Гость придвинул ногу к батарее под стойкой. Теплые струйки мягко вползали в подошву, поднимались к щекам. Память вернула его к недавней встрече с приятелем. Они разговорились, вспоминая знакомых, и друг заметил книгу, лежащую рядом. «Ты… читаешь это?» — друг пролистал книгу. Лицо его изменилось. Словно невидимая стена разделила их, и когда друг вернул книгу, лицо его скрывала маска.
«Каждому — свое…» — он опустил уголки губ. Кто виноват, что они не стремятся в Систему? Пожалеют…
А в пельменной — тепло. Рабочий день закончен; ушла старушка с кастрюлькой отходов, дометает мусор уборщица. И все это время женщина у кассы ищет его взгляда.
— Эй, — слышит он тихий голос. — Слышь, парень? Помоги…
Вот он, момент, его боль и сомнение. Сейчас он поднимется, подойдет к окликнувшей его женщине. Остановится поезд у старого домика, и, поколебавшись, он выйдет на полустанке. Содрогнутся цепью вагоны, качнется состав… Темный вечер, чернеющий лес. И — огни уходящего поезда…
Все так и будет, он умеет угадывать. На мгновение увиделось: вот он, рядом с женщиной. Несут бачок в кладовую. Она упирается ему в плечо, и он чувствует ее крепкую ладонь.
А потом они запрут дверь, и она расставит закуску… Все так и будет: усталые люди, бутылка вина и желание праздника. Но до этого пройдут в сумраке мимо остывающих плит, и в коридоре он заметит мерцающий прямоугольник. Зеркало! На мгновение он взглянет в холодноватую гладь, — бледным пятном выступит подбородок, нижняя губа наехала на верхнюю… — мерзлый окунь — призраком из темноты.
И они будут сидеть, согреваясь вином, и смотреть, как светлеет за окном пейзаж окраины. Свет с улицы скользит по крышкам бачков, ложась на ее полные руки. Он чувствует в темноте ее улыбку.
— Ты далек, как звезда, и пути к тебе нет…
Женщина тихо поет… Ее зовут — Тоня. Что он изучает?
— Разное. Экономику, управление…
— Подписывать будешь…
— Распределять. Руководить…
— Зачем?
— Для порядка. И — жить…
— Как все?
— Имею ввиду — разумно. Устроившись…
— Мы тоже читаем с дочкой… Книжки всякие… Ты петь любишь?
— Что? — он вертит стаканом. — Так устроено… Есть правила. Верх — низ. Лево — право. В жизни — много ненужного… Дашь слабину — и в массе.
— Смотри! Оп! — под ее руками раскрывается цветок из нарезанной колбасы и горошка. Глаза ее искрятся.
— И вино тебя не греет
В час дурного настроенья… Ха-ха-ха…
Все так и будет. И он попросит ее рассказать о себе, хотя знает: избушка на конце пустыря, муж — алкоголик сбежал в трудное время, школьница — дочь возится у печи, ожидая мать… Жить, кормить… В этом — жизнь? («Время вылепит из нас функции и схемы…»)
— А еще я люблю стирать, — скажет Антонина. — Ничего, что я про свое? Я бы тебя с одним чемоданом приняла…
Они сидят так близко… Его слегка разморило, хотя он старается не пролить на стол. Бутылка опустела, и они еще ждут чего-то.
— Жизнь одна… — упрямо твердит он. — Среда, как туман… Затягивает.
— Среда? — Женщина вздыхает и начинает укладывать остатки ужина в сумку. А потом они выйдут в ночь, в пугающий сон пустыря. Узкая тропинка в снегу приведет его к увязшей в сугробах избе. Здесь все в снегу, видны лишь колья заборов. Пронизывающий ветер выветрит тепло их встречи. Они обнимутся. Он стоит на ветру, чувствуя, как отогреваются пальцы под воротником ее пальто. Она скажет… Что она скажет?
— Не обижайся… — скажет она. — Нельзя сейчас. Придешь? — Ладно, — скажет он. И оба поймут, что не знают, нужно ли ему идти к ней. — Ты толковый… Но — не мой…
Ветер выбьет на обратном пути слезы и негде их будет высушить. И никто не объяснит, почему у них не сложилось.
— Эй, — слышит он голос. — Что с тобой?
Гость вздрагивает. И тотчас вся нарисованная картинка пронеслась назад, оставляя привкус горечи. Он решительно направляется к выходу, знаком показывая женщине, что сожалеет. Он не сойдет на остановке, где нет жизни, а лишь вечные тяготы и путь в никуда. И поезд, на котором он еще несется в ночи, — не оборвет его сердце уходящими вдаль огнями.
Продавец дырявого рога

Оказывается, в нашем городе есть улица Творческая. Надо же… Может, шутка чья? Впрочем, это и не улица вовсе. Так, крохотный дворик, зажатый между бетонными офисами, помпезным банком и прочими «шопами». В щель между зданиями и не проедешь. Тишина, мягкие желто-зеленые тени, несколько тополей… Словно в аквариуме. Подозреваю, что на этой улице всего один дом. Точнее — одноэтажный деревянный барак, выкрашенный облупившейся краской.
Уже месяц вожу сына в эту художественную школу. Пока сын развивается, сижу на лавочке, мамаш рассматриваю. Обхожу барак — одна его половина, где юные художники, молчит, другая — поет, там хоровое отделение. И как они все там вмещаются?
По правде говоря, школа напоминает мне маленький кораблик. Волны океана бушуют, а суденышко, потрескивая, продолжает свой путь. Сколько таких корабликов нужно городу? Стране?
В очередной раз, обходя школу, замечаю в торце здания пристроенное крыльцо. На двери надпись — «Магазин бесполезных вещей». Ну-ну, думаю, — «творческая» же…
Хозяин магазина, больше похожего на кладовку, невысокий щуплый мужчина. Уже не молод. Сидит на плетеном ветхом стуле, придвинутом к стене. Тихий человечек, подставил лицо заглянувшему сюда лучу солнца. Взгляд его печален и добр. Вдоль стен, там и сям, пылятся в беспорядке предметы почтенного вида. Что-то узнаешь сразу, другое, непонятное — подписано. Надписи самодельные.
Забавно, конечно. Отмечаю треснувшую гавайскую гитару без струн, дряхлый бубен шамана, маску племени «нго-нго» (как гласит фанерная табличка). Далее — стрела папуаса, китобойный гарпун. Попробовал на ощупь — железный! Затем следуют: «вериги для грешников» (проще — ржавая цепь), «набор жреца вуду» (какие-то кости и перья), «театральный костюм Дон Кихота» (выцветший и драный) и много другого в таком духе. Завершает сей паноптикум скелет павиана в позе мыслителя.
— Так вы из родителей? Смотрите…
— Зашел случайно. Странный у вас товар…
— Ну, в быту эти вещи не нужны. Непрактичные «отходы жизни». Можно повесить на гвоздь. Экзотика… Для чудаков.
— И где вы их находите?
— Где как. Трачу пенсию, играю на дудке у ларьков, пишу в цирки. Знакомые есть в других городах. Главное, чтобы вещь была интересная. И обязательно — со следами рук. Не муляж.
— Выходит, в убыток торгуете?
— Да не торгую почти. Показываю. Где вы увидите настоящий африканский там-там? А колесо от рикши? Смотрите, как износилось! Или эта штука для подъема парусов…
— В нашем городе паруса? Тайга кругом!
— Вот видите. Непрактичные вещи. Другая у них планида. Что ни предмет — судьба. Вот кобура настоящего анархиста. Внюхайтесь! Призрак альбатроса революции…
Добросовестно нюхаю, но вместо запаха маузера, ощущаю лишь затхлость кожи.
— Не чувствуете? А я — слышу…
— И что же, покупают?
— Случается. Недавно один господин приобрел эфес от шпаги. Говорит, вызвал соперника на дуэль. Все же лучше, чем бумажниками тузить друг друга.
— Пытаюсь понять вас…
— Скучный наш город, пресный. Без изюминки. Нет у нас ни «чарли» своего, ни «мистера Икса»…
— Пожалуй. И контор многовато.
— Вот-вот. Вы на занятиях были? У мальчика…
— Заходил. Час выписывают яблоко.
— А в хоровой?
Он подводит меня к щели в стене. Засаленные пальцами доски выдают пункт его наблюдений. По примеру продавца наклоняюсь, прижимаясь к доскам.
— Смотрите! Летят!
— Разминка. Машут руками…
— А будто — взлетают. Может, оторвется кто…
Смотрю на него внимательней. Нормальный мужик, в общем. Вокруг детских глаз морщины, виноватая улыбка. Похож на клоуна в отставке. Скольких людей он рассмешил? Теперь не в силах крутить кульбиты, кричать «Оп — ля!».
Еще раз медленно обхожу этот музейный утиль. Что-то ирреальное чудится в не нужных миру предметах. Все как — будто настоящее, трудовое, а — бесполезное. Тут и старый английский стек, и персидский чурбан, и цилиндр эквилибриста. И даже подзорная труба без линз.
— Что же такой трубой делать?
— На звезды смотреть. А не хотите купить рог дырявый?
Он протягивает завиток рога, из которого, верно, не один кавказец выдул бочку вина. Рог безнадежно испорчен. Хотя, изловчившись, можно закрыть пробоину пальцем.
— Дыру залатать можно. Поставить пломбу…
— Зачем? Тогда из него пить будут. А так можно звук извлечь.
С уважением к рогу, продавец подносит завиток к губам. Вбирает в себя воздух. Звук жалобный, но одновременно — утверждающий, вырывается из отверстия, устремляясь в окно. Кажется, музыкальный дух пытается пробиться сквозь строй окруживших его зданий. В поисках выхода звук мечется, проникает в окна особняков и там дробится в бесконечных кабинетах, компьютерах…
Признаюсь, мне стало не по себе. На мгновенье почудилось, будто стою у стен старого замка. Зубцы стен уж закруглились, окна бойниц, подвесной мост поросли мхом. Ворота в замок заперты, а внутри — тревожится люд. Что случилось?
Внезапно впереди, на холме, у темной черты леса появляется всадник, — таинственный, прекрасный герольд. Его блеснувший золотым украшением рог волнующе трубит, зовет. Скорей! К городу ползет дракон!
Вот почему тревога! Сквозь гущу леса к городу близится чудище. Кто с ним сразится? Кто смельчак? С тем самым драконом из детства — помните? — шипы на шее, рога, чешуйчатый хвост… С монстром, пожирающим идеалистов. Которого до сих пор победить никому не удалось.
Пустой стакан

Я тогда еще подумал: Бросить что-нибудь в воду? Камень, монету… Зачем я здесь? Течение Москвы — реки свинцовой полосой неслось равнодушно меж бетонных парапетов…
А затем поезд, выстукивая и лязгая, уносил нашу группу из столицы в далекий спокойный Усть — Сыровск. Мы — команда провинциальных сетевых бизнесменов, еще начинающих и горящих желанием стать «изумрудами», «бриллиантами», «сапфирами»… Занимаем весь вагон. А возвращаемся с семинара, проходившего на огромном стадионе, который я раньше видел по телеку, болея за любимый футбольный клуб.
Сознание человека из глубинки… Размеры сооружения, как и вся Москва, подавляли. Полчаса мы добирались до своих мест на трибунах, преодолевая эти пролеты, проходы и переходы. Гигантский «Колизей», превращающий тебя в пылинку, насекомое…
Сорокатысячный стадион был полон. Внизу, лицом к зрителям, стояли цепью молодые полицейские. Они делали равнодушные лица, но в глазах их читалось удивление. Ведь они наблюдали не футбольных фанатов, а торгашей, — мужчин и женщин, молодых и старых, подростков, детей. И все размахивали флажками, шарами и прочими атрибутами болельщиков. Стадион скандировал речевки, названия районов и городов…
В центре поля стоял величественный шатер, с большим экраном и мощными динамиками. И когда на сцену вышел ведущий, стадион взревел восторженными А! О! У-у! и громом аплодисментов…
Сейчас поезд уносил меня от жуткой толчеи, неудобств гостиницы, метро. На своей верхней полке в проходе вагона я пытался стереть из памяти раздражающие картины.
…Жену пригласили в одну из модных кампаний распространять штатовские чистящие средства и мази…
— Представляешь, — бегала по комнате супруга, — стану богатой! И всего — то рассказать знакомым о товаре, показать как мыть, скрести… Любишь чистое? Это не «пирамида», не обманут!
На первой встрече выяснили — здесь новый вид продаж. Не магазинный, а по сети партнеров, ты мне, я — тебе… Современно! Нет очередей… У кого дома порошки, у кого — мед, косметика, биодобавки… И за каждую сделку — свой бонус, проценты. А там и до путешествий недалеко…
Признаюсь, не сразу понял в чем фишка. Люди подрабатывают продавцами. Ну, ладно… Но зачем обставлять все как философский, идейный прорыв. На семинарах не говорят: — Надо активничать! А кричат, возвышают: «Будь свободным! Успешным! Стань звездой!» После таких «вливаний» человек ходит, как зомби. Он уже не любит свое дело, профессию врача, учителя, не ищет свое призвание. А — становится частью Системы, делающей тебя Личностью планеты!
Тут и сомнения подкрадываются. Вроде жил правильно, приносил пользу, пусть денег и не скопил. Ан нет, не бывал на Канарах, машина твоя бедная и, вообще, ты — пресный… А кризис то — под- жи — да — а — ет!
Честно говоря, смутил энтузиазм жены. Изучала методики, как новую русскую идею. Была комсомолкой, теперь — предприниматель! По характеру обычная чиновник, дачница… А тут — перспективы!
Я думал, мы, советские, коллективные, не знали собственности. Потому нас задели за живое. Свое дело! Видно, надо переболеть и этим. Дома появились какие-то бабки с чаепитиями, коробки с американским мылом…
А на семинарах людей «накачивали». Лекторы трагично откровенничали, рассказывая истории. Бедность… зависимость… скучная работа… пустая жизнь… А теперь — новая возможность, перелом в сознании! Успех, достаток! Ты — словно безногий, что взобрался на Эверест! Ты — звезда!
Меня одолевали сомнения. Продавец, организатор — возможно. Но — личность? К тому же, чтобы добиться успеха, надо отдавать делу все время… А со сцены орали: — В тебя не верили. Но ты — взлетел!
В центре стадиона выступал бывший работник обувной фабрики. Он стал миллионером, организовал свою сеть партнеров, которые подключили своих партнеров, а те — своих…
— Кто я такой, чтобы зазнаться! — кричал микрофон. — Продавец порошков? Но я — поднялся… Обувщик поднял в руке стакан с водой. — Будьте, как этот стакан! Наполняйте себя! Тогда вам будет что отдать людям!
Он повернул стакан, и вода тонкой струйкой полилась на сцену. Действо демонстрировалось на большом экране. Люди с трибун завороженно следили за струйкой, блистающей словно нить жемчуга. Гипнотизм семинара достиг апофеоза. Стадион в едином порыве воздал оратору. Улучив момент, я выбрался из ликующей толпы, нашел выход, и стал приходить в себя около свинцовой чужой реки…
Поезд уносил нас домой, и возбужденные люди громко обсуждали увиденное. Мужчины поддались алкоголю, — психика требовала разрядки… Уже под градусом, я обходил вагон, заглядывая в плацкартные отсеки. Некоторые горожане оказались знакомыми. Заметил бывшего редактора газеты, комсомольских деятелей (куда без них), плохого актера…
За одним из столиков сидел лысый толстяк в майке. Потный, полупьяный… Он был начальником строительной конторы, где я трудился столяром. Неплохой, в общем, дядька, по прозвищу Крендель. В руке его подрагивал пустой стакан.
— Я такой же, как он! — чуть не плакал бывший начальник. — Что я могу дать людям? Его жена, заводная певунья, не смела перечить.
Мне было жаль Кренделя. Ну, не был он гением строек, не дали орден. Нормально руководил, подписывал приказы. А, все же, выполнял планы, давал пользу городу, людям… Чего — скис?
Эти знамена материальности всех достали. Значимость прожитой жизни теперь измеряют кошелем. Между тем, успех в бизнесе приходит к нескольким. К тем, у кого есть показатели в гороскопе. Мода есть мода. Ну, пришли к власти торговцы… Да ведь у каждого из нас свой путь, начертанный небесами.
…Я стоял у реки, размышляя о переменчивом историческом ветре. Направление его меняется. Почему иногда он дует в сторону духовности, а в другой раз — в практицизм, дух стяжательства. Кто с нами играет в разные времена?
Возможно рисунок планет не тот начерчен? Встанет Уран в какую-нибудь оппозицию с Плутоном — вот и период бездуховности запустился. Повернулся Нептун в квадратуру с Сатурном — людей обуял яд обмана, иллюзий… Все меняется циклично. Уйдет и этот морок внутренней пустоты…
Невольно глаза мои устремились к небу, высматривая расположение звезд. Увы, серые облака кучнели, обещая дождь. И, кроме звезды на башне Кремля, темнеющей вдалеке, ничего не было видно.
Тунгуска актера Добродеева

В один из зимних вечеров актер театра Добродеев Егор привел в гости к родителям знакомую. Темноволосая, скуластая, с глазами Чингис — хана, похожая на алтайку или татарку… Одета просто, без макияжа и лишь шапка и варежки напоминали этно — стиль, редкий в гламурной столице.
— Рисует в театре, декор, студентка…
— Гу — гу… — сказал глава семейства.
Иван Добродеев, популярный актер, видный 60-летний мужчина с залысинами и крупным носом разливал наливку своего изготовления. Прославился в телесериале про дачников, где актер громко юморил и попадал в разные ситуации с соседями.
Девушка отпила глоток.
— Что вы рисуете? — спросил, не глядя на нее старший Добродеев.
— Этно — футуризм… Пишу диплом. Но, скорее, поищу в другом направлении…
— Что так? Опишете суть стиля?
— Это когда закорючками, в духе народного орнамента. Кружки, запятые, — все в цвете. Можно — кляксу в интерьер, а можно философию, космос… Но — трудно выразить социальную напряженность… Дух времени. Например, ощущения простого труженика…
— Ого! — сказал Егор. — А — молчала…
— Почему ж — трудно? — сказал старый актер, впервые посмотрев на гостью. — Нет опыта, мастерства? Любой стиль выразит «печаль», «радость»…«гнев».
— Наверно… Но глаза бедной старухи — узором? Ненависть рабочих к олигархам — лубочно? Этот стиль… отвлекает. Не бьет в цель, а — умничает, слегка цепляя… А, может — не умею…
С минуту все смотрели на студентку. Не читает ли она по бумажке? Лет девятнадцать ей…
— То есть, хотите реализма, натуры. Фантазии, украшения — претят? — мирно дополнила разговор жена Добродеева. — Такое не выставишь. Нет спроса…
— Кто — то должен о несправедливости… Социалка — стонет…
— У вас есть спонсор?
— Нет. Но живопись не затратна, как кинопроизводство. Можно писать углем… К тому же, есть интернет.
— Угле-ем… — повторил задумчиво Иван Петрович. — Интересно. И неожиданно спросил: А как вы относитесь к моим ролям? Не ко мне, как к человеку…
Егор взглянул на отца с удивлением. Того интересовало мнение студентки, что было демократично и мило. Это делало честь мэтру.
— Не знаю. Наверно, вы — добрый. А к ролям отношусь прохладно. Имею в виду «дачника» и «рабочего» в последнем фильме.
Наступило молчание. Иван Петрович соображал, стоит ли продолжать разговор с нахалкой или все обернуть в шутку, как он делал на съемках сериала про дачников. Там такие страсти кипят! А сын — пусть развлекается, сегодня — шаманка, завтра — оленеводка… Экзотика!
— Любопытно. Чем же вам роли не угодили? Многим нравятся. Отзывы, благодарности. Встречи со зрителем…
— Понятно. Получили звание. Премии фестивалей. Я тоже смеялась от ваших шуток у телека. Иногда.
— Так, что? Мы ведь продюсерский центр создаем. «Добродеевы», слышали? Хотим снимать народное кино. Надоела чернуха — убивуха… Будем нести доброе…
— Завидую! Но… народное кино, значит — быть с народом? Или просто — байки, клоунада? Отвлекать от политики, от проблем…
— Ну- у… смех всегда нужен. Даже на войне…
— Есть такая штука, актерское амплуа, — вмешался сын Егор. — Папа — комедийный. Детективов, мистики — полно. И дурного качества. Доброго смеха — мало. Ты — отдыхаешь, веселишься?
— Да. Люблю пародию, пантомиму… Как сказать… Я не критик. Только — ощущения…
— Говорите. Мы — слушаем…
— Ширвиндт сказал: На мне юмор кончился…
— Шутит… Знаете, сколько ему?
— Дело в другом. Вы в сериале показываете сады, хоромы. Коттеджи в два этажа, гостиницу там открыли… Много ли в России таких дач? По себе знаю. У нас продали людям участки. Пять соток, в тайге, без дорог. Всей семьей корчевали. Поставили сруб, картошка, навоз… Труда — немеряно! Давка в автобусе, засуха без колодца. Люди там умирали… А ваши герои — хохочут, пьют коньяк и парятся…
— Эх! — воскликнул Егор. — Голос глубинки!
— Да, мы бедны. — Голос девушки дрогнул. — Вы потешаете сытых. Но и мы — страна! И мы — зрители! А ваш фильм о рабочих? Идеальный завод, уют, хорошие зарплаты… Вы там — передовик, которого снимает телевидение. Когда вы по ящику видели правду о рабочих? И эта ваша заводская самодеятельность с выездом в столицу. Кто сейчас из трудяг пляшет на сценах? Время какое в фильме? Не указано. Сладкий пирог, патока… Как в СССР. А сейчас — торговцы у власти!
— Что вы знаете про…
— Мать говорила! Отец всю жизнь пахал, а пенсии у обоих — чуть! Почему так? А у ваших рабочих — особняк на берегу реки, квартиры, машины. Одинокая женщина с тремя детьми — ухоженная толстушка! А ведь простая красильщица в цехе? Вы же обманываете…
Пауза затянулась. Все ждали, что скажет Иван Петрович, сыгравший в фильме главу рабочей династии, передовика и весельчака.
— Мда… Наехала. Но, во — первых, дача и квартира в фильме — не мои. И не нашей семьи. Есть сценарий, режиссура. Актер — зависим. Я плохо сыграл?
— Хорошо. В том и беда. Сами не желая, вы словно укор нам. Мол, бедные — сами виноваты. Не сумели, не провернулись… А надо шустрить, у всех — равные шансы… Я для вас — завистливая, злая… Может, — лентяйка? Мы — неумехи, балласт. Своим добрым лицом, шутками и молчанием о несправедливости вы нас убеждаете… В том, что мы — лохи! Фильм то — о современности…
— Не преувеличивайте! Если вы приняли так фильм, еще не значит, что я — пособник режима. Есть остросоциальные ленты, есть — комедии. Я не пою на площади за кандидатов правящей партии. Не выступаю на корпоративах и в баньках олигархов… Я поддерживаю простых людей шуткой, оптимизмом.
Иван Петрович подошел к окну. Внизу играла, веселилась, искрила огнями столица. Вспомнилась фраза политика: «На освещение Москвы уходит бюджет региона…» Но как трудно было пробиться к признанию! Ведь он сам из провинции, шел по чуть — чуть, играл волков в детских спектаклях… Не расскажешь, как репетировал свой коронный смех. В полях, в лесу, до болей в животе. А тут — такое…
— Да что ж, теперь, без шуток, комедий?
— Можно шутить! — Лицо гостьи побледнело. Она поднялась из-за стола. — Но — смех сквозь слезы! И указывать источник слез. Ваш рабочий даже не сказал, что ему повезло с работой. Только радость, только песенки…
— Позвольте специалисту, — вмешалась жена артиста. — Я кинокритик, имею степень. — Писала и книгу о комедиях 30-х годов. В разгар репрессий… Уже расстреливали, гнобили на каналах, в лесах… А народ — упивался смехом комедий. Какой был успех! Вы смотрели «Святого Йоргена», «Веселых ребят», «Волгу — Волгу»… Утесов, Ильинский, Орлова… Представьте, что давали такие фильмы людям. Как поднимали настрой…
— Я выразила мнение. Меня спросили…
— И потом. Как-то не патриотично рассуждаете…
— Я — патриотка народа! А ему сейчас не так хорошо, как в ваших фильмах.
— Сможете изобразить? Кого-нибудь из нас? — Иван Петрович решил сменить тему. — Можно и по рюмке…
— Не сейчас. Оставлю набросок…
Гостья достала из рюкзака свой блокнот, вырвала страничку. На листке виднелся карандашный рисунок. Автопортрет. Девушка — воин, в национальном головном уборе, схожим с боевым шлемом степняков. За спиной колчан со стрелами, на груди — то ли кольчуга, то ли национальные украшения. На щеках девушки угадывались контуры старика и старухи, вероятно — родителей воительницы.
Она попрощалась с просьбой не провожать. «Не боюсь улиц». Возможно, знала какое-нибудь кун-фу или приемы, когда пальцем, ребром ладони…
— Что за нация? — старший Добродеев рассматривал рисунок. — Не чукча?
— Тунгусы! — сострил сын. — Они метеорит заставили в тайгу упасть. Потом бревна собирали…
— Тунгусы — бывшие эвенки. — добавила жена. — Их мало осталось. В городах — единицы…
Иван Петрович взял с полки журнал, которому недавно давал интервью. Полюбовался своей фотографией. Пробежал глазами текст:
«Сейчас много плохих новостей. Хочется, чтобы в мире было больше доброго, чтобы люди держались семейных ценностей. Чтобы зритель, выходя из зала, становился чуть милосерднее. К своему дому, Родине…»
— Значит, тунгуска? Редкая птица... Выходит, нам повезло? — Тут Иван Добродеев издал смешок, от которого всегда млел обыватель и который считался фирменной деталью известного комического актера.
Весеннее приключение

— Странно, на кой ей сдался мой зад? Трогает, как бы случайно… Проверка на геморрой? И эти разговоры про «точки»…
Так, с долей тревоги, размышлял Егошин, возвращаясь с любовного свидания. Любовником он был неопытным, приключений по этой части не имел. В гараже слесаря порасскажут… Тот напялил вибратор с батарейкой, другой — химию пьет… Герои!
Уже второй год слесарь Егошин встречается с юристом Анной Петровной. На ее кабинете в автотранспортном предприятии написано: «БУЗАНОВА А. П. специалист». Написать бы рядом — « Егошин — Бузанова — - любовники». Ха-ха… Прикольно.
Когда Егошин дождался пенсии, Анна Петровна предложила ему поработать у нее по хозяйству. Ну, потрудился на даче, потом сделал шкафчики на балконе. После работы выпили с устатку. Так подружились. Егошин, заядлый рыбак, стал привозить ей соленых щучек. Сам он был из деревни, любил лес. Анна Петровна нравилась ему крепким характером. А еще ягодицами, словно у добросовестной лошади. Сам Егошин был сухощав и не боялся, как все деревенские, комаров — кровопивцев.
Так или иначе, оказались они в ее постели. После акта любви Анна Петровна попросила достать полотенце из шкафа. Егошин открыл дверцу и обмер — на вешалке висел китель офицера прокуратуры. Е — ма — е! Попал! И хотя криминального он за собой не помнил, стало боязно. Мало ли?
Теперь стало ясно, почему она расспрашивала о родственниках, о бывшей жене, уехавшей в деревню. Не сидел ли кто? Не болел сифилисом? Честно говоря, охота к сексу пропала. Егошин устал, и они разговаривают лежа.
— У вас, мужчин, две проблемы — у кого лысина больше и у кого между ног длинней.
— А у женщин?
— Жир на талии…
— А оральный все любят?
— Нет, но — пробуют… Я покажу кое — что…
Он лежит на спине. Она садится на его «нефритовый стержень», как пишут буддисты, плотно обхватывает его внутренним «лотосом». Затем медленно приподнимает таз своими крепкими бедрами. Медленно опускается. Опять медленно и вкусно тянет вверх по его дружку. И надо было дождаться шестидесяти, чтобы познать прелесть секса… Ему хочется поддать. Он выгибает спину, поднимает таз…
— Не спеши! — осаживает она. И опять — медленно — вверх — вниз… Медленно! И дао любви цветет.
Расставаясь с мужем, Анна Петровна уступила ему только машину. Дача и гараж остались за ней. Да вот беда — потекла гаражная крыша. И теперь надежда была на нового мастеровитого друга.
В конце марта неожиданно ударила оттепель. Анна Петровна рванулась в гараж и — не успела. Талые воды затопили картофельную яму в гараже. Срочно позвонила Егошину. Прихватив ведро и веревку, тот явился.
О, это было зрелище! Вид с крыши гаража впечатлял.
— Красота! — крикнул Егошин, взобравшись наверх с лопатой.
Комплекс гаражный выстроили за городом, с видом на поля. Гаражи установили ярусами, так что с любой крыши можно видеть уходящие вниз крыши соседей. Ну, а вдали, в перспективе — привольный дух волнистых полей с темным массивом леса, уходящего за горизонт. Сейчас поля еще в снегу, но пройдет три дня, и они начнут темнеть, проседать, маня к себе пьянящим запахом первых проталин…
Егошин сбросил снег с крыши, пообещав просмолить доски. Затем, уже вдвоем, стали вычерпывать воду из металлической ямы. Анна Петровна, в сапогах, снизу наполняет ведро, Егошин тянет за веревку, выплескивает на улицу. Перед воротами гаража — сплошные ручьи…
Однако, похолодало. Егошин, испросив разрешения, сбегал за водкой. Немного выпили, согрелись. Еще выпили. Ближе к вечеру оба устали и опьянели. Егошин спустился в яму к Анне Петровне. Прижавшись друг к другу, стоят на лестнице в узком люке бака, смеются. В люке не повернуться. Воду выкачали, можно — целоваться.
Тут и желание подошло. Егошин чувствует, как его «дружок» давит низ живота Анны Петровны. Та уже дышит неровно. И как он умудрился освободиться от брюк? Так, не слезая с лестницы, получился у них любовный акт. Вылезли из люка смущенные, но довольные. Прямо — юность пахнула. Старики — любовники!
Однако, приключения на этом не кончились. То ли водочка, то ли свежий воздух подействовали на Егошина благотворно. Он захотел еще. Мало того, — соблазнил Анну Петровну. Тут и стул в гараже пригодился…
Представьте, двери гаража раскрыты настежь. Внутри — два голых пенсионера с посиневшими от холода ногами сексу отдаются. В помещении — беспорядок, одежда валяется, трехлитровые банки попадали с полок. Безобразие!
Возвращаются затемно, протрезвевшие, с головной болью.
— Напоил меня… — ворчит недовольно Анна Петровна.
— Так воду вычерпали! — оправдывается Егошин. — А банки я принесу!
— Ладно. Ты — не заболей! И дружкам своим не болтай…
Он вспомнил, как приходилось годами дышать гарью автобусного парка. Те слесаря, что покруче, выбирали себе легкую поломку, ремонтировали частников за деньги. Ему доставалась самая тяжелая, грязная работа. Как быстро «бабло» подмяло всех! Он не любил время, в котором ему пришлось карячиться за гроши, сбивая пальцы. И каждый день отмывать руки бензином. Оттого щупальца его стали, словно гаечные ключи, — темные, закорузлые…
И все же, Егошин застудился. Полипы в носу раздулись, глаза покраснели… Стоя, еще терпимо, а лежа — дышать трудней. Не надо бы секс устраивать, болея!
Выпили, как обычно, закусили морской капустой. Анна Петровна была не в настроении и придумывать ничего не стала. Минуты через три соития, Егошин стал задыхаться. Он вышел из подруги и решил отдохнуть. Поймать дыхание в норму. Но Анна Петровна маневр его не поняла.
— Ты чего? — почти закричала она. — Думаешь, я тетка? У меня тридцать лет стажа! Я думаю, читаю…
— Причем тут стаж? — подумал Егошин. А вслух сообщил: — После вашего тона, Анна Петровна, я здесь не останусь.
Он пошарил вокруг, нашел штаны. А вот носки запропастились. Стал застегивать ширинку. Анна Петровна, лежа, сверкала на него глазами.
Вышел, оставив женщину в постели. Сама виновата! И чего взъелась? Ну, прервал сношение. Так чтобы отдышаться, нос облегчить. Не на нее же сморкаться!
Он восстановил в памяти событие. Ну, не сказал ей, не пояснил. Да разве об этом говорят? Позвольте, выбить соплю! Или подумала, что я кончил и равнодушно слез с нее? Но разве женщина не чувствует, когда мужик кончает? Что за фокус?
Так или иначе — загадка осталась. Егошин шел по весенней слякоти, вдыхая просыпающееся благолепие природы. Он подошел к автобусной остановке, где стояли две женщины. Те опасливо отодвинулись.
— Чего еще? — поморщился. — Водкой несет? Провел рукой по волосам и извлек застрявшее перо с макушки. — Ну, блин!
Настроение у него было отменное. Сыт, слегка пьян, надоевший роман закончен. Впереди — жизнь свободного пенсионера, полная интриг и опасных приключений.
— Поживем еще! — думал Егошин. — А те, кто грабит его, выдавая нищенскую пенсию, — пусть засохнут! Им не отнять у него небо, лес, поля за вокзалом… А также - умение трудиться и помогать иногда одиноким пенсионеркам.

Из папки с вырезками
В саду своем
Домашние мои в комнате за стеной, — чуть слышен приглушенный звук телевизора, детский смех. Я сижу на кухне после напряженного дня и листаю свою старую папку. В минуты усталости, сомнений она — мой лучший помощник.
Я давно не рассматривал ее. Пожелтевшие, плохого качества вырезки из газет и журналов складывались сюда от случая к случаю. Пейзажи, фотографии, открытки с видами, но чаще среди этого богатства — люди. «Предпочитаю писать глаза людей, а не соборы». Он тоже в папке, автор этих слов. Бывший проповедник, а затем великий художник, умерший в нищете. Автопортрет его тревожный: израненное морщинами лицо, они словно борозды на вспаханном поле.
Задумчиво перебираю вырезки. Кого тут не встретишь, в этом собрании лиц — выражений! Вот гениальный ученый, перевернувший представления в науке. Мало кто понимал его тогда. Сейчас его учение в школьных учебниках. На снимке, однако, ученый больше похож на клоуна, — седой, растрепанный, с детскими глазами, устремленными в мироздание.
А вот и сам клоун на другой вырезке. Смешной, загадочный, выглядывающий из-за кулис. Он в шутовском костюме, с пудрой на щеках. Но что-то таится в его глазах, что заставляет думать о нем, как об ученом…
Еще вырезка из газеты: молодая доярка с бидонами, шлангами остановилась у изгороди. Девушка улыбается открытой и в то же время грустной улыбкой. Ощущение молодости, любовь к родному краю и какая-то печаль соединены в трудно объяснимом выражении. Ты знаешь, как ей нелегко. Но ей так хочется верить в будущее…
Разглядываю вырезки по разным причинам попавшие в папку. Мне нравится этот пожилой рабочий, оглядывающий свой цех. Чуть растерян его взгляд, в натруженных руках — цветы. «Проводы на пенсию». Какие чувства вызывают в нем ставшие неотделимыми от его жизни станки?
Или эта фотография, одна из любимых. Женщина — акушер выносит захлебывающихся криком младенцев. Сморщенные мордочки новорожденных, не понять от одной они матери или от разных. Лицо врача полузакрыто марлевой повязкой, но какие живые у нее глаза!
Я вглядываюсь в лица на снимках и словно погружаюсь в пучину жизни. На какое-то время рисуется: будто стою на затерянной где-то в глубинке речной пристани. Дощатый настил покачивает течение, лицо овевает прохлада, а рядом, прекрасными видениями — люди, с которыми даже не нужно разговаривать, достаточно перекинуться взглядом.
Я снова листаю вырезки. Встречаются среди них и «божественные». Репродукции из популярных журналов, наглядно рассказывающие о жизни, деяниях Христа. Образ богочеловека, принявшего муки, вызывает сочувствие. Но как передать его завет искать «царство божье» внутри себя? «Ибо подобно оно зерну, которое человек посадил в саду своем…»
Может поэтому, я думаю не о религии. Я думаю о том «голосе», который ведет человека независимо от того, верит ли он в Страшный суд. И разве только в религии спасение? Разве не было других учителей и образов, способных повернуть тебя к свету? Разве исчезла красота мира? И разве мало людей, несущих в себе добро, сострадание, справедливость?
Перекладываю, выравниваю газетные вырезки. Некоторые приклеены на картон, другие без подкладок, измятые, чуть надорванные. «Божественная» тема теряется среди десятков «мирских» снимков. Здесь и ветеринар, заботливо удаляющий зуб бегемоту. Устрашающего вида инструмент, жесткий фартук, а, все же, видишь — руки мастера добрые.
А вот вырезки с фронтовыми фото. На одной из них пожилой солдат возвращается с передовой. Фотография переносит в прошлое, и ты чувствуешь тревожный воздух войны. Сам солдат в бинтах, намотанных торопливо, со свисающим на глаза лоскутом. Все это неожиданно, не по — киношному.
А вот фотография на все времена. Седой физкультурник, сухощавый, крепкий, и его полные жизни глаза. Он только что преодолел марафон. А спортсмену — под девяносто! Какое жизнеутверждение в лице старика!
Мне нужны эти вырезки. На снимках люди, взрастившие в себе зерна, о которых говорил Христос. Хотя, скорее всего, эти люди знают о Боге немного.
Порой, думаю, что дает мне эта папка? С этими старыми фотографиями… Уходят времена таких лиц на снимках. И газеты уже другие. Их много, цветных газет и журналов. А вырезать из них — нечего. Или мне это кажется? И время людей — вернется?
Вместе вечером
В стылом свете витрин лица прохожих серые. Снег заштриховывает им губы, сжимает слова в них, и, надвигаясь из снегопада, они проплывают в молчании.
Холодно, тревожно… Люди торопятся, цепко вжимая подошвы в заснеженный скользкий наст. Лоб и глаза их в тени. У молодых и в тени глаза светятся. Но чаще встречаешь тех, у кого уже все случилось. Хорошо ли? Плохо? Или просто уходит жизнь?
Вот один — отделился от толпы, свернул в переулок. Дом с освещенными окнами, деревянный заборик в снегу… Смотрите! Как вбегает он в массу детей, не замечая ни запаха, ни шума, как выискивает своего, похожего… Женщина с грубым лицом выносит ему уставшего за день ребенка. Человек хватает его, целует. А она, вразвалку, идет на своих толстых с разбухшими венами ногах, рассеянно оборачивается, вспоминая, где и чей ящик с бельем… И тогда он видит ее ГЛАЗА — мутные, одуревшие от крика, от запаха хлорки и горшков, от постоянного, отупляющего детского плача. Потухшие, неживые глаза.
Человек выходит под снег, под мерцающий свет витрин. Поток промелькнувших лиц сдвигает в памяти то странное выражение женщины. И лишь ГЛАЗА ее — остаются.
И, когда-то, через несколько лет, они встречают эту няньку из ясель. Она шутит: «А помнишь, как тетю зовут, помнишь?»… — и сын молчит, а на лице человека улыбка. Он не может подсказать сыну. Глаза ее в тот день будут ясные, только старые очень глаза, израсходованные.
«Да, нелегка жизнь…» — подумает человек. Но потом, поглядев в себя глубже, честнее, он найдет в своем сердце и другие слова. Ему будет трудно их высказать. Они будут путаться, мешаться с неясным желанием сделать такое, чтобы глаза эти к вечеру не теряли человеческого блеска. Может, захочет он, чтобы кто-то большой и мудрый, протянул свою руку с небес, поглядел в глаза той уставшей женщине и погладил ее по затылку: «Держись мол, я все знаю…»
А пока — вечер. Он придет и сегодня, раскинув свой черный платок с блестящими искрами звезд. И шагнут вновь прохожие в вечернем свете. И от этого света будет трудно видеть их лица, и особенно трудно — ГЛАЗА: одинокие, ждущие, скрытые легкой полоской таинственной тени.
Переговоры
Голос телефонистки ровный, бесстрастный, отчетливый. Но иногда в нем слышишь участие. В такие минуты она говорит с городом — неудачником.
Мы сидим, ожидая вызова, мы что-то думаем о себе и своих близких. Как они там? Что совершили? Люди входят в кабины, плотно закрыв за собой двери. Одни садятся удобней, включая свет; другие стоят, отворачиваясь и пряча лицо; третьи стараются говорить тише. И все-таки немного слышно. Какие-то отдельные слова, предложения…
Вон из тех кабин, слева, доносится:
— Алло! Мама? Кто это? Что с мамой?
— …красненькую купи, чтобы с полоской была, с шовчиком…
— Вы с ума сошли! Потрачены годы жизни…
— Ха-ха-ха… Получил! Никогда не забуду…
— …забыл ты меня… совсем забыл…
— Не смей! Я приказываю тебе… я прошу…
Легко, беззаботно плывут над нами чужие адреса. Мы сидим, укрываясь газетами, мы почти спим, утопая в удобных креслах. Непрерывно зовет Деревянск — ему срочно нужен наш город. Где он, Деревянск, в какой тридесятой области? И кто не спешит к нему на свидание? Тихий вздох неудачника витает над нами.
И снова в кабинах:
— Алло, мама! Что сказал врач? Что — о?
— …и что купили? Ну — у!
— Родила! Слышите! Здоровый!
— …умер… несчастный… упокой его душу…
— Да проверьте же линию!
И опять Деревянск нас выводит из задумчивости. Уже удачно прошли города — Москва, Тюмень, Самара… Все получают ответы. Лишь не везет Деревянску. А в кабинах люди:
— Восемь лет я одна… Видать, скоро…
— Год не дожил до пенсии. А оставил то… У-у-у!…
— Три дня! И я — в дамках! Живем!
— Алло, девушка! У нас еще минута!
Голос телефонистки становится суше, бесцветней, а поток абонентов не убывает. Люди выходят из кабин, не успевая стереть с лица обрывки мыслей и чувств. Сверху, с декоративного потолка, на них опускается скрытый свет ламп…
— Нет-нет, и не думай! Она не из нашего круга…
— Да, отец. Слышу. Сделаю. Ты — как?
— Ну и что, — сын? Деньги приняли? И не звоните…
— Мама, не плачь! У нас мало времени!
— Ничего не знаю! Никому не верю! Ни — ко — му!
И вот уже безнадежно: «По вызову Деревянска истекает время… Снимаю…» Все поднимают головы. Выходит, не дождался? Бывает. Впрочем, всегда есть кто-то чужой и последний. Всегда так было.
Ну, а ты сам? Чего боишься? Я поднимаюсь, делаю шаг вперед.
— Стоп! Есть ожидающий Деревянск. Я отвечу!
Я прохожу в лучах глаз к душной кабинке и беру трубку:
— Алло!
Мастерская
Если у тебя опять к вечеру разболелись ноги (когда это было — вчера? сегодня?), если опять ноет спина, а голова, точно свинцовый шар, — все равно не плачь. Что толку жалеть себя?
Ты погасишь свет надоедливо гудящих дневных ламп. Ты запрешь дверь на ключ. Уже никто не нарушит твой покой. Желтый круг светильника над столом выхватит из темноты угол комнаты. Оттого остальные стены, погруженные в сумрак, стараются исказить предметы. Напрасный труд. Ты знаешь их лучше, чем свои ладони. Это — твои инструменты.
Сейчас, когда мастерская принадлежит лишь тебе, здесь все иначе. Келья алхимика. Лаборатория. Вместилище тайн.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.