
Бесплатный фрагмент - Газетайна
Ночь в городке
В городок пришла ночь, осторожно зашагала по улицам, заглядывая в окна, привлеченная теплом и светом лампад и очагов — но тут же испуганно отскакивала, когда блик света падал на неё. В лесу заухала полная луна, села на ветку старой сосны: луна заухала, чтобы совы приняли её за свою, и не склевали, как бывало не раз и не два: почему-то совы были уверены, что луна сделана из сыра, и можно и даже нужно её клевать. Так оно и случалось, и совы склевывали луну, оставляя лишь тонюсенький серпик месяца. Лес сгущался все больше, окружал и окутывал себя самого, пока, наконец, совсем не запутался в себе, не заблудился окончательно. Ночь, тем временем, дошла до старого замка, хозяин которого впустил её, и даже предложил партию в шахматы — ночь, разумеется, играла черными, и пила черный кофе.
Хозяин замка не нравился нам, потому что был единственный в своем роде. Дело в том, что мы в городке делились на две группы: те, кто, вспоминая про Континент, смотрели вверх, потому что на Континент надо было лететь на самолете, и те, кто, вспоминая про Континент, смотрели на запад, потому что самолет летел в сторону запада. Хозяин замка же единственный, кто, вспоминая про Континент, смотрел вниз — потому что Континент был на другой стороне земли. Он же, вспоминая о луне, всегда смотрел в ту сторону, где была луна — даже если она была спрятана за горизонтом. Подозревали, что у него какие-то особенные отношения с луной — кто-то даже поговаривал, что видел, как луна тайком выходила из замка через потайной ход…
Однако, по-настоящему он насторожил меня, когда разговор зашел о смерти — и неприметный хозяин стал смотреть не в сторону кладбища, как все, не в сторону реки, как трактирщица, чей сын утонул в реке — а куда-то на северо-запад. Туда же смотрел он, когда в разговоре с ним я упомянул Претти, свою невесту, которую медленно подтачивала неведомая болезнь. И он снова посмотрел куда-то на северо-запад, и немало смутился, когда я спросил его — почему?
И все-таки я снова пошел спрашивать — почему, — когда смерть забрала мою Претти, я пошел в его замок, я позвонил в колокольчик, чтобы спросить — зачем.
Я даже не успел удивиться, когда увидел его мертвым на ковре посреди зала — я предчувствовал, что произойдет что-то такое. Ночь и луна были здесь же, они горько плакали, что их знакомого больше нет. И — черт подери — я видел, что мертвый хозяин замка смотрит туда, в пустоту, на северо-запад, где… где… черт побери, что же там могло быть…
Стоит ли говорить, что я стал собираться туда, в ту сторону, куда так смотрел покойный хозяин замка. Я не знал, что брать с собой, я вообще не знал, что меня ждет, правильно ли я делаю, что седлаю экипаж, или лучше все-таки оседлать самолет, даром, что сейчас и уздечки хорошей для самолета не сыщешь.
— Напрасно вы все это затеяли, — сказала ночь.
— Простите?
— Напрасно.
— А в чем, собственно…
— А вы сами подумайте… Когда говорили о смерти, он смотрел на северо-запад… и немного вверх.
— Нужно куда-то лететь? — догадался я.
— Правильно рассуждаете… и как вы думаете, куда?
Я не ответил, ночь тоже не ответила — мы и так понимали, что даже до ближайшей звезды мы не доберемся…
А можно я возьму себе облако?
— Мам!
— Ну что такое?
— Мам, а можно мы то облако возьмем, оно на дракона похоже?
— Нет, нельзя.
— Мам, а можно мы вон то облако возьмем?
— Нет, нельзя.
— Мам, ну оно на соба-аку похоже…
— Все равно нельзя, кто за ней убирать будет?
— Мам, ну я убирать буду, ну честно-пречестно!
— Поздно, пролетели уже.
— Мам, ну давай вернемся!
— Нет, не вернемся.
— Мам, ну почему мы не можем обратно полететь?
— Потому что не можем.
— Мам, ну почему-у?
— Потому что я так сказала. Спи давай.
— Мам, а нам еще долго лететь?
— Долго.
— Мам, а пусть будет недолго, а?
— Долго. Не получится недолго.
— Ну, ма-аам, ну пожа-а-алуйста, ну пусть будет недо-олго!
— Не знаю… может, недолго.
— Мам, а можно я луну возьму?
— Ну ладно, возьми луну.
— Ма-а-м, а она невкусная!
— Ну, еще бы она вкусная была, с чего бы ей вкусной быть…
— Мам, а мы домой когда вернемся?
— Не вернемся.
— Никогда-никогда?
— Никогда-никогда.
— Ма-ам, а почему-у?
— Ну… потому что вот так вот… спи давай.
— Мам, а я есть хочу, а скоро есть будем?
— Скоро.
— Мам, а когда скоро?
— Ну скоро, скоро, спи давай…
— Мам!
— Ну что такое?
— А правда, мой папа король?
— Правда.
— Правда-правда?
— Правда-правда.
— Мам, а у короля королева есть?
— Есть.
— Мам, а ты королева?
— Нет.
— Мам, а почему?
— Ну… вот, потому что.
— Мам!
— Ну что такое?
— А нам еще долго лететь?
— Не знаю.
— Мам, а почему мы все время вниз летим?
— Ну… вот так.
— Мам, а давай вверх?
— А ты попробуй.
— А не получается.
— Вот и у меня не получается.
— Мам, а давай вон то облако себе возьмем, оно на королеву похоже!
— Нет, вон то облако мы точно брать не будем.
— Мам, а ты королеву не любишь?
— Спи давай.
— Мам, а королева нас не любит?
— Да спи давай, я кому сказала!
…
— Мам!
— Ну что такое?
— Ну, можно мы вон то облако себе возьмем, оно на лошадку похоже?
— Нельзя!
— Ну, мам, ну почему-у?
— Ну, потому что пролетели уже!
— Мам, а давай вернемся?
— Не вернемся.
— Мам, ну пожа-а-алуйста!
— Не вернемся. Спи давай.
— Мам, а расскажи сказку?
— Ну, давай… Высоко-высоко в небе был остров, он плыл по воздуху, и больше вокруг ничего не было, ничего-ничего… И был там король, и королева тоже была, и не было у них детей… и полюбил король простую девушку из народа, и у них родился сын… мальчик с волосами цвета луны… И пожелал король сделать его своим наследником… и прогневалась королева, и повелела сбросить девушку и её сына с края земли… и летели они много дней и много ночей… а что дальше было, я не знаю… спи…
Лето большое, и мяч большой, и пляж большой
Раз.
Два.
Три.
Мы играем в мяч.
Я.
Ты.
Он.
Ловкий мяч взлетает над пляжем, выше, выше, выше, и уже непонятно, то ли это мяч, то ли само солнце.
Мы каждый день играем в мяч на пляже, все лето, благо, лето большое, и мяч большой, и пляж большой.
Я.
Ты.
Он.
Мы играем в мяч.
Мы еще не знаем, что нельзя.
Нельзя — потому что я живу в простом доме, хожу в простую школу, ты живешь на роскошной вилле, и осенью тебя повезут в элитный интернат, а он живет в трущобах, которые карабкаются по склонам гор, цепляясь друг за друга, и не умеет читать и писать.
Но мы играем в мяч, мы бросаем его друг другу — я — ты — он.
Тут, главное, не уронить мяч, не дать ему коснуться земли, не потерять мяч, не потерять самого себя.
Ты чуть мешкаешь, чуть не выпускаешь мяч из рук, — чуть не разбиваешься в новой машине, которую подарил тебе отец, хотя у тебя еще нет прав, но кого это волнует.
Раз.
Два.
Три.
Мяч взлетает над летним пляжем, мяч большой, и пляж большой, и лето большое.
Я чуть не выпускаю мяч из рук, чуть не попадаю под автобус по дороге домой из школы, ай, ах, какие-то доли секунды, какие-то миллиметры, — все обошлось.
Мы играем в мяч.
Я.
Ты.
Он.
Мы еще не знаем, что нельзя, потому что тебе подарят роскошный особняк, в котором ты будешь жить, ни в чем себе не отказывая, он будет ночевать на улице, вот так, с подушкой и одеялом, на островке безопасности, потому что ему больше негде будет спать, меня ждет служба где-то там, меня будут учить стрелять, и — налево, к-ррругом!
Он чуть не роняет мяч, его чуть не убивает шальная пуля в какой-то перестрелке на улице, какие-то доли секунды, какие-то миллиметры, — ему повезло, даже странно, что ему повезло.
Мы играем в мяч.
Раз.
Два.
Три.
Я.
Ты.
Он.
Играем на летнем пляже.
Пляж большой, и мяч большой, и лето большое.
Мы еще не знаем, что нам нельзя, потому что я живу в простом доме и хожу в простую школу, ты живешь на роскошной вилле, где лестница со второго этажа спускается в бассейн, он живет в трущобах, где дома карабкаются друг на друга, цепляясь за пустоту.
Раз.
Два.
Три.
Ты чуть не роняешь мяч, когда озверевшая толпа рвется на богатые виллы, осколок стекла пролетает мимо твоего виска, — он чуть не выпускает мяч, когда я стреляю в него, рвущегося на виллу моего хозяина, — я понимаю, что кто-то из нас непременно уронит мяч, но кто это будет, я не знаю…
Тху Тхи Ту Мот
НАЙДЕТСЯ ВСЕ
Мот — один.
Тху — осень.
Тхи — поэма.
Ту — звезда.
Тху Тхи Ту Мот.
Одинокая осенняя поэма звезд.
Одинокая звездная поэма осени.
Поисковик услужливо подсовывает лица, лица, лица, почему я их не различаю, почему не могу найти ту, единственную. Наконец, спохватываюсь, что я делаю, что делаю…
ПЕРЕВОДЧИК. ВЬЕТНАМСКИЙ.
Осень поэма
Вылезает какое-то непонятное Một mùa thu bài thơ sao — переношу в поисковик, бережно, чтобы не растерять ни знака — поисковик осыпает меня золотом осени, опять не то.
Тху.
Тхи.
Ту.
Мот.
Щелочки глаз.
Волосы черным водопадом.
Смех… не было никакого смеха, короткая улыбка — и все.
«Дримнайт».
Ночная мечта.
Или мечта ночи.
Корабль, рассекающий волны.
Семь ночей.
Как в какой-то сказке, где на седьмую ночь должно случиться что-то… что-то… не знаю, что, не помню ни одной сказки…
— Тет, — говорит Тху Тхи Ту Мот.
Мне не по себе, только начал привыкать к бесконечным т,т,т, а тут нате вам, снова —
— Тет.
— Праздник первого утра, — говорит Тху Тхи Ту Мот.
С трудом понимаю, что новый год, с трудом понимаю, что последний день последнего месяца лунного календаря.
— Первый день весны, — говорит Тху Тхи Ту Мот.
Я не понимаю, какая может быть весна в феврале, это откуда-то из детства, когда зима осточертела дальше некуда, и ноешь, ну пусть весна, ну пожа-алуйста, пусть весна, и все только смеются, ну что ты, ну какая весна в феврале…
А вот.
Весна в феврале.
Кокос.
Манго.
Папайя.
Виноград.
Тху Тхи Ту Мот говорит, надо еще что-то пятое.
Несу апельсин, Тху Тхи Ту Мот бледнеет, меняется в лице, говорит, это не к добру. Мне самому не по себе, что принес что-то не к добру, я же не хотел.
Тху Тхи Ту Мот сетует, что празднует вдали от дома, это тоже не к добру, надо чтобы с семьей.
Укол ревности, сердце кровоточит.
С семьей…
Тху Тхи Ту Мот перечисляет, мама — ме, папа — ча, бабушка — ба, дедушка — онг…
Перевожу дух.
Пытаюсь выучить — пусть десять тысяч дел идут по твоему желанию — путаюсь в ван, сун, ун…
«Дримнайт».
Мечта ночи.
По вечерам зажигают фонарики над кафе под открытым небом.
Луна слишком высоко, я не успел поймать тот момент, когда была дорожка от луны, теперь не знаю, была дорожка или нет.
Статуи на палубе — месяц в башне, сова в башне, сова на месяце, кот держит месяц…
Я уже знаю.
Нгуэт — луна.
Квен — птица.
Про кота не знаю, говорю Ли — лев, — Тху Тхи Ту Мот смеется.
Перебираю бесконечные аккаунты, бесконечные лица, лица, лица, чуть не пролистываю, прежде чем спохватиться, да вот же оно.
Башня с месяцем, выглядывающим из окна.
Одинокая поэма осенней звезды игриво обнимает башню.
Открываю аккаунт, не сразу понимаю, что вижу.
Светлая память.
Мы надеемся, что близкие Тху Тхи…
Чер-р-р-рт…
Смотрю на последнее фото, какого черта оно десятилетней давности, это же было месяц назад, в феврале…
— Какой сейчас год?
Это надо было спросить, а я не спросил, потому что не знал.
— Одиннадцатый.
Это надо было ответить, она не ответила, потому что я не спросил.
— А… почему так?
Это тоже нужно было спросить, я не спросил.
— Ду ю спик инглиш? — спрашивает она.
— Бед… вери бед, — говорю без акцента, надеюсь, что меня поймут.
— Вер ар у фром? — спрашивает она, я все еще называю её «она», я не знаю, что она — осеннее одиночество звездной поэмы.
— Рашн.
— О… — дальше следует длинная тирада, из которой понимаю одно-единственное, что ой-ой-ой, русский она не знает совсем-совсем-совсем.
Ночная мечта.
Мечта ночи.
«Дримнайт».
От волнения снова набираю по-русски, долго ищу, как поменять раскладку, чер-р-рт…
«Dreamnight».
Поисковик сыплет на меня игровые серверы, часы, каких-то драконоборцев, инстаграм заваливает ночным небом.
Не то…
Добавляю —
Лайнер.
Поисковик щедро осыпает меня круизами, круизами, круизами, ищу один-единственный, почему я его не вижу, юго-восточная Азия, «Дримнайт»…
Крушение «Дримнайта»…
ПРАВИТЬ СТАТЬЮ
И хочется дописать, что врете вы все, не было двадцатого февраля никакого крушения, то есть, что я говорю, это в этом году не было, а не десять лет назад…
Лайнер гудит, странно, я обычно не могу спать, когда что-то гудит, а тут сплю, как убитый.
Я хочу видеть звезды, я хочу видеть Млечный Путь от края до края, вместо этого небо заволакивает тучами, а когда тучи рассеиваются, я сплю, как убитый, я не вижу Млечный Путь.
— А представляешь, я твой аккаунт нашел, а там написано, что ты умерла.
Я так не скажу, потому что некому сказать.
Она ничего не скажет, потому что я этого не скажу.
— А ты знаешь, что лайнер утонет?
Этого я тоже не скажу, потому что некому сказать.
Тонуть.
Чим.
Слово какое-то неуместное, оно бы подошло какой-нибудь лесной птице, но уж никак не громадине океанического лайнера.
Чим-чим-чим.
Одинокая поэма звездной осени стоит на палубе под аркой Млечного Пути.
Но санг.
Светлая память.
Пытаюсь выговорить — ань йеу эм, спотыкаюсь об йеу, чужой язык меня не слушается, то ли дело звездная поэма осеннего одиночества, как ловко она управляется со словами, они подчиняются ей по мановению волшебной палочки…
— Йа… тье бьа… льу…
Газетайна
— Прямо по курсу объект, примерный диаметр сто метров.
— Выполнить отклонение вправо.
— Выполнено.
— Прямо по курсу ничего нет.
— Вернуться на исходный курс.
— Прямо по курсу объект, примерный диаметр сто пятьдесят метров.
— Выполнить отклонение вправо.
— Выполнено.
— Прямо по курсу ничего нет.
— Вернуться на исходный курс.
— Прямо по курсу газета.
— Повторите.
— Прямо по курсу газета.
— Не предпринимайте никаких действий.
— Выполнено.
…признать сбоем программы, игнорировать сообщение.
— Прямо по курсу газета.
— Не предпринимать никаких действий.
— Прямо по курсу газета.
— Не передавать сообщений о газете.
Эту статью следовало бы озаглавить — «Я до сих пор не могу оправиться от шока», хотя лично я колеблюсь между названиями — «Народ, вам что, делать больше нечего» — и — «Почему наш мир окончательно сходит с ума». И не спешите кидать в меня тапками за такие названия, если бы вы пережили то, что пережила я, вы бы еще и не то написали.
Итак, я сегодня никого не трогаю, лечу по своим делам (ха-ха, будто есть у меня какие-то дела!), вижу где-то в отдалении космический челнок, знаете, из таких старых, уже который век доживающих последние дни. Я поначалу не обращаю внимания, ну летит себе и летит, лететь не запретишь. Спохватываюсь только когда понимаю, что в меня… стреляют. Вот так, прицельно, в меня, чтобы сжечь меня дотла.
Я еще надеюсь, что челнок развлекается от нечего делать, я еще улетаю от него, меняю курс, — и что вы думаете, он не отстает, он преследует меня, выпускает снаряд за снарядом, хочет меня сжечь. Сказать, что я испугалась, значит не сказать ничего, это было что-то немыслимое, как в плохом боевике или даже фильме ужасов, я лавирую в открытом космосе, уворачиваюсь от него, он несется за мной, огромный, неуклюжий, меня спасло, что я меньше него в тысячи раз, ускользаю, как бабочка от слона…
И все-таки это было чистое везение, что мне удалось от него улизнуть, что он потерял меня в пучинах космоса. Я уже собиралась было радоваться и ликовать, ну не каждый день вот так ухожу от смертельной опасности. И что вы думаете? Не успела я отдышаться (ха-ха, как будто я умею дышать!) — как вижу, что меня настигает еще один такой неадекват, наводит цель, собирается испепелить меня на месте.
Сразу порадую вас, дорогие читатели: со мной ничего не случилось, я осталась жива-здорова, ну, я думаю, вы и сами об этом догадались, иначе бы я всего этого не писала. Однако, два нападения за день (ха-ха, как будто здесь есть какие-то дни!) — это уже слишком, это уже повод задуматься, что со мной происходит что-то не то.
Нет, я понимаю, что много раз писала лишнего, да не просто много раз, а только этим и занимаюсь, и вообще странно, как меня никто до сих пор не порывался сжечь. И все-таки раньше мне как-то удавалось выходить сухой из воды, а теперь, похоже, придется всерьез задуматься о своей безопасности.
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ
Что, допрыгалась?
Давно пора её было сжечь.
Премию тому, кто её спалить хотел.
Какую премию, спалить и то не смогли, позорники.
И не стыдно вам самой писать себе комментарии?
…газета превращается в самолет, пикирует вниз на пустую планету, превращается в птицу, летит в легком тумане, у самой почвы рассыпается на страницы, одна из которых превращается в уютное кресло, вторая становится кофейником, третья принимает облик человека, четвертая — кофейной чашки, пятая не знает, чем ей стать, наконец, остается газетой, надо же человеку что-то читать в кресле за чашечкой кофе. Ближе к верчу страница-кресло превращается в кровать, страница-чашка становится огрызком месяца, страница-кофейник принимает облик будильника возле постели, обещает не звонить в семь утра. Пятая страница укрывает собой спящего человека, как одеялом, — до утра, а утро здесь наступит не скоро, через тысячи земных лет, когда планета повернется к звезде.
Газете еще есть чем тут заняться, она еще станет верблюдом, чтобы идти по пустыне, еще станет корабликом, чтобы плыть по рекам, еще станет птицей, чтобы лететь над равниной — зря, что ли, газета обучалась древнему искусству оригами…

Кто вы?
…
А что такое газета?
…
Что значит новости?
…
Чем я могу вам помочь?
…
Кто вас преследует?
…
Все — это кто?
…
Почему они вас преследуют?
…
В чем вы перед ними виноваты?
Эту статью следует озаглавить — «Мир не без добрых людей», хотя насчет последнего слова я глубоко сомневаюсь. Я даже не могу описать, что это такое — хотя, казалось бы, с моим многовековым опытом работы нет ничего проще. У него (Неё? Него, в смысле — оно? Них?) постоянно меняется облик, у него бесконечное число граней, у которых я даже не могу сосчитать углы. Но самое главное — я неожиданно сама для себя получила могучего защитника и покровителя, который не даст меня в обиду всяким неадекватам, только и мечтающим кого-нибудь сжечь дотла…
— …очень рада, что мы сегодня встретились с вами, скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Нет понятия имя.
— Простите за совершенно нескромный вопрос: сколько вам лет?
Есть понятие времени, но нет понятия измерения времени.
— Вы помните, как появлялись звезды?
Звезды не появляются и не исчезают, звезды переходят из одного состояния в другое, но они есть всегда.
— А может быть… простите, я ни в коей мере не намекаю на ваш возраст, быть может, почтенный… но возможно, вы помните Большой Взрыв? Ну, когда появилась вселенная?
Вселенная не появляется и не исчезает, она переходит из одного состояния в другое.
— И сколько раз на вашем веку она переходила из состояния в состояние?
Знак бесконечности.
— Бесконечно много? Вот это да! А позвольте спросить, чем вы занимаетесь в жизни? Ну… вы… один? Или вас много?
Один значит много, много значит один.
— В смысле… в вашем случае это одно и то же? Вот это да… удивительно… Даже боюсь спросить, чем вы питаетесь? Надеюсь, не газетами?
Воспоминание, как можно черпать жизнь из информации.
— О, получается, я была почти права! Выходит, мы с вами своего рода коллеги, я тоже питаюсь новостями… Позвольте узнать, когда вы будете собирать урожай новостей, оставите мне хотя бы кусочек?
Информацию можно разделить на бесконечное число желающих её получить.
— Да, вы совершенно правы, как вы тонко это сформулировали! А можно вас попросить, когда мы найдем что-нибудь такое, интересненькое, а можно сначала я это передам всем, всем, всем, все, так сказать, насытятся, а потом уже вы? Можно мне, так сказать… пальму первенства?
Вы мне нравитесь. Это хорошо так делать, искать информацию, давать другим, чтобы хватило всем.
— Ой, да не стоит так, это всего лишь моя работа… Кстати… вы, наверное, голодны?
Чувство нехватки, острое чувство нехватки, да, да, да.
— Так давайте я вас угощу, у меня архив за тысячи лет…

Вот я не сторонник пафосных названий, набивших оскомину, но для этой статьи нужно именно пафосное название, которое выразит весь мой восторг. Например — «Несокрушимая сила космоса» или — «Самый могущественный во вселенной». Сегодня мы с моим удивительным покровителем опустились на погасшую звезду, обустроились там — и что вы думаете? Не прошло и полгода (да, это случилось где-то через полгода), как в небе над нами прямо-таки закружились космические челноки, как стая стервятников. Я уже сразу поняла, что это по мою душу, но еще на что-то надеялась, и как оказалось, напрасно — они пришли, чтобы обратить меня в прах. А дальше начался совершеннейший апокалипсис, когда пустыня вокруг меня буквально горела пламенем, и сам воздух (ха-ха, если это можно назвать воздухом!) плавился от жара. Стоит ли удивляться, что погасшая звезда не выдержала такого издевательства и раскололась на части? И когда я понимала, что мне самой осталось жить считанные секунды — и тут-то произошло самое невероятное в моей жизни чудо, когда мой покровитель (Покровительница? Покровители?) что-то сделал с челноками… нет, даже не с челноками, а с самим пространством, в котором были челноки, как будто вывернул его наизнанку, схлопнул, сложил, как оригами, хотя оригами, это про плоский лист, а не про трехмерный мир, — и от моих преследователей не осталось и следа.
Ух, как это было сложно, — вот уж казалось бы, про что только не приходилось писать, а тут мне как будто весь разум наизнанку вывернули и сложили в оригами, уж очень это было за пределами моего понимания то, что случилось…
(Нет имени) читает:
— Я прибыла в этот город…
Что такое город?
Что такое — много домов? Что такое — дома?
Газета разворачивается во все свои пять листов, листы складываются в уютные домики, которые спускаются с горы к морю…
Что такое море?
Листы складываются в причудливые кораллы, в кораблик с парусами, в рыбу с пышным хвостом, в морского конька, последний лист опять не знает, кем ему стать, ну плохо у него получается оригами — наконец, изображает водную гладь, трепещется на ветру.
(Нет имени) сворачивает пространство в изумительные четырехмерные фигуры, в которых можно угадать дом на склоне горы, корабль под парусами, морского конька, одинокую башню на берегу океана…
Где город?
…
Вы писали, что здесь город.
…
Я не вижу здесь никакого города. Я не вижу стройные шпили, которые пронзают облака, я не вижу припорошенные снегом крыши, увенчанные изящными флюгерами, я не вижу узкие улочки, которые заблудились в самих себе, я не вижу площади, над которыми парит музыка!
…
Значит, вы отравили меня ложью?
…
Где же город?
…
Покажите мне эту статью.
…
Но я не вижу здесь города, пылающего в огне, я не вижу беспощадного пламени войны, пожирающего некогда величественную цивилизацию, я не вижу непримиримых врагов, бегущих от неминуемой погибели, которую они сами навлекли на себя, я не вижу здесь чудовищного финала многотысячелетней истории, о котором вы пишете! Вы отравили меня ложью?
Эту статью следовало бы озаглавить — «Как я оказалась на волоске от гибели», хотя лично я колеблюсь между вариантами… вариантами… черт, даже никаких вариантов в голову не приходит. Потому что это же надо было так опростоволоситься, когда мой могучий покровитель пожелал увидеть все то, о чем я ему рассказывала, все то, о чем упоминалось в моих статьях. Я понимаю предвкушение моего безымянного, но могучего покровителя, — он был восхищен удивительными городами еще до того, как их увидел — и каково же было его разочарование, когда мы пересекли огромное расстояние до далекой галактики, чтобы увидеть безжизненную пустыню насколько хватает глаз! Никогда не забуду этого ужаса, как мой могущественный покровитель рассекал пустыню в поисках хоть какого-нибудь намека на город, напрасно выискивал лестницы в глубине арок, окна, распахнутые на узкие улочки, крепостные стены, которые поднимаются над безднами. Стоит ли говорить, что мой загадочный покровитель стал обвинять меня во лжи, и как я вижу, для него, как и для меня нет ничего страшнее обмана! Я не знаю, что бы со мной было, если бы мой защитник не заметил необычную форму одинокой скалы посреди пустыни, не сравнил этот обломок скалы с фотографией собора на площади, на одной из моих страниц, не догадался бы, что когда-то бесконечно давно здесь и правда шумела городская суета, и колокол на ратуше отбивал полвечер — полудня и полуночи у них не бывает. Сказать, что я натерпелась страху, значит, не сказать ничего — если честно, я уже была готова попрощаться с жизнью…

Прямо по курсу газета.
Атаковать.
Газета отклоняется от курса.
Следовать за газетой.
Выполнено.
Прямо по курсу газета.
Атаковать.
Газета отклоняется от курса.
Следовать за газетой.
Выполнено.
Прямо по курсу неопознанный объект.
Опишите объект.
Число граней — 4, 3, 7, 4, 7, 3, 4, 3, 7, 4, 7, 3, 4, 3, 7, 4, 7, 3…
Челнок №11727 уничтожен.
…довожу до вашего сведения, что за последний фиксированный отрезок времени вышло из строя 19 спутников…
…характерные симптомы ошибки — при требовании описать объект система начинает считать число граней и каждый раз сообщать разное количество, потом приходит сигнал об уничтожении челнока, подробности уничтожения не сообщаются…
Газета рассыпается на листы, которые складываются в парящий город, закрученный лентой Мебиуса на самом себе, — пятый лист долго не может сложиться хоть во что-нибудь, наконец, сворачивается в подобие атомного взрыва, когда-то уничтожившего город. (Имени нет) не нравится атомный взрыв, (Имени нет) сворачивает пространство (и, как кажется, время тоже) в причудливый город, который тянется из плотной атмосферы к кольцам астероидов, пускает ростки.
Здесь нет города.
…
Почему вы показываете мне города, которых нет?
…
Почему все миры, в которых вы были, про которые вы писали, исчезли бесследно?
…
Почему все ваши статьи только об одном — о закате и гибели многотысячелетних империй?
…
Почему так?
Эту статью следует озаглавить…
…нет, не будет никакой статьи, ничего не будет, потому что через считанные секунды не будет и меня самой. Впрочем, все по порядку, хотя ха-ха-ха, какой тут вообще может быть порядок, когда мир сошел с ума…
Сегодня ко мне опять прицепились боевые челноки, нет, ну а что им еще делать, кроме как цепляться ко мне, других занятий в космосе же нет, кто бы сомневался. Только теперь я уже не боюсь, как раньше, я знаю, что у меня есть могущественный покровитель, который испепелит каждого, кто послан, чтобы убить меня. И правда, не прошло и нескольких минут, как от преследовавшей меня армады не осталось и следа, — я даже поймала себя на том, что мне нравится смотреть, как мои противники сворачиваются в какие-то немыслимые измерения. Мне даже самой захотелось свернуться в какой-нибудь боевой космический лайнер и пострелять по врагам.
Однако, я никак не ожидала, что сделает дальше мой спаситель, повернется ко мне, скажет, что начинает понимать, что случилось, почему они гонятся за мной, почему все города, в которых я побывала…
Сенсация!
Срочно в номер!
Шок! Газета доводила до катастрофы целые империи, чтобы писать про их гибель!
(какого черта я пишу это, какого черта я разоблачаю саму себя, — а что поделать, я не могу не писать новости, в этом моя жизнь, мое призвание, в этом вся я…)
…был представлен прототип электронного новостника, снабженного диктофоном и видеокамерой, который фиксирует события и оформляет их в виде статей. По иронии новостник был оформлен в виде газеты, какими они были до появления электроники…
…я опускаюсь на холмы Вавилондона, где меня никто не ждет — город с многотысячелетней историей даже не смотрит на меня, весь погруженный в свои повседневные дела и заботы…
…как омрачает меня, когда я вижу сумраккадов, которые вторглись на земли слышумеров, чтобы создать свой Вавилондон, на земли, на которых их никто не ждал. Меня поражает, как слышумеры молча стерпели это странное соседство…
…я присутствую при величайшей битве, которая должна положить конец многовековому засилью сумраккадов…
…в жизни не думала, что мне придется быть свидетельницей гибели многотысячелетней империи…
…благодатные земли Династии Тимьянь встречают меня летним разнотравьем и полуденным зноем…
…династии кафтан не место на землях, принадлежащих династии овсун…
…я присутствую при величайшей битве…
…меня встречает Арфаген — недоверчиво, настороженно, его арфы молчат, и я понимаю, что мне нужно быть очень осторожной, чтобы этот город, раскинувшийся на целую планету, принял меня…
— Вы видели газету?
…
— Да-да, вот такую, плоскую, часто меняющуюся…
…
— …где она теперь?
…
— …как вы убили её?
…
— Мы можем увидеть тело?
…
— Простите, мы не знали, что вы убиваете… вот так…
Вернуть из небытия то, что было в небытие.
Высасывать прошлое. До конца. Дочиста. Каплю за каплей. Горькое прошлое, обжигающее прошлое, леденящее прошлое. Прошлое, замкнутое в неразрываемый круг —
…(Арфаген, Вавилондон, Зимайя, Мозгипет)…
…меня омрачает…
…величайшей битвы…
…свидетельницей гибели многотысячелетней…
(Нет имени) хватается за последнюю ниточку, которая обрывается пустотой, началом начал, землей, от которой едва ли остался хотя бы прах. (Нет Имени) выискивает, высчитывает, где сейчас могут быть эти обломки, в рукавах каких галактик далеко-далеко… Найти, добраться, выискать, узнать правду, которую не знает даже сама газета…
Газета превращается в бумажный самолет, чтобы спикировать в атмосферу, тут же перелистывается в птицу, чтобы лететь в вышине. У самой земли газета машет крыльями, опускается на безжизненную пустыню, думает, в какую фигуру ей сложиться дальше, сначала становится чем-то четвероногим, потом пытается встать на две ноги, тут же падает, летит, подхваченная ветром, наконец, сворачивается во что-то на колесах, едет по пустоши. (Нет Имени) появляется из пустоты, покачивается в мертвом воздухе, зорко следит за бескрайней равниной, пытаясь выхватить хоть что-то кроме пустоты, хоть какое-то напоминание о том, что было здесь бесконечно давно.
Газета останавливается, замирает на невысоком холме, одна страница складывается в башню, вторая пристраивается часами, третья страница превращается в крестообразный собор, четвертая сворачивается куполом, пятая долго не знает, кем ей стать, пытается изобразить телефонную будку, не может. Страницы шуршат дальше, складываются в марширующих гвардейцев, в корабли, плывущие по морям, по волнам в дальние страны, корабли становятся воинами, которые сражаются с живущими на далеких берегах. (Нет Имени) пытается изобразить четырехмерные часы на башне, причудливые мосты, перекинутые через вселенную, корабли, под всеми парусами плывущие в пучины космоса.
Газета летит дальше, машет страницами, (Нет Имени) торопится за ней, — газета спешит, боится не успеть, ведь нужно показать так много. Страницы сворачиваются башнями Кельнского Собора и колоннами Венской Оперы, расстилаются заснеженными вершинами гор, плывут бумажными корабликами по пустоши, где когда-то была Венеция, извиваются Китайской Стеной, скручиваются храмами Мьянмы. Страницы летят журавлями в осень, порхают голубями по площадям, кружатся осенними листьями, скачут боевыми конями, сворачиваются в рыцарские доспехи, рубят друг друга в пух и прах. Газета торопится, разворачивает прошлое страницу за страницей в глубину веков, летит боевыми самолетами, узко-узко сворачивается в дула танков и пулеметов, складывается звездами-сюрикенами, комкается в скелеты убитых солдат, развевается боевыми знаменами. (Нет Имени) не нравится, он не хочет сворачивать из пространства смерть и кровь, он (она, оно, они?) не хочет читать газету, но понимает, что должен (Должна? Должны?) прочитать до конца. (Нет Имени) не верит, перелистывает страницы, не понимает, почему все одно и то же, одно и то же, это ведь разные страницы, разные эпохи, почему снова и снова все те же слова, за которыми последует смерть и кровь.
Темнеет.
Небо ощеривается звездами.
Газета хочет сложиться в кресло, в кофейник, в чашечку кофе, в сидящего человека, а пятый лист чтобы был газетой, надо же что-то читать — но на этот раз что-то не клеится, газета как будто забывает, как ей сложиться. (Нет Имени) тоже не в себе, изгибает пространство то туда, то сюда, не знает, в какую фигуру сложить. (Нет Имени) и газета задумываются, что делать, как-то нужно сложиться в другую историю, которая пойдет совсем иначе, где не будет поля, усеянного мертвыми костями, и сожженных дотла городов, канувших в небытие. Листы вертятся, складываются во что-то невообразимое, беспомощно рассыпаются. Все смотрят на пятый лист, смотрят со странной надеждой, что он что-то знает, что-то придумает, свернется во что-нибудь невероятное — а кто его знает, а вдруг…
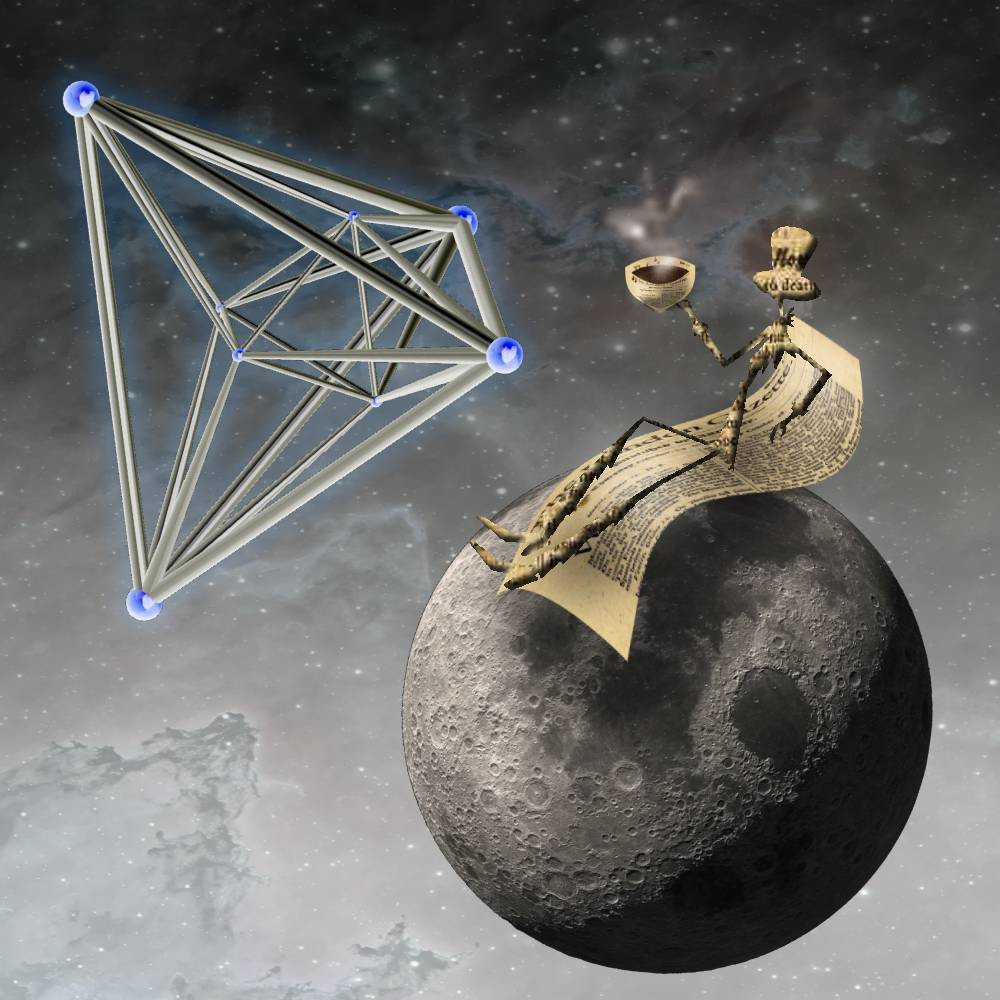
Запекурица с декорицей
Страница 461
…нет-нет, уважаемый читатель, все правильно, в книжке четыреста шестьдесят страниц, как вам и было обещано, вы не торопитесь в типографию претензии писать. Это мы уже сами тут собрались, когда книжка кончилась, вот и получилась еще одна страница, которой обещано не было.
Да вы располагайтесь, уважаемый читатель, я же вижу, вам давно хотелось с нами вот так посидеть в конференц-зале буквечного города. Вот и устраиваетесь, и ампирожкров попробуйте, вы все думали, каковы на вкус, вот и узнаете… Кажется, еще о чем-то спросить нас хотели… Не помните уже? Ну конечно, столько страниц прошло… ну да ничего, вспомните еще, может быть…
Как мы рады вас видеть, вы даже не представляете. Вы сами понимаете, читатели к нам редко заглядывают, книжек-то сейчас как звезд на небе, нашу полтора человека прочитали… Так что мы каждого гостя привечаем, можем себе позволить, мы же не какие-нибудь, которые миллионными тиражами, у которых от читателей проходу нет, мы и за стол усадим, и ампирожков положим, и молокофе нальем, или вы далекофе предпочитаете?
Собственно, вы извините, что мы так… вы думаете, мы просто с вами посидеть, пообщаться хотим, а у нас тут свои цели… Мы про Кейстоуна поговорить хотели, да-да, про него…
Вы понимаете, что получилось-то, вот мы все как один знаем, что он виноват, что это он все устроил — только доказательства ни одного нет, понимаете? Он как предвидел все это, честное слово, что ни фотографий не осталось, ни записей никаких в газетах, ничего. Будто и не было его вовсе. Странно, вроде человек такой тщеславный, только что памятник себе на площади не поставил — и нате вам, и ничего…
Так что мы никому ничего не докажем. Вот так вот в других городах спросят — а что было-то? И мы начнем рассказывать про какое-то массовое помешательство, как мы все от мала до велика оставили свои уютные домики (ну, у кого как), свои огородики, свои уютные клумбы (у кого как), свои посиделки по вечерам в баре, — чтобы поднять головы к звездам, бросили свои дома, бросили все, чтобы подняться в черные пучины космоса… А когда будут спрашивать, с чего это вдруг нам такое пришло в голову, как помешательство какое-то массовое — мы ничего не ответим, ничегошеньки-ничего. То есть, мы можем сколько угодно показывать на Кейстоуна, но тот только недоуменно разведет руками, а я что, а я ничего, с чего вы вообще взяли, что я в чем-то виноват? Это потому, что вы в добротных домах живете, а я в руинах родового поместья, да? Или потому что вы только в детстве о чем-то великом мечтали, пускали что-то летающее с крыши, потом увязли в своих пирогах-ремонтах-именинах-галантерейных лавочках с девяти до шести, а я как проклятый перестраивал свой Кейстоунский замок в межпланетный корабль, они не смогли, а я смог, вот и завидуют…
…так что ничего мы не докажем, ничегошеньки-ничего. Вся надежда только на вас.
Да-да, вы не ослышались.
На вас.
Вы извините, что мы вас так в свои дела вмешиваем, мы понимаем, вы книжку открыли, почитать, полистать, отдохнуть… а мы тут помощи просим. Но вы вроде как и сами нам помочь хотели, мы сколько раз видели, как вы к нам просочиться хотели, заорать на весь зал, не верь ему, он врет, или скрутить руки за спиной Кейстоуна, написано же, что он крепким телосложением не отличается…
Так вот, вы же будете свидетелем? Ой, нет, не на свадьбе Джи и Джу, там уже свидетели есть… а вот когда спросят, что здесь было, вы же можете рассказать всю правду, да? Когда полиция разбираться начнет, вы же все скажете? Вы же читали там про Кейстоуна, как он нами всеми управлял, сначала Джеком, потом семьей Мак-Пудингов, потом дальше и дальше всем городком…
Вы расскажете?
Да?
Вот спасибо большое, теперь-то мы его на чистую воду выведем… да вы угощайтесь, не стесняйтесь, ампироги сегодня отменные с декорицей…
Страница 462.
Приветствую.
Вы не торопитесь переворачивать страницу, а то и вырывать её из книжки, потому что заявлено четыреста шестьдесят страниц, так и должно быть четыреста шестьдесят, а не черт знает сколько. Тем более, что меня вы меньше всего хотите видеть, а может, вообще хотите пристретлить меня на месте, я вас понимаю…
Ну, их вы уже выслушали, этих всех… Пудингов, Донатов, Черри-Джемов, этих всех в уютных домиках с цветущими клумбами… самое время послушать и меня тоже, ну, в конце концов, в оправдательной речи не отказывают самым страшным злодеям…
Извините, мне толком и угостить вас нечем, сами же знаете, как живу, вон, сам сижу ем холодные ломтики прошедшего сентября, поливаю туманами, запиваю промозглыми вечерами, даже подогреть лень… хотите для вас подогрею? Или вам там пир горой устроили, вам и неинтересно уже? Понимаю… А у вас… извините… с пира ничего не осталось? Ампирожков с декорицей или молокофе? Гайкароны у вас есть? Вот спасибо, обожаю… м-м-м, они еще и с запекурицей у вас, вообще объеденье… Ну, вы мне прямо жизнь спасаете… Вот так бы недельку-другую, и можно будет про меня вычеркивать, что крепким телосложением не отличался… а еще через месяцок можно будет отдать мне фразу про отца Мак-Пудингов, плюшевый халат едва сходился на его объемном брюшке… У меня даже плюшевый халат есть, который еще помнит, как строился этот замок много веков назад…
…из-звините.
А вы не промах, вас не заболтаешь, ловко вы меня одернули, нечего тут зубы заговаривать… Вы молодец, не проведешь вас. Ну, так давайте ближе к делу, я что сказать-то хотел… я невиновен.
И это я тоже предвидел, что вы будете саркастически усмехаться, и думать про себя, что-то простенькую линию защиты выбрал себе этот психопат, но да, чего ждать от психопата, даже от очень умного.
Только это не я.
Нет, вы поймите, у меня и правда мысли такие были… пробудить в них что-то… заставить их посмотреть на звезды, заставить их вспомнить, как мечтали в детстве луну с неба достать, чтобы она у нас в сараюшке жила, или какую-нибудь планету открыть, далекую-далекую, её черная дыра будет засасывать, а мы её спасем, а потом на ней жить будем, город построим… Вы меня поймите правильно, я же никого силой заставлять не хотел, я прямо в осадок выпал, когда автор мне велел с бухты-барахты людей гнать строить какие-то корабли, не спать ночами… Ну, вы сами подумайте, я что против автора сделаю? Да я сам удивлен, что так получилось… а когда люди умирать начали, я вообще в шоке был, понимаете? Да не убивал я никого, вы поймите, там же как было, что мозг человека такой нагрузки не выдерживает, это же все-таки люди, а не… не… даже не знаю, кто, нет таких, которые как проснутся, так и начинают пространство-время выкручивать, искать туннели, порталы, рассчитывать пятые-десятые космические скорости… Да вы на меня-то посмотрите, что от меня осталось, кожа да кости, руки трясутся, глаза красные провалились совсем, если бы я не сдался, я бы мертвый был уже… Это между нами по секрету, хорошо?
Автор же так задумал, чтобы я умер в конце, что-то у меня там не выдержит, голова, или сердце, или все вместе инфаркт-инсульт… У автора вообще две задумки было, он еще не знал, что со мной сделать, или мозги мне спалить, или отправить меня в этом замке к звездам, чтобы он взорвался где-нибудь там, замок этот, вместе со мной, или улетел неуправляемый… А что вы хотите, автор у нас вообще добрый, вот вас сейчас и то коробит, каково мне было бы там медленно умирать в космосе… Вот-вот, я не совсем дурак, чтобы на смерть лететь, вот я и не полетел никуда. Только это между нами, ладно? Автор узнает, что теперь в книжке не так, как он задумал, вообще не знаю, что со мной сделает… вы же его фантазии видите… Слушайте, а у вас после пира виночь не завалялась случайно? Разрешите бокальчик за ваше здоровье? Вот спасибо огромное…
Так что если вас тут свидетелем назначили, то имейте в виду, это вам не только против меня свидетельствовать придется, но и против автора тоже. Помните, как Мак-Пудинг у меня спрашивает, кто за мной стоит, а гордо так отвечаю, что сам по себе? Так вот ничего не сам и не по себе, а очень даже стоит за мной автор… я бы в жизни такое не сделал… нет, вы сами подумайте, жил я, никого не трогал, тут какой-то автор-садюга начинает судьбами нашими вертеть во все стороны…
Черт, да что я в самом-то деле, вам же интересно… я же знаю, вам же интересно, что я тут наизобретал, насочинял, держу вас в замке, а вы весь роман смотрели, ждали, как этот замок сорвется с места и полетит к звездам… Так давайте попробуем, а? Да вы не бойтесь, с вами-то ничего не случится, вы же не в романе, а где-то там, снаружи, даже не знаю, как там у вас… Так что присаживайтесь, да вы уже знаете, куда, в кресло на балконе на втором этаже над холлом, куда поднимаемся по винтовой лестнице… Пристегивайтесь… да-да, поворачивайте рычаг, на старт…
…а?
Да никак вы не вернетесь.
Я же говорю, у меня недоделано все, взлетать-то замок умеет, а приземляться и не думает… Ну, вам-то это не страшно, вы-то там, снаружи, с вами и не случится ничего… Что? Как случилось? Ну, я тут, конечно, могу сделать круглые-большие глаза, ка-а-к вернуться не можете, да быть того не может, да невероятно, да как так…
Только я душой не буду кривить, накривился уже… если что, вам там запекурица осталась с ампирожами, виночь полбутылки… А дальше уже сами выкручивайтесь, как знаете… Вы поймите, это не я, это автор все, это он меня таким сделал, беспощадно убивающим свидетелей, и всех, кто стоит на пути к моей цели… Так что к нему все претензии, а я поехал, ну, бывайте… как это, куда, замков еще много, и городков еще много, и умных людей в городках еще много, где-нибудь да и получится… Надо бы еще про очередной замок что-нибудь посмотреть, поискать, прежде чем селиться там, наследником себя объявлять, обычно не проверяет никто, правда ли я наследник, ну да мало ли…
Силки на летающий город
В этом году умерла зима. Торав понял это далеко не сразу. Когда зима не пришла в конце сентября с первыми холодами, он еще только надеялся, что зима задержится. Когда зима не пришла в октябре с первым снегом, тяжело облеплявшим деревья — Торав тоже только надеялся, что зима задержалась где-то нигде, вот и хорошо, пусть подольше стоит благодатная осень. И даже когда миновал ноябрь, а зима все не показывалась, и люди стали нервно перешептываться — Торав все еще мрачно говорил себе, что такое бывало и раньше, ничего удивительного, в кои-то веки удалось хоть немножко обуздать зиму. Мокрый черный лес за городом простирался до самого Нового Года, и даже после середины января не собирался укрываться снегом — вот только тут-то Торав понял, что зима мертва, что пало ледяное чудовище, ежегодно вымораживающее души.
Зиму отпели в соборе, все как полагается, даже соорудили гробницу из белоснежного мрамора, куда все несли белые цветы — даже те, кто не любил зиму и желал ей погибели. Тораву было не до того — давно прошло время праздности, уже пора было двигаться дальше по страницам, которые сложатся в новую удивительную историю.
Торав караулит истории, ставит на них силки, приманивает еще не остывшими поутру снами — ему даже удается раздобыть героя, правда, герой получается какой-то странноватый, с будильником вместо головы и скрипкой вместо туловища — ну да ничего, у Торава у самого вместо головы скрипичный ключ, а за спиной страницы вместо крыльев, хотя какие вообще могут быть крылья у человека, вы о чем. Торав караулит дальше, расставляет сети в полнолуние — наутро в сетях оказывается перелетный город, чем-то похожий на птицу, — отлично, здесь и будет жить герой, будет будить всех по утрам, по вечерам наигрывать веселые мелодии. А однажды городу надо будет куда-то лететь, а герой проспит и не разбудит город к назначенному сроку, и город куда-то опоздает, и это будет очень плохо. И теперь герой должен сделать что-то хорошее, чтобы отстоять свое право жить в городе, а времени у него не так много… А вот, город скитается по свету, улетает от чего-то плохого, и герой должен сразиться с этим плохим…
Осталось поймать плохое — это самая легкая часть работы, и в то же время самая неприятная — ну в самом деле, кому понравится ловить что-то плохое, дурное, страшное. А куда деваться, без дурного и страшного и истории не будет, и не от кого будет убегать, и не с кем будет сражаться.
Торав ставит силки на плохое, ложится спать, вешает на окно луну.
Ждет.
Утром просыпается, смотрит на силки, ничего не видит.
Нет плохого.
Торав не понимает, как такое вообще может быть, чтобы плохого не было, вот уж, казалось бы, только силки поставь — и вот оно, само прилетит, а то и без силков, а тут нате вам…
Делать нечего, Торав собирается в лес, ох, как не хочется Тораву идти в глубину черного леса, а куда деваться, плохое искать надо…
Торав считает страницы — триста, семьсот, тысяча, две, три тысячи — много, но еще слишком мало, чтобы лететь на крыльях-страницах. Торав дописывает еще одну страницу про крылатый город, вкладывает в крылья — пробует взлететь, получается слабо-слабо, на таких крыльях далеко не улетишь, уж тем более — к дальним берегам…
«…ты понимаешь, что самое удивительное, — я вот уже сколько дней ищу хоть что-нибудь по-настоящему плохое для моей истории — и совершенно не могу найти. Колдуны и драконы как будто вымерли, космические чудовища испарились, коварные злодеи словно бы навсегда покинули эти края. Я не припомню ничего подобного, такого не было ни разу — и, тем не менее, я не могу собрать фрагменты для моей истории…»
Торав пишет письмо самому себе в прошлое, Торав часто так делает, пишет письма самому себе в прошлое, тут бы надо предостеречь себя в прошлом от… от… а от чего — от, черт пойми, что не надо делать, чтобы вот так не случилось, чтобы не рассыпались еще не созданные истории…
Наутро Торав видит вчетверо сложенный листок бумаги на столе — это еще что, он ничего такого не оставлял, — разворачивает, видит ответ от самого себя из прошлого.
Торав не удивляется, Торав частенько получает такие ответы из прошлого, только на этот раз что-то быстро…
«…друг мой, что может быть проще, чем найти что-то злое? Ведь сейчас зима, самое зловещее время года, когда как не сейчас искать чудовищ? Вернее, их даже не надо искать, потому что с тобой единственное и главное чудовище — зима, и на страницах твоих историй она примет любое обличье…»
Торав перечитывает письмо, Торав хватается за голову, глупый, глупый Торав, а ведь теперь…
— …теперь не получится ни одной истории.
— С чего вы так решили? — настораживается герой: ему не хочется исчезать, так толком и не появившись.
— Ну как же… какая история без чудовища, без зла, с которым надо сразиться?
— Верно, никакой.
— А откуда взять зло?
— Ну, этого я даже не знаю, я же герой, а не автор…
— А все очень просто, зло берется из зим…
— …а зима что-то запаздывает.
— Зима не запаздывает, зима умерла… а вместе с ней и зло…
— Ну, так это же прекрасно…
— Что прекрасного, вы хоть понимаете, что теперь я не смогу сложить ни одной истории? — Торав хватает страницы, пытается сложить из них что-то, не может, — вот, видите, все разваливается на куски…
— Ну что же в этом такого страшного… — не понимает герой.
— Как что страшного, я же не напишу больше ни одной истории! Он еще спрашивает, что страшного, да тут все страшное, если хотите знать!
— Так может вам… заняться чем-то другим?
— А как же крылья?
— Крылья? — герой совсем ничего не понимает, — какие… крылья?
Торав показывает крылья-страницы, большие, длинные, они кажутся бесконечными, но их не хватит, чтобы лететь над землей в дальние края…
— Эти.
— Вам нужны крылья?
— Ну как же я иначе полечу к дальним берегам?
— А зачем вам… из-вините, я, наверное, не в свое дело лезу…
— Да нет, отчего же… вы же понимаете, я всю жизнь мечтал улететь туда… к дальним берегам, на которых не бывает зимы… убежать от зимы, порождающей чудищ…
— …но вы это уже сделали.
— Что сделал?
— Вы избавились от зимы… зима умерла… её похоронили неделю назад…
Торав спохватывается, Торав не верит себе, неужели… а ведь правда… гнался за чем-то всю свою жизнь, а ведь все так просто…
Торав еще не верит, что все так просто, Торав снимает крылья, так непривычно без крыльев, вроде должно быть легко, а получается наоборот…
— Что же, — герой встает, — имею честь откланяться.
— Постойте… вы… вы куда?
— Искать себе автора.
— А… ну да… конечно… автора…
Торав теряется, Торав ищет какие-то слова, чтобы остановить героя, чтобы он остался, потому что неправильно это, когда уходит герой, непонятно, почему, но неправильно, герои, они… вот черт.
Хлопает дверь.
— …нет-нет, вы ошиблись…
Торав непонимающе смотрит на море, вытащенное из силков, где он ошибся, почему он ошибся, что он сделал не так. А ведь всего-то навсего поставили в море силки на море, чтобы поймать море, чтобы попросить его…
— …уважаемое море, вы бы не могли дать мне пару-тройку чудищ? Мне очень нужно… для истории…
И меньше всего Торав ожидает ответа —
— …но вы ошиблись.
— Ошибся? У вас… у вас нет чудищ?
— Что вы, их больше, чем достаточно, я само — то еще чудище…
— Тогда в чем же…
— …я же не ваше.
— Ну да, конечно же, вы общее… то есть… вы само свое, я хотел сказать.
Море смеется:
— Ну, иногда я бываю и само не свое… но я же не ваше чудище.
— Ой, простите…
— …вот если бы вы родились на каком-нибудь острове или на моем берегу, по вечерам у очага с замиранием сердца слушали сказки про затонувших моряков, рыбаков, пропавших без вести… тогда да, я бы наполнило ваши страницы страхом и ужасом… но я не ваш враг…
— Простите…
— Это вы меня простите… ничем не могу помочь…
— …а вы не знаете, что делают авторы… у которых исчезли чудища?
— Так не бывает.
— Нет, ну что они делают, чем занимаются?
— Но так не бывает.
— Ну, вот если автор всю жизнь боролся с каким-то чудищем, а теперь победил, вот что он…
— …так не бывает.
Торав понимает, что путного ответа не дождется, да и какого ответа можно ждать от летающего города, который живет на свете без году неделю. Торав выходит на улицу непривычно осеннего городка, нужно куда-то идти, нужно что-то делать, знать бы еще, куда, и что…
— …а у вас… страшного не найдется? — спрашивает Торав в маленькой таверне, которая затаилась в переулке.
— Гхм… вроде не держим такого… Ну, хорошо, хорошо, — примирительно говорит хозяйка, — сейчас посмотрю…
Хозяйка уходит, Торав остается наедине с гулом таверны, с пряными и мясными запахами, подернутыми сладкой патокой и туманами осени. Торав ловит обрывки фраз, вертит в пальцах, пытается скрутить из них что-нибудь для истории, — обрывки не скручиваются, рассыпаются сухими листьями, тонким пеплом.
— …мир как с ума сошел, говорят, Дальние Берега снегом замело…
— Да ну, бред какой-то, быть того не может в самом-то деле…
— …а вот может, говорю же, мир с ума спятил, у нас зима умерла, вон, давеча похоронили, а тут нате вам, вон чего делается… Они там уж и не знают, как с зимой с этой совладать с окаянной…
Торав прислушивается.
Не верит себе.
Бросается прочь из таверны, чуть не сбивает с ног дверь, чуть не отдавливает ноги улице, бежит к дому (еще его дому), хватает крылатый город, дергает его за поводья — полный впер-ред, летит к далеким берегам, что значит, крыльев не хватит, вон, мои возьми… Жалко, героя нет, ну что теперь поделать, значит, самому героем побыть придется, никуда не денешься…
Люди высыпают из таверны, смотрят вслед летящему Тораву, кто-то даже покручивает пальцем у виска, кто-то пожимает плечами, ну что поделаешь, автор, что с него взять…
— …получилось, — шепчет Торав супруге.
Супруга шикает на Торава.
Не на того Торава, на другого Торава, у него тоже фамилия Торав, ну а что вы хотели, у брата Торава должна быть такая же фамилия, как и у самого Торава…
— …да, я предъявляю свои права на наследство…
— Позвольте-позвольте, для начала необходимы доказательства, что вашего брата действительно нет в живых…
— Он улетел сражаться с зимой и не вернулся, какие еще могут быть доказательства?
— Гхм… пожалуй, вы правы…
— Я могу осмотреть дом? Особняк большой, год стоял без хозяина…
Торав (другой Торав) опускает шторы, закрывает ставни, боязливо присматривается к темноте ночного леса.
Зима умерла, говорит себе Торав.
Зима умерла.
Бояться нечего.
Бояться нечего — говорят себе жители городка, которые давно уже не закрывают на ночь ставни, не прячутся по домам от метелей, которых нет, не вешают на окна обереги. Торав (другой Торав) отшучивается, что все еще побаивается зимы, зимы, которой больше нет…
Торав (другой Торав) сам не понимает, чего боится, почему с опаской смотрит на дверь, рассеянно кивает жене, да, да, иду, иду, счас, еще посижу маленько в холле…
Время подбирается к полуночи, медленно-медленно, нехотя-нехотя, кажется, что тянется к двенадцати и тут же отползает назад.
Щелкает дверной замок, нет, быть не может, ошибка какая-то, показалось, послышалось, померещилось…
Торав (другой Торав) не понимает, почему распахивается дверь, почему на пороге стоит Торав, а рядом с ним машет хвостом зима, снежная, белая, студеная…
…Торав распахивает дверь, уходит прочь из таверны на дальних берегах, пропади, пропади они все, подлые, лживые, лицемерные, вот из кого нужно делать зло… Торав бежит прочь к мертвому от морозов тропическому лесу, он знает, что там затаилась зима, если она еще жива. Замечает что-то белеющее в зарослях, осторожно ступает туда, натыкается на угрожающее рычание — но уже знает, у зимы нет сил нападать, она может только скалить зубы. Торав гладит когда-то серебристую, а теперь грязную шерсть, обнимает побежденную зиму…
Подлинник Факундо
— …копия Сарики Ачарьи, шестнадцать лет, возраст копии — три года, рост — метр шестьдесят, вес копии сорок пять килограммов, соответствует весу оригинала! Посмотрите, как точно отображена внешность девушки, как искусно уложены волосы! Оригинал Сарики жил в Лондоне, учился на детского врача. Стартовая цена — три тысячи! Кто больше?
— Три тысячи сто! — восклицает девушка с жемчужной сережкой.
— Хорошо, три тысячи сто — раз, три тысячи сто — два, три ты…
— Три тысячи пятьсот! — кричит девочка с персиками.
— Хорошо, три тысячи пятьсот раз, три тысячи пятьсот два, три тысячи пятьсот…
— Четыре тысячи! — доносится голос из зала, даже непонятно, кому он принадлежит, наконец, видно звездную ночь.
— Четыре тысячи? Неслабая цена… четыре тысячи раз, четыре тысячи два, четыре тысячи три… продано!
Аплодисменты.
— Следующий лот — копия Цумоту Ёсикавы, сорок три года! Не спешите отворачиваться от этого простого конторского служащего, каким он кажется на первый взгляд! Вы только посмотрите, какие изумительные графические новеллы пытался рисовать этот господин в свободное от работы время, которого, увы, было так мало! Что же, теперь это неприметный человек стал вам интересен? Итак, копия Цумоту Ёсикавы, стартовая цена три с половиной тысячи, кто больше?
— Три семьсот! — кричит Девятый Вал.
— Отлично, три семьсот раз, три семьсот два…
— Три девятьсот! — восклицает Восходящее Солнце.
— Три девятьсот раз, три…
Все вопросительно смотрят на Большую Волну в Каганаве, нет, она даже не глядит в сторону японца — наконец, после долгих торгов копию Цумоты забирает Сын Человеческий за нехилые пять тысяч.
— Отличный выбор! Поздравляю вас прекрасной покупкой! — восклицает Невольничий рынок с бюстом Вольтера, который сегодня стучит молотком и продает копии.
— А пусть он мне… нарисует что-нибудь… — просит Сын Человеческий.
Копия японца с готовностью чертит один из своих комиксов.
— Да нет, а пусть новенькое что-то!
— О, к сожалению, копии не способны создавать что-то новое, это же не оригинал, в самом деле… — Невольничий Рынок нервно посмеивается.
— Э, позвольте, я протестую! — Сын Человеческий срывается на крик, кажется, даже зеленое яблоко на его лице краснеет, — я-то думал, что покупаю копию хорошего художника, а вы мне что подсунули, а?
— Ну, вы так говорите, будто вам настоящего человека подавай!
— Да какого настоящего, вы хоть говорите, что продаете-то! Я требую свои деньги обратно!
Назревает нешуточный скандал, сидящие в зале разбиваются на два лагеря, одни занимают сторону обманутого покупателя, другие оправдывают продавца — наконец, Сына Человеческого уводят за кулисы вместе с копией щуплого японца, остается только гадать, что там будет дальше.
— Следующий лот — Оршоя Меттерних, двадцать семь лет, актриса маленького венгерского театра! За несколько часов она может превратиться в дряхлую сгорбленную старуху, молодого мужчину и даже… райскую птицу! Способности этой девушки поражают воображение… Стартовая цена — пять тысяч! Кто больше?
Выкрикиваю:
— Пять тысяч пятьсот!
Зал изумленно ахает, — понимаю, что моя уловка удалась, что я куплю актрису прежде чем остальные оправятся от шока, — продавец продолжает с поразительной невозмутимостью:
— Пять тысяч пятьсот раз, пять тысяч пятьсот два, пять тысяч пятьсот…
Кто-то хватает меня за руку, кто-то тащит меня прочь из зала, обреченно смотрю, как продавец замирает на мгновение, потом вопросительно смотрит в зал, и кто-то уже называет новую цену…
С ненавистью смотрю на утащившего меня прочь, это еще что за Заговор, первый раз вижу такой Заговор, три причудливые фигуры спрятались за углом, будто выпавшие из чьих-то ночных кошмаров…
— Какого… какого черта?
— Я вижу, вы настоящий ценитель людей…
— Ну, так и не мешайте мне ценительствовать, вы у меня из-под носа такое увели, что я вам в жизни не прощу!
— Постойте, постойте, не кипятитесь так… вы что и правда, считаете, что все эти жалкие копии представляют какую-то ценность?
— Уж, пожалуйста, не мешайте мне считать, как я считаю.
Понимаю, что сейчас наша перепалка перерастет в драку, ничего поделать не могу.
— Уважаемый Взрыв…
— Я предпочитаю обращение — Голова.
— Уважаемая Голова…
— Уважаемый, — настаиваю я.
— Так вот, уважаемый Голова, если вы сейчас не пойдете со мной, то всю жизнь будете жалеть, что не увидели этого…
Тихонько подозреваю, что он собирается прибрать к рукам мои денежки, и хорошо еще если просто подсунет мне какую-нибудь гадость, а не сделает хуже — например, пристукнет меня в темном переулке. Пошучивают, правда, что у меня и так голова взорвалась, так что хуже уже не будет, — только я-то прекрасно понимаю, что может быть намного хуже…
— …а Рафаэль? — спрашивает Заговор.
— Что Рафаэль?
— Вам нравится, когда вас называют Рафаэлем?
Смущаюсь:
— Ну… для меня это как-то… ну… слишком… Все-таки я не настоящий Рафаэль, а только картина, копия…
— Вот-вот, вы понимаете важность оригинала… думаю, мы с вами столкуемся…
Думаю, что если он заставит меня кого-то убить, то увольте и даже не просите.
— Нет-нет, убивать не придется, только… да пойдемте же… вот сюда…
Спускаемся по неприметной лестнице между двумя домами, попадаем в узкий переулок, сворачиваем куда-то влево и вниз, откуда-то из ниоткуда появляется прижавшаяся к стене узкая лестница, которая тянется чуть ли не вертикально вверх к маленькой двери. Никак не ожидаю увидеть за дверью роскошный холл, на стене которого хочется висеть всю жизнь, и даже больше.
— Пойдемте, пойдемте дальше… Пожалуйста… позвольте вам представить… Факундо Флорес!
Вежливо приветствую Факундо Флореса, выжидательно смотрю на Заговор, что он скажет про эту копию, мысленно отмечаю про себя, что не возьму копию этого Флота или как его там даже за гроши, мне такие топорные подделки не нужны, у него даже одной ноги нет, кто ж так делает…
Пауза слишком затягивается, наконец, не выдерживаю, спрашиваю:
— Кем он работает?
— Собственно… никем.
— Чем-то интересен, знаменит?
— Да ничем, собственно.
— Тогда… — еле сдерживаюсь, чтобы не спросить, да какого ж черта…
— Ну… я маленько на синтезаторе играть умею, а так ничего такого… — добавляет Формес или как его там.
Меня передергивает, этого еще не хватало, притащить меня сюда ради… ради…
— Пойдемте, пойдемте… посидим в гостиной…
Заговор тащит меня в уютную комнату, проверяет, достаточно ли хорошо заперта дверь, склоняется ко мне:
— Вы не поняли… вы ничего не поняли… да у этого Факундо может не быть хоть всех четырех ног…
— …у человека их две.
— …это неважно… он может вообще ничего не уметь… Но он представляет величайшую ценность, вы даже вообразить не можете, какую!
— И что же с ним такое?
— Вы… вы ничего не заметили?
— А что я должен был заметить?
— Гхм… вы не виноваты, обычно никто не замечает, а ведь разгадка так проста… я показал вам… оригинал.
— Простите?
— Оригинал. Не копию, нет-нет, что вы, мне не нужны никакие копии — оригинального человека…
Смотрю на него, ну-ну, ври больше…
— Не верите?
— Ну, знаете, как-то…
— А зря… я ожидал увидеть в вас истинного ценителя подлинного…
— Ну, знаете… гхм…
— Что? — он многозначительно смотрит на меня, — вам нужно доказать его подлинность?
Киваю, отчего у меня чуть не разваливается голова.
— Ну, я могу уколоть его иголкой, и…
— …не надо, не надо, я не хуже вас знаю все эти проверки на подлинность, и не хуже вас знаю, какие делают копии, совершенно неотличимые от оригиналов — у них течет кровь, бьется сердце, они даже умирают по-настоящему… чтобы снова воскреснуть… Только при этом они остаются копиями, искусными подделками, не более того.
— Что же… думаю, что смогу доказать вам… — Заговор зажигает в комнате свечи на роскошном канделябре, мне становится не по себе. Я даже не успеваю сказать — какого черта вы делаете — когда канделябр падает, подхваченный порывом ветра из окна, комната вспыхивает, охваченная пламенем, — все происходит слишком быстро, я понимаю, что мы уже успеем выбраться, пламя бушует в коридоре, подбирается к нам. Краем глаза вижу Фундука, или как его там, бегущего вниз по узкой лестнице, н-да-а, что есть, то есть, ловко у людей получается бежать…
— Вы… какого черта вы вообще запалили эти проклятые свечи?
— Друг мой, я делаю это каждый вечер, и ничего…
Что же, боюсь, этот вечер станет для нас последним…
Фондю или как его там замирает, кажется, слышит наши крики, смотрит вверх, смуглый, курчавый, глаза блестят, — замирает, мешкает — неуклюже прыгает вверх по лестнице, хватаясь за стену, перескакивая через тысячи ступенек, что он задумал, черт его дери…
…врывается в горящую комнату, лицо обмотано мокрыми тряпками, хватает меня, Заговор, прыгает назад, спотыкаясь о дым, в дыму хватает еще кого-то, узнаю Шоколадницу, так и не успевшую подать мне и хозяину горячий шоколад…
…Фрегат или как его там вываливается на улицу, падает с лестницы с головокружительной высоты, катится по крутому переулку вниз, кто-то подхватывает его и нас заодно, держитесь, держитесь, осторожнее… Жду, что Факир или как его там уже не встанет — нет, поднимается, потирает ушибленную спину, говорит слова, которые в приличном обществе говорить нельзя.
— …вы видели… видели это? — оживляется Заговор.
— Повезло нам, что Фантом ваш такой оказался… такой…
— Факундо, с вашего позволения…
Смотрю на Факундо, первый раз смотрю как следует.
— А ведь это поступок… поступок…
— Что такое?
— …поступок настоящего человека. Ни одна копия бы не сделала этого… Сколько вы за него хотите?
Заговор называет цену, меня передергивает.
— Ну, дорогой Голова, подлинник никак не может быть дешевым, вы сами это понимаете не хуже меня…
— Хорошо… я расплачусь с вами… завтра…
— Отлично, приходите на аукцион, столкуемся…
— …копия Хельги Хельмут, возраст копии — три года, возраст самой Хельги — пятьдесят лет! Рост — метр семьдесят, вес — шестьдесят три килограмма. Основала свой дом фарфора с уникальными коллекциями…
Я даже не слушаю крики Невольничьего Рынка, я даже не смотрю на его исчезающий бюст Вольтера — я жду Заговор, и что-то подсказывает мне, что, черт возьми, он не придет…
— …не ждали?
— Я уж думал, вы не придете…
— Ну что вы, как я могу, я же обещал… — все три лица Заговора расплываются в довольной улыбке.
— А ловко вы меня вчера провели…
— В смысле?
— В смысле… Я ведь даже и не подумал, что можно запрограммировать копию вбегать в пожар, спасать картины… Боже мой, а вы ведь чуть не обвели меня вокруг пальца… но здесь вам этот номер не пройдет… вы арестованы.
— Вы… вы… не имеете права…
— …еще как имею, не вам говорить следователю о правах… — готовлю три пары наручников по числу людей на картине — а с этим вашим…
Филин или как его там недоуменно смотрит на аукцион, не понимает…
— Это что… людей продают, что ли?
— Ну да, как видите…
— Да вы чего, рехнулись, что ли? — я и ахнуть не успеваю, как он бросается на сцену, выхватывает у Невольничьего Рынка молоток, нет, только не говорите мне, что он будет портить картины, нет, хватает за руку Хельгу, пойдемте отсюда, да скорее же, спешит за кулисы, хватает за руки сидящих там людей, скорей, скорей…
Понимаю, что не смогу это остановить: боюсь не за Невольничий Рынок — за Фламинго или как его там, потому что с такими тут не церемонятся, и правда, Охотники на Привале уже целятся, гремит выстрел, Флигель или как его там падает, зажимает простреленную грудь, черр-р-т…
— Отдайте… отдайте его мне!
Пытаюсь пробиться через толпу, понимаю, что меня никто не слышит…
— …я должен принести вам свои извинения…
Заговор как будто не слышит меня, смотрит всеми своими тремя лицами куда-то никуда…
— …он был настоящий… самый настоящий…
— …как знать… — отвечает, наконец, Заговор, — как знать… ненастоящих тоже убивают, иная копия так умрет, что и не поймешь, что это было…
— Да нет, не поэтому… честное слово… такая редкая удача… вам подвернулся оригинал, подлинник… и мы его так нелепо упустили… так нелепо… Скажите… а подлинники не оживают?
Спрашиваю сам не знаю, зачем, уже понимаю, каким будет ответ…
Локации []
Локация первая. Кабинет в доме отца []. Просторный зал с куполообразным потолком, с лоджией. Посреди комнаты стоит массивный стол, за ним не менее массивное кресло. У противоположной стены мы видим камин, причем зритель так и не должен понять, то ли он видит настоящий камин, то ли его имитацию. Слева и справа расположены двери, неизвестно куда ведущие — у зрителя должно возникнуть чуть заметное ощущение, что двери ведут в никуда.
Когда отец [] возмущается требованием детектива, зритель должен видеть за спиной отца [] окно и вид из окна — но режиссер должен обставить все так, чтобы зритель впоследствии так и не мог вспомнить, что же именно он видел за окном. На стене над камином должно висеть охотничье ружье, на столике у камина должна стоять шахматная доска, но при ближайшем рассмотрении зритель должен увидеть, что это не более чем декоративный элемент, керамическая доска с парой-тройкой намертво прикрепленных фигур.
Камера должна двигаться предельно плавно, у зрителя должно сложиться ощущение твердости и целостности происходящего — несмотря на тревожный диалог, причем почти истерические крики отца [] (Чего, чего ему еще не хватало?) должны контрастировать с бесстрастным тоном следователя (Когда вы видели его в последний раз?). Когда отец [] соглашается на требование следователя, камера должна показать выход из кабинета в еще более просторный зал с лестницей ведущей вниз, с окном напротив кабинета и дверями по сторонам. Герои проходят в левую дверь, за которой мы видим комнату подростка, в беспорядке разбросанные статьи, вырезки, записи о Негороде. Ноутбук должен выглядеть максимально неприметно, спрятан где-нибудь под ковром или матрацем.
— Ну и дает этот следователь…
— А что вас так смутило?
— Ничего себе! Вы… вы меня слышите?
— А что тут странного?
— Ну… первый раз вижу, чтобы герои слышали, что говорят зрители…
— Неужели?
— Ну да… э-э-э… гхм…
— Так что вас удивило?
— Понимаете… вы в доме вот так сразу пошли в комнату парня этого пропавшего, а откуда вы знали, где в доме его комната?
— Позвольте я не буду сразу же раскрывать свои секреты.
— Да-да, конечно… А можно спросить, как вы так сразу догадались, где лежит ноутбук?
— Позже я обязательно вам об этом расскажу.
— Да, конечно… но знаете, это уже прямо слишком…
— Что слишком?
— Вот вы открыли ноутбук, с первого раза подобрали пароль…
— Да, я пользуюсь уникальными методами… и позже обязательно вас с ними познакомлю.
— И я что… тоже так смогу?
— Гхм, вряд ли… понимаете ли, мало знать такие способы, надо уметь их применить…
— Да, конечно же… я понимаю…
Локация вторая. Кабинет университетского лектора. Он должен выглядеть более вычурным и необычным — изогнутая лестница, ведущая куда-то в никуда, причудливая анфилада, которая должна плавно опускаться вниз, эркер, плавно перерастающий в купол под потолком. Книжные шкафы должны быть изогнутыми волной, ножки столов закручены в спираль, кресла — причудливо изгибаться. Еще до того, как ректор заговорит о высших измерениях, зритель должен заметить на столе модель гиперкуба, а позже, уже в ходе разговора (Да знаете, странный был, сам решал, это я буду учить, это я учить не буду, это мне не надо, хоть ты тресни… а как отчислим, если папаша за него бешеные деньги платил?) камера должна выхватывать все новые попытки познания гиперпространства. В момент, когда ректор возмущается (Это секретные данные, понимаете вы, за-сек-ре-чен-ны-е, не имею я права вам их показывать!) камера должна повернуться так, что вся комната как будто опрокинется сама на себя, зритель непроизвольно должен схватиться за кресло, боясь упасть.
— Уважаемый следователь… можно вас?
— Да, конечно, мой дорогой зритель.
— А… а вот я заметил, а вы не спрашивали у отца, в каком университете учится [] … А как вы тогда узнали, в какой университет идти, и где он вообще? Или он в городе один?
— Ну, в столице у нас не один университет… — смех, — но да, вы правы, я использовал свои методы, чтобы узнать, где учился молодой человек…
Локация третья. Книгохранилище в университете. Оно должно производить впечатление бесконечного — для этого эффекта можно использовать зеркала и ракурсы, чтобы стеллажи казались высотой с хороший небоскреб. Обязательно нужно добавить изогнутых лестниц, мостиков, переходов — в самых неожиданных местах. Лестницы будут закручиваться так, чтобы вообще было непонятно, как они устроены. Режиссер должен постараться показать книги таким образом, чтобы создавалось впечатление, что они того и гляди сорвутся с места и вспорхнут под потолок, хлопая страницами — особенно та книга, которую безошибочно возьмет с полки следователь…
— Уважаемый следователь!
— Да?
— А как вы узнали, где в библиотеке та книга?
— Не все сразу, друг мой, не все сразу… наберитесь терпения…
— Да, да, конечно же…
Локация четвертая. У зрителя должно сложиться впечатление, что он сам входит в причудливое помещение, в котором как будто нет ни верха, ни низа, и уже непонятно, за что хвататься, чтобы не упасть, потому что падать некуда и в то же время бесконечно много куда. Зрителю будет казаться, что он видит одновременно все стороны этого помещения, причем, и изнутри, и снаружи, а само помещение как будто постоянно меняется, и там, где камера минуту назад показывала одно, вернувшись на то же место, покажет что-то совсем другое. Когда следователь войдет, несколько человек будут сидеть в креслах на потолке, и детектив невозмутимо присоединится к ним. Вообще на его лице не должен дрогнуть ни один мускул, что бы ни говорили люди (да придурошный он был… сам себя загубил… да ясен пень, нету его уже, оттуда не возвращаются… вы еще сами не поняли, во что вляпались, оттуда так просто не возвращаются, оттуда вообще никак не возвращаются, понимаете вы?). На этот раз следователю придется достать не только удостоверение, но и оружие, чтобы заставить живущих здесь людей показать неумело нацарапанные карты Негорода и невозмутимо выслушать сбивчивые объяснения, (вот черным — это то, что не меняется, красным — это там, где вечно все меняется, а вот желтый-синий на координатах, это четвертое…)
— Позвольте… уважаемый следователь…
— Слушаю вас…
— …а как вы узнали, что этот притон именно здесь?
— Ну, я бы не назвал это притоном… место, где собираются довольно интересные люди…
— Но как вы узнали, что надо идти сюда?
— …один из моих гениальных методов, который я вам раскрою позже. Но теперь давайте наконец пойдем в Негород, я понимаю, вам не терпится увидеть, что же там… благо, у нас уже есть карты Негорода, надеюсь, что смогу не заблудиться… ну хотя бы заблудиться не сразу…
Локация пятая.
Улица города, предельно прямая, предельно ровная, но эта прямота и ровность выглядят так, будто в любую минуту готовы изогнуться в мертвую петлю.
Локация шестая.
Та же улица, но уже изогнувшаяся причудливой спиралью, ведущей вверх, дома торчат под разными углами, многие из которых выходят за пределы Евклидовой геометрии.
— А что нужно, чтобы попасть в другие измерения?
— Ну… это нужно тренироваться долго…
— А как это у вас получилось… вот так, сразу же, а?
— Ну, знаете, у меня возможности побольше, чем у других…
— Нет, знаете, не верю.
— Чему… не верите?
— Вам не верю… в это во все… вот так вот хоп, раз, — и прыгнули в какие-то параллельные миры… люди годами учатся, а вы сразу, хоп, и прыгнули, ну не бывает так, не бывает, понимаете?
— Ну а что вы мне предлагаете, хотите, чтобы я разбился насмерть или меня тут разорвало на клочки?
— Нет, но… гхм… ну, например, вы этого не умеете, наймете кого-нибудь, кто умеет…
— …чтобы нанять того, кто умеет, надо сначала такого найти, а это только здесь можно…
— Они что… в город не выходят?
— Отсюда не возвращаются, знаете ли…
— Ну, уж с вами-то все хорошо будет?
— Я надеюсь… вот, обратите внимание, первый дом, котоырй здесь построили…
— Первый?
— Ну да, это у какой-то семьи аварийный дом был, или там до фига было семей, им негде было жить… и вот среди них девушка там какая-то была, её сумасшедшей считали, она видела то, чего никто не видел, четвертое…
Локация седьмая.
Старый дом, настолько ветхий, что, кажется, он вот-вот рассыплется в мелкую пыль.
Локация не-седьмая.
Тот же поворот шоссе на окраине, только теперь вместо шоссе мощеная улица, которая обрывается в никуда с обеих сторон, а на обочине стоит уютный домик, окруженный деревьями и идеально подстриженной лужайкой.
Снова шестая локация, детектив стоит на пороге перевернутого дома, хозяин дома стоит на пороге внутри, вверх ногами, как и сам дом, — детективу и хозяину приходится наклоняться, чтобы видеть друг друга. Хозяин дома говорит нервно, обиженно («ну а нам-то куда деваться, вы цены на жилье видели? Видели?»), иногда переходит на полушепот («Здесь-то еще ничего, а если дальше сунетесь, вам вообще никто ничего не гарантирует, можете завещание писать… да никто вам ничего не сделает, некому там вам ничего делать…»), презрительно косится на протянутые банкноты («И что мне эти бумажки ваши, задницу подтирать? Тут, знаете, законы не действуют… Да ничего мне не надо, говорю я вам, не знаю я, что там дальше, вы мне хоть все сокровища мира дайте, тоже мне, нашли себе проводника…»).
Восьмую локацию представить сложно — потому что, по сути дела, её нет, она постоянно меняется, состоит из полунамеков на какие-то миры, какие-то пространства, которые вот тут, совсем рядом, стоит только протянуть руку, только надо знать, куда именно протянуть, а этого-то никто не знает, не знают даже сами миры. Следователь проскальзывает из мира в мир, из слоя в слой, осторожно сверяется с картами в ноутбуке, в библиотечной книге, в записях из безумного притона, в еще каких-то заметках, выменянных в редких домах, до которых удается достучаться. Чаще всего он видит дом издалека, как будто за легкой пеленой тумана, и понимает, что войти туда не получится, не пройдена какая-то грань между двумя мирами, и не будет пройдена, живущие там не пустят его в свой мир.
— Уважаемый следователь…
— Да, дорогой зритель?
— А вы… а вы назад-то дорогу найдете?
— Нет.
— Но… как же вы выбираться будете?
— Никак.
— Но… вы что, собираетесь… остаться здесь?
— Не здесь, нет… — следователь придирчиво оглядывает пустоту, — тут что-то не так, реальность очень зыбкая… а вот если чуть подальше…
Следователь идет по едва различимым вехам, его лицо меняется, молодеет все больше и больше, тает округлое брюшко, он подхватывает брюки, готовые упасть с угловатого подросткового тела, оценивающе оглядывает очередную пустоту. На пустоту наслаиваются чуть заметные отблески привычного мира, особняк отца [], комнаты [] проступают чуть более заметно — этого [] оказывается достаточно, чтобы возвести стены, соорудить вполне уютный домик, зависший в пустоте, потому что за основу были взяты комнаты на третьем этаже. [] сооружает некое подобие ступенек, спиралью ведущих вниз, где должна быть земля, но её пока нет, [] только предстоит создать землю и небо, земля получается какая-то осенняя, присыпанная желтыми листьями, или нет, это просто желтые листья без земли, сквозь которые пробиваются редкие травинки. Небо тоже получается серое, осеннее, ветер гонит клочья тумана.
— Уважаемый зритель… вы проследили за []? — строго спрашивает отец [].
— Проследил, все как вы велели.
— Вы знаете, где он?
— Да, в своей комнате.
— Да вы что… черт… что-то я его здесь не…
— …не увидите, он здесь… но не здесь.
— Ох, черт, ничего я в этом не понимаю… ладно, вы там за ним следите пока, осторожно только, чтобы он ни о чем не догадывался… там дальше подумаем, что делать…
История, которая никак не может начаться
Уважаемый читатель, вы меня с экрана читаете, да? Из интернета, да? А вы бы не могли мне немножко помочь, а? Очень вас прошу. Можете какие-нибудь ссылки открыть по этикету, как себя в обществе держать… не беспокойтесь, я увижу… очень-очень буду вам благодарен…
А то понимаете, они мне не рады. Ну, то есть, совсем. Фасады отвернули, двери поджали, окошками хлопают, видеть меня не хотят.
А?
Да-да, история обязательно будет, я же все понимаю, что вы меня открыли рассказ читать, а не мои просьбы слушать… только я сначала должен с ними со всеми договориться, а то если они меня и знать не хотят, то как же история получится? Так что я попытаюсь…
…не выходит.
Нет, общаемся, конечно, на уровне здрассьте-до-свидания, только это не то, понимаете, так никакая история не получится. А знаете, что самое страшное, я все думаю, а вдруг история уже началась, вдруг у них без меня уже что-то там происходит, а я в стороне, а я в этот рассказ не попаду, а? Я вот что хотел… а можете мне какую-нибудь статью по психологии скинуть? Ну, на тему, как влиться в незнакомый коллектив, как стать своим в чужой компании… Ой, спасибо большое, вот теперь дело пойдет…
Или нет… вот здесь написано, сделайте ненавязчивый комплимент по поводу новой прически… а мне им какие комплименты делать? По поводу новой крыши? Новой черепицы? Нового флюгера? Я попробую…
Нет, знаете, не выходит… Ну, то есть, дальше здрассьте-до-свидания дело не идет. Нет, пару раз перекинулись парой слов о погоде со старым особняком, только это не то, не то. У них какие-то тайны, заговоры, они ходят друг к другу в гости, а я… нет, я не могу прийти просто так, вы даже представить себе не можете, каково это будет, если я просто так ввалюсь кому-то в гости… После этого мне дорога в их общество заказана… раз и навсегда…
Знаете, я все понял…
…стоп-стоп, я прошу прощения, я понимаю, вы ждете увлекательного рассказа, вы ждете, что я буду героем истории, а я даже не могу стать частью их общества. Нет, я вас понимаю, если вы сейчас начнете следить не за мной, а за каким-нибудь теремом или башней, у них-то жизнь поинтереснее моей будет. Только я прошу вам дать мне последний шанс, честное слово, я не упущу.
Клянусь.
И для этого мне нужна история этих домов. Не беспокойтесь, адреса я вам скину. А вы мне откроете в интернете их истории, когда их построили, кто построил, кто там жил…
…огромное вам спасибо.
Вот теперь у меня должно что-нибудь получиться…
…нет, ничего.
Я сам виноват, мог бы догадаться, что им это не понравится. Нет-нет, когда я говорил про семьи, которые в них жили, про архитекторов, которые их построили — это они как раз очень даже оценили, даже зауважали меня в какой-то степени. А потом да, надо же было мне такое ляпнуть, выразить свое соболезнование по поводу пожара…
…какого пожара?
А вы не читали сами то, что мне открывали?
Ох, простите… мало того, что я с вас требую всякое, откройте то, откройте это, а тут еще и прошу, чтобы вы все это читали. Ладно-ладно, я вам сам все вам расскажу, пожар в пятнадцатом году, нет, две тысячи пятнадцатом, никакое не средневековье, древнейший квартал, историческая ценность…
…стоп.
Они же сгорели.
Сгорели.
Дотла.
…место сожженного квартала некоторое время пустовала, вопросы по восстановлению исторической ценности зашли в тупик. В 2017 году на пустыре началась постройка жилого комплекса «Парадиз»…
Так и есть, они сгорели, и никто их не отстраивал… но тогда откуда они взялись? Как я разговариваю с ними? Стоп-стоп, как вообще дома могут разговаривать? Нет, никакой системы «Умный дом» тут и близко нет…
…что говорите?
Что, прямо так в лоб спросить, за что они меня так ненавидят? Ну, знаете, не та публика, так прямо мне и не ответят… нет, может, они меня невзлюбили, что они сгоревшие, мертвые, а я жи…
…стоп.
А кто мне вообще сказал, что я живой?
Вы извините, можно я вас еще раз побеспокою, а можете про меня что-нибудь найти? Я вам адрес свой скину, вы там посмотрите по карте…
Я не сгорел?
Вот как хорошо, прямо гора с плеч.
…построен в 2019 году, принадлежит владельцу комплекса «Парадиз»…
Кажется, я начинаю понимать.
Да, я начинаю понимать.
Нет, я даже не пытался говорить с ними, я вообще удивляюсь, как они меня терпели хоть сколько-нибудь.
Вот что…
Уважаемый читатель…
Я думаю, вы получили достаточно интересную историю, настоящее детективное расследование. Мало того, вы будете не просто его наблюдателем, а самым что ни на есть участником.
Да-да, вы соберете все эти материалы, которые мы тут с вами нашли.
Ну, как связаться с полицией, это не мне вас учить, это вы сами разберетесь…
…получилось.
Наконец-то я стал своим среди них.
Совсем своим.
Нет, их не смущает, что я совсем новый, а они с многовековой историей. Их никогда это не смущало.
Нет, его не арестовали. Тут мы с вами ошиблись, доказательств-то никаких, закрыли дело за недостатком улик.
А оказывается, сгоревшим быть не так уж и страшно, а я боялся… Вроде смотрю на них и знаю уже, что сгоревшие дома не умирают, а все равно боязно.
Да, я сам это сделал.
Нет, не для того, чтобы стать своим среди них, это для них тоже не имеет значения, сгоревший я или живой.
Тут другое…
Как вам сказать…
…сгорел особняк, принадлежащий владельцу «Парадиза», на месте происшествия обнаружен труп хозяина…
Да, вы извините, что я вас во все это втянул, я ведь и не подумал, что для вас это небезопасно. Да ничего, вы привыкнете, мертвым, оказывается, быть не так уж и страшно, уж поверьте…
Непонятно Что
…ну, во-первых вот эта вот сцена, где Непонятно Что хочет задать Светилу какой-то вопрос — и тут же бежит прочь вне себя от смущения, прячется в толпе. Ничего подобного в истории Непонятно Чего не было. Непонятно Что слишком боится людей, чтобы даже подойти к Светилу Науки — не говоря уже о том, чтобы попытаться что-то спросить.
Еще одна грубейшая ошибка — придумать Светилу Науки какое-то имя или подбирать ему реальные прототипы. Светило Науки так и остается Светилом Науки, как называет его Непонятно Что, оно не знает имени этого человека.
Больше всего поражают режиссеры, которые изображают Непонятно Что, подселившимся в тело погибшего репортера. Особенно шокирует один из последних фильмов, где режиссер додумался показать не просто мертвое тело, а полуистлевший труп. Ничего подобного в этой истории не было — тело журналиста так и остается в глухом лесу, где его первый раз видит Непонятно Что, заглядывает в остекленевшие глаза, скользит вдоль видеокамеры, листает записи в смартфоне.
Непонятно Что должно оставаться Непонятно Чем — бесформенным, бестелесным, невидимым. Тем более нелепым выглядит оно с видеокамерой, смартфоном и галстуком — Непонятно Что почему-то считает, что галстук — это тоже что-то очень важное и нужное, без чего ничего не получится.
Неправы и те режиссеры, которые показывают, что Непонятно Что не может говорить — на самом деле оно прекрасно может издавать членораздельные звуки, несмотря на то, что у него нет рта, голосовых связок, легких, и всего остального. Проблема в том, что Непонятно Что неимоверно стесняется что-то говорить, и вообще хоть как-то заявлять о себе. Непонятно Что слишком долго жило в лесу, пряталось ото всех, старалось остаться незаметным, невидимым, неслышимым. Непонятно Чему невыносимо трудно заявить о себе, выбраться из лесных туманов, из тишины, нарушаемой лишь шорохами ветвей и вскриками птиц, из полумрака под сенью деревьев.
Есть и еще один просчет, который допускают многие и многие — те, кто пытаются показать предысторию умершего репортера, пытаются представить себе, что с ним произошло — или он заблудился в лесу, или кто-то помог ему заблудиться, равно как и помог ему умереть. Ничего подобного домысливать не надо ни в коем случае: история журналиста остается за кадром, где-то там, в больших городах и терминалах аэропортов. Мы показываем историю с точки зрения Непонятно Чего — а оно не видело, что случилось с человеком до того момента, как Непонятно Что увидело его в лесу.
Обязательно нужно показать, как Непонятно Что выходит на автобусную остановку у шоссе, прячется в тряском автобусе, скрывается по переулкам в пугающем незнакомом городке, стоит в очереди в аэропортах, смотрит, как люди регистрируются на рейс, неумело прикладывает смартфон к экранам, не знает, что выбрать, курицу, или рыбу, потому что боится обидеть своим отказом и курицу, и рыбу, позволяет обыскать себя на таможне, как будто можно обыскивать то, чего по сути и нет. Кроме того, есть очень важный момент, когда Непонятно Что покупает газеты, терпеливо изучает газетные статьи, пытается писать то же самое, подставляя имя Светила — и понимает, что ничего не получается.
Очень важно: в фильме нет момента, когда Непонятно Что сталкивается нос к носу со Светилом — Непонятно Что слишком боится Светила, как и всех остальных, от Непонятно Чего за весь фильм можно услышать только короткие фразы — «Простите», «Извините», и… и, собственно, все.
Самое главное, что должно быть показано — тревога Непонятно Чего, что вот, человек в лесу умер, и не выполнит свою задачу, да как же так, и теперь Непонятно Что обязательно должно доделать за него эту работу, потому что ну должен же кто-то это сделать, а больше некому. У зрителя должно возникнуть подозрение — только подозрение, не более того — что Непонятно Что само погубило журналиста, просто по незнанию, что такое человек, и как с ним обращаться, погубило, само того не желая, и теперь пытается исправить свой поступок — но эти подозрения так и останутся мимолетными домыслами.
Неправы и те, кто опускают сцену, где Непонятно Что приходит в ресторан — обязательно закрытый, обязательно ночью — садится за столик, вертит меню, видимо, примеряет на себя, как это вообще — сесть за столик, взять меню, заказать что-то, заказывать не у кого, ресторан не работает, да и вообще Непонятно Что не понимает, как надо выбирать, а что делать дальше, а вдруг что-то будет не так. А потом Непонятно Что пугается, потому что представляет этот ресторан, полный людей, и все они будут смотреть на Непонятно Что, и говорить с Непонятно Чем, и это же ужас-ужас, и Непонятно Что в панике прячется непонятно где.
Непонятно Что не только боится заговорить со Светилом — но даже встретиться с ним взглядом, как и с остальными людьми. Глазами Непонятно Чего мы видим, как оно вьется вокруг дома Светила, прячется в зарослях, просачивается в темные комнаты, смотрит оттуда на свет, где за столом угадываются силуэты людей, жадно ловит обрывки фраз, повторяет про себя таким шепотом, который едва слышит оно само — деполяризация… апроксимация… Покидать дом Светила Непонятно Что должно стремительно, внезапно, озаренное неожиданным откровением, ускользать в темноту ночи, чтобы собирать по кусочкам буквы, по буквам слова, о Светиле Науки, который отнимает чужие умы, чтобы выдать их за свои.
Многие режиссеры забывают показать, как Непонятно Что обивает пороги редакций, тушуется, стесняется, прячется, шепчет свое «Простите…», «Извините…», остается неуслышанным. А ведь это очень важно — показать полнейшую неспособность Непонятно Чего говорить с людьми. Тем неожиданнее будет выглядеть статья Непонятно Чего на первых полосах газет, тем больше удивится читатель, откуда она вообще взялась, эта статья — вот именно, что ниоткуда, Непонятно Чему не нужны посредники в виде редакторов и редакций.
А дальше нужно показать недоумение Непонятно Чего — почему ничего не происходит, что значит, выдумка, почему люди смотрят на другие статьи, говорят — правда, смотрят на статью Непонятно Чего, говорят — выдумка.
Самая главная ошибка — домысливать какую-то развязку этой истории, развязку, которой нет и не может быть. Особенно отличились режиссеры, которые показывают убитого Светило Науки на полу роскошного кабинета, а Непонятно Что вертится над ним, пытается понять, что делать дальше. Так вот, ничего подобного здесь быть не может, Непонятно Что так и останется растерянным, непонимающим, потерянным в мире людей. Если вы не знаете, как эффектно закончить эту историю, можете показать Непонятно Что на трибуне в огромном конференц-зале, как оно чуть слышно говорит — «Простите…», «Извините…», несколько раз, потом наконец набирается смелости и выдает — «Это правда». Гробовая тишина в зале должна насторожить зрителя, — и тут же нужно показать пустой темный зал, куда Непонятно Что пришло глубокой ночью, чтобы отрепетировать то, что никогда не будет сказано.

Вселенская ошибка номер две половины
…в конце улицы Париж кончается, и если пойти налево, то попадешь в Прагу, а если свернуть правее, то будет Эдинбург. Я сворачиваю в Эдинбург, там зима, мне не нравится, что там зима, я прошу сделать ну хотя бы раннюю осень. Я понимаю, что лето в Эдинбурге сделать сложно, я не прошу лето. Если подняться по улице в гору, то за поворотом появится кафе с клетчатыми подушками на мягких креслах. Я прошу, чтобы в кафе сидели женщины, пока больше ничего не надо, просто чтобы сидели женщины, а там посмотрим. Я заказываю ростбиф, на удивление хороший, ну еще бы, после стольких попыток — а может, я уже и не помню, какой должен быть настоящий ростбиф.
Расправляюсь с ростбифом, поглядываю на женщин за столиками, подбираю, подыскиваю подходящий вариант, долго колеблюсь между хрупкой блондиночкой у окна и смуглой хохотушкой возле барной стойки, наконец, осторожно перебираюсь к блондиночке, подыскиваю подходящие фразы, разрешите присесть, чудный вечер, не правда ли… Не умею я все эти выверты, ваши родители случайно не астрономы, нет, тогда откуда у них такая звезда… У меня все по-простому, да и по-простому не получилось бы, если бы все это было не здесь…
Пусть она обернется, прошу я. Пока больше ничего, пусть обернется, а там посмотрим. Она оборачивается, — меня как будто прошибает током, какого черта на меня смотрит Лейла, на меня не может смотреть Лейла, она же мертвая, мертвая. Словно в ответ моим мыслям тонкое личико превращается в обугленный череп. Отскакиваю, с грохотом переворачиваю кресло, чувствую, что все в кафе смотрят на меня, так и есть, все, все, женщины с лицом Лейлы, лицом, которое медленно превращается в обгорелый череп…
Объект номер половина единиц, треть симметричных, две половины половин.
Нет, все-таки система открытая.
Закрытые системы так не работают, закрытые системы не тают, не истаивают медленно-медленно, капля за каплей не теряют самих себя.
Так что все-таки система открытая.
Открытая система — которая хватает то, что горит, чтобы пропустить через себя и выпустить то, что горит вместе с тем, что лежит черными слоями в земле.
Непонятно.
Никогда не видели открытую систему, которая истаивает по капле, по крупинке, теряет самое себя.
Выявить состав системы.
Выявлено.
Понять состав системы.
Понято.
Морская вода.
Никогда не видели систему, в составе которой была бы морская вода.
А вот.
Принести открытой (закрытой) системе морскую воду.
Нет контакта системы с морской водой.
Принести морскую воду.
Нет контакта.
Принести морскую воду.
Нет контакта.
Система истаивает, все чаще проваливается в небытие. Какая-то ошибка вселенной, которая исторгла из себя систему, не способную ничего в себя вобрать, способную только таять.
Ошибка — не морская вода вместо морской.
Непонятно. Система с морской водой вбирает не морскую воду.
Ошибка системы?
Вбирает не морскую воду. Сначала стремительно с намерением вобрать её всю, потом моментально меняет решение, вбирает не морскую воду по крупицам, по каплям. Почему-то хочет вобрать всю, разом, и больше, больше, будто бы больше себя — а вместо этого по крупицам, по каплям, потому что почему-то так надо.
Снова ошибка системы?
Думать.
Думать.
Думать.
Перебирать варианты. А что тут перебирать, если вариантов нет, ни одного, неоткуда вытащить хоть один-единственный вариант…
Система тает.
Уже не так стремительно — потому что не только отдает воду, но и берет воду — но все еще тает, исчезает медленно, но верно.
Вариант.
Дать то черное, что выделяет система.
Система создает горячую плазму над черным. Но продолжает таять.
Ошибка?
Ошибка вселенной, — создать систему, которая не может вобрать в себя то, из чего состоит.
Или…
Или?
Вариант.
Дать системе то, что подобно самой системе.
Взять образец.
Копировать образец.
Копировать.
Копировать.
Копировать…
Копи…
Ко…
К…
К…
К…
Принести системе.
Не понять.
Почему система отстраняется от принесенного, почему уходит от принесенного, прочь, прочь, прочь.
Почему возвращается — когда принесенное уже начинает рассыпаться и тлеть, почему пытается вобрать в себя то, что уже рассыпается и тлеет. Почему вызывает из небытия горячую плазму, чтобы положить туда принесенное, почему…
Не понять.
Ошибка вселенной — создать систему, которая страдает, когда вбирает то, из чего состоит.
Исследовать объект номер половина единиц, треть симметричных, две половины половин.
Пытаться понять.
Не понимать.
Ловить короткие всполохи электрических импульсов где-то там, в глубине объекта.
Пытаться понять.
Не понимать.
Цикл:
Четыре фрагмента, сжимаются, разжимаются поочередно.
Цикл:
Электрические всполохи то затухают, то вспыхивают.
Цикл:
Циклы всполохов меняются один за другим.
Смотреть циклы всполохов.
Проникнуть в электрические импульсы, слиться с ними, стать ими.
Непонятно.
Ошибка.
Ошибка вселенной — создать систему, которая погружается в циклы электрических всполохов, чтобы чувствовать то, чего рядом нет.
Потому что рядом нет камней причудливой формы, которые чувствует система.
Потому что рядом нет всполохов плазмы, которые чувствует система.
Потому что рядом нет систем, подобных системе — которые чувствует система.
А система чувствует.
Система выходит из цикла, которым чувствует то, чего нет, входит в цикл, которым чувствует то, что есть.
Идет к воде, чтобы вобрать воду.
Идет к фрагментам себя, чтобы сжечь в плазме — но не до конца — и вобрать в себя.
Чувствовать объект номер половина единиц, треть симметричных, две половины половин.
Пытаться понять.
Чувствовать то, что чувствует система, чего на самом деле рядом нет.
Система чувствует, как вбирает в себя что-то, не похожее на саму систему, понять бы еще, из чего это что-то… система подсказывает, насколько понимает, из чего это — не похожее на систему…
Собрать по крупицам то, что чувствует система, чего на самом деле нет.
Непонятно.
Почему система не хочет чувствовать в этом цикле всполохов то, что чувствует в том цикле всполохов.
И даже не так.
Хочет и не хочет одновременно.
Ошибка вселенной — создать систему, которая не понимает, чего хочет.
Система пробует вобрать в себя то, что вбирала в себя не по-настоящему, в своих иллюзорных чувствах.
Не может.
Что-то не так.
Переделывать.
Корректировать.
Давать.
Чувствовать, как система пробует вобрать в себя созданное — не вбирает, не то, не то.
Корректировать.
Корректировать.
Корре…
…чувствовать, как система вбирает скорректированное.
Чувствовать наслаждение системы, первый раз вот так внезапно чувствовать наслаждение системы.
Чувствовать, как система движется по имитации того, что чувствовала иллюзорно, а теперь ощущает по-настоящему.
Чувствовать восторг и замешательство системы. Ловить тончайшие электрические импульсы, по тончайшим импульсам воссоздавать то, что чувствует система.
Непонятно.
Почему система удаляется прочь от системы, подобной системе, в страхе и замешательстве (откуда вообще взялись эти понятия — страх и замешательство) — прочь, прочь, прочь…
Ошибка вселенной — создать систему, которая ловит волны вселенной в таких безумных диапазонах, зачем, зачем, зачем.
Чувствовать объект номер половина единиц, треть симметричных, две половины половин.
Пытаться понять.
Связывать между собой всполох и всполох — всполохи, которые вспыхивают одновременно, будто не могут друг без друга.
Вон то нагромождение причудливых каменных форм — Пари.
Если миновать проход между каменными формами, дальше — Лэндн.
Камень, по которому можно пройти над потоком воды, камень, на котором стоят системы, подобные системе — Прах.
Непонятно.
Почему система бежит прочь (вот это — когда быстро, то взлетая над пустыней, то падая — бежит, бежать, бегу) от систем, подобных системе, что стоят на камне над водой (на мосту, вот это — камень над водой — на мосту), почему отторжение — системы не должны двигаться, системы должны быть камнем, ведь система же не камень…
Пытаться понять.
Есть системы, которые камень и системы, которые не камень.
Система соглашается.
Теперь все в порядке.
Теперь Прах, мост, теперь кафе, теперь чизкейк, как чувствует система — такой чизкейк, который всем чизкейкам чизкейк, после стольких корректировок, после стольких притираний к системе…
Непонятно.
Почему система хочет, чтобы каменные системы были как не каменные, ведь так не бывает.
Почему система хочет то, чего не бывает.
Запомнить.
Системы, которые система хочет видеть.
Системы, которые система видеть не хочет.
(вот это — ловить немыслимые диапазоны излучений — видеть)
Думать.
Думать.
Догадаться.
Если есть связи между видеть и слышать, если видеть то каменное — Пари, а видеть это каменное — Лэндн, а видеть вон то — чизкейк, а вон та система, подобная системе, но каменная — Пьета — значит, где-то должна быть связь между самой системой, и чем-то слышимым…
Слиться с электрическими всполохами системы.
Искать связь…
…найти — удивительно быстро, система как будто ждет, когда же наконец кто-нибудь запросит эту связь, — Крис.
Крис.
Объект номер половина единиц, треть симметричных, две половины половин.
Вычеркнуть.
Запомнить.
Крис.
Запомнить.
Системы, которые появляются только в ритме, когда система видит то, чего нет: Лейла, Адам, Николас, Яньлинь.
Запомнить: сон: видеть то, чего нет.
Крис просит Эдинбург — это улицы, ведущие вверх и вниз, и пестрые темные стены, и башня возле моста, и мостовая после дождя, и кафе, и чтобы кровяная колбаса, и фасоль, и бекон, и тосты с джемом, а над тостами еще поработайте, Крис чувствует, что они могут быть лучше. Еще Крис просит, чтобы те, кто приходит наяву, не приходили во сне.
Это невозможно.
Невозможно.
Управляем реальностью — но не снами.
Не снами.
А вы попробуйте, просит Крис, попробуйте, а вдруг.
Осторожно касаться электрических импульсов.
Осторожно одергивать — там, где Лейла, там, где Адам, там, где Николас, там, где Яньлинь.
Парадокс.
Почему чем больше прогонять Лейла-Адам-Николас-Яньлинь — тем больше будет Лейла-Адам-Николас-Яньлинь.
Крис просит, чтобы медленно темнело.
Крис просит, чтобы Эдинбург.
Крис просит, чтобы кафе.
Крис просит, чтобы женщины, да, вот так, за столиками, пока просто пусть сидят, дальше по ходу дела Крис покажет, что и как должно быть…
Крис подходит к сидящей у окна, перебирает какие-то варианты того, что слышать, хей, хани, хей, китти, гуд ивнинг, позвольте составить вам компанию. Пусть она обернется, просит Крис, и…
Непонятно.
Почему боится, почему шарахается в сторону, почему повторяет, как заведенный — не надо, не надо, пожалуйста, не надо, пусть не Лейла, не Лейла, не Лейла…
Непонятно.
Почему хочет Лейлу и не хочет Лейлу.
Почему хочет Лейлу и боится Лейлу.
Почему хочет Лейлу и просит, пожалуйста, пусть не Лейла.
Почему.
Почему.
Почему.
Вариант номер две половины и половина четвери.
Женщина оборачивается, показывает лицо Янлинь.
Почему.
Почему все варианты упорно сводятся к двум, которых быть не должно, к вариантам, где Лейла и Яньлинь.
Почему.
Крис сердится, Крис требует, да сделайте же что-нибудь, сердится еще больше при попытке объяснить, что причина там, в электромагнитных импульсах Криса, а не вовне. Ну, так сделайте что-нибудь, требует Крис, кажется, первый раз не просит, а требует, что вам, трудно, что ли…
Пробовать сделать что-нибудь.
Слиться с электрическими импульсами Криса, когда будет сон — смотреть и слушать, если про электрические всполохи можно сказать — смотреть и слушать…
…смерть, смерть, близко, совсем близко, страшно, страшно, тяжесть, давит, давит, давит, выжимает внутренности, дымно, дымно, душно, душно, страшно, страшно, пик-пик-пик-пик, датчики надрываются писком, который острым ножом вонзается в уши,
(…пробуждение…)
…и надо лезть туда, где дымно, туда, где душно, туда, где смерть, что-то нажать, что-то повернуть, чтобы не было смерти тяжетси, дымной, душной, но для этого надо лезть в дым и пламя, и невозможно лезть в дым и пламя, и тело само рвется в капсулу, где нет дымной и душной смерти, где есть жизнь…
(…пробуждение…)
Что-то кричит Яньлинь где-то там, там, хочется открыть там, где Яньлинь, где остальные, но это надо в смерть, в дым, а вместо этого тело тянется в жизнь…
(…пробуждение)
…сжаться в капсуле в комок, дальше она сама закроется, сама выпадет куда-то в никуда, и так жутко падать спиной вперед, крик сам рвется из горла, а дальше странно — Крис не видит, что снаружи, но знает…
(…пробуждение…)
…что капсула горит огнем, а потом невесомость резко обрывается, — Крис опять не видит, что снаружи, но почему-то знает про парашют, а потом снизу капсулу толкает пустыня, капсула катится, страшно катиться вместе с ней куда-то в никуда, замирает…
…пробуждение. Крис снова вырывается из сна, пусти-пусти-пусти, мечется на широкой кровати в виде гоночной машины, это Крис попросил, чтобы кровать в виде гоночной машины, в детстве хотел, а в детстве не было, пусть хоть сейчас будет. Сжимает голову в висках, не надо, не надо, не надо, пусти-пусти-пусти, не смотри, не смотри, ком-му сказал, не смотри, чер-р-р-р-рт…
…это должно быть круглое. И оранжевое. Нет, так слишком ярко, потусклее чуть-чуть… хотя нет, давайте так, так даже круче. И еще такие борозды сверху вниз, как будто кто-то шарик ниткой перетянул. И еще чуть приплюснуть сверху вниз. Вот так, отлично. А внутри полое. И… нет-нет, дырки Крис сам прорежет, должен же он сам хоть что-то сделать. А внутри должен быть источник света, да-да, вот как эта раскаленная плазма в очаге.
Крис просит паутину из черных нитей, и черных птиц, только не настоящих. Птицы получаются какие-то несуразные, — снова и снова попытки проникнуть в сознание Криса, понять, какие должны быть птицы, снова и снова все более несуразные нагромождения крыльев и перьев. И еще должны быть желтые, пятиконечные, нет, не совсем пятиконечные, и фонарики… воспоминания воплощаются в реальность, её можно потрогать руками, почувствовать запах осени, холод подступающих туманов, вкус яблочного сидра, тяжесть тыквы в руках, призрачные силуэты на улицах, и еще что-то, чувство какое-то из детства, уютное что-то такое, родное, домашнее, воспоминания, в которые хочется завернуться, как в теплое одеяло… И конфеты чтобы обязательно были, потому что трик-о-трит…
И уже не надо касаться электрических импульсов Криса, Крис уже сам понимает, как сделать, чтобы импульсы мыслей становились реальностью, и тепло очага, и тыквенный пирог, и холодок осени за порогом дома, и свет фонариков, и… и…
Темные силуэты на дорожке к дому, Крис еще не видит лиц, уже знает, высокая худая фигура Адама, толстый увалень Николас, крохотная Яньлинь, у Лейлы ни с того ни с сего длинные золотые волосы, а ведь всегда были накоротко обстрижены едва ли не под ноль, потому что как их мыть в невесомости…
…хочется бежать, затаиться, спрятаться, и нельзя бежать, надо сделать как надо, вынести тарелку с конфетами, потому что трик-о-трит, высыпать в подставленный мешок, и они уйдут, уйдут, не пересекут порог дома, грань царства живых, и царства мертвых…
Непонятно.
Почему страх, почему мелкая дрожь, почему сердится Крис, даже не сердится, тут другое что-то, чувство какое-то, что так быть не должно, неправильно это, неправильно, потому что это только суеверие, ну это просто так говорят, что в эту ночь мертвые приходят, на самом-то деле никуда они не приходят, и вообще…
Непонятно, ничего непонятно, почему Крис хочет, чтобы они не приходили, не появлялись, чтобы их не было — и в то же время хочет, чтобы они были, обязательно были. Почему хочет запереть дверь на сто замков, спрятаться под одеялом от всякого страшного, как в детстве — и в то же время хочет бежать за ними в темноту осенней ночи, в запахи мертвых листьев и холод туманов, догнать, долго объяснять что-то, а что тут можно объяснить… Почему сам Крис настойчиво отбивается от вопросов, чего же он хочет, или так или так, потому что невозможно, чтобы одновременно и так, и так, почему Крис закрывает свое сознание, прячет где-то глубоко-глубоко в памяти кровоточащую рану, откуда вообще эти слова — кровоточащая рана, все у Криса в порядке, ничего не кровоточит, специально сканировали каждый сосуд мозга, все хорошо…
Смотреть перед собой.
Долго.
Пристально.
Представлять себе круглое и приплюснутое — только очень-очень сильно представлять. Прочувствовать каждый изгиб металла, каждую шестеренку, каждую пружинку, мерное постукивание — тик-тик-тик-тик, и даже холодную, чуть подернутую ржавчиной цепочку, хотя цепочка уже лишняя.
Смотреть на медленное движение стрелок, мысленно тянуть их вперед, вперед, надо же, получается, а теперь назад, ну же, ну же, ну… черт, получилось, быстро-то как, стой, стой, стой, помедленнее, вперед, назад, вот так, хорошо…
А теперь нужно решиться… и так хочется не сейчас, не сейчас, так хочется сказать себе, что на сегодня хватит, достаточно уже, и продолжать уже завтра, и завтра тоже с осторожностью, например, во вчерашний день, потренироваться, поучиться, а потом когда-нибудь… через неделю… или через месяц… или через год… или через никогда… и поэтому надо вотпрямздесь и вотпрямщас, назад, назад, в опустошение туманного утра первого ноября, назад, в леденящий душу ужас ночи, назад, в уютный тыквеннофонарный вечер, назад, в цепкие капканы ночных кошмаров, назад, в колкий ужас ночного кафе, где со всех сторон смотрели Лейла и Яньлинь, назад, в фантасмагорические лабиринты города, вместившего в себя едва ли не все города мира, назад, в жуть Карлова моста с ожившими статуями, назад, в пугающее пробуждение, когда мертвая пустыня обернулась безумным нагромождением домов и улиц, назад, в жуткое утро, когда увидел собственную отрубленную руку, еще долго смотрел на свои две руки, еще спрашивал себя, откуда третья, назад, в жуткие дни, когда хочешь не хочешь, а режь эту мертвую руку, жарь на огне, ешь крохотными кусочками, потому что после долго голода по-другому нельзя, назад, в голодные дни, когда смерть вертелась рядом, шла по пятам, когда появились куски угля, и можно было хотя бы развести огонь, назад, в дни нестерпимой жажды на грани безумия, когда неимоверными усилиями воли приходилось сдерживать себя, чтобы не пить соленую воду, назад, в падающую капсулу, которая беспомощно кувыркается по холмам, назад, в удушающий дым, в смерть, назад, в роковой вечер, в эту игру надо играть впятером, Адам в паре с Лейлой, увалень Николас в паре с Яньлинь, Крис один, сам по себе, Лейла говорит, несправедливо это, что Крис один, ну да ничего, в следующий раз мы с Янь втроем вместе с Крисом будем, да, Янь? Она каждый вечер так говорит, а на следующий вечер снова будет Адам с Лейлой и Николас с Яньлинь, и Лейла снова скажет…
…снова что-то переворачивается внутри, а ведь все так просто, так просто, когда они пойдут в четвертый отсек, Адам и Николас, а дальше все просто, короткое замыкание, блокировка отсека, никто ничего и не узнает… на этот раз все будет по-другому, на этот раз…
…смерть, смерть, близко, совсем близко, страшно, страшно, тяжесть, давит, давит, давит, выжимает внутренности, дымно, дымно, душно, душно, страшно, страшно, пик-пик-пик-пик, датчики надрываются писком, который острым ножом вонзается в уши…
…и тело само рвется в капсулу…
…Что-то кричит Яньлинь…
…так жутко падать спиной вперед…
…страшно катиться куда-то в никуда…
…дни нестерпимой жажды…
…куски угля…
…голодные дни…
…жарь на огне, ешь крохотными кусочками…
…откуда третья рука…
…нагромождение домов и улиц…
…жуть Карлова моста…
…ужас ночного кафе…
…уютный тыквеннофонарный вечер…
…темные тени на пороге, трик-о-трит…
…опустошение туманного утра… И не так, не так, все не так, опять все по новой, назад, назад…
…темные тени на пороге, трик-о-трит…
…уютный тыквеннофонарный вечер…
…ужас ночного кафе…
…жуть Карлова моста…
…нагромождение домов и улиц…
…откуда третья рука…
…жарь на огне, ешь крохотными кусочками…
…голодные дни…
…куски угля…
…дни нестерпимой жажды…
…страшно катиться куда-то в никуда…
…так жутко падать спиной вперед…
…Что-то кричит Яньлинь…
…и тело само рвется в капсулу…
…писк датчиков вонзается в уши…
…Адам в паре с Лейлой, увалень Николас в паре с Яньлинь, Крис один, сам по себе…
…и так просто, просто ничего не делать, любезно улыбаться, любезно смотреть на карточки с картинками, называть, что там, на картинках, в который раз пытаться понять, что вообще нужно делать в этой игре, в который раз не понимать. Досидеть до конца вечера, крепко-накрепко держать в памяти другой вечер, когда трик-о-трит, и темные тени на пороге… Не, ребят, я спать, да, чего-то подустал, ага, точно, ничего не делал и устал, ничего не делать знаете, как трудно, потом вообще без сил с ног валишься…
Просто уйти к себе, доплыть в невесомости до каюты, хватаясь за перекладины, кто-то окликает, кто-то догоняет, Лейла, фу, еле вырвалась, Адам этот еле отстал, слушай, а ты чего такой бледный, болеешь, что ли? Дай-ка лоб… Слушай, а ты мне можешь правила объяснить, мы во что играем вообще? Тоже не знаешь? Похоже, один Адам знает, чего он вообще раскомандовался тут, что мы во все это играть должны… да он всегда такой был… да как ты хочешь, я его всю жизнь знаю, как я брата своего могу не знать, вот еще в детстве придумает игры какие-то бредовые, черт знает, что вообще, никто ничего не понимает, а он командует… тьфу на него вообще… Крис обнимает Лейлу, дальше все идет как-то само собой, как оно должно идти…
…посадка прошла успешно…
Крис смотрит на безжизненную пустыню, Крис знает, что она не безжизненная, но он об этом не знает, он еще не должен об этом знать. Он еще делает вид, что видит пустынные холмы первый раз в жизни, он еще делает вид, что не чувствует того, что кроется в мертвой пустыне, да это и невозможно почувствовать, это просто есть. Он еще долго будет говорить Адаму в маленьком кафе Эдинбурга, что да, да, все серьезно, обязательно женюсь, хоть прямо сейчас, вроде капитан обвенчать может, как ты не капитан, а кто тогда, вот уж в жизни бы не подумал, что Николас, ну Николас так Николас, давайте здесь же и отметим, хорошее кафе, здесь подают…
…стоп.
Какое, к черту, кафе, какой, к черту, Эдинбург, и Карлов мост, и все остальное, откуда, откуда, этого не должно… а да, конечно, это все эти… этот… это… уже знает, как встречать гостей… гостей? Гостей?
Непонятно.
Почему Крис говорит — настоящее про ненастоящее.
Почему говорит, что можно время назад.
Почему не понимает, что нельзя время назад.
Почему понимает — и кричит, долго, протяжно, отчаянно, почему бьет кулаками в каменистую пустыню, больно ранит пальцы, машет на Лейлу-Адама-Яньлинь-Николаса, убери это, убери, убери, почему хочет, чтобы их не было, и в то же время хочет, чтобы они были…
Бессрочно в номер
Фокс Фрит, «Кельтское древо» Тринадцатый месяц, три ночи Сауина.
…ночи Сауина приходят сегодня, знаменуя собой конец светлой половины года, начало долгой, колюче-морозной тьмы. Горе тому, кто окажется в эти ночи за вратами города, горе тому, кто потеряется в безвременье, когда силы нездешних миров выходят в наш бренный мир! Не каждый год приходит тринадцатый месяц, не каждый год приносит он столь тяжкие испытания, не каждый год приводит он вражеские корабли далеко с востока, не каждый год гонит на наши славны земли воинов в доспехах. И хочется верить, что богиня Дану смилуется над нами, и темные фоморы в обличьях чужеземных воинов будут повержены, и холод зимы сменится теплым благодатным летом, как было всегда…
***
Фокс Фрит «Римская правда» День Сатурна, ante diem III (tertium) Kalendas Iunias
…наступают величайшие дни в истории, дни, когда величайшая из империй поработит очередное варварское племя, приобщит неотесанных дикарей к настоящей культуре. Я вижу изящные триеры и пентеры, которые легко покачиваются на волнах, зорко следят нарисованными глазами за белоскальным берегом, которому уготована судьба стать очередной землей прославленной империи…
***
Фокс Фрит «Гардиан» 31 октября, 43 год н. э.
Я останавливаюсь на берегу, о белые скалы которого бьются волны. Холод подступающей зимы окутывает берега, еще не подернутые снегом, мало-помалу рассеивается седой туман. Я присутствую при величайшей битве, которая навсегда изменит судьбу Европы, которая сделает Европу такой, какая она есть сейчас. Этот день принесет Туманному Альбиону настоящую цивилизацию, откроет перед островом огромные перспективы…
***
Фокс Фрит (Знак информации) 4 523 765 298 оборот нетермоядерного странника.
Карбонат кальция.
Кварц.
Вода с растворенными солями.
Четыре вехи от нуля холода.
Люди.
Много.
Решают, чья земля.
Ненависть.
Много ненависти.
Праздник непобедимого солнца против праздника дикой охоты.
День владыки подземного царства против дня схождения дочери земли в царство мертвых.
Ненависть.
Кровь.
Боль (зачеркнуто, примечание — боль не передавать, только упоминать вскользь)
***
Блокнот Фокса Фрита
…пять золотых колец.
Двадцать викториатов.
50,00 $ перевод на карту
Порталы на два перехода.
***
Фокс Фрит «Кельтское древо» Материнская ночь, брешь между старым и новым годом.
Праздник дикой охоты, праздник колеса года, дни великого пира, дни солнца, восставшего из мрака, ночи духов. Но сегодня народы и племена ждет особенный праздник, празднество победы над вражескими племенами, приплывшими с далеких берегов, торжество света над силами тьмы, чья жестокость не знала границ…
***
Фокс Фрит «Гардиан» 21 декабря 43 года н.э.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.