
Бесплатный фрагмент - Фарт
Журнальные и иные публикации разных лет
Последний рыцарь культуры ХХ века
Адриана Митрофановича Топорова (1891 — 1984) несколько раз настигала прижизненная слава. Первый раз — как педагога. Он даже избирался делегатом Первого Всесоюзного съезда учителей в Москве. Было это в 1925 году По всей державе тогда гремел его метод обучения школьников написанию сочинений по способу наблюдений. Коллеги взахлеб зачитывались его острыми и, выражаясь современным языком, креативными статьями в педагогических журналах молодой советской страны. В чем-то он был предтечей новаторских идей А. П. Макаренко и В. А. Сухомлинского. Не исключено, что их имена и сегодня стояли бы в одном славном ряду, но… Вмешался недоброй памяти 1937 год. После пребывания в ГУЛАГе к работе в школе А. М. Топоров уже больше не возвращался.

В 1930 году Адриан Топоров получил и литературное признание, так как в Москве увидела свет не имевшая и не имеющая по сей день аналогов в мире книга «Крестьяне о писателях». Двенадцать лет, не зная выходных и отпусков, молодой учитель собирал в школе им же созданной алтайской коммуны «Майское утро» практически все ее население — от мала до велика. И мастерски читал им произведения мировой и отечественной литературы — разных форматов, разных жанров. Надо ли говорить, насколько были стеснительны и молчаливы селяне в Сибири сто лет тому назад?! Однако это не остановило Адриана Митрофановича, а наградой ему и «Белинским в лаптях» стал искренний интерес к «Крестьянам» со стороны читающей публики в Советском Союзе, США, Швейцарии, Польше, Франции, Болгарии. О книге с восторгом говорили А. М. Горький, В. В. Вересаев, К. И. Чуковский, Н. А Рубакин, П. М. Бицилли, чуть позже А. Т. Твардовский, М. В. Исаковский, С. П. Залыгин, В. А. Сухомлинский и др. Но и тут дохнуло зловещим холодом из Карлага, где писатель, начиная с 1937 года валил вековую архангельскую тайгу… Гранки 2-го и 3-го томов книги «Крестьяне о писателях» были в издательстве рассыпаны, а рукопись — уничтожена…
Примерно тоже самое относится и к публицистической деятельности А. М. Топоров, бывшего в 20-е годы одним из лучших селькоров Алтая и страны в целом, автором многочисленных острых публикаций в ведущих центральных периодических изданиях СССР.
Период забвения прервался только в 1961 году после космического полета Г. С. Титова, который родился в той самой коммуне «Майское утро» на Алтае. И даже имя свое — Герман — этот герой получил в честь младшего сына учителя и друга его родителей — А. М. Топорова. «Духовным дедом» называл его космонавт и не раз навещал в украинском Николаеве, где к тому времени поселился старый педагог и литератор.
А. М. Топоров бесконечно восхищался подвигом космонавта-2. Но к новой своей известности относился с определенным скепсисом, однажды, к примеру, заявив весьма высокопоставленным партийным руководителям следующее:
— Уважаемые судари, объясните мне, непутевому старику, вот такую ситуацию. Обращался я с просьбой установить мне персональную пенсию — местную, республиканскую, все равно. Отказали. И вот идет Гоша, как депутат Верховного Совета СССР, в Министерство социального обеспечения, рассказывает сложившуюся ситуацию, и мне назначили персональную пенсию союзного значения. Вот я и думаю: за что? За то, что я долгие годы работал учителем, вел какую-то общественно-полезную работу или потому, что Гоша в космос полетел?
На дворе, кстати сказать, был, 1967-й и весьма «застойный» год.
Наше сложное время тоже, увы, не слишком способствует росту популярности подобных людей в широких массах. Стало забываться потихоньку и литературная, и педагогическая, и журналистская слава А. М. Топорова.
Посему настало время обратиться к воспоминаниям современников и ныне действующих выдающихся деятелей культуры об этом удивительном и разностороннем человеке. Так-то появилась в конце 2021 года в издательстве «Ridero» весьма любопытная книга с говорящим названием «Баллада о Топорове» — по заглавию замечательного стихотворения владимирского художника и поэта В. А. Фильберта.
Новая книга «Фарт» — по сути дела является ее продолжением. Это тоже воспоминания о длинной, безумно интересной и подвижнической жизни А. М. Топорова. Только основаны они на текстах самого писателя, изданных в сборниках, альманахах, журналах и газетах страны на протяжении десятков и десятков лет. А некоторые из них ранее были читателю неизвестны и публикуются впервые.
Искренне надеюсь, что книга «Фарт» способна заинтересовать занятого и куда-то вечно спешащего современного человека. А кому-то поможет открыть для себя имя Адриана Митрофановича Топорова, одного из последних рыцарей культуры ХХ века.
Игорь Топоров, внук и популяризатор творчества А. М. Топорова
Отрывки из книг, рассказы, стихотворения
Однажды и на всю жизнь
Автору этих записок сейчас восемьдесят девять лет. Он прожил долгую-долгую, насыщенную работой, трудную, удивительную жизнь. И сохранил энергию, живость ума, завидно крепкую память.

Топоров — истинный учитель, я бы даже сказал, просветитель в самом высоком смысле этого слова. Его имя с детства было для меня памятным — так часто говорили о нем в моем родном селе.
Адриан Митрофанович уехал из Сибири, когда меня еще не было на свете, долгие годы не встречался с моими родителями. Но отец, хотя и в редких письмах, советовался со своим учителем по школьным делам, делился впечатлениями о новых книгах, музыкальных произведениях. А я, очень много наслышавшись о Топорове, еще с детских лет мечтал повидать этого замечательного человека.
Незадолго до полета в космос я разыскал и прочел уникальную книгу А. М. Топорова «Крестьяне о писателях». В ней собраны были высказывания коммунаров о прочитанных книгах. Своеобразные, но какие меткие суждения! Умели мои земляки ценить душевное слово, умели чувствовать и понимать прочитанное, принимать его или отвергать. Прочитав эту книгу, я как бы встретился с коммунарами двадцатых годов.
И вот встреча с этим замечательным человеком состоялась.
— Знакомься, Герман, — радостно улыбаясь, сказал отец, приехавший ко мне в Москву, и по его тону я почувствовал, что эта минута для него — настоящий праздник. — Наш коммунарский учитель Адриан Митрофанович Топоров.
О многом мы говорили в эту встречу, и позже, во время одной из моих поездок, — в городе Николаеве, где живет сейчас старый учитель. На фотографии, подаренной ему, я написал:
«Адриану Митрофановичу Топорову — моему духовному деду».
Для меня Топоров и сегодня остается олицетворением лучших черт, которые мы вкладываем в высокое понятие Учитель. О его записках, которые теперь перед вами, я не буду подробно говорить. Вы ведь их сами прочтете. Отмечу только, что они необыкновенно точны, достоверны, правдивы, и это составляет, на мой взгляд, их особую ценность.
Читая записки учителя А. М. Топорова, лучше осознаешь величие того пути, который пройден нашим народом за шестьдесят с лишним советских лет. Познаешь истинные масштабы перемен, потому что в этих честных, талантливых записках дана начальная точка отсчета.
Герман Титов, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
1
Пришел день, и мне выдали свидетельство на звание «учителя школы грамоты». В один из августовских вечеров 1908 года — страшно вымолвить: семьдесят лет тому назад! — я уже трясся на попутной телеге из Старого Оскола в село Лапыгино, к месту моей первой работы. Отсюда и взял начало мой наставнический путь.
Священник Иван Альбицкий, ведавший приходской школой, принял меня хмуро. Был он обрюзгший, волосатый, с лошадиными челюстями и хриплым, бубнящим голосом. При разговоре скрежетал зубами, точно никак не мог разжевать кусок недоваренного мяса. Предложил, однако, жить у него, пока не подыщу квартиру. И я согласился, не зная, чем это мне грозит.
Первый учебный день прошел быстро. Я познакомился с детьми, спросил, что они знают, хор даже успел собрать, проверил голоса. Поздним вечером вернулся со спевки, а ворота на замке. Стучу — не открывают. Влезаю на забор, чтобы спрыгнуть во двор. И тут выходит на крыльцо пьяный поп:
— Полкан! Тягай! Урза! Бери его, сволочь такую!
Собаки с яростным лаем прыгают на забор, пытаясь меня достать. Кричу:
— Это я, учитель!
— Ату его! Взять!
Пришлось ночевать в школе. Сторож Семен объяснил мне причину травли:
— У бати попадья-то умерла. Он, вишь, и живет с молодой свояченицей. А ты тоже молодой. Ну, ему и помстилось, как бы она с тобою не спуталась. Теперя, знай, почнет тебя глодать.
Предсказание сбылось, хотя я сразу же перебрался в одну из крестьянских изб. Через ночь отец Иван требовал меня в школу и, пьяный в дым, кричал:
— Учитель, значит? А подай сюда грифельные доски!
Подаю.
— Клади обратно в шкап!
Кладу.
— А подай сюда грифели! Считай! Сколько их?
— Восемьдесят три.
— Клади обратно!
Терпел, сколько мог, но как-то в декабре прихожу на занятия и вижу, что мои ученики почему-то толпятся в сенях. Класс был один на три отделения. Иду туда, а там к стене прилажена длинная жердь с толстой жильной струной. Кустарная волнотёпка. И весь пол завален хлопьями уже пробитой шерсти.
— Что такое? Кто разрешил?
— Тпрундило, — объясняет всё знающий сторож. — Отец Иван приказал волнотёпу Акимке в школе быть. Он сейчас завтракает у бати на кухне.
Любопытные детские глаза смотрели на меня. Как ни мал был опыт, а я понял, что если и тут смирюсь, то окончательно рухнет мой учительский авторитет. Сорвал со стены «тпрундило», вышвырнул на снег, шерсть ногами вытолкал из класса. И начал урок.
Вскоре примчался разъяренный священник. Всклокоченный, пьяный, орал на меня страшно, я тоже не остался в долгу, и он пригрозил:
— Завтра же сам вылетишь вон!
И точно: я «вылетел» из Лапыгина. В городе у попа оказалась сильная рука — шурин, влиятельный протопоп. И пришло мне предписание от Старооскольского отделения Курского епархиального училищного совета:
«Учителю школы грамоты Топорову А. М.
С 1 января 1909 года Вы увольняетесь с занимаемой должности, ибо не обладаете характером, достойным звания учителя церковноприходской школы».
Первое возмездие, полученное за строптивый нрав… Все же перевели меня в другое село, в Покровское. Священником здесь тоже служил отец Иван, но этот был невредный, робкий. А попечителем школы и ктитором состоял богатый помещик, ротмистр Арцыбашев. Во время богослужений стоял в алтаре, в нише, специально сделанной для него. Был всегда в полном военном обмундировании, становясь на колени, звякал шпорами.
Хор он любил и, видимо, мои труды заметил. В первый день пасхи в школу прискакал его гонец и вручил мне конверт, в который был вложен 25-рублевый кредитный билет. Жил я, надо сказать, нищенски, жалованья получал всего десять рублей в месяц. Гонорар за искусство взял, поделился с певчими, и им это понравилось. А к следующему празднику он денег не прислал, мои хористы взбунтовались, не стали петь. Ротмистр пришел в возмущение:
— Почему молчал хор?
— Не желает петь бесплатно.
— Виноваты вы!
— Певцы не в моей воле.
Он вынул из кошелька две золотые монеты:
— Видите?
— Вижу.
— Вы их лишаетесь. Идите!
А к Покрову передал мзду самим певчим. Меня и в селе не было. Вышло распоряжение учителям школ грамоты, чтобы держали экзамен на звание учителей начальных школ. И я отбыл в Старый Оскол. По обычаю, в праздник по всем деревням шла большая гульба, и мои хористы пропили помещичьи деньги. Попойку устроили в школе, а назавтра, как на грех, прибыл ревизор. Да какой! Действительный статский советник из самого священного синода. Вот как об этом позже рассказывал мне сторож Федор:
— Утресь к крыльцу подкатила бричка, а из нее — генерал, весь в заслугах. «Почему школа на замке?» — «Учитель, говорю, на экзамене в городе. — «Открой!» Я открыл. А в классе вся срамность от гулянки певчих. «Кто заведует?» — «Батюшка, говорю, отец Иван». — «Позвать!» И как я его привел, генерал в крик: «Кто повинен?» Батюшка весь затрусился: я, мол, ни при чем. «А кто?» Учитель, мол. «Как фамилия?» — «Топоров». Генерал велел записать — и айда из села. Только пыль за бричкой…
Объяснений моих никто не спросил, помещик, конечно, не вступился, поп дрожал — меня не только выгнали из села, но лишили права учительствовать сроком на год «за недопустимое отношение к обязанностям и безнравственное поведение». Второй крах за первый год службы. Не зря, однако, говорено было, что единственное спасение от дурных российских законов заключено в чрезвычайно дурном их исполнении. Я перебрался в соседний Тимской уезд и нашел место учителя в селе Старый Лещин. За что меня отрешили от должности, тамошний священник Солодовников даже не спросил.
Тоже был тип в своем роде. Здоровый увалень, сильный, как бык, но безответный, занимался он в основном своим хозяйством. Таких немало было среди сельского духовенства. Пахал и сеял вместе с мужиками, а служил между делом, с прохладцей. Вдобавок сильно шепелявил и вместо «благославен еси» произносил «благошлавен еши». Трудно было сдержать улыбку, слушая его «гошподи, помилуй», — возглашать-то это полагалось сорок раз!
Все село знало, что в церкви верховодит не он, а попадья Анфиса, баба жадная и взбалмошная. Село делилось на две части, лежавшие на противоположных сторонах реки. Поехал как-то поп на Заречье собирать рожь новину. Взял полный воз, тут хлынул дождь, дорога расхлюсталась, а к попову дому вел крутой взлобок. Некованая лошаденка, как он не подхлестывал ее кнутом, не могла вытянуть тяжелый воз. Увидела это матушка и принеслась:
— Что надрываешь кобылу зря? Выпрягай!
Он выпряг.
— Лезь в оглобли сам!
И что вы думаете? Впрягся поп и вытянул-таки воз на взлобок. Мне, божась, рассказывали об этом очевидцы. А звали батюшку Иваном. Третий подряд отец Иван на моем пути — это уж слишком!
2
Учитель я, конечно, был еще никакой. Мог передать детям лишь то, чему самого обучили с грехом пополам. Опыта жизни не накопил, а без этого нет педагога. Детей любил, но был полузнайкой, как и большинство учителей приходских школ. По этой причине об учительской работе не буду писать до поры. Не то беда, что мало я знал, а то, что был убежден, будто иначе и быть не должно. Такими нас готовили, такие мы и нужны были церкви и властям.

Как старый пень обрастает опёнками, так и село Старый Лещин обсели помещичьи усадьбы. Снова я видел то же, что и у себя в Стойле: лучшие луга, пашни, леса, сады, пруды, мельницы принадлежали барам. С востока подступали обширные владения гордого пана Сверчевского, с запада — угодья богача Афросимова, их соединяло ожерелье мелких поместий Лебедевых, Ешиных, Киреевских.
Я, понятно, не был к ним вхож. Куда там! Вижу себя тогдашнего — кургузого, неловкого, тощего, плохо остриженного, одетого по-мужичьи, да и речью мало чем отличающегося от мужиков. Вам не понять сегодня, как держались и выглядели учителя приходских школ — те самые, которым вверено было мелкое лукошко российского просвещения, кто должен был учить крестьянских детей, то есть подавляющее большинство народа. Приличные господа с нами не якшались. Я не знал, как и подойти-то к ним, как с ними заговорить.
Но к седовласому, усатому магнату Сверчевскому я обязан был являться «по должности». Жил он бирюком, в гости не ездил и к себе соседей не звал, считая, по-видимому, что во всей округе нет ему ровни. Однако под рождество весь причт с певчими служил всенощную в этом мрачном доме. Отец Иван тушевался; магнат с ним обращался фамильярно, под благословенье не подходил, жал священнику руку и называл его Иваном Ипполитычем. Прочих умел вовсе не замечать, хотя дьяки и учителя приглашались за общий стол.
Не зная правил великосветского этикета, я однажды протянул пану руку. Рука моя осталась висеть в воздухе. Его аж передернуло! С интонацией, какой, наверное, надо очень долго учиться, бросил, глядя мимо меня:
— А вы, молодой человек, не суйте руку вперед. Подождите, пока вам подадут руку-то!
И отвернулся.
«Ах ты, чертова фря!» — подумал я. И к следующей всенощной в его дом не пошел. Испуганный поп долго пенял мне на это, говорил, что барин мое отсутствие заметил, и теперь моя карьера кончена, поскольку он к губернатору вхож и к архиерею вхож. Как же можно — такое неуважение! Но мне к тому времени начихать было на магната, а заодно и на губернатора с архиереем: наметился крутой поворот в моей жизни.
В том же Старом Лещине я познакомился в 1910 году с человеком в своем роде замечательным — Леонидом Петровичем Ешиным. С ним и его прекрасной семьей. Тоже были дворяне, но совсем не такие, каких я видел прежде. Все их имущество состояло из нескольких десятин земли, простых надворных построек, двух лошадей, одной коровы и десятка кур, которых держали ради детей. А главной ценностью, заполнявшей весь небольшой, но уютный дом Ешиных, была старинная фамильная библиотека.
Они тщательно сберегали тысячи томов художественной и научной литературы, хранили полные собрания журналов «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Русское богатство», «Русская мысль», «Былое» — всего мне не перечесть. В их семейном архиве я видел позже и читал письмо Л. Н. Толстого боевому товарищу по Крымской войне — майору Петру Ешину, отцу Леонида Петровича. По своему недомыслию не понял ценности реликвии, копию даже не догадался снять, а она где-то погибла.… Но как бы то ни было, прослышав о богатой библиотеке, я однажды преодолел робость, постучался в дом Ешиных и был принят, обласкан, да так и прилепился к этой семье.
Тогда Леониду Петровичу уже перевалило за полвека, но вся его стройная корпулентная фигура дышала энергией и бодростью. Большие серые близорукие глаза в очках излучали неотразимо привлекающий свет. Едва произносил он несколько слов, как новый собеседник оказывался во власти его обаяния. В сущности, этот мелкопоместный дворянин был первым истинным русским интеллигентом, которого мне посчастливилось близко узнать.
Поражала его энциклопедическая эрудиция. Он хорошо был знаком с В. Г. Короленко, Н. Г. Михайловским, П. Л. Лавровым, П. Ф. Якубовичем-Мельшиным, С. Я. Елпатьевским и многими другими известнейшими литераторами, учеными, художниками. По образованию был юрист и, готовясь к адвокатуре, проштудировал речи выдающихся судебных и политических ораторов. Сам блистал красноречием, изумительно декламировал и читал, играл на сцене, мог петь, танцевать, отменно рисовал, писал картины акварелью и маслом.
Как сейчас помню ешинские вечера. Вся семья, дети, гости собираются в садовой беседке. На столе большая лампа под зеленым абажуром. Поблескивают очки хозяина, в круге света появляется книга, наступает хрупкая тишина… Тогда принято было читать книги вслух, и слушатели были совсем не то, что нынешние молчаливые читатели. Переживалось все совместно, сообща, и оттого, мне кажется, особенно сильно. До смерти не забуду, как слушали мы пьесу А. П. Чехова «Дядя Ваня». Когда Леонид Петрович дошел до последнего монолога Сони, то сам задохнулся от слез, и тихо плакали мы все.
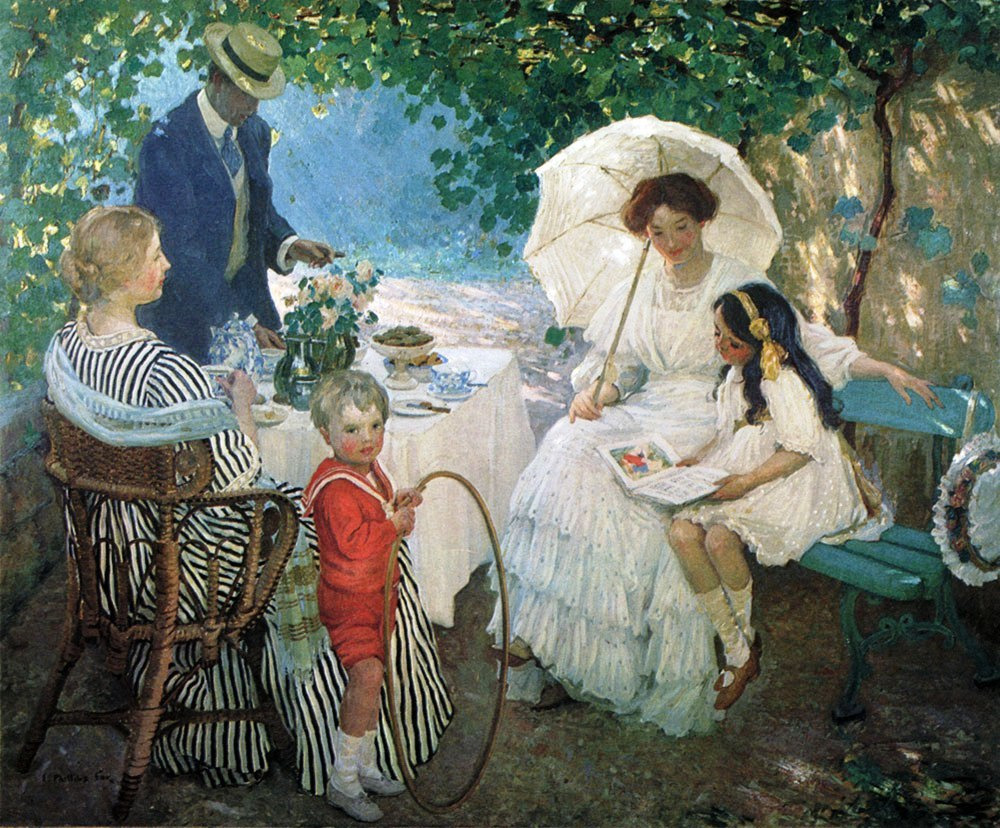
Только в этой семье я понял, для чего на свете писались и пишутся книги. Здесь только начали меня по-настоящему просвещать, очищая мою голову от того мусора, которым набили ее две церковноприходские школы. Постепенно стал я сознавать, что мало «выбиться в люди», добиться чего-то хорошего лишь для одного себя, а надо болеть бедами и обидами всего народа. Открылось мне, что пугающие «бунтовщики» и революционеры, мелькавшие прежде передо мной, как в тумане, — это и есть смельчаки, бьющиеся за свободу народа, готовые во имя этой светлой цели идти на муки, на каторгу, на самую лютую казнь.
А когда мы сошлись с Леонидом Петровичем поближе, когда он присмотрелся ко мне, поверил, то рассказал однажды, что и сам был на каторге, что и сам он — революционер…
3
Через много десятков лет после описываемых событий я ввязался в одну дискуссию. Ее начал в «Литературной газете» один из моих любимых учеников, прекрасный алтайский учитель Степан Павлович Титов. «Если не любить…» так называлась его статья о формальном преподавании литературы в школе. Я не удержался, откликнулся, и моя статья — «Когда есть любовь» тоже была помещена в газете. Теплым благодарным словом помянул в ней Леонида Петровича Ешина и его семью: они были моим подлинным университетом.
Дальше было вот что. «Литературная газета получила телеграмму, адресованную мне:
«Недавно с большим волнением всей семьей читали твою статью. Сообщи адрес. Крепко обнимаю — Андрей Леонидович Ешин».
Писательница Екатерина Лопатина опубликовала очерк «По следам телеграммы», в котором рассказала о встрече с ее автором. А я ведь дружил с Андреем, старшим сыном Леонида Петровича, начиная с 1910 года! Связь с ним прервалась в бурные годы гражданской войны, и после никак не мог его разыскать.
Теперь, найдя друг друга, мы завязали оживленную переписку, очень хотели встретиться, но, к прискорбию моему, вскоре Андрея Леонидовича не стало. Сын его Валерий Андреевич, заведующий кафедрой Ростовского финансово-экономического института, увлекшись историей, сумел основательно познакомиться в архивах с «процессом 21-го», по которому проходил в царском суде его родной дед, а мой незабвенный наставник Леонид Петрович Ешин.
В бытность свою студентом-юристом Харьковского университета, он вступил в организацию «Народная воля», стал одним из сподвижников знаменитого революционера Германа Александровича Лопатина. Как известно, Лопатин вел непримиримую борьбу с самодержавием, его схватили, он бежал из ссылки, сблизился за границей с Карлом Марксом, был избран в Генеральный совет 1 Интернационала, стал первым русским переводчиком «Капитала», тайно вернулся в Россию, пытался организовать побег Н. Г. Чернышевского, снова был схвачен — история его жизни читается, как роман! По «процессу 21-го», проходил в 1887 году Ешин вместе с Лопатиным, поэтом Якубовичем, Кирсановым, Яхонтовым, Петровым и другими.
Отбыв каторгу, Леонид Петрович попал на вольное поселение в Сибири, надолго там застрял, женился по любви, но через несколько лет овдовел, имея четырех малолетних детей. Вот и привез их, как это только было дозволено, в село Старый Лещин, к своей младшей сестре Александре Петровне на воспитание.
Есть семьи, которые притягивают к себе окружающих. Такой семьей-магнитом были Ешины. В нее вошла старинная подруга Александры Петровны, учительница Евгения Георгиевна Карпова, прекрасной души человек. Поселилась в этом доме, да так и не захотела вернуться к родственникам — богатым аристократам. Членом семьи стал веселый студент Макарий Животовский, приглашенный готовить Андрюшу Ешина к экстернату в курской классической гимназии. Приняли они и меня, как родного, и я увидел, какая чистая может быть жизнь, какие бывают споры без ругани и веселье без водки.
Книги, беседы, чтения, игры, вся атмосфера этого дома сослужила мне в будущем великую службу. Я ведь и сам учил впоследствии не только детей, но и взрослых, тоже читал книги вслух, тоже ставил с крестьянами спектакли. Издавался у Ешиных и рукописный иллюстрированный журнал «Мозаика», редактором которого был Андрюша, а сотрудниками все, начиная от Леонида Петровича и кончая младшими детьми Ленчиком, Лизой и Верой. Стал корреспондентом «Мозаики» и я, пробуя свои силы в стихах и прозе.
Заботясь о моем серьезном образовании, Леонид Петрович говорил:
— Ты бедняк. Средств у тебя нет для продолжения учебы в гимназии, реальном или городском училище. Ты не клерикального рода-племени. Значит, и в духовные семинарии вход тебе закрыт. Да и возраст не тот. Остается для тебя один путь: самообразование, а дальше — народный университет Шанявского. Туда тебе и надо держать курс.
Надо ли говорить, что я впитывал все как губка. Летом 1911 года Ешины сговорили меня ехать с ними в Курск — послушать оперу. Это было целое путешествие; меня поразил шум губернского города, толпища народа. Вечером давали оперу П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Оркестр, пение и игра настоящих артистов так ошеломили меня, что я потерял ощущение грани между поэтическими созданиями и реальной жизнью.
Жизнь моя была исполнена теперь нового смысла, казалось, и мечтать мне не о чем, но часто в доме Ешиных возникали разговоры о далекой Сибири. То ли недостаток средств был причиной, то ли преследования местных властей — не знаю точно, — но они хотели переселиться туда. Положение каторжанина не помешало Леониду Петровичу полюбить этот край непочатой земли, необъятных просторов, неисчислимых природных богатств, свободолюбивых и сильных людей.
Из его рассказов Сибирь рисовалась нам сказочной страной, и постепенно вся семья Ешиных, а с ними и Евгения Георгиевна, и Макарий Животовский, и я возмечтали о путешествии. Сняться с места им было, конечно, тяжело, мне же — проще простого. Поговорка «ни двора, ни кола» вполне обрисовывала мое положение. Фанерный чемодан с одежонкой, тощая связка книг и дешевая скрипка, которой я успел обзавестись, — вот и все мое тогдашнее достояние.
Вечерами под зеленым абажуром раскладывалась карта, все отчетливее рисовалось переселение, все меньше смахивало на фантазию. И в августе 1912 года сбылось.
Так я попал в Сибирь, связав с ней жизнь на долгие-долгие годы.
4
Мы осели в Барнауле.
Леонид Петрович устроился на службу в Земельный отдел Алтайского округа кабинетных владений. Евгения Георгиевна хозяйничала. Александра Петровна и Животовский давали частные уроки, Андрюша, Вера и Лиза поступили в гимназию, а я получил место учителя в соборной церковноприходской школе, в самом центре города.
Поселился вместе с Ешиными на Никитинской улице. Домик этот под номером 145 уцелел и поныне.

Вскоре по приезде я познакомился едва ли не со всеми интеллигентами города. Во-первых, их было очень мало в те годы, а во-вторых, благодаря Ешиным я сразу попал в этот круг. Семья-магнит по-прежнему притягивала интересных людей, заходили местные литераторы, адвокаты, педагоги, врачи…
Барнаул с начала века был одним из крупных культурных центров Сибири. Царское правительство само содействовало этому, хотя и самым диким образом: регулярно поставляло политических ссыльных. Течений они придерживались самых разных (я не особо разбирался в них), но люди неизменно были деятельные, образованные, думающие.
Известный археолог Николай Михайлович Ядринцев примыкал к народникам, сослан был по делу о «сибирском сепаратизме», а славен тем, что доказал существование древнейшей письменности в Центральной Азии и открыл развалины древнейшей монгольской столицы Каракорума. К либеральному течению сибиряков-областников принадлежал Григорий Николаевич Потанин — знаменитый путешественник, ботаник, этнограф, фольклорист, исследователь Сибири.
В Барнауле выходили две газеты — «Жизнь Алтая» и «Голос Алтая». Первую издавал купец Вершинин, а редактировал при мне бывший учитель Акиндин Иванович Шапошников, тоже политический ссыльный. Выделялись в газете и вызывали шум в городе ядовитые стихотворные фельетоны под псевдонимом «Премудрая крыса Онуфрий». Их автором был социалист-демократ, юрист по образованию, краевед и поэт Порфирий Алексеевич Казанский.
Был он мал, с бледным лицом и пискливым голосом, но на литературных диспутах с особым вниманием слушали его остроумные речи. Казанский знал и любил Сибирь, посвятил ей много краеведческих работ и два сборника стихотворений, изданных в Барнауле: «Песни борьбы и надежды» (1917) и «Родному краю» (1918). Они теперь прочно забыты, и совесть моя не мирится с этим. Вот как воспел он приход Октября:
Сбылась былая небылица.
Пришла великая волна.
Сибирь — вчерашняя темница,
Сибирь — свободная страна!
Газета «Голос Алтая» была поскромней, помещалась на Томской улице в трухлявом домишке. Было боязно подниматься по шаткой лестнице в комнату, заваленную рукописями и тонувшую в табачном дыму. Штат редакции подобрался в основном из политических ссыльных. Печатался здесь и Леонид Петрович Ешин, его фельетоны за подписью «Nemo» (никто) имели успех. К сотрудничеству в «Голосе Алтая» он привлек и меня, я начал с заметок, рецензий, потом опубликовал первую в жизни большую статью «Драма» — о самоубийстве сельского учителя, затравленного жандармами.
Единственный в городе книжный магазин Василия Кузьмича Сохарева помещался в небольшом доме близ Соборного переулка. Хозяин вышел из сельских учителей и, разбогатев, занявшись торговлей, не столько гнался за барышами, сколько хотел принести пользу народному просвещению. Рыжий, юркий, с узкими глазками, он был кипучим коммерсантом культурного типа. Сам следил за всеми новинками, непременно прочитывал все книги, критически оценивал, всегда мог дать дельный совет. Плохих книг вовсе не продавал. Магазин Сохарева стал своего рода клубом, здесь сходились книголюбы со всего города, вели жаркие словопрения, их непременным участником был и я.
И еще один своеобразный клуб тянул меня — музыкальный магазинчик «Эхо». Держал его, был и хозяином, и кассиром, и единственным продавцом Антоний Иванович Марцинковский. Низенький, будто расплющенный, странно ходивший правым боком вперед, он был неплохим музыкантом и часто присаживался к пианино, чтобы проиграть какое-то новое произведение. Здесь всегда толпились любители инструментальной и вокальной музыки, тоже шли споры, и не раз я уносил отсюда классические сочинения в дешевом издании Ямбора.

Так потекла моя жизнь в Барнауле, и я не понимаю теперь, откуда бралось время на всё.
5
Кроме того, о чем я успел рассказать и о чем еще расскажу, мне надо было работать в школе и самому усиленно заниматься. Взяв курс на народный университет имени Шанявского, я готовился к поступлению в него. Ежедневно с четырех до семи часов вечера работал в библиотеке — читал, делал выписки, конспектировал.
Заведовала библиотекой политическая ссыльная Ульяна Павловна Яковлева. Меня она приметила быстро, мы познакомились, я узнал ее сына Александра, который был директором городского училища, и его жену Ольгу, учительницу. Много позже, в январе 1925 года, мы с ней входили в состав Алтайской губернской делегации на 1-й Всесоюзный учительский съезд в Москве.
Ульяна Павловна была энергична, строга, приучала читателей вдумчиво работать над книгой. Если нужных книг в библиотеке не было, то добывала их по особому заказу даже из-за границы. Эта маленькая женщина в больших очках, делавших ее похожей на летучую мышь, стала для меня истинным лоцманом по безбрежным книжным морям. Принесешь, бывало, книгу на обмен, а она поманит пальчиком в свой кабинет и начинает допрос:
— Что прочли?
— «Новый органон» Бэкона Веруламского.
— Так… Поняли что-нибудь?
— Понял, Ульяна Павловна.
— О чем же говорится в книге?
— Об опытном, индуктивном методе познания мира. Бэкон и открыл этот метод.
— В чем его суть?
— В том, что все предметы и явления внешнего мира познаются нашими внешними чувствами, опытом, а их восприятие проверяется нашим рассудком.
— Так-так, — скажет она.- А покажите-ка мне выписки из книги…
Выписок этих, конспектов, читательских дневников, записных книжек, карточек для картотеки с цитатами, вырезок из газет накопилось у меня множество. Они были потом моими неизменными спутниками в работе.
Мы иногда недооцениваем возможностей самообразования, хотя всякое образование прежде всего — «само», ибо научить человека ничему нельзя, он может только научиться, научить себя. Никто не подгонял меня, надо мною не висели оценки, зачеты, экзамены, а мне трудно даже перечислить труды ученых и мыслителей, которые я не просто прочитал, но проштудировал самым добросовестным образом. Среди них были сочинения Дарвина, Уоллеса, Тимирязева, Ляйеля, Моргана, Дрепера, Костомарова, Ключевского, Мечникова, Пирогова, Сеченова, Спенсера, Бокля, Плеханова, Михайловского, Лаврова, Бебеля, Тиссандье, Песталоцци, Ушинского, Локка, Руссо, Яна Амоса Коменского, Фребеля, Потебни, Буслаева, Фортунатова, Мейе и, разумеется, книги Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева и десятки иных.
О художественных произведениях я уже и не говорю: я «проглотил» их без счета! Учитель — это отчасти артист, по самому роду профессии он оратор и должен правильно, живо, красиво говорить и читать. Меня убеждал в этом Леонид Петрович Ешин, часто повторяя афоризм Легуве:
«Голос — это такой толкователь и наставник, который обладает дивной, таинственной силой».
И я, сколько позволили силы и способности, начал учиться ораторскому искусству. Добыл книгу «Школа чтеца», изучал сборники речей знаменитых адвокатов и политических деятелей — Кони, Плевако, Спасовича, Маклакова, Урусова, Жореса, Гладстона, Линкольна.
Все это пригодилось мне потом при чтении книг детям и взрослым, а первый опыт публичного выступления запомнился надолго.
Зима 1913—1914 годов… Барнаульское филантропическое общество собрало беспризорников в школе при Богородицкой церкви. В программе значилось: назидательное слово о детском благонравии, художественное чтение, хоровое пение и чай с пирожками. Устроители предложили мне прочитать детям какое-нибудь сочинение посерьезнее. Я выбрал «Приключения барона Мюнхаузена».
И вот стою перед страшной аудиторией. Грязные, озлобленные лица, лохматые головы, немыслимое тряпьё. Юное человеческое «дно» гудит, рычит, толкается в ожидании пирожков. Назидательную проповедь священника никто и не слушал. Настал мой черед. Читаю о попытке барона залезть на луну по бобовому стеблю — слушатели начинают затихать. Читаю о скачущей половине лошади — смеются. Приступаю к истории об утках, зажаренных на лету, — хохочут вовсю их матушку-головушку. Всё, закрываю книгу.
— Дядь, еще, еще читай!
— Ой, баско!
— Хлопает, а интересно!
— Давай еще!
«Хлопает» — по-сибирски «врет», «баско» — значит «хорошо». Дошло мое чтение. И я отдал ребятам книжку, а после купил вместо нее для библиотеки другую.
Одним их моих университетов стал театр, о чем тоже не могу ни сказать. Он играл в ту пору большую роль, чем теперь, поскольку не существовало еще ни радио, ни телевидения, а «синематограф» делал первые шаги. В старом Барнауле было три более или мене постоянно действующих театра — в Общественном собрании (преимущественно для купцов), в Управлении Алтайского округа (для чиновников) и в Народном доме (общедоступный).
«Своим» стал для меня общедоступный театр в Народном доме. Антрепризу там держал бывший актер Батманов, труппа была профессиональная, репертуар сменялся быстро, за Шекспиром следовал Сухово-Кобылин, за Ибсеном — Южин-Сумбатов, Леонид Андреев, Салтыков-Щедрин, Гауптман. Чириков, Писемский, инсценировки Достоевского…
Конечно, провинциальный тогдашний театр нельзя, да и не к чему сравнивать с лучшими современными театрами страны. Постановки готовились наскоро, больше двух-трех раз пьесы не шли, и это не могло не сказаться на уровне исполнения. Но я был молод тогда, впервые приблизился к театру, и, случалось, переживал в нем минуты глубокого потрясения.
Помню, какой восторг зрителей вызвала пьеса Горького «На дне». Впервые просили задержать в репертуаре спектакль, и он повторялся раз десять — это было очень много. Впервые вышли на сцену рваные босяки, впервые мы слышали открытые слова протеста. В зале дежурили наряды полиции. Песня «Солнце всходит и заходит» приобрела в Барнауле широчайшую популярность.
Рассказываю подряд о своих впечатлениях, самых разных, потому что все это вместе — спектакли, музыка, диспуты, общение с людьми, чтение книг — и делало меня человеком. За один год я узнавал больше, чем за всю предшествующую жизнь, а учитель, если он хочет быть настоящим учителем, должен очень много знать.
Итак, я вел свои школьные уроки, сам занимался в библиотеке, вечера проводил в театре, ходил на все концерты, каким-то образом ухитрялся еще брать уроки скрипичной игры, не пил, не курил, копил деньги на учебу в Москве. Заработок нашелся неожиданный: я переписывал ноты. В них нуждались хоры и оркестры, которых было в Барнауле немало. А я писал ноты, как печатал (спасибо Каплинской школе), заказов имел по горло и зарабатывал достаточно.
Может быть, поэтому решился попроситься в ученики к большому музыканту: у меня было чем заплатить за уроки. И после концерта приезжего гастролера, в ту пору известного, пошел в гостиницу, где он жил. Профессор Медлин любезно выслушал мою просьбу и сказал:
— В Томске я буду весь июнь, потом уеду в Петербург. Если хотите, приезжайте ко мне. Я займусь с вами.
И я с радостью прикатил в Томск. Снял скромный номер в гостинице «Золотой якорь», и, подхватив скрипку, отправился на первый урок. Прослушав гамму, маэстро заметил:
— Ваши педагоги, молодой человек, верно поставили вам левую руку, а правую кисть одеревенили. Надо ее расплавить. Держите смычок как бы шутя, не впивайтесь пальцами в трость. Смотрите.
Он показал, как это делается, и дешевенькая моя скрипка запела. Я тоже начал водить смычком по струнам, подражая ему, и чудо свершилось — рука ощутила свободу, звук стал мягче и полнее. Сами термины «одеревенили» и «расплавить» показали суть моих огрехов, запомнились на всю жизнь. Как важно, оказывается, для педагога подобрать образное слово, чтобы ученик понял свою ошибку.
С некоторым трепетом ждал я разговора об оплате уроков (хватит ли накопленного?), но когда заикнулся об этом, милейший Яков Соломонович улыбнулся и, тряхнув буйной гривой темных волос, сказал, что деньги пригодятся мне для другого. И прилежно занимался со мною до того самого дня, когда его вызвали телеграммой в столицу.
Само собой, в Барнауле я был исправным посетителем всех музыкальных концертов. Узнал однажды, что в Мариинской женской гимназии пение преподает композитор Семен Васильевич Шаронов, и в воскресенье отправился к нему.
— Хочу познакомиться с живым композитором… Топоров Адриан, учитель и неискоренимый любитель музыки. Прошу любить и жаловать.
— Очень рад, очень рад!
Мою руку жал человек лет сорока, с открытыми серыми глазами. Разговорились, и вскоре показалось мне, будто сто лет с ним знаком. Как и я, Шаронов вышел из деревни, работал столяром в Бийске, пел басом в церковном хоре, увлекся всерьёз музыкой, самоучкой постиг теорию этого искусства, ездил на курсы в Пермь, Москву, Петербург, сочинил ворох мелодичных композиций, они начали исполняться — словом, прошел человек трудный путь русских самородков.
Первая же встреча с Семеном Васильевичем затянулась у нас часов на семь. Пели дуэтом, беседовали о музыке, о литературе, о театре, потом взялись играть — он на фисгармонии, я на скрипке…
6
В очередное воскресенье мы с Шароновым играли «Колыбельную» Годара. В комнату тихо, как бы крадучись, вошел молодой человек. На лице его плавала ироническая улыбка.
— А Костюша! Здорово! Здорово! — Хозяин дома прервал музыку и шутливо представил нас друг другу. — Это — мой друг Костюша Еремеевич Багаев, здешний жрец Эскулапа, а это — любитель музыки, учитель Адриан Топоров.
Я тогда легко сходился с людьми, новый знакомый мне понравился, вскоре мы стали друзьями. Этому веселому лекарю суждено было очень многое повернуть в моей жизни. Встречались обычно у Шаронова, по-прежнему музицировали, но и беседы вели, и спорили все чаще. Я заметил, что Костюша предпочитал темы политические, зло и метко высмеивал черносотенных зубров — Пуришкевича, Маркова-второго и их поддужных.
В ту пору властителем моих дум был Н. К. Михайловский. Как-то завел я разговор о его статье «Герои и толпа», высказал свои восторги, но Костя с ухмылкой возразил:
— Полководец, даже самый разгениальный, без армии — нуль! Да и сам-то кем выдвигается? Армией! Он потому и ведет армию, что выражает ее волю.
— Но все-таки выражает! — сказал я. — Все-таки от него зависит успех!
— Ох, братцы, и мусор же у вас в голове! — Костя посмеивался, глядя на Шаронова и на меня. — Приходите ко мне, дам вам одну работу, написанную в пику вашему Михайловскому. Любопытнейшая книжица!
Меня сердило, что обо всем у него есть готовое мнение, что все ему как бы заранее известно, но любопытство взяло верх. Костюша жил с семьей на 2-й Алтайской. Лекарский домишко походил на двухэтажную скворечню. Казалось, дунь сильный ветер — и дом рассыплется в прах. Мы с Семеном Васильевичем поднялись наверх. Костя угостил нас чаем и только после этого достал из сундучка книги.
— Держите, вникайте!
Я раскрыл затрепанную обложку. Фамилию автора уже слышал: Г. В. Плеханов. Название показалось трудным: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».
— Поймем? — спросил Шаронов.
— Ничего, думать полезно! — улыбнулся Костя. — Тут вы поймете, что не воля героев делает историю, а производство, экономика, классовая борьба.
Когда гуляли по городу, Костя Багаев тянул нас на окраины Барнаула, которые до этого мало интересовали меня: чего я там не видел? На главной улице были витрины магазинов, пышные особняки, нарядная толпа, а там — знакомые мне по прежней жизни грязные лачуги, беспросветная нужда, вонь, ругань, пьянство. Но как-то Костюша сумел подвести нас к мысли, что стыдно отрываться от народа, из которого мы все вышли. С окраин возвращались совсем в другом настроении, и, бывало, остановившись у богатых особняков, Костя говорил:
— Все это — пот и кровь народные! У Сухова шестнадцать домов в городе. Восемнадцать пузатых самоваров, три пуда золотой и серебряной посуды. Сколько нахапали, ареды!
Не хочу задним числом «улучшать» себя. Я еще полон был прежних прекраснодушных устремлений, Маркса знал понаслышке. Ленина не читал, но вера моя в народнических кумиров уже сильно подорвалась.
Помнится, в жаркий летний день Костя соблазнил Шаронова, меня и мастера–обойщика Тимофея Демченко прогуляться в монастырский бор — лучшее место отдыха в тогдашнем Барнауле. Искупались в речке, перекусили, легли в уединенном уголке. По бору разливалась сосновая испарина, тянуло в сон, но Костя достал из кармана очередную брошюру.
— Хотите, почитаю вам сказочку?
— Брось, Костюша! Экая благодать, а ты тут сказкой. Мы же не дети.
— Да нет, эта сказочка как раз для взрослых.
И прочел нам памфлет Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи». Отдых наш пропал. Это был страстный призыв к революции. С поразительной силой автор изобразил социальных пауков и бедных мух, которых убивают пауки повсюду, беспощадно, ежечасно…
Костя Багаев всегда прикидывался беспечным рубахой-парнем, и лишь впоследствии я понял, что он, говоря по-нынешнему, делал все, чтобы «распропагандировать» нас. Истинную свою роль в Барнауле он так и не успел мне раскрыть, и я лишь через десятилетия узнал, что был наш Костюша большевиком-подпольщиком.
Мы расстались в 1914 году.
Грянула первая мировая война, и день мобилизации запасных отмечен был в Барнауле грандиозным пожаром. Орали песню рекруты, над ними выли, как над покойниками, бедные бабы.
Трагедию войны тяжело переживала вся страна. Об этом шли разговоры у Ешиных, я уходил отдохнуть к Шаронову, но и с ним неизбежно говорил о войне. Как-то он показал мне ноты только что сочиненного «Реквиема», сел за фисгармонию, я взял свою скрипку, заиграли, но тут в комнату влетел возбужденный Костя.
— Друзья, я мобилизован! Через час должен быть на сборном пункте.
Скомкалась наша последняя встреча. Семен Васильевич предложил послушать его новую вещь, мы взялись за инструменты, он негромко запел:
Ах, сколько, сколько пало их
В борьбе за край родной…
Костя перебил:
— Это ты, друг, панихиду, что ли, по мне сочинил? Нет, погодите петь ее. Война эта народу чуждая, ни рабочим, ни крестьянам, она ни к чему. Мы еще повернем штыки и пушки на кого следует. Вот увидите!
Расцеловался с нами и быстро ушел.
Больше я не видел его, ничего не слышал о нем. А в 1961 году, после полета Г. С. Титова, заговорили о родине Космонавта-2, о родном его селе на Алтае, о сельской школе, мелькнуло в газетах и мое скромное имя, и тогда нашло меня письмо Константина Еремеевича Багаева. На восемьдесят шестом году своей жизни (как оказалось, за два дня до смерти) он прислал мне книгу мемуаров «Всю жизнь». В ней нашел я такую надпись:
«Моему дорогому, незабвенному другу юношеских лет Адриану Митрофановичу Топорову — дарю эту книжку, в которой записана вся моя нелегкая жизнь.
Член КПСС с 1909 года К. Багаев».
Я смотрел на портрет старика и все старался разглядеть сквозь морщины озорную Костину улыбку.
7
В 1915 году пришлось мне покинуть Барнаул. Отношения с церковным начальством обострились до крайности, и в один прекрасный день я заявил отцу Анемподисту, что не верю ни в бога, ни в черта, а его самого не ставлю ни в грош. Учительская замерла.
— Уволю! — завопил он. — Изгоню!
— Сам уйду!
Я пошел к инспектору начальных министерских школ Владимиру Михайловичу Курочкину и подал прошение, чтобы назначили меня в одну из деревень. Думал, что еду на год-другой, а вышло — на семнадцать лет. Можно точнее сказать: на всю жизнь. Потому что наконец-то я нашел свое настоящее место в жизни; в город больше не вернулся, стал сельским учителем.
Село, куда меня занесло, носило три названия: по-административному — Верх-Жилинское, по-церковному — Терёшкино, а по-народному — Журавлиха. Последнее имя получило за то, что раскинулось между сограми (болотами), где водились журавли. За сограми виднелись увалы, поросшие сосновыми и березовыми лесами, за ними лежала степь.
Я застал там две школы. Церковноприходская была почему-то вдали от церкви, на краю села. Учительствовала в ней тихоня вроде старой монашки. Министерская школа, напротив, помещалась рядом с церковью, в самом центре села. Это был бревенчатый сарай, к тому же недостроенный. Мне сказали, что мужики долго ругались на сельском сходе, но на пятачковый сбор со двора так и не согласились. Доски поверху набросали кое-как, крыша текла, сеней не приделали, к входной двери вела лесенка из шести кривых, «опасных» ступенек. В сарае и началась моя просветительная работа.
С чего началась? Окончив школьные занятия, я вечерами ходил на «сборню», где сходились мужики. Здоровался, садился с ними, больше помалкивал. Разговоры шли в основном о русско-германской, о войне, куда угнана была вся верх-жилинская молодежь. Как-то я предложил бородачам почитать газету. «Давай, паря, — согласились они. И начал я читать — «Жизнь Алтая», «Сибирскую жизнь», «Русские ведомости», «Русское слово». Интересовали сводки военных действий, а особенно, как я заметил, — речи оппозиционных членов Государственной думы. В этих речах проскальзывали намеки на наши неудачи, на бездарность генералов, на измену придворной камарильи. Мужики хмурились:
— А чо им? Жалко нашего брата? Им все едино!
— Целые армии царицыны енералы топят в болотах…
— Она, лахудра бесчестная, хочет ряшить государство!
Постепенно крестьяне привыкли ко мне, да и я узнал их, понял, до чего они все разные. Одинаков «народ» для стороннего наблюдателя, а живя с людьми, видишь, кто как думает и кто чем дышит. Очень интересные были в Верх-Жилинском мужики; попадались и грамотеи, которых остальные именовали «политиками». Начали время от времени приходить ко мне, просили почитать книжки. Я, конечно, давал. И они стали мне верными друзьями, постоянными собеседниками, лучшими помощниками в культурно-просветительной работе. Можно и по другому сказать: добрым помощником им старался быть я.
Назову хотя бы некоторых: П. С. Зубков (будущий председатель коммуны, коммунист, редкий самородок), братья Иван и Степан Корляковы, Иван и Тимофей Стекачевы, Филипп и Иван Бочаровы, Прохор и Егор Блиновы, братья Алексей, Евдоким и Иван Зайцевы, Василий Титов, Роман и Михаил Шитиковы, Павел Титов и Михаил Носов… Последние двое — деды по отцу и матери Космонавта -2, о чем, понятно, никто тогда не мог подозревать.
Однако рассказ о них впереди, а пока хочу вспомнить об одном оригинале, с которым пришлось познакомиться в Верх-Жилинском. Оригинал был поп. Едва приехав в село, я увидел на воротах, заборах, наличниках, на березах и соснах, даже на церковной стене странные плакаты. Зеленые пятиконечные звезды венчали их сверху, под ними был текст:
«Vivu Esperanto! Изучайте международный вспомогательный язык эсперанто, самый легкий язык мира, дружбы и братства народов!»
— Кто это налепил?
— Батюшка, Иннокентий Серышев.
Школа моя считалась министерской, но уроки закона божьего были обязательны. Явился поп на первый урок и отрекомендовался:
— Священник Иннокентий Серышев.

Передо мною стоял высокий стройный человек лет тридцати трех с тонким, одухотворенным лицом и умными светлыми глазами. Был он коротко подстрижен, на шее — воротник из голландского полотна, на шелковой рясе — хризолитовая звездочка, на ней — все те же буквы: «Еsperanto!». Я таких попов сроду не встречал. Окончив урок, он пригласил:
— Заходите вечерком… Потолкуем.
Дом его стоял позади церкви, был просторен и чист. Проходя, я заметил кладовые, амбары и, главное, баню по-белому. В гостиной возликовал: увидел пианино. Жил священник с женой и тещей. Детей не было. Жена нисколько не походила на дебелую сельскую попадью. Веселая, молодая, шутница, хохотунья, певунья и танцовщица. Отец Иннокентий называл ее Катюшей, она его — Кешей.
Разговорились легко, и я узнал, что поп окончил в юности реальное училище, потом — Томский политехнический институт. Образован был прекрасно, владел пятью или шестью языками, играл на фортепьяно, пел, запоем читал. Мне и до сих пор непонятно, с чего этот умнейший политехник перекинулся вдруг в попы.
Обширный его дом показался мне своеобразным музеем. На полках, в этажерках, шкафах лежали у него археологические, ботанические, энтомологические, минералогические коллекции. Библиотеку он тоже собрал богатейшую — энциклопедии, словари, справочники, сотни научных, философских, художественных книг. И не увидел я ни молитвенников, ни «житий», ни религиозно-нравственных поучений. Зато отец Иннокентий показал мне роскошные альбомы с цветными иллюстрациями, изображавшими природу, одежды, быт едва ли не всех стран земного шара, и пояснил:
— Все это — дары эсперантистов.
— Держитесь! — засмеялась попадья Катюша. — Теперь он сядет на своего конька.
Действительно, тут же мне пришлось выслушать лекцию о международном языке, о том, что благодаря эсперанто народы наконец-то поймут друг друга, а значит, кончатся раздоры и наступят мир, братство, всеобщее благоденствие. Увы, если бы дело было только в языке! Но тогда странный священник увлек меня, последним доводом была фундаментально изданная книга «Siberio» («Сибирь»), на титульном листе которой значилось имя автора: Inocento Serisev (Иннокентий Серышев). «Вот тебе и поп!» — подумал я.
Хорошо помню первую зиму в Верх-Жилинском. Я изучал эсперанто, довольно быстро осилил и мог, сидя в захолустном селе, переписываться с людьми, живущими на всей планете. Был даже принят в члены международной ассоциации эсперантистов, центр которой находился в Женеве.
Батюшка же, как понял я, очень много работал, писал статьи в петербургский журнал «Трезвые всходы», издавал брошюры против пьянства, книги о кооперации, об изучении эсперанто — словом, был это труженик, трезвенник, одареннейший человек. И я нисколько не удивился, когда позже, сразу после Февральской революции, он сбросил рясу и начал работать секретарем Алтайского культурно-просветительного союза. Союз этот издавал учебники, книги и журнал «Сибирский рассвет», привлекший таких писателей, как Павел Низовой и А. С. Новиков-Прибой. Уезжая в Барнаул, Серышев сделал крестьянам драгоценный подарок — передал школе большую часть своей библиотеки, о которой мне еще придется говорить.
Дальнейшая его судьба сложилась странно. Началась гражданская война, надвинулась колчаковщина, а он, судя по всему, мало что понял. Во всяком случае, в самое неподходящее время отправился в Японию за бумагой для культурно-просветительного союза. Ехал один, без жены, не думал, значит, оставаться, вышло так, что больше на родину не вернулся. От эсперантистов разных стран, с которыми я по-прежнему вел переписку, время от времени узнавал о трудах этого человека, всегда неожиданных.
На эсперанто он выпустил, например, книгу «Страна самураев» — о своих скитаниях по Японии, а заодно о системе образования в этой стране. На английском, который тоже знал в совершенстве, издал капитальный альбом о деятелях русской культуры. Наряду с биографиями Сеченова, Мечникова, Павлова, Кони, Плевако, Сикорского, включил в него жизнеописания княгини Ольги, епископа Тихона Задонского, святого Сергия и т. п. Многие сочинения И. Н. Серышева хранятся, как я узнал, в Ленинской библиотеке в Москве.
Самого же его больше не видел, следы потерял, думал, что давно его и на свете нет. Как вдруг, впрочем, не вдруг, а все после полета Германа Титова получил авиаписьмо на языке эсперанто из Сиднея. От кого же? От Иннокентия Серышева! Сообщил мне, что только в Австралии соединился с женой, но потом скончалась Катюша, он один доживал свой век, родину помнил и меня не забыл.
Мы переписывались с ним до самой его смерти. У Иннокентия Николаевича была давняя привычка нумеровать все письма своим корреспондентам. Последнее письмо ко мне он пометил номером 11217. В нем писал, между прочим, что в Русском институте Колумбийского университета лежит его автобиография в пяти томах… Чего там только нет! Он ведь объездил всю Европу, всю Азию, говорил речи в лондонском Гайд-парке, был рикшей в Пекине, уличным торговцем в Токио, обошел с посохом всю Австралию. Писал, что, конечно же, много сказано у него о любимой Сибири, есть в рукописи глава и обо мне.
О судьбы русские! Но не поразительны ли трудолюбие, жизнестойкость этого человека? Горько сознавать, что они потеряны для большой науки…
8
Февраль прошумел отдаленной грозой. Октябрь перевернул мир.
В мою задачу не входит дать описание грандиозных событий, хочу остаться на своей почве, говорить о малой частице огромной страны — о селе Верх-Жилинском, о крестьянах и их детях, о том, как они потянулись к культуре, знаниям и о том, как по мере сил я старался им помогать.
Революция отозвалась для меня прежде всего тем, что мужики без уговоров достроили школьный сарай — настелили добрую крышу, сделали крылечко, сени, оборудовали небольшую дощатую сцену. Вечерами вместо «сборни» все чаще начали сходиться в школе, она стала своеобразным клубом, как и большинство сельских школ той поры. Книги из школьной библиотеки все время были в ходу, не берег я и своих книг.
Все больше слушателей собиралось на громкие читки, а зимой решился я ставить пьесы. Выбирал, конечно, одноактные, преимущественно комические или остродраматические. Участвовали старшие школьники, молодежь, потом сыскались любители постарше, так что мочальные бороды клеить уже не требовалось. Первой, вспоминаю, шла у нас инсценировка «Хирургии» Чехова, даже и не инсценировка, а чтение «по голосам». Успех превзошел все ожидания, смех был такой, что заглушал реплики, приходилось повторять их по два, по три раза. И опять хохот. Артисты наши воспрянули, дело пошло веселее, каждый праздник мы давали новые спектакли. Опять же Чехова — «Злоумышленник», «Беззаконие», «Унтер Пришибеев», Глеба Успенского — «Зимний вечер» и «Байбаки» Бунина, «В деревенской тиши» Салтыкова-Щедрина, «От нее все качества» Л. Н. Толстого, «Белая ворона» Чирикова, «Ветеран и новобранец» Писемского…
Учил по-прежнему детей, учил взрослых, с утра до ночи крутился в школе, затевая новые дела. Но не ищите тут одной заслуги учителя: таково было время, и надо было за ним поспевать. Никогда еще до этого, да, пожалуй, и после этого, я не видел в деревне такого всеобщего стремления докопаться до сути явлений, такой тяги людей к разговорам, спорам, общению.
Наступил 1918 год.
К тому времени был я уже не один. Жена моя Мария Игнатьевна на долгие годы стала мне верным помощником и другом, и приходилось ей за «беспокойным» мужем трудненько. В Сибири, как известно, образовалось многовластие, началась смута, потом силу взяла колчаковщина. Пошел гулять по селам страшный лозунг: «Власть на местах!» опираясь на него, кулаки терроризировали ревкомовцев, культпросветчиков.
В начале 1919 года колчаковщина у нас свирепствовала вовсю. Мне угрожала опасность, я скрылся в Бийске у Ешиных: они переехали туда из Барнаула. Снова пожил со старыми друзьями. Осенью узнал, что партизанское движение в Косихинском и смежных районах развернулось широко. И в стороне не остался. Тайно вернулся в Верх-Жилинское, перешел на подпольное положение…
Уроков в школе не вел: время было смутное, мужики растащили на курево всю серышевскую библиотеку. Объяснение было такое, что это, мол, религиозный дурман. Я возмутился, потребовал у партизанских командиров приказа об изъятии книг. Вместе с учениками облазил чердаки и подполья. Библиотеку спасли. Курильщикам взамен книг отдал все старые газеты.
До полной ликвидации колчаковщины работал секретарем Верх-Жилинского ревкома. Между прочим, вел дневник о крестьянских настроениях, о набегах колчаковских банд. В 1920 году передал свои записи А. С. Новикову-Прибою по его просьбе. Дневник был им использован, но, к сожалению, ко мне не вернулся. Впоследствии вдова писателя Мария Людвиговна сообщила мне, что эти тетрадки пропали в годы гражданской войны.
После разгрома колчаковщины передовые люди села, бывшие партизаны вечерами засиживались у меня в школе, думали думу о новом житье-бытье. Все понимали, что жить по-старому нельзя, что пришла пора строить новый мир. Иначе для чего же совершалась революция?
Решили организовать коммуну.
На сельском сходе два десятка семей подали заявление, чтобы им выделили земельные угодья. И грянул бой! Первым выскочил один из «крепких хозяев» Егор Камакин. Трясясь от злобы, пошаркал бахилами от задней лавки к столу председателя, сорвал с головы собачий треух и рявкнул:
— Нет! Не дадим согласу на выдел откольникам!
Завизжал похожий на скопца Никита Голеузов:
— Наша воля! Не может коммуния устоять против опчества!
Шумели и другие:
— Где такие права, чтоб с миром идти на раздерягу?
— Не дадим землю на отруб, и все тута!
— С опчеством не спорь! На мир и суда нет!
К согласию не пришли.
Я помог коммунарам сочинить заявление в губземотдел, что тоже было в те годы обычным занятием учителей. Наши ходоки отправились в Барнаул. Вскоре оттуда прибыл землемер и объявил «опчеству», что властями предписано выделить угодья новой коммуне. Выслушан он был в угрюмой тишине и приступил к размежеванию.
20 марта 1920 года стало днем рождения коммуны «Майское утро».
Название придумала Прасковья Ивановна Зайцева, одна из коммунарок, поэтическая душа. Пришли на облюбованное место, остановились на увале, покрытом вековыми соснами и березами, увидели сверху речку, Журавлиную согру. Тут и решили ставить поселок коммуны.
— Мужики! — сказала Зайцева. — Нехай она прозывается «Майское утро» за ее баскую местность. Ажно дух радуется!

На том и сошлись.
Жизнь, однако, была поначалу тяжела. В 1920—1921 годах разруха и голод душили страну. Многие верх-жилинцы сидели на мякине, а у кого хозяйство было покрепче, те в коммуну не пошли. Да и сами коммунары строго вели отбор, зорко присматривались друг к другу, оценивали не только политические настроения, но и моральные качества людей. Во время процедуры приема задавались такие вопросы:
— От чистого ли сердца вступаешь в коммуну?
— Будешь ли честно трудиться?
— Не станешь ли противиться культурным начинаниям?
— Согласен ли добровольно выполнять устав коммуны?
Как только солнышко согнала последний снег, коммунары начали валить лес на увале, поставили на пнях первые амбары и временные хозяйственные дворы. Постепенно разбирали свои хаты в селе, чтобы перевезти на новое место. Но с этим не спешили. Подходил весенний сев, и перед «майскими» вставали десятки сложных вопросов. А свести их можно, пожалуй, к одному, самому простому: «Как выжить?»
Сеять решили просо. Добыли с превеликим трудом семена, а расчет был такой, что плодородная целина на поскотине прокормит, даст достаточный урожай. Но прежде надо было поднять эту целину — без нынешних тракторов, со считанными, истощенными лошадьми, — коммунары трудились от зари до зари. И уродилось просо на славу. Когда по дороге проезжал верховой, еле маячила над посевами его голова. Стебель каждого растения у корня тоньше детского пальчика, кисти же висели не метелками, а увесистыми кулаками. Зерно чуть меньше конопляного. Я отродясь не видел такого проса. Намолотили его коммунары полный амбар.
Тяжелейшее было время, а ничем не замутненное, чистое, светлое. Трудности были вовне, внутри коммуны царило согласие. Никто не вешал замков на амбары и кладовые, никто не требовал контроля за работой других. Всяк трудился по совести и во всю мочь. В коллективном труде закалялись единая воля и душевная спайка, которые оберегали организацию даже в самую тяжкую пору бандитизма.
Бандитов было множество, они таились в сограх и лесах, их подкармливали кулаки, в подметных письмах они грозили: «Вырежем коммунию, коли не разойдетесь!»
Как-то это не пугало людей: не только не разошлись, но, напротив, сплотились.
Вот обычная картина. Июньский день, люди трудятся дружно: одни рубят избу, другие везут бревна из леса, третьи обжигают кирпич, и вдруг выстрел, истошный крик дозорного: «Бандиты!» Тотчас женщины и дети врассыпную, мужчины с ружьями залегают в назначенном месте. (Одно время к нам прислан был небольшой красноармейский отряд, а больше сами несли охрану.) Жуткая тишина, проходит пять-десять минут, потом либо жди перестрелки, либо окажется, что это ложная тревога, и тогда со смехом, шутками коммунары продолжают работу.
Даже читки, беседы просили меня проводить не в помещении, а в лесу, — спокойнее. Сидим, просвещаемся, но хряпнет сучок, гукнет наземь сосновая шишка, и все невольно пригибают головы. Сумрачно, страшно… Но оцените и такой факт: первым капитальным домом в два этажа, построенным под ножами и дулами бандитов, была в «Майском утре» новая школа.
К началу 1921 года большая часть коммунаров уже перебралась в поселок. Пример дружной жизни и ладного труда у всех был перед глазами, потянулась за «майскими» молодежь, задумались старики. Но не успело еще молодое деревцо коммун запустить глубоко корни, как на него налетел шквал — чумышское кулацко-бандитское восстание. Оно погубило сотни прекрасных людей, сожгло десятки новых построек, уничтожило многие коммуны в Чумышском и Сорокинском районах. Шквал приближался и к «Майскому утру», однако отряды Красной Армии ликвидировали его. И тогда уцелевшие коммуны Заобской округи вступили во второй этап своей истории, который можно назвать их лихолетьем.
Дело в том, что волна кулацкого восстания захлестнула и обманутых середняков, бедняков, батраков. Боясь расплаты, они скопом подались в коммуны. На беду, местные власти, вместо того чтобы разобраться с людьми, обрадовались такой «активности». Начался сплошной кавардак.
У нас дошло до того, что не согласных записаться в коммуну выселили из Верх-Жилинского. Даже тех, кто вовсе был непричастен к мятежу. Этот неслыханный произвол учинил тогдашний диктатор села Васька Яргин, безграмотный мужик, ходивший с самодельной шашкой, украшенной красным бантом. Я было сунулся с возражениями, но он даже спорить не стал:
— Пшел! И ты захотел туда же?!
Ранним утром начался исход «несогласных». Взвалив на телеги домашний скарб, привязав скот к оглоблям, угрюмо шагали бородачи, голосили бабы, плакали малые дети. Тревожно ревели коровы, ржали лошади. Гарцуя вдоль обоза на лихом коне, Яргин покрикивал:
— Пшел! Будя выть! Айда к поскотине!
Ночью в опустевшем селе слышался вой осиротевших собак. Добравшись до Оби, выселенцы послали делегацию в Барнаул. Дней через пять привезли из губземотдела бумагу, в которой говорилось, что «по учению Владимира Ильича Ленина вступление в коммуны добровольное, а Яргин подлежит ответственности за дискредитацию Советской Власти». И его самого убрали из Верх-Жилинского, отдали под суд.
Однако сделанного не воротишь. Днями и ночами заседали в коммунах комиссии, рассматривая сотни заявлений о приеме. Теперь уже мужики сами подавали их, но от чистого ли сердца, вполне ли по доброй воле, никто не спрашивал. Повсюду стали возникать новые коммуны, нередко липовые, сшитые на живую нитку, и к руководству в них пробрались случайные люди. Спешили согнать на общий двор коров, овец, свиней, кур, свозили сохи, бороны, плуги, телеги, сани и прочее имущество. А помещений не было, не хватало ни кормов, ни пригонов, ни закут. Жизнь стала взбаламученным морем.
Извне коммуне уже ничто не угрожало, но изнутри раздирало ее. Каждый боялся сделать больше других. Пошлют мужика на пахоту, а он огрехи оставляет чуть ли не в сажень шириной. Дадут бабе огуречные семена, а она, чтобы отделаться поскорей, загонит их в десяток лунок — и домой. Назначат какую-нибудь тетку Федору печь хлебы, так она назло такие завернет, что не прожуешь. Даже у честных тружеников опускались руки, а уж те, кто метил «на вылет», орудовали всё откровеннее.
И дождались: начался развал хозяйств, совпавший с введением нэпа. В самый разгар сева кинулись врассыпную «коммунары поневоле». Завязалась великая тяжба при разделе имущества.
Коммун уцелело после лихолетья немного. Самоочищение «Майского утра» от чужеродных элементов было мучительным. Долго еще кулаки и их присные вредили хозяйству, губили посевы, похищали скот, трижды поджигали амбары, избы, бани, нападали на активистов. Так ночью пробрались в хату Егора Блинова, первого нашего тракториста, и выстрелили в него в упор. Чудом он остался жив, но был искалечен на всю жизнь… Однако первые коммунары стойко пережили все тяготы «прилива» и «отлива». Сумели сохранить все основное ядро и даже обросли сторонниками — немногими, но истинными. Коммуна устояла, и начался третий этап ее истории. Лишенный наивных фантазий и прекраснодушных представлений, был он деловым, трезвым, прочным.
Об этом я еще напишу, а пока замечу, что все годы был вместе с передовыми людьми села. Именно так я понимал свою задачу учителя. Выступал на сходах, воевал с тайными и явными врагами коммуны спорил и с излишне ретивыми радетелями ее. Стал в ту пору селькором, печатал статьи и заметки в газетах. Не прерывал читок, вел занятия со взрослыми, учил, само собой, и детей. В первый же год коммунары сказали мне:
— Ты, Митрофаныч, подбивал нас на коммуну, так иди же к нам работать. Без культуры коммуне не жить. Нам нужна школа, нужны наука, театр, хор, оркестр, курсы, лекции. Учи и весели нас!
Да, так они и говорили: «весели нас». И это «весели» понимали не как пустое развлекательное времяпрепровождение, а как способ бытия, как средство укрепления трудового энтузиазма, как мощное оружие борьбы за новую, настоящую жизнь.
9
Человек, не любящий свою профессию, всякому делу обуза. Плох он и на заводе, и в поле, и в научной лаборатории, но хуже нет, коли окажется в школе. Педагог, не любящий детей, — нелепость. А ведь приходилось мне за долгую жизнь видывать и таких.
Однако больше встречал энтузиастов, подвижников. Неравнодушие — нерв педагогики. Щедрость — первая черта учителя. Он без оглядки отдает ученикам свои способности, умение, все свое время, всю свою душу.
Конечно, чего-то он и сам не знает, а всего и не может узнать. Образование учителя тоже не безгранично. Но самоотдача его не имеет границ. Так, во всяком случае, должно быть…
Оглядываясь назад, вижу, сколь мало я поначалу знал и умел. И ошибок сотворил на первых порах, надо полагать, предостаточно. Но, как бы то ни было, учить детей в школе «Майского утра» пришлось мне одному. Других учителей не было. Долгие годы вел занятия со всеми четырьмя классами. Потом с пятью, шестью. Ребятам, окончившим первую ступень и желавшим учиться дальше, деваться было некуда. Волей-неволей я тянул учеников дальше: жалко бросать их! Занимался в две смены — по два-три класса в каждой. Такая быль не считалась в диковинку.
Коммунары помогали всем, чем могли: «На жмыхе будем сидеть, а школу обиходим!» Как ни бедны были, а в первый же год купили для детей учебники, бумагу, чернила, карандаши. Даже краски для рисования сумели добыть (они делались тогда в Барнауле из цветных глин). В самую тяжелую пору завозили нам дрова для печей, керосин для ламп, регулярно пополняли школьную библиотеку, заказывали костюмы и декорации для нашего театра, оплачивали все экскурсии школьников.
Сегодня это может показаться удивительным, но уже летом 1920 года, как только в Сибири установилась Советская власть, у нас были проведены межрайонные учительские курсы. Народное образование стало одной из первых забот голодной, разоренной страны. Около пятисот сельских учителей съехались в село Тальменка Барнаульского уезда, занятия продолжались три месяца. Я это очень хорошо помню, потому что меня избрали председателем курсов. Сидели в нетопленных помещениях, ели впроголодь, одеты были кто во что горазд, а рассуждали о школе будущего, о подлинной массовой культуре. И, может быть, впервые задумались над тем, как дать настоящее образование не кучке избранных, а всем детям страны…
Однажды я читал в классе хрестоматийный рассказ о том, как гроза застала детей в лесу. Ребята слушали со вниманием, все было им близко, а потом многие подняли руки. Оказалось, не поняли слово «оскрётки». Возможно, кто-нибудь решит, что беды тут нет. Не знают, и ладно. Проживут и без оскреток. Будут «проще» говорить: мелкие частицы какого-либо вещества. А рассказ-то был Льва Николаевича Толстого. Этак мы и его разучимся понимать, растеряем все богатства родной речи!
Я никогда не ленился поправлять учеников, объяснять им значение слов, да и весь класс призывал подмечать лексические и грамматические ошибки: «Что неправильно? Кто скажет лучше?» Дети друг на друга не обижались, это стало у них своего рода игрой. Выискивали речевые шероховатости и у взрослых, что тоже было полезно. Ошибка, пойманная при памятных обстоятельствах, не забывается. Помню, как радовался я, когда ученики сами стали замечать слова-паразиты, в обилии вдруг зазвучавшие на коммунарских собраниях: «утрясти вопрос», «определенно» (вместо «да»), «в общем и целом», «значит», «вообще», «в этой части» и т. д.
Словечки эти оседали у ребят в словарях. Я считал и считаю их отличным средством для обогащения лексикона. Услышал или прочел свежее слово — запиши, в классе мы разберем. По моему совету старшие школьники делили эти самодельные тетрадки на разделы: непонятные слова, крылатые слова, паронимы, метатезы, каламбуры, фольклор, народная этимология, «сибиризмы», слова-паразиты и прочее. Каждый из учеников записывал свое, но я видел, как развивается их вкус к живому меткому слову.
Очень полюбили игру слов, каламбуры, которые выискивали и в пословицах, и в книгах. «Будет вам по калачу, а не то поколочу» (Пушкин). «Злато, злато! Сколько через тебя зла-то!» (Островский). «Не богослов, а бог ослов!» (Лесков). «Он несколько разрумянился» (Л. Н. Толстой). И оживали ребячьи глаза, когда они улавливали это «несколько разрумянился», перекатывали слова во рту.
Мгновенно схватывали образцы народной этимологии: «стадо рассмотрели» (в стадии рассмотрения), «миродеры» (мародеры), «мараль» (мораль), «полуклиника», «долбица умножения» и т. п. Следом шли метатезы — слова с непроизвольной перестановкой букв (не так язык повернулся): «коркодил», «жевлак», «веретагианская кухня» (у Горького), «попал в запандю» (у Чехова). Привел я классический пример из «Соборян»: «Лимона Ивановна, дайте мне матренчика». И каков же был восторг моих учеников, когда вскоре на спектакле оговорился наш пастух, игравший одну из главных ролей. Должен был сказать: «Сюжет, достойный кисти Айвазовского», а ляпнул: «Айвазет, достойный кисти Сюжетковского!»
На следующий день ребята наперебой объясняли мне, что тут была метатеза, притом отдаленная: не в слове буквы перетасовал — а в целой фразе. Развилось у многих чутье к языку, научились вылавливать ходовые нелепицы вроде «Книжка страшно понравилась мне» или «Благодаря засухе хлеб не уродил». Конечно, речь ребят пестрела «сибиризмами», но я не стремился вытравить их, обескровить язык. Добивался одного: пусть отличают, какие слова общелитературные, какие — местные. И появились в их словарях новые залежи: буровить — бредить, варнак — хулиган, колок — лесок в степи, елань — полянка, загануть — задать задачу, коевадни — третьего дня, пятры — чердак, пошевни — род саней, трёкнуться — отречься, утресь — рано утром, насёрдка — злоба…
Постепенно, медленно, но менялись и сочинения школьников. А я давно уже устал читать шаблонные, суконные, безликие «творения» своих питомцев. И в поисках способов раскрепощения их языка годами тщетно метался туда и сюда. Да и кто из учителей не жаловался на неумение детей писать?
Всем классом мы шли в лес, останавливались, и я предлагал: «Посмотрите вокруг внимательно, запомните всякую малость, какую увидит глаз, услышит ухо, почувствует кожа, нос, а потом дома напишите рассказ „В лесу зимой“». Дети замолкали, сосредоточенно наблюдали. Некоторые записывали свои наблюдения в тетрадки. На месте мы тренировались в построении фраз. Сообща сравнивали и «отделывали». Одну и ту же мысль выражали по-разному:
— В глубоком снегу видны следы заячьих ног.
— На белом пушистом снегу написано много заячьих следов.
— Строчки заячьих следов лежат на снегу…
Большинством голосов решали, чья фраза лучше. Потом я спрашивал: «Кто еще заметил что-нибудь особенное?» Ребята говорили о большом вороньем гнезде из сучьев, прилепившемся на сосне; о дороге на мельницу, вдавившейся в снег, как в перину; о том, что из деревни слышен крик петуха, что изредка ломаются замерзшие ветки берез и падают, цепляясь за сучья, и так далее, да с каждым днем больше.
Натуру мы искали не только в поле и в лесу брали бытовые темы: «Свадьба», «Спектакль в Глушинке», «Смычка». Наблюдали за людьми, хотя кому-то это может показаться антипедагогичным. Намечали самого колоритного человека из коммунаров, совместно находили его характерные черты, ловили любимые словечки, отрабатывали каждую фразу портрета. Удачное описание «натурщика» изумляло ребят: «Как живой!»
О своем опыте развития мышления и речи учащихся я написал и опубликовал во втором номере «Сибирского педагогического журнала» в 1925 году пространную статью. Приложил к ней более четырехсот детских сочинений, но увидели свет, разумеется, лишь единицы из них — не хватило места. Год спустя в Москве вышел сборник «Свободные сочинения и детское творчество». В него включили фрагменты из моей работы с живыми рассказами маленьких сибиряков.
Можно только пожалеть о том, что с годами наши словесники увлеклись преимущественно разбором «литературных типов». Даже когда предлагают детям вольные темы о приходе осени или весны, те тотчас находят мнимо-литературные, стертые фразы типа «деревья надели свой праздничный наряд» или «природа пробудилась ото сна». А вот короткое сочинение, уцелевшее благодаря давней публикации. Оно называется «Апрельский день»:
«Утром рано был ветер и мороз. Снег был твердый. Потом взошло солнце, и снег стал таять. Кое-где оставались большие круги снега. Лужанки было видать. И ручейки текли. Куры ходили по лужанке и пили в лывах. А на реке воды было много!»
Автор — девятилетняя Шура Носова. Кто же знал, что суждено ей было, повзрослев, выйти замуж, стать Титовой и родить сына, который полетит в космос…
10
Постепенно становилось на ноги хозяйство коммуны. Ввели многопольный севооборот, начали сеять новые сорта пшеницы, овса, ячменя. На Косихинской сельскохозяйственной выставке 1925 года у экспонатов «Майского утра» мужики проглядели все глаза:
— Сто сорок пудиков у них красноколоска дала с десятины!
— А овес-то, паря, ровно с орех!
— Вот черпанули хлебушка!
Многие благие новшества пошли в округе именно от «майских». Они старались действовать по науке, приглашали агрономов, ветеринаров, зоотехников, да и сами ездили на курсы, много читали. Изучив книги по молочному животноводству, постановили расстаться с низкорослыми «тасанками», дававшими мизерные удои. И заполнили новый скотный двор красавицы коровы ярославской и швицкой пород. Теперь коммуна продавала государству больше сливочного масла высших сортов, чем десяток сел единоличников!
Новинкой был и пруд десятины в три, который соорудили наши мужики, подняв и укрепив старую гать. Вскоре завезли в кадушках карпов, пустили на развод. Первый инкубатор тоже построили в «Майском утре». Заведовала им моя ученица Анастасия Носова, изучавшая новое дело на курсах в городе Бийске. Электричества в районе еще не было, инкубатор освещался керосиновыми «молниями», но цыплят давал тысячами. Разговоров об этом было особенно много, бабы не верили, что можно обойтись без несушки. Однако убеждались, ахали, качали головами… А в 1925 году прибыл в «Майское утро» и первый трактор — тридцатисильный «Интернационал» или, как его стали называть, «Интер».
Горячий летний день. Верст за пять от поселка вышли все на барнаульскую дорогу поглядеть на «чуду». Мужики, бабы, ребятишки, древние старики и старухи. Были здесь и единоличники Верх-Жилинского. Ждали в молчании, потом послышался далекий гуд, с каждой минутой он становился слышнее, ясней. Наконец увидели: вот он! Катит по дороге стальной конек с легковейной синеватой гривкой. Старики закрестились, молодежь закричала «ура!». Егор Блинов, сидевший за рулем, был горд, как победитель, возвращающийся с поля боя. Люди кольцом окружили трактор, гладили его, робели от сердитого урчания.
Надо ли говорить, что при всех событиях такого рода присутствовали школьники, во всех делах принимали посильное участие. Иначе и быть не могло.
В крестьянстве дети росли всегда в труде, теперь же он приобрел новый характер. По-прежнему не был игрой, не был баловством («хочу — не хочу»), а был жизненной необходимостью для семьи и для общества. Это приучало школьников к порядку, дисциплине, аккуратности. Вместе с тем работа лишилась «батрацких» черт, она не изматывала детей, стала творческой и увлекательной. Когда, к примеру, мои ученики садились на трактор, то это вызывало зависть сверстников и уважение взрослых.
До сего дня я с волнением и любовью вспоминаю своих тогдашних учеников: Акима, Тосю и Ваню Бочаровых, Мишу и Олю Стекачевых, Васю Корлякова, Марину и Георгия Концевых, Клаву и Ваню Блиновых, Ваню и Настю Зубковых, Мотю, Нюру и Анисью Сошиных, Нину и Марину Зайцевых, Сашу и Андрюшу Шульгиных, Настю Железникову, Колю Карих и Мотю Носовых, Васю и Степу Титовых и многих других. Были они постоянно заняты, помимо учебы и работы участвовали во всех коммунарских вечерах, выпускали стенгазеты, готовили лекции и доклады, ставили спектакли и все это ненатужно, азартно, весело.
Степан Титов стал моим преемником, учителем того же села. Он и трактор очень рано научился водить, и вышел в шоферы первого класса, и занялся всерьез садоводством. Но несмотря на это, а вернее говоря, благодаря этому был у меня из первых учеников. Помню, как мы уходили с ним в лес разучивать скрипичные дуэты. Он стал солистом в школьном оркестре, а в мое отсутствие и дирижировал. Он много читал, особенно полюбил поэзию, не расставался с Пушкиным, и может быть есть доля моей «вины» в том, что сына своего он назвал впоследствии Германом, а дочь — Земфирой. Пушкинские имена!
11
Не признаю нередко практикуемых ныне выставок, на которых представлены только лучшие ученические работы. Они создают однобокое представление о школах, прикрывают изъяны в воспитательной работе, а главное, отторгают от нее большую часть детей. Что-то в этом роде замечаю и в детском спорте. Среди сотен школьников повсюду можно найти два-три десятка наиболее «перспективных» и уделять им особое внимание, забросив всех остальных. Но можно ли признать это справедливым, полезным, правильным?
Дважды в год в коммуне «Майское утро» устраивался общественный смотр всех ученических работ. Участвовать должны были все школьники — таков был принцип. Родители видели успехи своих детей, приучались внимательнее относиться к их учебе, подтягивались и сами ребята. Но, пожалуй, самое интересное заключалось в том, что учеников, лишенных всяких дарований, в коммуне не было. Я лично бесталанных детей не помню. Одни ярче, другие поскромнее, но в чем-то каждый мог проявить себя.
Мои ученики рисовали, лепили, вышивали, строили модели, делали аппликации, устраивали конкурсы на лучшего чтеца, декламировали, писали рассказы и стихи, пели по нотам, играли на различных музыкальных инструментах. Без хора, оркестра, театра «майских» школьников не проходило ни одно торжество в селе Верх-Жилино и в Косихе. А однажды струнный оркестр нашей школы, как лучший в Сибири, был приглашен в Новосибирск на съезд колхозников. И ребята выступали в концерте рядом с оперными артистами.
Рисование, живопись, лепка стали одно время повальным увлечение. В 1929 году попал в наши края скульптор Степан Романович Надольский. Мы познакомились, сдружились, я пригласил его к себе, и он несколько месяцев гостил в коммуне, учил детей скульптурному мастерству. Сознаюсь, я и сам охотно лепил в классе вместе с учениками. Это подзадоривало их. Глиняные скульптурки обжигали для прочности в русских печах. Долго они украшали и школьные классы, и дома коммунаров…
Программа детского хора и большого хора коммуны (собрал я и взрослых любителей пения) была, как вижу теперь, довольно обширная. Исполняли народные песни, революционные… Постепенно я вводил в репертуар наших певцов и музыкантов романсы и арии Глинки, Чайковского, Гурилева, Серова, Направника, Верстовского, Бородина, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Танеева, Мусоргского, Бетховена, Моцарта, Шумана, Массне, Гуно, Мендельсона, Беллини, Шуберта, Брамса, Вагнера — всего мне и не вспомнить…

В «Майском утре» на протяжении многих лет действовали два театра — взрослый и детский. Новые постановки давались почти каждый выходной, гастролировали мы и по клубам всего района. Конечно, далеки были от совершенства наши актеры, художники, костюмеры, бутафоры, и режиссер я был в полном смысле слова доморощенный. Но зрители всегда заполняли залы, и я видел сочувствие их, когда страдали герои на сцене, слышал взрывы хохота, когда плуты, ханжи, развратники, тунеядцы, самодуры попадали в нелепые положения и получали по заслугам.
С детьми мы ставили сказки, небольшие отрывки, инсценировали рассказы. Такие, скажем, как «Бежин луг» Тургенева, «Мальчишки» Чехова, «Гаврош» Гюго. Французского «гамена» представлял Андрюша Гладков, играл натурально, искренне. Он сам был беспризорник, мать и отца убили в гражданскую, коммуна приютила парнишку. После ему выпала роль в одной современной агитке — сироты, безотцовщины, — и он плакал на сцене настоящими слезами, да и весь зал плакал, особенно бабы. А что за пьеса — забыл, все-таки полвека минуло.
В репертуаре взрослого театра тоже были агитки, любили коммунары сцены Горбунова из народного быта, сказку «Иванушкино счастье» Кравцова, мелодраму «Золотое сердце Ляликова. Но потом мы замахнулись и на большее. «Ревизор» и «Женитьбу» Гоголя поставили полностью, «Бориса Годунова» Пушкина в отрывках. Островский был представлен широко: «Гроза», «Бедность не порок», «Свои люди — сочтемся», «Лес» и т. л. Чехова начинали с «Юбилея», «Медведя», а дошли до таких непростых пьес, как «Иванов» и «Дядя Ваня». Запомнились мне «Власть тьмы» Толстого, «Горькая судьбина» Писемского, а из современных — «Шторм» Билль-Белоцерковского, «Разлом» Лавренева, «Страх» Афиногенова, «Любовь Яровая» Тренева.
С опаской подбирался я к иностранной классике. Выходил перед спектаклями на авансцену, объяснял заранее суть пьесы, давал характеристику персонажам. Но убедился вскоре, что это совсем не обязательно. С успехом шли у нас по всему району «Мнимый больной» и «Пурсоньяк» Мольера. Парики сладил из пеньки один нас умелец, костюмы шили женщины коммуны. Рисунки я им нашел в энциклопедическом словаре.
Появились у коммунаров и любимые артисты. Хорошей Ларисой в «Бесприданнице» Островского была моя ученица Настя Носова. Несчастливцева в «Лесе» играл председатель коммуны Иван Алексеевич Носов, человек яркий, во всем талантливый. Веселым Швандей в «Любови Яровой» был наш землепашец Сергей Прокопьевич Лихачев, в жизни болезненный, злой, нервный человек. А Сатин в «На дне» — свиновод Филипп Бочаров, — тот оставался на сцене самим собой.
Запомнился мне в этом спектакле (мы его повторяли не раз) наш овчар Алексей Зайцев в роли Барона. Он картавил «под Качалова», сам это откуда-то взял, я не подсказывал. Был из фронтовиков, мужик начитанный, тертый. Притом личность кристальной чистоты, романтик. Пел прекрасно, умел подметить характерное в людях, пробовал писать рассказы «из жизни». Он же помог мне инсценировать «Мертвые души» и сам играл Чичикова. А потом простыл Зайцев, занемог перед очередной премьерой, и с этим связана еще одна незабываемая страница в истории нашего театра.
Готовили мы тогда комедию Фонвизина «Недоросль»; костюмы были сшиты, декорации написаны, афиши уже висели по всей округе. И вот спектаклю грозил срыв. Зайцев должен был играть учителя-немца Вральмана, заменить его никто не мог. Я бы, пожалуй, смог, но мое место было в суфлерской будке. И тут выручил нас один приезжий, который уже несколько дней жил в коммуне. Это был корреспондент «Правды» Борис Горбатов.
— Знаете что, Адриан Митрофанович. — сказал он мне, — давайте-ка я попробую сыграть роль Вральмана.
— А осилите?
— Буду стараться.
Тут же мы сели с ним за печатную машинку. Он диктовал текст роли, я печатал. Потом чуть ли не всю ночь напролет я режиссировал, а он репетировал. Удивил меня тем, что за четыре прохода знал уже всю роль наизусть. Сообща мы придумывали мизансцены, жесты, мимику, интонации реплик. И я увидел, что он человек театру не чуждый.
Много позже я узнал, что отец его был театральный парикмахер, и Горбатов еще малышом выходил на подмостки, писал затем пьесы для школьных спектаклей, любил гримировать участников. И у нас не только сам преобразился в уморительного Вральмана, но помог найти характерный грим и для своих партнеров. Когда на сцене он говорил с ними, коверкая русскую речь, но искусно делая ее понятной зрителю, в зале стоял беспрерывный хохот.
Писатель нас не забыл: написал в «Правде» большой очерк о жизни «Майского утра». Мы его тоже не забыли: обсуждали коллективно «Ячейку» Б. Л. Горбатова… Но это уже другой рассказ.
12
К 1923 году во всей коммуне не знала грамоты только полуслепая, дряхлая бабка Сошиха. Все прочие престарелые коммунары и коммунарки научились читать, писать, расписываться, составлять рационы скоту, записывать удои, подсчитывать заработки. О молодежи я уже не говорю. Книги постоянно были в ходу, о прочитанном спорили, и отзывы бывали до удивления метки.
Я и сам устраивал громкие чтения. Вечерами приходили в школу мужики, бабы, подростки, старики. Матери приносили младенцев, укладывали спать на овчинах. Керосиновая лампа выхватывала лишь первые ряды, за окнами была тьма-тьмущая, валил снег, выли ветры, а люди слушали — до полной устали чтеца. Большие вещи шли у нас «продолжениями» много вечеров подряд. (Вроде нынешних телевизионных серий). Самые нетерпеливые спрашивал, что дальше будет. Потом смаковали прочитанное, и все чаще подмывало меня записывать отзывы крестьян, выраженные самоцветным языком.

Но обуревали сомнения: а ну-ка кто-то и где-то уже давно и превосходно сделал это? К чему же мне после скобеля тяпать топором? Я отмахивался от соблазнительной мысли, но она нет-нет да возвращалась ко мне. Наконец решился, и, как ни странно, опыт крестьянской критики художественной литературы, начатый в сибирской глухомани в20-х годах, оказался первым в СССР. Да, по существу, и единственным.
Здесь не место говорить подробно о целях и методах опыта. Я шел по целине и, конечно, ошибался, спотыкался, расшибал себе нос, но продолжал свой путь. Никогда я не утверждал, что мнение крестьян единственно верно. Не писал, что оно для писателей и критиков обязательно. Но полагал, что знать, учитывать это мнение полезно.
— Говорите, что подумается, — просил я коммунаров с самого начала. — Только чтобы по совести.
— Мы не ученые, — сомневались многие. — Не нам судить о книгах. Над нашими словами будут смеяться.
— Всякий человек думает по-своему, — отвечал я. — Ученые пусть думают по-ученому, а мы будем по-простому. Им тоже интересно узнать, что вы думаете о литературе? Какие книги вам по душе, а какие нет? И почему?
Договор у нас был открытый, простой. Я объяснил им свой замысел, они согласились со мной. Ни я от них, ни они от меня в зависимости не находились. Авторов, как правило, в глаза не видали. Я взял за правило заранее не знакомить крестьян с критическими отзывами в печати, что одних могло искусить на шествие за «тетушкиным хвостом», а в других поддразнить беса противоречия. Даже с биографиями писателей знакомил аудиторию лишь в конце обсуждения. Потому что, подметил, и это влияло на объективность оценок: если жизнь автора была «жалостная», то критика бывала мягче.
Конечно, не могу сказать, что сам был вполне беспристрастен. Одни произведения больше нравились мне, другие меньше. Но позиция слушателей далеко не всегда совпадала с моей, и переубедить их бывало трудно: авторитетов мои критики не признавали. Рассказ Вс. Иванова «Бог Матвей» получил у них самую высокую оценку, а его же «Партизан» — не приняли. За «Растратчиков» Катаева хвалили, а за «Бездельника Эдуарда» крепко ругали. Я убежден был, что Фет у крестьян «не пройдет». Выбрал знаменитое «Шепот. Робкое дыханье…». Знал наперед, как это все далеко от трудной жизни баб и стариков, от «грубых» их сердец. И просчитался: Фет их заворожил:
— Тут все человеческое!
— И луна, и соловей, ну всё при ночи. Ровно у нас в мае месяце, вон там за баней, над рекой…
— Речка-то! Ишь, серебрится… Живая картиночка.
— Ноне так уж не пишут стихов!
Назойливую тенденцию, хотя бы и ультрасоветскую, но облеченную в слабую художественную форму, мои слушатели отметали. И хотя случалось мне спорить с ними, вижу теперь их вкус и правоту: испытания временем эти вещи не выдержали. Читаю им, бывало, стихи-агитки, а после выйдет из-за парты какой-нибудь бородач и пробасит:
— Нет, паря, не тот товар! Вон у Пушкина-то: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя…» Слова-то, вот они! Скоблит тя по коже. И все как есть правдашное!
Слышал я разговоры, что-де крестьяне любят дешевый юмор. Неправда. Я преподносил им юмористическую вермишель из тогдашних журналов «Лапти» и «Смехач» — успеха ни снискал. А то и прерывали меня:
— Брось это мелево!
— Не лезет смех!
— Давай, Митрофаныч, дельное!
Я обращался к Чехову, Лескову, Гоголю, хорошо принимали они Свифта, Рабле, Диккенса, Дефо, Гейне, Шелли, Сервантеса… Перечислять я мог бы долго, а суть в том, что все безусловно лучшее и общепризнанное в классике крестьяне и почитали за лучшее. В этом за двенадцать лет наших чтений убедился вполне.
Из советских книг, прочитанных в «Майском утре», будоражили умы «Ташкент — город хлебный» Неверова, «Два мира» Зазубрина, «В разлом» Ляшко, «По этапу» Подъячева, «Неделя» Лебединского, «Двенадцать» Блока, «Песнь о великом походе» Есенина, «Правонарушители» Сейфуллиной, «Дневник Кости Рябцева» Огнева, «Ухабы» Новикова-Прибоя, «Конармия» Бабеля, «Железный поток» Серафимовича… Список и тут я мог бы продолжить, хотя надо учесть, что далеко не все новинки доходили тогда в нашу сибирскую глухомань.
Как бы то ни было, читки и обсуждения вошли у нас в обычай, они продолжались из года в год, я вел свои записи и, сознавая, что опыт мой не свободен от ошибок и просчетов, думал: делаю, что умею, а кто может, пусть сделает лучше.
Наград для себя за эту работу не ждал, моего учительского жалованья (тридцать два рубля в месяц) чтения не повышали, но не скажу, что был вполне бескорыстен. Корысть имелась: мне было интересно жить. Все увлекало меня: игра с детьми в слова, сочинения ребят, детский театр, взрослый театр, хоры, оркестр, крестьянская критика. Как сейчас помню, читал я со сцены Пушкина, видел замерший зал, ощущал сотни воткнутых в меня глаз, и от этого в душе было сияние и легкий взлет.
Вот и выходит, что нелегкие эти, несытные, холодные, набитые заботами, трудом, занятиями годы и были лучшим временем моей жизни.
13
Писать я начал еще до революции, а первая моя статья из «Майского утра» называлась «В кольце врагов». Ее напечатали в газете «Красный Алтай» в 1922 году. Коммунаров снабдили после этого оружием для защиты от банд. Я поверил в силу печатного слова и вот уже седьмой десяток не выпускаю пера из рук.
Учитель в те годы был не просто учитель. Приходилось выступать пропагандистом, агитатором, культпросветчиком, избачом, селькором. И я бился за правду, наживал врагов, воевал с бандитами, хапугами, бюрократами, дураками, писал в Сибири, а позже на Урале, в Подмосковье, на Украине — всюду, где довелось работать и жить. Печатал корреспонденции, зарисовки, заметки, рассказы, очерки, педагогические статьи, и они публиковались (как-то я подсчитал) в 73-х советских изданиях.
А записи бесед с крестьянами о литературе долго держал при себе, не давал в печать. Первым, кто узнал о них, был начинавший в ту пору, а ныне известный сибирский писатель А. Л. Коптелов. Сошлись мы на селькоровском поприще, я раскрыл ему свой замысел, и он попросил несколько отрывков для бийской «Звезды Алтая», где работал секретарем. Весной 1927 года в трех номерах этой газеты мои записки и увидели свет. А осенью попали и в толстый журнал «Сибирские огни».
Я и предполагать не мог, какую бучу это поднимет, какие разойдутся круги. Никак не ждал, что откликнется А. М. Горький. А он, прочитав крестьянские отзывы о романе В. Я. Зазубрина, написал ему (из Сорренто, 17 мая 1928 года):
«Пошлите мне Вашу книгу „Два мира“, интереснейшую беседу слушателей о ней читал, захлебываясь от удовольствия…»
И позже, в предисловии к роману, А.М.Горький писал:
«Эта книга вся была прочтена в Сибири… Суждения, собранные о ней, стенографически записаны и опубликованы в журнале „Сибирские огни“. Это весьма ценные суждения, это подлинный „глас народа“. И это было бы в высшей степени полезно напечатать эту стенограмму как послесловие к ней, как эхо, мощно отозвавшееся на голос автора».
Зазубрин тогда же сообщил мне о горьковских словах (в печати они появились позднее), и надо ли говорить, как они ободрили меня. Я продолжал работу, решился готовить целую книгу, придумал для нее название — «Крестьяне о писателях», но тут выяснилось, что есть у моего опыта и противники. Крикливые и тихие, мелкие и покрупней, очень безграмотные и не очень.
С невеждами было легче. Явился, скажем, в коммуну «Майское утро» некто Нахлупин, инструктор райисполкома, бывший портной из села Каркавина.
— Я уполномочен чистить библиотеки в районе. Показывай, что тут у тебя есть!
Пришлось мне снова спасать серышевскую библиотеку. Ревизор прослышал, что она «поповская», и настроен был круто. Попали ему на глаза сочинения «графа Л. Н. Толстого» — в белых обложках, усеянных крапушками.
— Это что?! — ткнул он пальцем. — Нам графья шею переели. Сжечь! А это кто?! Посмотрим. Тур–ге-нёв. «Дворянское гнездо». Про помещиков? В печку!
Меня он не слушал.
— «Собор Парижской богоматери»… Ловок ты, Топоров!
— Гюго написал. Великий французский писатель.
— Ясно! Нам свои попы глаза заслонили, а ты еще и французских суешь в библиотеку. Сжечь!
На пол легли почти все классики.
— Хорошо, сожгу, — кивнул я, понимая, что спорить с ним бессмысленно.
Ночью школьники помогли мне снести на чердак обреченные книги, а утром я умчался в Барнаул с жалобой в АПО (агитационно-пропагандистский отдел губкома). И ретивого «чистильщика» библиотек самого вычистили с его поста. Но это случай явный, простой, а были и посложней.
Я не сразу разобрался в борьбе, которая шла тогда между талантливыми писателями и нашумевшей в Сибири группой «Настоящее». Читатели, особенно молодые, вряд ли и помнят о ней, между тем это были весьма шустрые леваки, провозгласившие диковатый лозунг: «Искусство — опиум для народа!». Недавно перечитал я одну резолюцию, опубликованную в их журнале, который тоже именовался «Настоящее»:
«…Мы смеем уверить М. Горького, что за долгие годы его отсутствия пролетарская литература окрепла значительно сильнее, чем он думает, что эта литература вовсе не собирается сдавать свои позиции в борьбе против правых и откровенно реставрационных элементов в литературе. Эти позиции не будут сданы, хотя бы наш враг действовал именем М. Горького».
Посмотрел я на подписи: нет, нынешним читателям моим ни одна из них неизвестна. ЦК ВКП (б) вынес позже постановление «О выступлении части сибирских литераторов и литературных организаций против Максима Горького». Сегодня хорошо видно, что следа в отечественной словесности эти люди не оставили.
Сидя в своей глухомани, я был от этого далек. Не знал, что «Настоящее» ведет борьбу с «Сибирскими огнями», что «настоященцы» воюют с Горьким, что крестьянская критика (их писаний не жаловавшая) не потрафила им. И потому никак не был готов к ударам, которые посыпались на мою голову. Приехал в коммуну симпатичный молодой человек, некто Олег Барабаш, посидел на очередной читке, покрутился еще полдня, вежливо мне улыбался, а потом вдруг выдал в краевой газете огромную статью — полполосы, пятьсот ядовитейших строк.
Главные литературные претензии: мужикам нравится Сергей Есенин, а учитель, вместо того чтобы разоблачать этого поэта, пропагандирует его. Мало того, зловредный учитель читает крестьянам «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, да еще в переводе «белогвардейца» Бунина. Ату его! Политические обвинения: следовательно, этот самый Топоров — обыватель, народник, недобитый эсер, окопавшийся враг. Ярлык «Топоровщина», пущенный в этой статье, попал даже в Сибирскую Советскую Энциклопедию.
Сейчас об этом просто писать, легко читать, можно и посмеяться, но время тогда было непростое, а обвинения — тяжкие. Счастье еще, что коммунары не отвернулись от меня, что приобрел я благодаря этой драке новых, настоящих друзей. Вскоре мы читали в «Известиях ЦИК»:
«За что? В чем дело? Почему низвергли в бездну грязи на редкость заслуженного сельского интеллигента, вместо того, чтобы поставить его в пример остальной нашей интеллигенции?! Почему?
Потому что творить революцию в окружении головотяпов чертовски трудно, потому что героев окружают завистники, потому что невежество и бюрократизм не терпят ничего смелого, живого. Вот и все. Разве этого недостаточно, чтобы был задушен заброшенный в тайгу одинокий революционер-культурник?»
Фельетон известного журналиста А. Д. Аграновского назывался «Генрих Гейне и Глафира». Он появился в праздничном номере «Известий» 7 ноября 1927 года. Впоследствии я включал его во все издания книги «Крестьяне о писателях». Книга моя все-таки вышла, и я хочу привести хотя бы отрывки из связанных с нею писательских писем, которые уцелели у меня.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
