
Альманах
«Еврейская Старина»
№1 (104) 2020
Редактор и составитель
Евгений Беркович
Художник
Дорота Белас
Еврейская Старина
Ганновер 2020
Альманах «Еврейская Старина»
№1 (104) 2020
«Старина — категория не времени, а качества:
всё когда-нибудь станет стариной, если не умрёт раньше»
© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)
Еврейская Старина
Ганновер 2020
АД ЗА ЗЕЛЕНОЙ ИЗГОРОДЬЮ
Записки выжившего в Треблинке
(Перевод с немецкого Елены Зись)
(продолжение. Начало в №4/2019)
ПАЛАЧИ И МОГИЛЬЩИКИ
Всех, кто передвигается в Треблинке на двух ногах, можно назвать «господами и рабами». Но такие названия хороши только для газетных заголовков. На самом деле, в Треблинке все не так просто. Есть господа покрупнее и помельче. Полугоспода, начальники палачей, заплечных дел мастера и их помощники, более или менее живые рабы. Могильщики рангом повыше и пониже.
Все подслушивают и подсматривают за остальными и друг за другом. Когда собирается вместе несколько человек, их поведение разительно отличается от того, как каждый ведет себя в отдельности, если его не видит никто, стоящий выше. Все мысли вертятся только вокруг «наследства», вещей и ценностей, которые останутся после сотен тысяч людей. Мародерствуют и спекулируют все. Господа эсэсовцы и охранники нацелены, в первую очередь, на золото, украшения, деньги, шубы; это пригодится в любом случае, кончится ли война для них хорошо или плохо. Рабы хватают еду, а также ценности — на один-единственный случай.
Все с напряжением и любопытством ждут, что принесет следующий эшелон в Треблинку. Даже самые последние рабы в «лагере смерти» могут оценить «качество» эшелона по количеству выломанных золотых зубов и по результатам обследования, которое там выборочно проводится, чтобы проверить, нет ли у голых мертвецов золота и украшений в других отверстиях тела, кроме ротового.
Все поют и заглушают друг друга: немцы — «Родина… твои звезды», украинцы — «Ой, при лужку, при широком поли…», евреи — «Идише мама» и «Илѝ, Илѝ…».
Он прогуливался и иногда останавливался наверху на песчаном валу. Это было через несколько дней после того, как начали сжигать трупы. Оттуда он осматривал свои владения. Он смотрел вниз на ту сторону, откуда поднимался дым, создававший для него величественный фон. Потом он снова смотрел на эту сторону, где внизу горы вещей и цепочки крошечных фигурок все время меняли свои формы и приобретали, как в калейдоскопе, все новые и новые очертания. У него не было тяжелого хлыста, как у всех остальных эсэсовцев, а только легкий стек для верховой езды и всегда светлые перчатки, а на голове — пилотка, пальцы правой руки заложены за борт облегающего зеленого мундира. Это — комендант лагеря, гауптштурмфюрер СС Франц Пауль Штангль. И подобно тому, как сейчас он в полном одиночестве смотрел вниз с вала, так же, сохраняя дистанцию от всех окружающих, он надзирал сверху и за всем, что происходит в лагере. Он редко приходит из барака коменданта на «предприятие», избегая при этом всяческих контактов с рабочими евреями, а равно и с украинскими охранниками. Если он изредка появляется на перекличке, то только для того, чтобы посмотреть со стороны, стоя у угла барака. Слегка постукивая стеком по сапогу, он уходит еще до конца переклички. Немного загнутый нос, выступающий подбородок, небрежная походка и движения, которые позволяют себе только высокие чины, — он производит впечатление сеньора, распределяющего власть между своими вассалами. Роберт говорит, что этот величественный господин знает больше остальных, и что у него на совести наверняка больше, чем у всех. Он занимает положение, при котором ему самому не надо ни стрелять, ни избивать плеткой.
Почти у всех есть прозвища. Они возникают по любому поводу, потому что нам нужны слова и предупреждения, которые понимаем только мы — и никто больше. Среди них есть три особенных имени, являющиеся для нас сигналами смертельной опасности и одновременно символизирующие три основные опоры Треблинки и ее производства. Их настоящие имена мы знаем только понаслышке, мы даже не знаем, как они правильно пишутся: Франц, Кюттнер, Мите.
В первый раз я увидел Франца в действии на второй или на третий день после прибытия в Треблинку. Я вышел из барака на сортировочный плац и увидел, как в нескольких метрах от меня он обстоятельно уложил одного из рабов в нужное положение, а потом начал отвешивать ему двадцать пять ударов по заду. При каждом ударе он полностью выпрямлялся, откидывался назад и замахивался, как это делают теннисисты. Но это было лишь маленькое представление. Только когда он устраивает настоящие большие спектакли на плацу для всех и со всеми, его гладкие щеки становятся по-настоящему красными. В этом предприятии Франц-Лялька что-то вроде младшего начальника, которого, возможно, специально назначили в дополнение к Штанглю, а уже в дополнение к Францу назначили опытного «фельдфебеля» Кюттнера. Лялька нужен для репрезентативности, для чрезвычайных и крупных событий. Забота Легавого-Кюттнера — повседневное течение производства. Его глаза заглядывают одновременно во все уголки, он проносится мимо мастерских, избивает кого-то до крови, потому что тот слишком медленно двигается, а через мгновение его плетка уже со свистом опускается на людей в «бараке А». Больше всего ему нравится направлять удар в лицо, чтобы получился громкий чавкающий звук. Все его движения — и слова тоже — резкие, судорожные, что отличает его от подчеркнуто спортивного поведения Ляльки. По профессии Франц повар, по виду и повадке — импозантный шеф-повар. Кюттнер принес в Треблинку весь багаж своей предыдущей жизни: говорят, он был полицейским или тюремщиком.
Унтершарфюрер Август Вилли Мите появляется беззвучно как привидение там, где кто-то из пронумерованных, проштампованных больше не может, не в состоянии изображать, что он здоров и полон сил. Его нос да и все лицо немного скошены набок. Длинные ноги несут короткое туловище немного вразвалочку. Фуражка — или пилотка — сдвинута на затылок, из-под нее видны гладкие белокурые волосы. И рыбьи глаза — как будто они тебя утешают: «Ну, идем, идем, скоро ты уже отдохнешь. Но только иди передо мной покорно, как ягненок. Иначе я начну кричать фальцетом и покажу тебе, что я знаю свое дело даже лучше, чем элегантный Франц или „фельдфебель“ Кюттнер». Для него недостаточно одного прозвища. Этот тихий убийца и уборщик «отходов» Треблинки имеет несколько*: по-чешски ― Кроткий стрелок, на идише ― Дер крумме коп («кривая голова») и самое выразительное — на языке Библии: мал’ах а-мавет — «ангел смерти», потому что его царство — «лазарет».
Всегда какой-то неряшливый и всклокоченный, Вилли Ментц, с черными усиками под носом, как в гражданской жизни, так и здесь стоит намного ниже Мите. Дома он разводил коров, а здесь он — стрелок номер 2. Его дело — повседневный, рутинный расстрел в «лазарете», когда поступает новый эшелон. Он стреляет и стреляет, еще и еще, даже если иногда предыдущий падает в огонь только раненым, а не убитым. Грязная работа.
Мы выяснили, что примерно раз в шесть‒восемь недель какая-то группа получает отпуск. Первый, кто замечает, когда они начинают собираться, — Руди в своей швейной мастерской. Потом это замечаем и мы, по бараку готовой одежды.
Унтершарфюрер Пауль Бредо, начальник «барака А», приходит к нам в бокс «Мужские пальто, I сорт». Он двигается скользящей походкой, как по паркету, словно на нем все еще надет фрак официанта, который он носил до войны. И он приводит с собой редкого гостя, шарфюрера Пётцингера из соседнего «второго лагеря».
— Показывайте, уже что-нибудь нашли? — начинает Бредо.
Вот так он уже неделю приходит в наш бокс. Он хочет «роскошное» и «безупречное» пальто. Каждое он тщательно проверяет, не обтрепано ли оно на воротнике, на карманах, внимательно рассматривает подкладку. Он хотел бы что-нибудь клетчатое, можно с поясом. Безо всякого смущения он передает свою плетку Пётцингеру, который пока что наблюдает за происходящим. Во время примерки Бредо всегда поднимает воротник так, что он достает до длинных бакенбардов. Они да еще усы, вероятно, компенсируют ему отсутствие волос над мясистым бледным лицом.
Пётцингер немного медлит, прежде чем начинает примерку, потому что понимает, что для его большой коренастой фигуры будет трудно подобрать что-нибудь подходящее. Когда он подходит совсем близко и наклоняет голову с выбивающимися из-под пилотки курчавыми волосами, чувствуется исходящий от него удушливый сладковатый запах «второго лагеря». У него грязные сапоги и немного помятая форма. На той стороне, откуда он пришел, все время идут земляные работы. Даже эсэсовцы, служащие там, не могут так следить за своей элегантностью, как их коллеги здесь.
В конце концов, оба останавливаются на одном и том же пальто. Каждый начинает убеждать второго, что тому пальто не годится, одному оно мало, второму велико. Унтершарфюpep Бредо как начальник барака готовой одежды мягко одерживает победу над шарфюрером Пётцингером. Сцену прерывает появление высокой фуражки Кюттнера-Легавого. Бредо приказывает мне отнести после обеда пальто в швейную мастерскую, где его должны будут отутюжить, а он потом сам его заберет. Оба уходят и беззаботно шагают навстречу Кюттнеру.
Ни Маттес, начальник производства «второго лагеря», ни Кюттнер не могли бы позволить себе ничего подобного, чтобы не испортить свою репутацию.
— Сними все еврейские звезды, чтобы нельзя было и догадаться, что они там были, — Давид Брат из бокса напротив стоит за столом с табличкой «Мужские пальто, II сорт» и как раз обучает новенького.
Голова Давида едва достает ему до груди, Давида вообще почти не видно рядом с ним. Новенький — толстяк с маленькими глазками и жесткими усами, его зовут Виллингер. Бригадиры на сортировке направили его сюда после того, как сыграли небольшой спектакль для своих «шефов» из СС. Это — начало большой игры, которая сейчас готовится: вынуть все из карманов, все осмотреть, прощупать, не зашиты ли в пальто деньги, золото, драгоценности.
― Видишь ящики, которые висят у каждого бокса? Туда потом бросишь все ценное.
Давид на секунду останавливается, потом продолжает особенно выразительно, на идише это звучит «аз озер» (думай!), и, чтобы быть наверняка понятым, делает жест, означающий «оставить с носом».
— Ну, — Давид снова замолкает и меняет тон. — Что-то туда бросить надо. Вон те не могут вернуться совсем без всего.
Движением головы он указывает на двоих, которые как раз в это время медленно идут по бараку. У них желтые нарукавные повязки с надписями «золотые евреи», а в руках — маленькие чемоданчики. Несколько раз в день эти сортировщики золота и украшений делают обход всего лагеря, проходят через рабочие бараки, опустошают все ящики в каждом боксе, собирают найденные ценные вещи и возвращаются вниз на свое рабочее место, в «большую кассу», где они все это сортируют и упаковывают. И хотя сейчас чемоданчики золотых дел мастеров наполняются далеко не так, как раньше, когда один эшелон следовал за другим, все равно в соответствии с приказом и распорядком бригада «золотых евреев» регулярно совершает свои обходы. Так возникает и развивается «служба новостей»: между двумя лагерями и поддерживается связь с «гетто» и мастерскими даже в рабочее время.
— Вот так надо складывать каждое пальто, потом перевязать по десять штук и сложить вот здесь в боксе, — Давид заканчивает свою лекцию.
Потом я слышу еще слова «выборочная проверка». Это Давид предупреждает новичка, что здесь, в «бараке А», эсэсовцы проводят выборочные проверки особенно часто и основательно, и если все рассортировано и упаковано небезупречно, то это грозит «лазаретом».
Из глубины барака к нам доносятся предупредительные сигналы. Это идет унтершарфюрер Хиртрайтер. Между собой мы называем его Зепп, так его зовут остальные эсэсовцы. Особая грубость отличает его темное лицо с выступающими скулами и толстыми губами, она прослеживается и в каждом его движении, в каждом слове. Он небрежно осматривает несколько пальто, скручивает одно, засовывает его себе подмышку и удаляется длинными ленивыми шагами, бездумно, по привычке продолжая бормотать:
— Работать, работать…
— С бабами этот тип — настоящий скот, — говорит Ганс Фройнд.
Следующий клиент — унтершарфюрер Карл Шиффнер, его лицо словно слегка припудрено. Когда он говорит, виден ряд золотых зубов:
— Ну-ка, дайте посмотреть, не найду ли я чего-нибудь приличного, — он бросает пачку сигарет на сортировочный стол. Еще три недели назад она не имела бы никакой ценности. Но теперь, когда эшелонов нет, сигареты снова в цене. Легким движением Шиффнер поправляет пилотку у себя на голове. Ногти на его руках ухожены, волосы гладко зачесаны, посередине — пробор. Он уходит, сложив и перебросив через руку пальто. Вроде бы, он наш земляк из Тёплиц-Шёнау, немецкоязычной области в бывшей Чехословакии.
Дородный бюргер, совершенно гражданский человек в форме и, вероятно, самый старый среди здешних эсэсовцев: унтершарфюрер Карл Зайдель. Он всегда разговаривает с нами в безличной форме:
— Это унести, это — сюда, это — туда…
Но на этот раз он негромко обращается прямо ко мне:
— Если вы найдете приличное зимнее пальто…
Он сказал «вы», но «будьте любезны» он не сказал — или все-таки сказал? Господи, ну что же я не дал хотя бы этому промеж ног, почему я не накинул ему на шею пояс от пальто и не тянул, пока у него не выкатятся глаза, как у тех двоих, которых они голыми повесили за ноги перед кухней? И чего бы ты этим добился, кому бы ты этим помог? Остальные смотрели бы, и никто не двинулся бы с места. Тебе потом пришлось бы самому себя прикончить, чтобы тебя не схватили… Да, да, фантазируй и отводи душу, а сам ройся в куче и ищи. «Лучше всего темно-синее или темно-серое…» для начинающего седеть господина Зайделя с твердыми чертами лица и учтивыми манерами. В проходе между боксами в глубине барака появляются унтершарфюрер Гентц и шарфюрер Бёлитц.
— О, а вот эти клиенты наверняка ко мне, — раздается голос Ганса Фройнда из соседнего бокса с надписью «Женские пальто, I сорт».
На нем белое длинное, по щиколотку, пальто, из-под которого видны до блеска начищенные сапоги; в нем он кажется еще выше. Вокруг талии он повязал широкий пояс, на голову надел русскую меховую шапку. У шерстяных перчаток он отрезал кончики пальцев, чтобы было удобнее «сортировать». Для работы в боксе Ганс надевает еще белый халат. Говорит, что блохи гораздо меньше ползают по белому.
— Смотри-ка, сейчас они в «Бюстгальтерах и дамском трико», — Ганс не глядя прощупывает пальто, которое лежит у него на столе.
Глазами, словами да просто всем телом он следит за двумя фигурами в форме. И хотя он не может со своего места видеть таблички над отдельными боксами, но он демонстрирует нам и себе, как хорошо он уже здесь ориентируется.
— Да-да, господа, лучше всего мы начнем снизу, от «Бюстгальтеров и дамского трико», дамские чулки у нас только в упаковках по пятьдесят пар, корсажи по двадцать пять штук, как тут и написано, мужские сорочки — по двадцать пять, мужские брюки — тоже, детское белье не интересует? Нет, эти идут главным образом ко мне. Гентц уже несколько дней пристает, ему нужна каракулевая шуба. Что-то придется ему все-таки дать. Они должны меня запомнить. Каракулевые, бобровые, ондатровые шубы ― все для госпожи супруги унтершарфюрера и для шлюх тоже. Разве кто-нибудь в великой Германии может сегодня конкурировать с фирмой «Ганс Фройнд, дамские пальто, Треблинка»?
Наверняка Бёлитц один не пришел бы. Вероятно, его уговорил Гентц. Если представить себе Гентца без эсэсовской формы, то, наверное, он мог бы быть вполне приятным смешливым парнишкой. Я представляю себе, как он швырнул сумку с какими-то школьными принадлежностями в угол, как он нахлобучил пилотку на светло-рыжие прямые волосы, застегнул мундир, ухмыльнулся своему мальчишескому, покрытому веснушками лицу в зеркале и при этом подумал: «Это будет забавно». А когда он приехал в Треблинку и с любопытством рассматривал все вокруг, он говорил себе и, наверное, говорит до сих пор: — Смотри-ка, как забавно.
Бёлитц совсем другой, из более солидного материала. Стройный и подтянутый холостяк; не только коротко подстриженные волосы, выбритый затылок, но и брови и ресницы на овальном розовом лице словно освещены солнцем — совсем белые. Он не кричит и не взвинчивает себя, как Кюттнер и Франц, а наносит такие же ужасные удары плеткой очень тщательно и со служебным рвением. Может быть, его «камерады» говорят, что он выслуживается и вообще карьерист. Обычно он только наблюдает, как его товарищи в отсутствие Кюттнера и Франца выбирают себе красивые и ценные вещи. Запретить он им этого не может. Ведь он один из них. Донести на них он тоже не решается.
Этот эсэсовец в Треблинке одинок. Сейчас он стоит рядом с боксом «Дамские пальто, I сорт» и наблюдает со смешанным чувством неловкости, презрения и любопытства, как Гентц рассматривает разные шубы, которые выкладывает перед ним Ганс. А Гентц, так мне кажется, решил сыграть с Бёлитцем маленькую шутку:
— Да подойди же ближе, — кричит он ему и протягивает каракулевую шубу. При этом плетка в его руке выглядит как та штука, которой выбивают шубы. — Ну, что ты об этом скажешь?
— Ничего, обычное дерьмо, — в данный момент Бёлитц не в состоянии выражаться иначе.
— Вовсе не дерьмо, это шуба из настоящей каракульчи. Правда, Ганс? — Гентц уже знает Ганса по имени.
— Так точно, господин унтершарфир-рер, настоящая каракульча, — Ганс специально коверкает свой пражский немецкий язык.
Немного рыжеватый и веснушчатый, он выглядит как озорной мальчишка.
— И сколько может стоить это дерьмо? — спрашивает Бёлитц.
— Ойе! — Ганс делает любезный жест и начинает перечислять: работа скорняка, мех, каракулевые овцы, меховые аукционы — барак с боксами превращается в огромный магазин, полный текстильных и меховых товаров, а специалист своего дела Ганс Фройнд объясняет, предлагает, продает…
— Скажи, чтоб тебе тоже подобрали, — поддразнивает Гентц Бёлитца.
Ганс сразу же улавливает, в чем дело, присоединяется к игре Гентца и услужливо произносит:
— Да-да, господин шарфир-рер!
Обершарфюрер Линденмюллер немного старше, но намного взрослее, чем Бёлитц, и лишь внешне кажущийся человеком того же типа, приходит перед Рождеством в «барак А» совсем с другой целью, не за «покупками». Он остается вдвоем с Цело в бюро, прямо у входа, и начинает, словно докладывая о самом себе:
— Я происхожу из офицерской семьи, я — убежденный национал-социалист, но то, что творится здесь, я не могу примирить со своим представлением о солдатской чести, завтра убываю в рождественский отпуск и сюда больше не вернусь. Подам рапорт о переводе на фронт, хочу, чтобы кто-нибудь из вас об этом знал, выбрал тебя…
«Охранники», они — погонщики рабов и помощники палачей, их презирают и господа, и рабы. Все они молоды, около двадцати, все так и пышат здоровьем и грубостью. Им и не снилось, когда они завербовались и покинули свои деревни и хутора, что будут купаться в жратве, водке и деньгах, что зрелые женщины и молоденькие девчонки будут переезжать вслед за ними в окрестные деревни поближе к лагерю только что не с задранными подолами. Им казалось, что здесь они смогут продолжать бить и забивать до смерти евреев, как они привыкли еще дома. Но, оказывается, только здесь все и началось. Для этого нужно было, чтобы пришли «германцы». Только у Рогозы, старшего охранника, есть фамилия. Все остальные — просто Сашки, Гришки, Иваны. Эсэсовцы зовут их «эй, охранник», мы — «пане, господин охранник». Разговариваем мы с ними на смеси славянских языков. Со своей далекой и почти бескрайней родины они принесли удивительный дар: поразительное пение. В тяжелые часы вечерних сумерек и на рассвете поднимается высоко над густыми соснами тоскливая песня, которая многоголосым хоралом окутывает всю Треблинку.
В то время как постепенно становится все меньше еды, потом одежды и драгоценностей, когда сказочное «наследство» рассеивается в Треблинке и пропадает в разных ее уголках, а новых эшелонов с пополнением не прибывает, веселые жадные парни в черных и коричневых формах шагают мимо нас и повторяют:
— Давай гроши, будет хлеб, ветчина, водка.
Они следят, чтобы их не заметили самые опасные — Франц, Кюттнер и те, кто не так опасен, — Мите, Бёлитц.
«Могильщики» — самые несчастные из заключенных — «там», по ту сторону вала. Но не все непосредственно собственными руками соприкасаются с обнаженной смертью. Староста «второго лагеря», его зовут Зингер, и он из Вены, капо и бригадиры — все они работают плетками, люди в бараках — метлами; тем, кто двигается взад и вперед с грубо сколоченными деревянными носилками, не приходится самим трогать мертвые голые тела, как тем, кто нагружает и разгружает носилки. Тот, кто где-то внизу, в блиндаже, очищает золото, видит не весь труп, а только зубы с кусочками десны, и только к этим кусочкам прикасаются его пальцы. На долю нескольких женщин, их мало, выпала та же участь, что и женщинам здесь, в «первом лагере»: стирка белья.
И здесь, в этой части лагеря, есть три по-настоящему несчастных могильщика. Это — те трое санитаров с нарукавными повязками Красного Креста, которые должны в «лазарете» сжигать на костре расстрелянных в яме. Потом уже следуют безымянные «разгребатели оставленного мусора» здесь, на сортировочном плацу, которые только иногда вытаскивают мертвых, полумертвых и тех, кто не может двигаться, из прибывающих вагонов.
Значительно более высокую ступень занимают «специалисты» из отдела верхней одежды «барака А» и из отдела «Галантерейные товары» «барака Б». Бόльшую часть времени они заняты своей работой, и у них есть крыша над головой. В бараках, освещенных только продолговатыми окнами в потолке и одним окном в торцевой стене, они не так часто попадают в поле зрения и обстрела. У них есть возможность экономить физические силы.
«Синие» на платформе и «красные» на плацу-раздевалке работают с еще живыми. Постепенно сформировались бригады отпетых парней. Только те, кто принимает слишком близко к сердцу различные сцены, случающиеся при раздевании, особенно с женщинами, не выдерживают. У остальных рабов, как, впрочем, и у господ, «синие» вызывают (хотя и по-разному) определенную признательность: у эсэсовцев потому, что все проходит гладко, а у нас потому, что если никто из них не сломается, то никого из нас не отправят к ним.
Однажды — говорят, это было незадолго до того, как мы приехали в Треблинку, — один из узников кинулся с ножом на эсэсовца. В честь заколотого эсэсовца жилой барак украинских охранников назвали «казармой имени Макса Биала». По рассказам, он был еще хуже, чем Легавый-Кюттнер и Франц-Лялька. Того, кто его заколол, звали Берлинер или как-то похоже. Может быть, он нашел в себе мужество и силы потому, что недавно вернулся на родину, в Польшу, из-за границы, где прожил много лет. Ему досталась еще легкая смерть: его прикончили на месте.
С тех пор как эшелоны стали прибывать реже, «синие» и «красные» превратились в многоцелевые бригады. Они вместе подготавливают «вокзальную площадь», их тоже выгоняют работать на сортировочном плацу и, разумеется, грузить в вагоны отсортированные вещи. Мне кажется, эсэсовцы держат их на более длинном поводке, когда они занимаются работой не по своей основной «специальности».
Звание «придворный еврей» имеет сейчас не то значение, что раньше. Когда лагерь только возник, в период наибольшего произвола, рабов уничтожали ежедневно, ежечасно, а их место занимали новые. Сам Мите ежедневно убивал до восьми человек. Понадобилось ввести какие-то щадящие меры в отношении ремесленников и специалистов, отобранных для плотницких, столярных, слесарных и строительных работ, для сортировки денег, золота и украшений. К этой группе были причислены также все мальчики и женщины, назначенные на чистку и стирку. Их всех надо было как-то обозначить, чтобы их случайно не убили. Так появились желтые нарукавные повязки с надписью «придворный еврей». Через некоторое время запоминались и их лица, просто потому, что «придворные евреи» оставались, а остальные, безликие, приходили и уходили.
Но постепенно стабилизация дала лица и имена и другим, в первую очередь старшим среди капо и бригадиров, потом и еще некоторым «специалистам». Повязка «придворный еврей» стала лишней и даже опасной. Легавый со своим опытом полицейского чувствовал, что нехорошо, когда одни и те же люди долгое время остаются вместе, а кроме того, он был против всех театральных представлений, к которым Франц (Лялька) имел особое пристрастие.
Кроме того, в восприятии тех, кто работал, не разгибая спины, сбивая в кровь руки и ноги, название «придворный еврей» начало приобретать такой же негативный оттенок, как выражение «чистая публика». Поэтому сегодня «придворными евреями» называют всех евреев, работающих в нижней части лагеря, перед жилыми бараками эсэсовцев и охранников, евреев из «гетто», из мастерских, кухни, гаража, а также из «большой кассы».
Здесь есть и такие, кому до сих пор выпадает счастье во время работы соприкасаться с природой, видеть царство смерти с внешней стороны, на время удаляться от трупного запаха, который проникает повсюду: в легкие и в дерево бараков. В те минуты, когда их гонят из лагеря в лес, когда они должны обламывать и собирать сосновые ветви, они могут дышать воздухом жизни. Но в бригаде «маскировка» задерживаются только те, кто в состоянии высоко залезть на ель или сосну и дойти до лагеря с тяжелой связкой веток. Потом они вплетают эти ветки в колючую проволоку и так поддерживают «маскирующую зелень» Треблинки.
Курланд, капо бригады «лазарет», самой малочисленной бригады во всем лагере, — старейший могильщик и по своему возрасту, и по «стажу работы» в Треблинке. Через маленькие круглые стекла в проволочной оправе смотрят глаза, которые, вероятно, многое видели и многое понимают. Нос у него с горбинкой, во рту недостает зубов, щеки ввалились, а лицо словно окрашено темным, обгоревшим песком, перемешанным с пеплом. Висящая на поясе плетка постоянно ему мешает, она все время путается у него в ногах, на которых надеты валенки и брюки из грубой ткани. А так как он к тому же маленького роста, то ее конец волочится за ним по земле. Мне кажется, что шапка на нем — тоже из грубого материала, с козырьком и опускающимися «ушами» — еще из той одежды, в которой он приехал в лагерь. В тех редких случаях, когда он снимает шапку, видны начинающие седеть густые волосы. У него, как у капо, есть привилегия: он не должен сбривать волосы с головы. По ночам капо Курланд находится вместе с нами, рабочими евреями, в бараке в «гетто», а днем — в маленькой комнате в «лазарете», конечно, если нет новых эшелонов. Говорят, эсэсовцы заглядывают туда, чтобы поболтать. Я никогда не видел, чтобы они подняли на него руку. Никто из драчунов в очереди перед кухней во время раздачи еды ни разу даже случайно не толкнул его. Они даже уступают ему место. Он и два его помощника, тоже уже в возрасте, работают исключительно с огнем и смертью. И исходящий от них сильный запах отделяет их в этой части лагеря от остальных — совсем мелких, по сравнению с ними, могильщиков. Капо в «лазарете» Курланд стал, наверно, потому только, что при отборе людей с одного из первых эшелонов на вопрос эсэсовца, кем он был там, в жизни, ответил, что был фельдшером.
Староста лагеря Галевский раньше был инженером. Здесь он — аристократ, спикер рабов Треблинки. Вероятно, ему уже около сорока, он немного сутулится, как это часто бывает с людьми высокого роста. Черные, седые на висках волосы, гладко зачесанные назад, делают лицо еще уже. Со своим, скорее по-аристократически, чем по-еврейски загнутым носом и маленькими черными усиками, он у СС считается достойной фигурой. Ведь на должность старосты лагеря им не мог подойти крикун и горлопан Раковский с большим бабьим лицом, или какой-нибудь талмудист, или вор с варшавского дна. Им нужен был человек, глядя на которого они бы не испытывали желания тут же его прибить. Галевский хорошо понимает, что выпало на долю тех, кого отобрали на работу в Треблинке. Перед эсэсовцами он с правильной выправкой и без лести щелкает каблуками своих начищенных до блеска сапог и говорит на вполне сносном немецком. С нами он также вежливо сдержан; когда он приказывает, скорее просит, сделать что-либо, то всегда на польском. Идиш он понимает, но разговаривать на нем не может. Он выходит из себя, только когда видит бессовестный обман, например, при распределении еды или когда не хватает воды.
Как человек в Треблинке понимает, что он уже что-то значит, что у него уже есть лицо и имя? Просто потому, что вечером он легко может пройти в мастерскую, лучше всего в швейную, где собирается «общество». Не все могут пройти сюда в свободное время, до девяти часов, чтобы немного поиграть в жизнь. Перед дверью собирается толпа, ругательства и проклятья переходят в драку, в которой все проигрывают — даже те, кто разнимает дерущихся. А внутри — беседы и даже натопленная печь, это сейчас, в начале зимы. Маленький Эдек играет на гармони, рыжий Шерманн — на скрипке, Сальве поет. Остальные стоят вокруг рабочих столов. Иногда заходит кто-нибудь из женщин. Из разговоров явствует, что некоторым удается несмотря ни на что удовлетворить какие-то свои желания. Исходя из своих ощущений, я не могу этому поверить. Ведь чувства здесь сгорают быстрее, чем сжигают само тело. И вообще, где они могли бы это делать, если женщины живут совершенно отдельно от нас и если везде, куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был, ты всего лишь часть копошащегося муравейника. Треблинка не знает ни тишины, ни одиночества — ни для кого из нас.
ЧТО-ТО МАЛЕНЬКОЕ, ЧТО МОЖНО СПРЯТАТЬ В КАРМАН
Еще до того, как я продвинулся на несколько метров в длинной очереди перед кухней, наступила ночь — бесснежная, морозная, звездная. Матово светятся высокие четырехугольники дверей кухни и бараков, над входом в «гетто» — резкий свет прожектора, сквозь деревья мерцают лампы над бараками эсэсовцев. Когда я оглядываюсь, то вижу, как у меня за спиной над «лагерем смерти» темно-багровое сияние переливается в морозной вышине никогда раньше невиданным спектром красок: оранжевым, желтоватым, темно-фиолетовым, фиолетово-зеленым.
В надтреснутой миске примерно пол-литра мутноватой жидкости, в которой плавают две картофелины в мундире и немного картофельных очисток. Миска обжигает пальцы. Я иду осторожно, стараясь избежать толчков. О господи, только бы у меня не выбили из рук миску. Она сейчас — все мое достояние, только бы донести ее и поставить на нары, она — моя жизнь…
Подготовка ко сну — это и тщетная попытка избавиться от вшей. Чем больше мы на себя надеваем, чтобы защититься от зимних морозов, тем больше на нас заводится вшей. Чем меньше мы на себя натягиваем, тем сильнее кусается мороз.
Роберт, уже переодевшийся на ночь, подпрыгивает на нарах. Прямо на тело, под толстым свитером, у него надета длинная женская ночная сорочка из шелка: на шелке вшам труднее удержаться. Обритую наголо голову согревает ночной колпак — обрезанный и завязанный сверху узлом женский чулок. Пока мы одеваемся примерно также, Роберт распыляет из пульверизатора для духов что-то вроде дезинфицирующей жидкости. Какая-то кокетка прихватила с собой этот сосуд из шлифованного стекла. А может, и прежний владелец уже применял его не по назначению, а точно так же, как Роберт.
— Смирно! — раздается от двери барака.
На верхних и нижних нарах мы подскакиваем, выпрямляемся по стойке «смирно» и отдаем «честь» заглядывающим эсэсовцам и охранникам — в ниспадающих длинных рубашках из розовой, голубой, желтой фланели в цветочек, в шерстяных дамских комбинациях, в облегающих кальсонах, в ночных колпаках и напульсниках — призраки, шуты ряженые, пугала огородные.
После парада мы заворачиваемся в одеяла и при этом ведем шепотом дебаты относительно Кубы, старосты нашего барака, который с некоторых пор никому не нравится. Последнее слово остается за Гансом:
— Мне достаточно того, что я вижу, как этот парень каждый вечер прежде чем лечь, что-то жует. Если в такое голодное время человек жует больше других, ему нельзя доверять.
Утром мы поднимаемся во влажном тумане, насыщенном дыханием и испарениями 350 человек. Влага оседает на стенах и голом полу. Одеяла и одежда — все клейкое и мокрое. Наверху на балках висят крупные капли, они отрываются и падают на нары. Когда открывается дверь барака, облака пара вырываются в морозное серое утро.
— Эй, курва мать твоя, сукин сын, — ругают кого-то, кто, заправляя постель, встряхнул одеяло с верхних нар прямо в лицо соседу.
— Ах ты, холера ясна, — это кто-то, надевая сапоги, теряет равновесие, падает и увлекает за собой еще двоих.
— Генек, проше тебе — я тебя умоляю, встань, ты должен, соберись! — подбадривает кто-то своего товарища. — Ка койах — у меня нет больше сил, — ответ на идише теряется в гуле остальных голосов.
— Ты, свинья, — возмущается Руди, который висит, ухватившись руками за балку, над нарами. — Тебе обязательно на парашу, когда дерьма уже и так через край? Так ведь можно…
Но тут его перебивают:
— Ого, Рудек! И что же может случиться тут, в Треблинке? ― руки взлетают вверх, брюки падают вниз, и вид еще нескольких оголенных задов вызывает новый взрыв безумного хохота.
— Ты хранил меня в течение прошедшей ночи, Всемогущий, и сделал так, что я увидел свет следующего дня, да будет благословенно имя Твое, — для утренней молитвы он обвязал ремешки тфилина вокруг руки и головы, которой он ритмично бьется о нары как раз под моими ногами.
Может быть, это один из здешних «святых мужей», которые начали верить, что Гитлер — избавитель от грехов, мессия, который соберет всех евреев в одно место — в Треблинку?
Киве в длинной военной шинели с большим меховым воротником объявляет на утренней перекличке, от его дыхания поднимается облачко пара:
— Сегодня прибывает эшелон. Все с эшелона — все продукты — перенести на склад. И вот что я вам скажу, — его голос переходит в пронзительный крик, — кто возьмет себе что-нибудь из продуктов и вообще, кто спекулирует, тому придется плохо!
«Спекулировать, спекуляция» — эти слова употребляются здесь так же часто, как «лазарет» и «душ». Они пришли снаружи, из жизни, и исказились здесь, как всё в Треблинке. «Спекулировать» означает взять тайком, урвать, стащить, «контрабандой» пронести в барак еду, одежду, деньги, золото — для группы, или для собственных нужд, или для обмена. Сейчас, в голодные времена, маленький завскладом Веник, который не имеет доступа наверх на сортировку, дает за пару сапог полный горшок крупы со склада. Ребята из столярной мастерской тайком варят ее и получают за это половину порции. За ловко вложенную в руку пачку банкнот «добрый пан охранник» также незаметно даст кусок белого хлеба, немного колбасы, бутылочку водки и несколько махорочных сигарет — все это будет завернуто в коричневую бумагу. Каждый должен спекулировать, чтобы продержаться.
Хотя снега совсем не было, весь сортировочный плац сегодня утром совершенно белый. Иней покрыл крыши бараков и осыпал, словно сахарной пудрой, зеленое ограждение, которое окружает весь лагерь и делит его внутри на различные отсеки, вроде больших загонов на бойне. Пока мы промаршировали наверх до «барака А», на усах у Цело появились белые льдинки. Термометр у входа показывает 31 градус Цельсия ниже нуля.
После протяжного свистка слышно, как въезжают вагоны — с еще большим скрипом, чем обычно. Каждый из нас почти уверен, что ни один эсэсовец не заглянет в барак. При прибытии эшелонов большинство из них — на платформе и на плацу-раздевалке, где они наблюдают, как идет дело. Я залезаю наверх на сложенные тюки с отсортированными пальто, совсем высоко, до дощатой стены, которая отделяет нас от перрона. Карл тем временем стоит внизу на стрёме. Через щель мне видно запертый вагон для скота, покрытый ледяной коркой. В маленькое зарешеченное окно выглядывают несколько пар глаз.
Один из «синих» начинает трясти железный засов задвигающейся двери. Но он не может сдвинуть его с места. Ругань, несколько раз на его голову со свистом опускается плетка — я вижу только две руки в форме. «Синий» исчезает и появляется снова с молотком. Он бьет снизу по примерзшему крюку, в то время как плётка бьет по нему. Это все выглядит, как какой-то странный механизм, который преобразует каждый удар плетки в удар молотка. Наконец запор поддается, но заело дверь, ее никак не могут сдвинуть. Еще один «синий» прибегает с чем-то напоминающим кувалду. Снова в одном такте с плеткой он до тех пор бьет по раме двери, пока дверь не сдвигается с места, вначале немного, потом больше. Из черного отверстия вываливается невообразимое количество людей. Через мгновение на перроне мечутся люди с рюкзаками, мешками, связанными одеялами, кастрюли катятся по блестящему, покрытому льдом перрону.
Одна женщина и двое мужчин лежат прямо перед дверью. Не похоже, чтобы они были совсем мертвые, но на них уже падают другие, а о тех спотыкаются следующие. Сверху скатываются мешки, какая-то старуха валится лицом на пол, не может подняться, только несколько раз приподнимает голову. Когда кто-то спотыкается об нее, задирается юбка. Она вся покрыта испражнениями, наверное, у нее дизентерия — я уже видел такое.
Мальчик лет двенадцати останавливается около двери, глаза его выглядывают из-под кепки, наползающей на уши. Что-то тянет его вниз на землю, а когда он сваливается вниз, край его длинного пальто защемляет между дверью и стеной вагона. Мальчик исчезает — проваливается в узкую щель между перроном и вагоном. Виден только кусочек зацепившегося пальто, натянутый весом ребенка, оказавшегося где-то под платформой.
Из вагона с трудом выходит крупный молодой мужчина, за ним — женщина. Голова мужчины не покрыта, длинные волосы всклокочены, на лице — черная щетина, длинное пальто болтается на нем, как на вешалке, все пуговицы оторваны. Под ухом — темное пятно запекшейся крови, на ногах — рваные серые валенки, в каждой руке по узлу. К несчастью, женщина сзади него наступает на голову одного из упавших, теряет равновесие и в поисках опоры выбивает из рук мужа узел. Тот развязывается, из него вываливается жалкий скарб — картошка, горшочек с маленьким кусочком маргарина, свернутое белье, грязные полотняные мешочки, сморщенные, полупустые, наверное, с едой. Мужчина оборачивается, хватает женщину за руку, поднимает. Но в ту же минуту он сам сгибается под ударами плетки Легавого: они двигаются недостаточно быстро. Второй узел тоже падает на землю. Лицо мужчины перепачкано кровью, но она не стекает, а из-за мороза застывает темно-красными полосами и сгустками. Он пытается своим телом загородить от ударов жену, не хочет ее отпустить. Вот он выпрямляется, словно для сопротивления. Тут уж Легавый от ярости закипает. С другой стороны, на помощь подскакивает Зепп-Хиртрайтер и наносит два удара убийственной силы. Все исчезают из моего поля зрения.
У мужчины были желтые звезды на пальто спереди слева и на спине. Значит, это эшелон из оккупированной области Советского Союза. Там так метят евреев. Евреи из Польши носят белые нарукавные повязки с синей звездой Давида. У евреев, прибывающих с эшелонами из Терезина, на левой стороне груди знакомые желтые звезды с надписью «Jude» — так метят евреев в Европе.
Суета и крики на платформе затихают. Последние люди, пошатываясь, выходят из вагонов и с жадностью дышат. Ни одного чемодана или настоящего рюкзака, только ранцы, узлы и мешки с привязанными веревками, чтобы можно было нести на спине. Уже по одному этому я вижу, что эшелон — бедный и пришел откуда-то с востока.
— Давай быстро вниз, — шепчет мне Давид Брат, который смотрит в щель рядом со мной, — сейчас они погонят нас очищать перрон, а в этом поезде в каждом вагоне наверняка остались горы…
Сигналы, предупреждающие об опасности, передаются по бараку, от бокса к боксу.
Вначале нужно вытащить из каждого вагона мертвых и тех, кто не может двигаться. Я натягиваю шапку на уши, бегу к первому вагону и хватаю две ноги, я тяну, но ничего не получается. На тело, которому принадлежат эти две ноги, навалены еще и другие тела. Я хватаюсь за две тощие женские ноги. Грубые чулки хрустят под моими руками. Наверно, они не раз промокали. Снова в вагон. Теперь сверху лежит мертвец с перерезанным горлом, голова висит где-то сзади. Это работа тех украинских ребят, которые сопровождали эшелон от восточных гетто. Лучше попробую потянуть другую свободную руку, но тут же отпускаю ее. Я чувствую, если ухвачусь как следует и потяну, рука сломается. Нет, уж лучше тот с перерезанной глоткой. В этот момент у двери останавливается Бёлитц в меховой шапке вместо пилотки и заглядывает в вагон.
Наконец вагоны пусты. Теперь — быстро за одеяла, на которых мы уносим мертвых с перрона в «лазарет». Карл, Давид Брат, Люблинк и я вместе тащим одно одеяло, каждый держит свой угол. Как они хорошо лежат, аккуратно разложенные вдоль всего перрона, ногами к стене барака, головами — к вагонам. Теперь они выглядят уже не так ужасно. Они — просто предметы, вот и хватай их как предметы. Если ты будешь рассматривать каждого, это плохо для тебя кончится. Нет, вообще не смотреть не получается — застывшие глаза, я все время застреваю на них, не могу смотреть мимо, они меня все время ловят, повсюду несчетное количество глаз, все неподвижно направлены на меня, они становятся все больше и больше, вот они уже закрывают лоб, все лицо, кажется, что челюсти начинаются сразу под глазами… Стоп, так нельзя. Ну, хорошо, смотри, смотри внимательно, словно все это очень интересно, словно ты их изучаешь, каждого в отдельности. А сколько, собственно, существует типов мертвецов? Есть желтые, как воск, есть истощенные, есть опухшие и невероятно тяжелые, с маленькими фиолетово-черными дырочками от пуль и неожиданно разноцветными пятнами от колотых ран. Это интересно, захватывающе, необыкновенно интересно…
Сколько раз я уже пробежал с грузом в «лазарет» и обратно на перрон? Теперь на очереди какой-то старик, одетый только в длинную рубашку, кучка костей, обтянутых кожей, на коже огромные белые пятна. Я легко охватываю его лодыжки пальцами. Когда мы его поднимаем, начинает шевелиться что-то рядом с нами. Женщина, средних лет, с трудом садится. Распущенные волосы торчат, как пакля, все лицо испачкано грязью, покрыто какими-то пятнами. Но страшнее всего выражение ее лица…
— Сумасшедшая, — слышу я осевший голос Люблинка.
Мы поднимаем одеяло с мертвым стариком. Он легкий, как пушинка. Женщина снова падает на спину. На ее ногах лежат узлы. Снизу слышен мощный голос капо Раковского:
— Побыстрее с мертвыми, быстрей, бегом…
Вот лежит горшочек, в нем немного сала или чего-то похожего. Несколько человек с одеялами пробегает мимо — и вот уже он исчез во всеобщей суматохе.
Мы прибегаем в «лазарет». Старик в рубашке, описывая большую дугу, летит вверх, падает в яму и исчезает в языках пламени, концы которого на морозном воздухе окрашиваются в зеленый и фиолетовый цвет. Наверху над костром топчется, чтобы согреться, на блестящем от инея валу охранник в длинной, по щиколотку, коричневой шубе с бахромой. Когда мы поворачиваем назад, следующие уже раскачивают свою ношу на одеяле:
— И — рраз!
Тело с длинными волосами взлетает на воздух — это та сумасшедшая из вагона. Давид Брат делает шаг вперед, в правой руке он все еще держит свой угол одеяла, протягивает левую, и его выступающие вперед зубы выступают еще больше:
— Нет, она не…
Над всеобщим шумом раздается жуткий вой. В огне она приподнимается…
— Чего вы тут кричите и бездельничаете, пошли отсюда! — Мите резко оборачивается и смотрит на нас, ноги расставлены, фуражка сбита далеко на затылок, обычно бледное лицо налилось красным, словно сварилось, но глаза, как всегда, стеклянные.
— Ты видел мальчишку с распухшим животом и лицом? — спрашивает, тяжело дыша, Давид Брат, когда мы снова оказываемся в бараке. — Знаешь, от чего это? Нет? Это от голода, такая стадия голода. У нас эшелоны из гетто вначале загоняют в карантин — по крайней мере, они это так называют — и уже там многих расстреливают. Наверное, там-то мальчонка и лишился родителей. А кто же станет заботиться о чужом ребенке, когда у человека нет больше сил заботиться даже о своих близких?
Давид своими костистыми пальцами хватает меня за плечо, и над его большими зубами появляется терпеливо-печальная улыбка:
— Рихард, ингеле, ты не знаешь, да никто из вас не знает… С вами, из Терезина, до Треблинки обходились, как с господами. Вы приехали в пассажирских поездах. А у нас Треблинка начинается уже в гетто. И почти все как-нибудь да помогают ликвидировать евреев. Или по меньшей мере согласно кивают головами…
Маленький Авраам приносит с улицы охапку женских пальто для сортировки, что-то слишком рано. Ганс выпрямляется и спрашивает, уже догадываясь:
— Эй, чего это ты так торопишься? А ну, что у тебя там под пальто? — ногой он расшвыривает пальто по полу, пока не натыкается на то, о чем догадывался. — Авраам, дружище, ты — скотина. Мог бы, по крайней мере, подождать, пока хозяин мешка умрет!
Авраам уже стоит на коленях, согнувшись над мешком, он уже залез в него руками. Со стороны кажется, что он роется в сваленных на полу пальто. При этом он озирается по сторонам, как и Ганс, на которого он временами смотрит, и отвечает ему отрывисто, немного виновато, как бы извиняясь:
— Не все ли равно, Ганс, сейчас или потом. Я тоже мертв, еще больше, чем хозяин этого мешка.
Ганс держится рукой за перекладину и просовывает голову в наш бокс:
— Если я его сейчас стукну, то сам не буду уверен, из-за мертвеца или того куска сала, что он нашел.
С другого конца барака Цело гонит перед собой кого-то с такой же подозрительной охапкой вещей в руках. В первый раз мы видим, чтобы Цело ударил человека плеткой. Легаш, появившийся в глубине барака у входа, видит только, как эти двое проходят мимо нашего бокса и заворачивают к выходу, и в восторге орет:
— Да-а, Цело, вот так! Правильно! Дай ему! Дай как следует!
Цело возвращается и останавливается у нашего бокса, по его лицу текут слезы, может быть, от мороза, а может быть, от стыда и ярости.
— У одного из последних он вырвал прямо из рук…
Из бокса напротив к нам подходит приятель Давида Люблинк, у него смуглое лицо, он угловат, немного сгорблен от непосильного труда.
— Ну, про этого парня я ничего не знаю, наверное, свинья. Но вон тот мальчишка из бокса мужских брюк, — он показывает рукой и приподымает кустистые брови, — того я знаю хорошо. Он наш, и я знаю, что дома он никогда не видел столько еды, что там, в жизни, он никогда так не наедался, как здесь, в Треблинке. И не то чтобы семья была такая бедная, но его тату все время копил, экономил, чтобы эмигрировать, в Америку или в Палестину — лишь бы уехать из Польши. На все, что ему удавалось накопить, он покупал доллары, бриллианты…
Снова свистки и скрежет вагонов на перроне. Сортируют вновь прибывших. Когда я оттаскиваю последние узлы, вынесенные из вагона, неожиданно на перроне снова появляются Бёлитц, Бредо и другие:
— Капо бригады «красных», вот, возьми еще этих людей на подмогу, пусть унесут одежду и весь этот хлам…
Я уже понимаю, о чем идет речь. Мы должны унести снятую одежду оттуда, с плаца, где раздевают мужчин, и из барака, где раздеваются женщины. Там много всего валяется. В одиночку «красные» не справятся с этим достаточно быстро.
Нас гонят прямо в тот барак. Обычно я всегда вижу поверх куч одежды еще несколько голых спин, двигающихся в направлении «парикмахерской». Но сегодня барак еще полон. Почти вдоль всей длинной стены стоят, тесно прижавшись друг к другу, голые тела — огромная картина, фреска из сплошных обнаженных спин, животов, руки прикрывают грудь, волосы распущены. У противоположной стены сложены большие и маленькие стопки одежды. Запах тел заполняет нос, рот, от него щиплет глаза. В общем шуме в уши сильнее всего врезается плач детей.
— Эй, ты! — один из «красных», прошедших уже огонь и воду, вырывает меня из парализующего изумления и показывает, откуда начинать.
Когда я медленно наклоняюсь к одежде, все еще глядя вперед, он подмигивает мне, сгибается и кричит мне в ухо по-польски, медленно и четко, чтобы я понял
— Ну что, сбылась твоя мечта из прошлой жизни, увидеть сразу такую толпу голых баб? Рушай ще, язда — поехали, двигайся, быстрее, быстрее!
Еще шесть раз перрон наполняется людьми, и после ухода тех, кто может держаться на ногах, я вижу одно и то же: лохмотья, скелеты, обтянутые кожей, мертвые и умирающие. К вечеру весь эшелон обработан — больше пяти тысяч человек.
Нет смысла сортировать пальто по качеству после таких нищих эшелонов. Поэтому мы, обе рабочие группы «Мужские пальто» ― I и II сорта, вместе обрабатываем все, что попадает нам в руки. Я осторожно снимаю еврейскую звезду и, обыскав, откладываю в сторону короткое зимнее пальто, какие здесь называют курткой. Белые шнурочки едва заметно движутся в бороздках стеганой ватной подкладки. Это — ряды медленно ползущих вшей.
Виллингер, только кажущийся беспомощным, берет куртку в руки, ощупывает ее, подпарывает плечо и находит за стеганой подкладкой пять двадцатидолларовых бумажек. Кроме того, что при подобных операциях совершенно необходима его физическая сила, у Виллингера при всей его простоте есть еще одно качество, то, что называют «еврейским носом». Его нос над маленькими усами очень тонкий. Но я имею в виду очень тонкое чутье Виллингера. Он останавливает свой взгляд на паре детских ботинок. Что-то словно подталкивает его, вот он уже хватает ботинок, отрывает каблук — там золотая двадцатидолларовая монета. Потом его маленькие шныряющие во все стороны глаза останавливаются на женском поясе, грязном и потертом, который никого из нас не заинтересовал. Он начинает ощупывать пояс своими толстыми пальцами, разрывает его и находит несколько монет — золотые пяти- и десятирублевки. Виллингер чувствует вокруг себя восхищение, он кажется себе очень важным, больше всего ему хотелось бы самому все прощупать и рассортировать. Теперь он демонстрирует и свою физическую силу:
— Нет-нет, я сам.
Он снимает у меня с плеча тюк отсортированных пальто и одной рукой зашвыривает его наверх большой кучи в боксе.
— Хлопцы, поберегите свои силы, — он смотрит на меня и Карла. — Они еще вам понадобятся, вы того стоите…
Вначале я застываю, потом чуть не кричу от стыда. Этот огромный мужик откуда-то из Ченстохова считает нас ценнее себя — вроде детей, которых надо спасти, мы — то, что должно сохраниться от рода…
Тем временем Виллингер уже снова выудил из подкладки пальто что-то блестящее. Он тайком показывает нам свою находку и торопливо объясняет:
— Может потянуть на шесть каратов, Кароль.
Виллингер как-то нежно наклоняется к Карлу:
— Зачем дом? Зачем поместье? Нам надо такое, что можно быстро взять с собой. Что-то маленькое, что можно спрятать в карман!
ТИФ ПРОТИВ АКЦИИ «Х»
После эшелонов с востока, кажется, из Гродно, а может быть, из Белостока, на платформе снова надолго устанавливается тишина. Мороз слабеет, голод крепчает, и вши заражают всю Треблинку.
Приходит Цело, чтобы осмотреть тайник, который мы устроили в нашем боксе из отсортированных пальто. Из средней стопки мы вынули несколько тюков, так что возникло глубокое отверстие, окруженное со всех сторон другими тюками. Сверху это углубление тоже прикрыто узлами.
— Так, туда поместятся три, а то и четыре человека, — говорит Карл. — А если будет погрузка или что-то еще непредвиденное, мы моментально засыплем его тюками.
В последнее время мы ненадолго прячем в этом тайнике тех, у кого появилась странная лихорадка. Но вскоре он должен будет выполнить свою главную задачу в нашем большом плане. Все, больше никаких одиночных попыток побега, никаких «десятерых расстрелянных за одного бежавшего», как обещал Лялька, — мы все, все сразу…
На зиму работа большей частью была перенесена в бараки. И хотя обходы эсэсовцев были нерегулярны, мы заметили, что они, разделившись на группы, обходят бараки наверху на сортировочном плацу и мастерские внизу через определенные промежутки времени.
Кажется, самое подходящее время — между тремя и четырьмя часами пополудни, когда они сменяются, по нашему предположению, чтобы попить кофе.
— И вот в этот час «Х» в каждом бараке у двери станут надежные люди, — объясняет Цело план, который он обсудил со старостой лагеря Галевским, капо Курландом из «лазарета», инженером Зудовичем из строительной команды и еще с кем-то из мастерских. — Войти в барак может всякий, но выйти — ни одна живая душа, кроме связников. Если войдет кто-то в форме, вы сразу натягиваете ему пальто на голову и веревку на шею. Чтоб никаких ножей, никаких ударов, ни капли крови, потому что может прийти несколько человек подряд.
— А что, если ввалятся сразу несколько? — раздается из одного бокса.
— Вы сами знаете, сколь маловероятно, чтобы через один вход вошло сразу шестеро. Но и в этом случае с ними должно произойти то же самое. Мы рассчитываем, что одновременно смогут войти не больше троих. Поэтому у каждого входа будет выставлено по десять человек, а кроме того, будет назначен еще и резерв. Каждого из них берут на себя три человека, в зависимости от того, как они будут входить. Если входят двое и идут рядом друг с другом, то тот, кто выше рангом, достается первой тройке. А у этого входа вы затащите их в тайник между пальто и там прикончите веревкой, которой связывают тюки. Все должно произойти во всех бараках в течение одного часа. Отобрав у них оружие, быстро начинаем штурм комендатуры и оружейного склада, всё поджигаем…
Разговор прерывают вошедшие люди с кухни. Сейчас, зимой, мы работаем без обеденного перерыва. Обед нам приносят в бараки, прямо на рабочее место: ведра, наполненные эрзац-кофе, и хлеб в простыне, уже порезанный на порции. Процессия останавливается у каждого бокса. Глаза отыскивают самый большой кусок хлеба, внимательно следят за руками, распределяющими хлеб. С собственной порции взгляд скользит на порцию соседа, потом на следующую, потом в соседний бокс. Мы сравниваем.
Дебаты относительно акции «Х» продолжаются вечером у Симки в столярной мастерской. Симка сидит, подложив под себя руки, на столярном верстаке и болтает скрещенными ногами. Здесь, в Треблинке, он не промахнулся с профессией. Он — квалифицированный столяр. Вообще меня поражает, как много здесь ремесленников и рабочих. У нас большинство было коммерсантами, страховыми агентами, людьми с высшим образованием, а тут много портных, сапожников, ювелиров. Но есть и банкиры, как, например, Александер, капо бригады «золотых евреев».
— Да что там, все равно умирать — только вначале каждый еще увидит себя голым, висящим вверх ногами головой вниз, — слышу я, когда начинаю снова прислушиваться к разговору.
Продолжая сидеть, Симка немного выпрямляется и выпячивает грудь, непропорционально сильную для его маленькой фигуры. Обритая наголо голова совсем черная из-за густой щетины, лицо с темно-коричневой кожей, низкий лоб с двумя складками и густые черные брови, сходящиеся над курносым носом.
— Я уже решил, что не буду бежать из Треблинки. Я хочу остаться здесь, рядом с моими, отомстить за них и показать миру… — кажется, что Симка говорит это самому себе, пытается убедить себя, что ему больше ничего не остается. — Я не могу отделаться от мысли, что это не то дерево, с которым я работал всю жизнь, что здесь каждый кусок дерева — словно мертвец с той стороны, что я без остановки режу и пилю близких мне мертвых людей…
— В любом случае нам надо точнее знать, что происходит в эсэсовском бараке и комендатуре, — вслух размышляет Цело. — Действительно ли там каждый час раздается телефонный звонок со станции Малкиня и какая там есть телеграфная связь…
— А что будет со «вторым лагерем»? — спрашивает Симка.
— Мы должны разделиться и напасть одновременно на комендатуру и «второй лагерь». Завершить операцию в «первом лагере», а потом напасть на второй. Наше положение наверняка лучше, чем у людей на той стороне! Настроения среди украинцев…
— Про них никогда не знаешь, что они сделают, — замечает Симка. ― Может быть, увидев, что мы напали на СС, они убегут без единого выстрела! Но скорее всего, будут драться как бешеные. Они слишком хорошо понимают, что им нигде не будет лучше, чем в Треблинке. И с подкупом то же самое. Денег, золота, украшений у них полно. Все небось в лесах закопали. Само собой, им всегда будет мало. Да только они возьмут у тебя кучу денег и золота и пообещают что угодно, а потом со спокойной совестью, то есть вообще без всякого зазрения совести, предадут тебя.
В последующие дни сразу после вечерней переклички Цело отправляется к Галевскому и к Курланду, да и у нас все время гости сменяют друг друга. Нужен бензин, а значит — Штанда Лихтблау. Он работает в гараже. Изо всех нас, двадцати чехословацких заключенных, он сделал в Треблинке самую большую «карьеру». В Остраве, в Моравии, он был автомехаником. С ним эсэсовцам особенно повезло. Никто не разбирается в машинах лучше него. Поэтому его шеф, унтершарфюрер Шмидт, никогда не обращается с ним плохо. И вообще у Штанды привилегированное положение. Сейчас у нас на нарах он делает вид, что пришел к Роберту, чтобы взять какую-то мазь, а сам о чем-то сговаривается с Цело. Он немного похож на Симку фигурой, но и только, в остальном он совсем другой. Не так крепко сложен, у него все еще розовые щеки, и он улыбается — не поймешь, радостно или печально. Он кивает Цело и заканчивает разговор:
— Меня не остановит суп из украинской кухни, который они мне дают дополнительно.
Тем временем Роберт уже приготовился распылять свое дезинфицирующее средство и оборачивается к Цело. Тот торопливо кивает и показывает ему жестами, что Карл и Ганс уже спустились с нар и что ему тоже пора вниз, иначе мы не сможем улечься. Но на этот раз Роберт, обычно спокойный, выходит из себя. Он стоит перед нарами, подняв свое детское лицо, и напускается на нас:
— Подождите, вы, идиоты! Не прыскайте мне этой дрянью в лицо! Вы хоть понимаете, что, строго говоря, мы уже как автоматы все делаем сами? Что им даже не надо нас бить? Они нас так выдрессировали, что мы скоро сами будем обрабатывать эшелоны, а им останется только стоять и наблюдать. Да Мите и Ментцу придется еще заглядывать в «лазарет», чтобы потренироваться в точной стрельбе.
На следующий день на перекличке докладывают о двенадцати больных, через день — о шестнадцати, а потом так называемая еврейская амбулатория оказывается полностью забитой людьми с высокой температурой. Наш тайник под сложенными пальто тоже полон — по другой причине, чем мы планировали. В следующие недели, наверное, каждый третий, а потом и каждый второй едва волочит ноги от температуры за сорок — сыпной тиф.
Роберт говорит, есть разные виды сыпного тифа. В Треблинке распространился не самый тяжелый вид сыпняка, но он сопровождается более высокой температурой. Между собой мы не говорим, что у кого-то тиф, мы говорим: у него «треблинка». Непосредственно от больного заразиться нельзя. Болезнь переносят вши. А они появляются там, где грязно, где нельзя как следует выстирать, а лучше всего прокипятить белье.
Болезнь начинается с температуры, которая быстро поднимается выше сорока. Само собой разумеется, каждый заболевший ходит, пока может таскать ноги, старается спрятаться, пока есть силы. Только потом он идет к доктору Рыбаку в амбулаторию. А там никогда нет места. Обычно в амбулатории помещается около двадцати человек. А сейчас туда уже запихнули больше тридцати.
— Приходи через два-три дня, — говорит, как правило, Рыбак.
Это означает, что надо вернуться обратно, к борьбе за жизнь, к игре в прятки, особенно с вездесущим Мите. До каких пор? Пока не освободится место, пока Рыбак не выпустит кого-то из амбулатории или Мите не прикажет отнести больного в «лазарет». И тогда, если «кандидат» не обессилеет или если его не прикончат прямо на месте, иначе говоря, если за него есть кому походатайствовать, если его сочтут полезным для «общего дела», то он, наконец, попадет в амбулаторию. Там он будет лежать в невообразимой грязи и думать только о Мите. Ангел смерти приходит каждый день, иногда вместе с Легавым. Рыбак должен докладывать им о тяжелых случаях. Амбулатория вроде сосуда, который не должен переполняться. Тем, кто считается безнадежными, вводят какой-то наркотик и уносят в «лазарет». Как ни странно, здесь все еще есть найденные в эшелонах медикаменты, которые доктору Рыбаку разрешили сохранить или достались благодаря «спекуляции». Кроме «уколов для лазарета», которые делают безнадежным, Рыбак делает «подающим надежды» какие-то укрепляющие уколы. Но когда Рыбак в испачканном халате залезает на нары со шприцем в руке, никто не верит, что это не «лазаретный укол».
Критические дни в болезни — восьмой и девятый. Легче всего переносят болезнь худощавые, подвижные люди, тяжелее всего — крупные, полнокровные. По словам Роберта, который работает в амбулатории помощником Рыбака, самые частые осложнения — воспаление легких, менингит и просто помешательство.
Когда в конце февраля-начале марта дни делаются длиннее, обед снова начинают выдавать внизу, на кухне. Мы пользуемся коротким обеденным перерывом, чтобы навестить кое-кого в амбулатории. Амбулатория имеет в ширину метров пять и находится между еврейской кухней и жилым бараком. У нее общий вход с этим бараком. Вход в саму амбулаторию — это просто занавеска из одеял. Сбоку перед маленьким окошком стоит стол с медицинскими инструментами, а позади него — ниша, обшитая неструганными досками. В нише стоит диван, из которого вылезает конский волос, у стен — полки. Это — приемная. А над ней, вроде курятника, комната, в которой живет доктор Рыбак. Ниша покрыта досками, которые являются одновременно потолком кабинета врача и полом его комнаты. Столярам пришлось сколотить приставную лестницу, чтобы господин доктор мог залезать на насест в свою постель.
От окна в глубину амбулатории ведет узкий проход между двумя рядами двухэтажных нар. Испарения температурящих больных, «ароматы» из расположенной рядом кухни и гнилостный запах древесины ложатся мне на лицо и грудь. Крошечное оконце дает так мало света, что едва можно различить пятна от еды, от рвоты, кровавые полоски от раздавленных блох и вшей на одеялах, которые когда-то были красными, желтыми, зелеными.
Бородатые, скорбные лица, полуоткрытые рты с потрескавшимися губами, выступающие скулы, широко раскрытые глаза с неестественным блеском, неразборчивые слова и вскрики — это рабочее место доктора Рыбака. Здесь он работает каждый день и — в отличие от нас — каждую ночь тоже. А когда кто-нибудь на собственных ногах покидает амбулаторию и протягивает ему руку, чтобы поблагодарить, Рыбак, врач из Варшавы, проучившийся даже несколько семестров в Пражском университете, обычно говорит:
— Тебе надо бы не благодарить меня, а проклинать. Я ведь не жизнь тебе возвращаю, я посылаю тебя обратно ко всем мучениям Треблинки.
Когда мы попали в Треблинку, Ойген Бак, Эйфелева Башня, был, без сомнения, самым крупным среди всех. В нем было два метра росту. Мы казались себе карликами, когда он маршировал с нами в одном ряду; голову он держал всегда немного набок, лицо у него было продолговатое, веснушчатое.
— Безнадежен, — сказал Рыбак, как только мы вошли.
Он провел рукой по прямым черным волосам, которые ему разрешили не стричь, и его широкое лицо стало еще шире.
После обеда у Ойгена начались приступы помешательства. Он разорвал ремни, которыми «красные» (их пришлось звать на помощь) привязали его к кровати. Потом, после «лазаретного укола», он лежал уже неподвижно.
Через открытый вход на нижнем конце «барака А», как раз напротив нашего бокса, видна та часть сортировочного плаца, которая ведет к «лазарету», — словно фотография диковинной декорации в рамке. В тот вечер «красные» с носилками восемь раз пересекли «сцену». И все время за ними шел своей покачивающейся походкой Мите. Франц-Лялька и Бредо просто стояли на плацу, постукивая хлыстом по голенищу и провожая идущих взглядами. Каждый раз после звука выстрела процессия возвращалась уже с пустыми носилками. А одно тело под одеялами оказалось длиннее носилок. Голова была неприкрыта, подбородок задран вверх.
Мы ждем, пока раздастся выстрел, потом Ганс берется за следующее пальто.
— Значит, он уже не вернется в свой Пышели под Прагой, а как он об этом мечтал. Так и проходил все время в тех же ботинках, в которых приехал, они уже давно порвались, да но он не мог найти себе подходящей пары — у него был сорок шестой размер, а сюда не привезли ни одного еврея с сорок шестым размером.
Легавый так неожиданно и яростно врывается в рабочий барак, что предупредительные сигналы не поспевают. Он засек одного из наших, который, обессилев от температуры, облокотился на стопку узлов. Легавый плеткой в кровь разбивает провинившемуся лицо, а потом несется через весь барак, раздавая удары направо и налево, и вот я уже слышу, как в другом конце барака он напускается на Цело: весь «барак А» лентяйничает, лучшие работники стали симулянтами и лодырями. Он вылетает с угрозой: — Я вам покажу!
После вечерней переклички, когда Легаш, выслушав доклады, закрывает свой журнал, раздается команда:
— «Первый лагерь», разойтись, кроме «барака А»! За неслыханную лень и небрежное отношение к работе весь «барак А» будет наказан! Дополнительная строевая подготовка! — Легаш выплевывает каждое слово по отдельности. — На этот раз бригадиры и капо свободны. Я сам. Вольно, равняйсь, стройся по трое, бегом — марш!
Карл, рыжий Йося и я бежим в первой тройке. Никто не хотел бежать в первом ряду. А теперь выясняется, что в этом есть свои преимущества. При командах «лечь — встать», которыми Легаш прерывает бег, перед нами есть свободное место. Бегущие сзади мешают друг другу, падают на ноги переднего ряда, не могут достаточно быстро встать, и удары плетки снова бросают их на землю.
Новая забава привлекает других эсэсовцев. Спустя короткое время темп задают только плетки, которые гонят нас по аппельплацу. На углу плаца стоит Лялька и следит за происходящим, не вмешиваясь — возможно, от огорчения, что не он сам, обершарфюрер Курт Франц, является режиссером этого спектакля. Там, в нормальной жизни, все это было бы обычным упражнением для спортсменов и солдат. Здесь, в Треблинке, для нас, больных «треблинкой», это бег наперегонки со смертью.
— Кто снимет что-нибудь из одежды — в расход вне очереди! Держать дистанцию! Держи дистанцию, ты, собака! — и уже слышен чавкающий удар плеткой. Эсэсовцев, немцев с военной выучкой, эта неспособность к упорядоченному, дисциплинированному движению доводит прямо-таки до исступления. Ведь это выглядит так, словно вот этот Мойша, откуда-то из Рембертова, который неуклюже подпрыгивает, вместо того чтобы бежать как положено, издевается над ними.
На повороте я вижу весь плац. Только несколько рядов бегут относительно стройно. Те, у кого оказалось больше сил, попали из задних рядов в передние, заняв место тех, кто отстал и сошел с дистанции. Шестеро стоят в стороне, бессильно привалившись к стене барака. Среди них — 16-летний Ганс Бург. Вчера его выпустили из амбулатории после самых тяжелых дней в ходе болезни. Кровавую пену из полуоткрытого рта смывает кровь, которая течет из носа. Все остальные лица похожи друг на друга — из красно-черной мешанины, из крови и шлака, которым покрыт плац, смотрят затравленные глаза. А дикая охота уже в полном разгаре. Эсэсовцы выбирают себе жертву, гонят ее плеткой по плацу и ставят рядом с остальными у стены барака. Около них, затравленных и избитых, стоит Мите. Он их «принимает», теперь они принадлежат ему, ангелу смерти. Кукла-Франц тоже оказывается там и немного помогает. Совсем устоять он все-таки не смог.
Вот, значит, что они с нами сделают. Они нас просеют постепенно по одному, чтобы мы не впали в панику, чтобы у каждого оставалась надежда, что он окажется среди тех, кто выживет. Да еще и настроят людей против бригадиров.
— Стой! Сомкнуть ряды! Равняйсь! С сегодняшнего дня это будет новым наказанием для лентяев и симулянтов! Разойтись по баракам! Без ужина! — заканчивает Кюттнер наши мучения.
На нарах, прижавшись к маленькому зарешеченному окну, мы еще видим, как их уводят. Ганс Бург — самый молодой из нашей чешской группы…
И еще один, скорее мальчик, чем юноша. Его фамилию, Майер, Легавый установил на основании записки, которую с некоторых пор каждый сортировщик должен вкладывать в тюк с переработанной одеждой. Потом, когда вещи погружают в вагоны, чтобы увезти, эти записки вынимают. При одной из выборочных проб Легаш попадает в десятку. На ветхом женском пальто второго сорта, которое он приказал принести на середину сортировочного плаца и там поднять, как знамя, сияет желтая звезда. Которую нужно было снять. Она — словно знак судьбы, который женщина из пятитысячного эшелона из Гродно передала этому мальчику из Варшавы.
Челку с его светлой, по-мальчишечьи постриженной головы они уничтожили сразу, а теперь они уничтожат и всю его шестнадцатилетнюю жизнь.
— В назидание всем он будет расстрелян на месте у вас на глазах, — объявляет Легаш об этом новом штрафе, после того как всех нас выстроили полукругом лицом к песчаному валу, отделяющему нас от «второго лагеря». — Так, раздеться, — говорит он тихо, но достаточно громко, чтобы мы все слышали.
Теперь смотри хорошенько, сейчас ты увидишь, совсем близко, со всеми подробностями, как пристрелят одного человека перед многими другими людьми. Такое выпадает не каждый день.
Мальчик медленно раздевается. Один глаз немного прищурен, и это придает лицу со слегка загнутым носом и тонкими, четко очерченными губами какое-то лукавое выражение. Да нет, он просто раздевается, чтобы ополоснуться, а не для того, чтобы его застрелили. О чем он подумал, когда взял в руки это пальто? Полураздетый, он садится на землю, смотрит налево и направо на эсэсовцев, которые стоят по обоим краям полукруга, словно спрашивая их: — Обувь тоже снимать или не надо? Несколько раз он пытается сидя снять то один, то другой сапог.
Стой, подожди, пока ты стягиваешь сапоги, ты еще жив! Сейчас мы все бросимся, нападем, у нас на ногах сапоги, мы растопчем… Кто куда? С какой стороны? Мите повелительно ударяет одного из нас плеткой. О нет, не жди ничего. Мы еще поможем тебе разуться. Ну вот, видишь, сапоги сняты. Он не плачет, не умоляет, как некоторые до него, а они были постарше. Он только озабоченно оглядывается по сторонам и ждет, ждет, что они шлепнут его пониже спины, улыбнутся и скажут, как это часто бывало там, в прошлой жизни:
— Смотри, больше никогда так не делай, забирай свои тряпки и проваливай…
Над валом поднялось холодное зимнее солнце, и на фоне этой огромной темно-красной мишени бежит скользящей походкой — словно одетый в черное горевестник — охранник, с восторгом размахивая над головой винтовкой:
— Господин унтершарфир-рер, позвольте мне… расстрелять… разрешите…
— А ты хорошо стреляешь? — спрашивает Мите.
Охранник, всего на несколько лет старше осужденного, делает жест, означающий уверенность в себе, и, когда Мите кивает, занимает удобную позицию, вполоборота к нам, винтовка все еще поднята у него над головой. Он смеется, он радуется.
Загорелый украинский парень делает еще несколько шагов назад, потом снова шаг вперед, вот он остановился, ставит ноги поудобнее. А мальчик, совсем ребенок напротив него, продолжает растирать руки, при взгляде в отверстие винтовочного ствола он еще больше прищуривает левый глаз, бровь над правым глазом ползет вверх, голову и плечи он поворачивает вбок, чтобы избежать того, что произойдет в следующую секунду, он немного отступает назад…
Выстрел — на груди появляется маленькое красное пятнышко, и в тот же момент тело с распростертыми руками взлетает вверх, потом падает на землю. Выпрямленные ноги упавшего уже тела судорожно дергаются, они сдвигаются и раздвигаются. Мите наклоняется над ним, приставляет пистолет прямо ко лбу и двумя выстрелами прекращает подергивание ног.
Вот, теперь ты еще раз видел в мельчайших подробностях, как жизнь превращается в смерть.
Мите и Кюттнер вместе вваливаются в амбулаторию. Легавый спрашивает Рыбака, нужны ли для ухода за больными три человека. Рыбак тихо отвечает, что двое, Роберт и еще один помощник, работают днем, а он сам — в основном по ночам. Кюттнер поворачивается к Мите со словами:
— Он, видно, хочет ввести ночную смену, — и решает, что со следующего дня Роберт, «медик», снова должен вернуться к сортировке медикаментов в «барак Б».
Этот налет Легавого преследует, кажется, какую-то цель. За этим что-то кроется. До сих пор проводилась общая чистка, просеивание и уменьшение наличного состава в периоды, когда не поступали новые эшелоны. Зимний холод, голод и болезни выполняли грубую работу. Было достаточно ввести упражнения по строевой подготовке на плацу — уже бегали и «барак Б», и «красные», и даже «синие» — и еще кое-какие наказания, чтобы выбраковать «доходяг». Это получалось и тогда, когда приходили пустые вагоны и их надо было загрузить. День, второй, третий бегали люди с тюками на спинах к перрону и обратно в бараки, где отсортированные вещи были сложены в стопки до потолка. С температурой выше сорока они симулировали здоровье, силу и полную работоспособность. Некоторые падали сами, другим помогали эсэсовцы и охранники. Одно было хорошо в этой гонке: вечером, когда ты падал на нары, тебя уже не мучило чувство голода. Каждый день из Треблинки уходило несколько нагруженных товарных вагонов. На них были написаны мелом пункты назначения — Бремен, Аахен, Швейнфурт…
— Они подчищают тут все, — говорил обычно Ганс.
Горы снаружи и стопы в бараках таяли. За деревянными загородками пустых боксов мы двигаемся, словно домашний скот, нервничая, потому что нигде нельзя спрятаться, нельзя передвигаться незаметно. Только в боксах с дамским и мужским бельем и в боксе мужских костюмов осталось немного тюков, да еще в так называемом боксе «А» лежат несколько отрезов ткани. Очевидно, это они оставили для себя: одежду и материал для швейной мастерской.
Первым из нашей группы, кому пришлось лечь в амбулаторию, оказался Цело, «треблинка» протекает у него довольно тяжело. Но Легаш решает в его пользу.
— Да-а, этот человек еще может быть нам полезен, — говорит он Рыбаку во время одного из «спецвизитов».
Значит, понижение Роберта и отправка его обратно на сортировку медикаментов объяснялись все-таки настроением Кюттнера.
Унтершарфюрер Сухомел, до войны, в тридцатые годы, — портной, принадлежавший к немецкоязычному меньшинству в чешском Крумове, а здесь — жовиальный шеф команды «золотых евреев», испытывающий «земляческую» симпатию к нескольким «славным ребятам из Богемии», попавшим в этот «польский сброд», присылает Цело из немецкой кухни суп и апельсин. Смотри-ка, апельсин — настоящий апельсин с толстой кожурой, еще не начал портиться, еще испускает аромат чудесного огромного мира.
Все здороваются с Цело, когда он в первый раз после болезни появляется на перекличке и идет на работу — наш Цело.
— Нужно найти самый медленный темп, за который не наказывают «смертельными гонками», — Цело и его коллега, бригадир Адаш переходят от одного бокса к другому.
Мы понимаем, так мы должны выиграть примерно восемь дней. Это — срок операции «Н». Роберт, который сейчас лежит в амбулатории, к тому времени будет в порядке. Критические дни болезни уже миновали.
К вечеру в «барак А» влетает Легавый, достигший степени кипения, достаточной для плавки чугуна. Он приказывает пересчитать все оставшиеся вещи, и тут выясняется, что в боксе «Мужские пиджаки» всего 132 тюка вместо указанных 205. То есть не хватает 73 связок мужских пиджаков, по 10 штук в каждой. Не рассортирована еще небольшая кучка, примерно 20 штук. Кроме них, в Треблинке больше нет ни одного пиджака, ни одной артистической блузы.
Все мы в «бараке А» знаем, как это могло произойти. Хороших еще не «переработанных» пиджаков уже давно не было. Поэтому спекулировали отсортированными. Открывали уже отсортированные, перевязанные партии «товара» и обменивали их на дополнительную порцию хлеба, на несколько кусков сахара у кого-нибудь из мастерских внизу, из кухни. Когда куртка или пиджак, в котором ты ходил, пачкались или рвались, ты их просто бросал в кучу лохмотьев или в огонь. Кроме того, были в бараке и такие ребята, и их было много, которые как будто выполняли ожидаемую дневную норму, а на самом деле работали не так много. Они не могли иначе, их трясла лихорадка — «треблинка». Идиоты — они все время ждали новых эшелонов, новых поступлений, чтобы задним числом все привести в порядок. А тем временем перекладывали вещи из одной связки в другую, надувая при этом и Цело с Адашем.
Последний щелчок каблуками, гауптшарфюрер Кюттнер поднимает глаза от своего журнала:
— Так, оба бригадира «барака А», выйти из строя!
Внимание, это что-то новенькое, такого еще не было, все во мне бьет тревогу. Это уж, знаете ли…
— Так как я вижу, что вся вина лежит на двух бригадирах…
Почему вдруг так торжественно? Если бы это был Лялька, но Легавый?
— …то в наказание они оба отправляются простыми рабочими во «второй лагерь»!
Во «второй лагерь», в «лагерь смерти». Но там он для нас все равно что мертв, ему конец, нам конец, всей нашей затее, всему.
— Снять повязки бригадиров, староста лагеря, уведи их!
Я стою среди самых высоких в предпоследнем ряду. Так, сейчас что-то должно произойти, надо закричать и броситься вперед, всем — ну, тогда закричи и бросайся вперед первым, ну же, ну! В центр выступает Лялька и рычит, перекрикивая поднявшийся шум:
— Молчать! Это еще что за дебош?
К нему присоединяется Кюттнер:
— «Первый лагерь»! Смирно! Все, что напоминает мужской пиджак, — снять, сложить здесь! Справа налево, по очереди, — он делает плеткой указательное и одновременно угрожающее движение, вторую руку держит на кобуре. — Личный состав — семьсот тридцать четыре человека, тут в куче должны лежать семьсот тридцать четыре пиджака или куртки. И я вас предупреждаю, если у кого-то найду еще пиджак, тот будет иметь дело со мной, а потом, понятно, — в «лазарет».
Я сразу же иду в амбулаторию, забираюсь на нары и опускаюсь на колени рядом с Робертом. Он лежит на животе, в спертом, зловонном от множества температурящих тел воздухе, закрыв лицо исхудавшими руками, и его почти лысую маленькую голову сотрясают неудержимые рыдания. Старый Роберт, большой теоретик, сжался в маленький комочек.
В жилом бараке, на нарах, там, где недавно лежало одеяло Цело, — зияющая пустота. Со всех сторон я чувствую взгляды, направленные на меня:
— В лагере уже ходят слухи, что Легаш сослал Цело не просто из-за нескольких поношенных курток. Говорят, что Шиффнер, а он судетский немец и поэтому считается лучшим знатоком евреев из Богемии, вроде бы сказал, что Цело тут выше всех на голову. Не думаю, что они знают что-то наверняка, иначе они рассвирепели бы по-другому, они только подозревают… А может быть, Легаш, как опытный надсмотрщик, знает: нельзя допустить, чтобы возникли группы, людей надо все время перетасовывать. Если бы они узнали что-нибудь определенное, то отправили бы сразу в «лазарет». Но если они что-то разнюхали, то только с помощью кого-то из нас.
— Так нам и надо, — Ганс ворочается на своих нарах. — Я говорю о нас, не о польских евреях. Мы всё ждали, отговаривались тем и сем. Мы — ни на что не годные трусы, еще хуже, чем польские; те были такими всю жизнь — старьевщики, спекулянты и жулики. Но мы, мы же попали сюда как из Америки, мы все понимали, мы-то могли дать по морде, мы же были такими. Только слишком долго думали, слишком долго болтали, все подготавливали — и при этом перестали быть людьми. Мы стояли там сегодня, как бараны, мы больше ничего не стоим. Они уже все из нас выбили.
У Ганса сейчас на щеках красные пятна, а лицо — бледное, видна каждая веснушка. Широко открытые глаза глядят куда-то поверх всего барака.
— Клянусь, мы больше не люди, я больше не уверен даже в себе самом, я только вижу все время мою старуху и мальчишку моего на той стороне — маленького курчавого мальчика. Когда он был еще совсем крошечным, у него были такие милые щечки — особенно после купания. Мы еще помахали друг другу, когда они разделили нас на плацу. Он стоял там рядом с мамой и махал мне. Было видно, что ему немножко холодно после перегретого вагона. Я еще подумал, только бы он не простудился.
Ганс замолчал.
— В первый день, в первую ночь, когда мне сказали, что с ними произошло, это меня вообще не тронуло. Это не дошло до меня. Я бегал взад и вперед с ранцем на спине и понял только, что они «там» — ну, они «там», а я — здесь, и больше ничего. Только на следующее утро в груди, в горле, в мозгу появилось ужасное жжение, как будто там пролилось что-то едкое. А потом у меня был такой сумасшедший порыв — все разом опрокинуть, как тот длинноволосый, который обрушил главную колонну, как нам рассказывали в хедере. Идиотизм, сказал я себе. Вначале ты должен взять себя в руки, собрать силы, привести мысли в порядок. И то же самое сказал себе каждый из нас, мы все время слишком много умничали, не только здесь в Треблинке, уже задолго до этого, когда все началось… Не загонят же они нас в гетто, как в средние века. Не оторвут же они нам голову, а если и оторвут, так одному, двум, но не всем. Всех они загнали в гетто, всем они оторвут головы, в конце концов и украинцам, которые сейчас им помогают. Разве здесь нужен ум? Здесь нужен такой длинноволосый безумец, который разрушил колонны, и здание обрушилось на всех.
(продолжение следует)
ХОЛОКОСТ — ТРАГЕДИЯ, ПАМЯТЬ И ВОСПОМИНАНИЯ*
Эти материалы я посвящаю памяти человеку-легенде, прошедшему десять кругов ада (у Дантe — девять), трижды выжившему в расстрелах в г. Дунаевцах, дважды прошедшему Моабитскую тюрьму, участнику штурма Берлина Карлу Эпштейну, его матери Бети Яковлевне, погибшей во рвах Солонынчика и моей матери-украинке, Праведницe народов мира Галине Будзинской.
Предисловие. Черным кровавым гостем обрушился град Холокоста
Холокост — это мировая трагедия, которую не сгладит время. Оценить количество погибших во время геноцида евреев очень сложно, как бы реальная цифра это 6 миллионов человек. Об этом ярко свидетельствуют слова из поэмы «Шесть миллионов евреев» дунаевчанки Анны Браверман (моей землячки), а сейчас жительницы Америки:
Черным кровавым гостем
Обрушился град Холокоста,
И содрогнулась планета
От лагерей и гетто,
…Заживо погребённых,
Расстрелянных и сожженных
Душу рвет галерея
Из шести миллионов евреев.
Пепел шести миллионов
В наши сердца стучится,
Черный кошмар Холокоста,
Ночами нам часто сниться,
A скрипка все стонет и стонет,
Будто опять хоронит
Берале, Фрейду, Басю,
Абрама, Мойшале, Масю,
Куню, Чарну и Лею —
Шесть миллионов евреев,
Шесть миллионов евреев.
Исследователи, историки уточняют, жертвами Холокоста были не только евреи, но и другие этнические и социальные группы (цыгане, гомосексуалисты, массонны и др., а также военнопленные, инвалиды). Холокост уничтожил 2/3 евреев Европы и до cегодняшнего времени численность еврейского населения не может вернуться к довоенной отметке.
«Память об этих событиях важна, не только как напоминание и осуждение преступлений нацистов, но также в качестве назидания об опасности преследования людей на основе расы, этнического происхождения, религии, политических взглядов или сексуальной ориентации», — говорится в резолюции Европарламента, осуждающей Холокост.
Мир всколыхнула Вторая мировая война, 1941 год и ужас войны уже на родной земле. То, что пережил украинский народ, известно нам из уст ветеранов войны, жертв нацизма, тех, кто остался в тылу и на оккупированных территориях, со страниц учебников истории, кинофильмов и документалистики. A вот сегодняшней молодежи, учащимся школ страницы Холокоста малоизвестные. Тема геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны, последствия антисемитской политики нацистов в отношении еврейского населения Украины, до определенного времени, была менеe исследованной. В исторических трудах эта тема в советский период, освещалась недостаточно. Только в независимой Украине началась работа по установлению полной и объективной картины исторических событий, которые помогут осветить злодеяния нацистов против еврейского народа. В этом большую роль играют Музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине», третий в мире по величине Мемориальный комплекс посвященный Холокосту и Всеукраиский центр изучения Холокоста «Ткума». С директором Музея и центром «Ткума» Игорем Щупаком у меня сложились деловые отношения. Участие в мероприятиях по Холокосту и передача в центр «Ткума» свои исследования. Почему я исследую Подолье? Во-первых, это моя маленькая родина и память о героях войны, о жертвах Холокоста и память о моих родных: дедушке, бабушке и маме — Праведниках мира, а во-вторых, ответ следует искать еще в Российской империи. Именно российские власти ввели дискриминационные черты оседлости для евреев: им было запрещено поселяться там, где хотелось. Поэтому подавляющее большинство еврейских семей проживала на польских и украинских землях, а именно на Подолье и Волыни, а также в Одессе. Вторая еврейская эмиграционная волна из Западной Европы на земли Польши и Украины приходится на 1936—1939 годы.
Во времена сталинизма были установлены различные ограничения, препятствия для беженцев и даже преследования, репрессии. Все антисемитские акции нацистов в отношении еврейского геноцида осуществлялись с молчаливого согласия тоталитарного режима. А страны Европы, в которых проживали евреи в годы войны, стали для них живыми могилами. Адольф Гитлер неоднократно подчеркивал в своих выступлениях о необходимости «решения еврейского вопроса». Массовое «решения вопроса» началось в январе 1939 года путем депортации евреев из Германии. Ставилась задача физического уничтожения евреев не только в Германии, а также в Польше и на оккупированных советских территориях. Истребления евреев на украинских землях началось сразу после вторжения нацистских войск на нашу землю. В первые дни немецкой оккупации погромы произошли в 58 украинских населенных пунктах, в ходе которых погибли 24 тыс. евреев. Это ужасные цифры. Их можно приводить и приводить, почти по всех населенных пунктах. Трудно представить такое количество жертв. Очень болезненно воспринимаются факты и цифры, связанные с родными для нас местностями. В Хмельницкой области уничтожено 115 тыс. человек из 121,335 евреев, проживавших на этой территории. Акции массового уничтожения евреев были в первые годы оккупации в Дунаевцах и районе, о чем свидетельствуют одинокие, молчаливые памятники на местах расстрелов невинных жертв. О количестве жертв свидетельствует, изданная в 2003 году «Книга Скорби Украины. Хмельницкая область», в которой поименно упоминаются жертвы фашизма периода оккупации. Мои бабушки и дедушки, как по материнской линии та и по отцовской линии, были не только свидетелями жестокого истребления невинных людей, а дедушка и бабушка матери: Иван и Федора Шындыбыло и мама Галя (Шындыбыло) Будзинская сами непосредственно принимали участие в спасении евреев, сохранив жизнь еврейской семьe Марьянских: Мойсея Лазаровича и Еву Львовну, удостоены высшего звания государства Израиль — Праведники мира.
На Земле Обетованной
Их как своих Героев чтут,
Встречают как гостей желанных
И ПРАВЕДНИКАМИ зовут.
Лидия Стеклова. «Спасители»
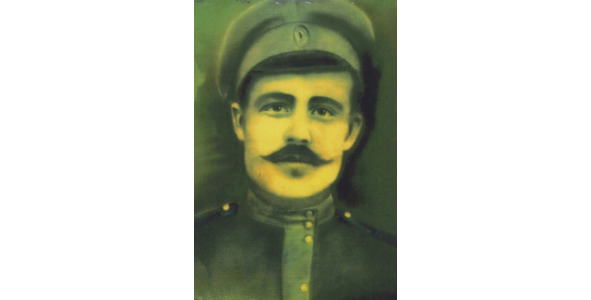
Мемориальный комплекс Катастрофы и героизма еврейского народа в Иерусалиме Яд-Вашем удостоил в 2009 г. моего дедушку и бабушку Ивана и Федору Шындыбыло и мою маму Галину (в замужестве Будзинскую) почетным званием «Праведник народов мира» за спасение в годы фашистской оккупации супругов Мойсея и Еву Марьянских.
Украина — первое государство в мире, которое начало отмечать Праведников мира государственными наградами.
Орден «За мужество» III степени — людям, имена которых увековечены в Книгах Памяти в Яд-Вашем и являются Праведниками мира.
…И внуки, правнуки
Вас будут прославлять,
Всегда ты с нами моя милая родная,
Моя любимая родная украинская мать.
Cлова и музыка Владимира Рогового.
«Баллада о матери»

Воспоминания сына Праведницы народов мира Ильи Будзинского
Моя мама, Галина Ивановна Будзинская, родилась 1 января 1930 года в селе Зеленче Дунаевецкого района в многодетной семье Шындыбыло. В семье родились восемь детей, пятеро умерли рано. Дедушка Иван Гордеевич работал разнорабочим, бабушка Федора Николаевна — звеньевой в колхозе. Во время оккупации Александра, Нина и младшая дочь Галина находились в селе. Вскоре Александру вывезли в Германию в г. Фульда.
Осенью 1942 г. сельский учитель Мойсей Лазаревич Марьянский и его жена Ева Львовна попросили у них убежища. Было решено поселить супругов в сарае, на чердаке, прятали в доме и подвале в зависимости от обстановки в течение 1942—1944 гг., аж до освобождения.
После освобождения села Зеленче 30 марта 1944 г. Мойсей Лазаревич ушел на фронт. За боевые подвиги награждённый медалью «За боевые заслуги», орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды. После демобилизации Мойсей Лазаревич вернулся на родину, работал учителем, в основном в Дунаевцах, в общей сложности, 52 года.
В 1950-х годах мама Галина вышла замуж за моего отца Франца Адольфовича Будзинского, родила и воспитала нас троих сыновей: Анатолия, Илью и Виталия. Работала продавцом, швеей, оператором на инкубаторной станции. Еврейский Совет Украины в 2003 г. наградил маму, бабушку и дедушку дипломом «Праведник Украины».
Подвиг семьи Шындыбыло в годы войны отмечен в ″Книге Памяти″ (Флакс С. «Не подлежит забвению человечность», с. 307—309. ″Книга Памяти″. Том 4. Под общей редакцией С. Б. Басса. Днепропетровск. РИА «Днепр-VAL», 2004. 700 c.), презентация которой состоялась 26 января 2005 года в Доме ученых г. Днепропетровска. На презентацию книги был приглашен я, и мне был вручен экземпляр книги.
В июле 2009 г. Государство Израиль наградило семью Шындыбыло-Будзинская высшей наградой «Праведник народов мира». Медаль и диплом «Праведник народов мира» за спасение еврейской cемьи Марьянских мама Галина получила из рук Зины-Калай Клайтман, посла Израиля в Украине. Награждение состоялось 1 октября 2009 г. в Киеве.
В январе 2010 г. «За мужество и самопожертвование, проявленные в годы Второй мировой войны по спасению лиц еврейской национальности от фашистского геноцида, сохранения памяти жертв Холокоста», Украина наградила маму Галину орденом «За мужество III степени» (Указ Президента Украины от 27 01 2010 года №64/2010).
24 августа 2014 г., в день празднования двадцать третьей годовщины Независимости Украины в селе Зеленче на фасаде Дворца культуры была установлена Мемориальная доска «Праведники мира» в честь семьи Шындыбыло-Будзинская.
Илья Будзинский. Днепродзержинск (современное) Каменское, 20 марта 2016 года.


дедушки Шындыбыло И. Г., бабушки Шындыбыло Ф. М. и матери Будзинской Г. И. на фоне Мемориала погибших
во Второй мировой войне в г. Дунаевцы
На фоне их фото — фото спасенных: Марьянский М. Л. и Марьянская Е. Л. и фото их дочери Любови Марьянской (2009 г.) на церемонии вручения моей матери медали и Диплома «Праведник мира». Сверху: слева — Почетная грамота Праведников, cправа — Иерусалим, вид с Храмовой горы. Внизу: слева — направо: Выступление матери на церемонии вручения, единственная живая Праведница мира, из 35 человек, получивших звание «Праведник мира» и посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман; Cад Праведников; Сын и внук Праведников Илья Будзинский у памятника неизвестному Праведнику; Яд-Вашем, институт Яд-Вашем; Памятник Янушу Корчаку в Мемориальном комплексе Яд-Вашем.
Этот фотоколлаж был вручен администрации села Зеленче Дунаевецкого района, в день празднования 520 годовщины со дня его основания — 21 июля 2013 года.
В день празднования 520 годовщины села Зеленче 21 июля 2013 года, на которое меня пригласили жители села как сына и внука Праведников мира, автор этих строк рассказал жителям села, всем присутствующим на празднике о событиях семидесятилетней давности, а именно: как мои родные дедушка Иван, бабушка Федора Шындыбыло и мама Будзинская (Шындыбыло) Галина Ивановна спасли от уничтожения еврейскую семью учителя физики Марьянского Моисея Лазаревича, домохозяйку Марьянскую (Швидлер) Еву Львовну в годы войны 1942—1944 г. г. В условиях фашистской оккупации спасти еврейского мальчика или девочку, а тем более еврейскую семью было не только благородным поступком, а настоящим подвигом, самопожертвованием ради других. Это была большая ответственность за жизнь родных и тех, кого спасали. Государство Израиль высоко оценилo их подвиг и присвоило почетное звание «Праведник народов мира» — это высшая награда страны вручается лицам не еврейской национальности, кто в годы Второй мировой войны спасал евреев от полного уничтожения.
«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир».
(Синедрион 37, 71)
Воспоминания Галины Ивановны (Шындыбыло) Будзинской
В годы фашистской оккупации, с риском для жизни, мои родители и я спасли и сберегли еврейскую семью Марьянских — школьного учителя Мойсея Лазаревича и домохозяйку Еву Львовну в селе Зеленче Дунаевецкого района Каменец-Подольской (сейчас Хмельницкая) области. Мойсей Лазаревич, его жена Ева Львовна и ее мать Любовь Швидлер шли в колонне смертников. Полицаю, который шел рядом с Марьянским, очень понравилось его пальто, и Марьянский решил отдать его полицаю в обмен на свою жизнь и на жизнь его семьи. Потом Марьянские, выбрав момент, убежали в кукурузное поле и там просидели до вечера. И дальше решили двигаться на восток, в сторону Проскурова.
По дороге в с. Антоновцы семья Марьянских наткнулась на облаву: Мойсею Лазаревичу и Еве Львовне чудом удалось сбежать. При побеге была застрелена мама Евы — Любовь. Полями, оврагами ночью семья Марьянских возвращалась в свое село. В конце августа-сентябрь 1942 г. Марьянские пришли в с. Зеленче. Ночью зашли в наш двор и спрятались в сарае для скота на чердаке, в соломе.
Когда ранним утром отец вышел во двор посмотреть на снопы с гречихой, тихонько приоткрылась дверь сарая. И оттуда испуганным голосом Мойсей Лазаревич заговорил: «Шындыбыло, вы уж извините нас, что мы пришли к вам без разрешения, спрячьте нас». Отец ответил, что посоветуется с мамой. Когда они между собой переговорили, мама сказала: «Но раз пришли к нам, пусть будут у нас, наверное так Б-гу угодно».
Время было тяжелое и страшное, немцы и полицаи могли в любой момент расстрелять мать и меня за то, что мы прячем еврейскую семью Марьянских.
Мама готовила кушать, а я, чтобы не вызывать подозрения у немцев, полицаев, брала два ведра, ставила казанки с пищей. Накрывала полотенцем, засыпала очистками картофеля или высевками. Несла в сарай, будто несла корм скоту, птице. И таким образом кормила спасённых. Пока они принимали пищу, я убирала за скотом и забирала грязную посуду. И так продолжалось изо дня в день. Когда наступала зима — приносила теплые вещи, одеяла, подушку, тулуп (кстати, он сохранился до сегодняшнего дня). Я его передала через сына Илью, который проживает в Днепродзержинске, во Всеукраинский музей Холокоста в городе Днепропетровске, закладка первого камня которого состоялась 29 октября 2003 г., как раз накануне вручения мне диплома «Праведник Украины» — 6 ноября 2003 г.
Иногда в ночное время, когда было очень холодно, мы забирали семью Марьянских к себе в хату и прятали возле печи, потом прятали в погребе. Когда мама была занята приготовлением пищи, я стирала одежду Марьянских, рассказывая им, что делается в селе, где немцы, какая обстановка на фронте. Что происходит в Дунаевцах, продолжала носить письма на почту, а также помогала матери по хозяйству.
30 марта 1944 года в село вступили наши солдаты. К нам зашли человека 3 — 4 и мама начала готовить кушать. Сказала мне, чтобы я пошла в сарай и сказала Мойсею Лазаревичу и Еве Львовне, чтобы они зашли в хату. Они зашли в дом, сели вместе с солдатами за стол и в это время заходит к нам соседка и с удивлением говорит: «А вы Марьянские, откуда взялись?». Но умная Ева не открыла секрет и ответила, что они пришли вместе с солдатами.
После освобождения от немцев Марьянские перебрались в свой дом, начали потихоньку обживаться.
6 апреля 1944 г. Марьянский Мойсей Лазаревич был призван Дунаевецким райвоенкоматом на фронт. Служил в санитарном батальоне 2 Украинского фронта. На территории Польши был контужен и награжден медалью «За боевые заслуги».
За ратные боевые подвиги Мойсей Лазаревич награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалью за освобождение Варшавы, юбилейными медалями 20, 30, 40 лет Великой Победы и другими медалями.
По окончании войны Мойсей Лазаревич вернулся к своей любимой профессии — учителя. Спустя несколько лет семья Марьянских переехала в г. Дунаевцы и долгие годы поддерживала с нашей семьей теплые отношения.
Марьянские оказали помощь в похоронах моего отца Ивана Гордеевича, который скончался 19 декабря 1948 г. и пригласили меня к себе домой, быть у них горничной, а также оказали услугу получения паспорта и трудоустройства на работу. В их семье я познакомилась с моим будущим мужем Францем Адольфовичем Будзинским, а также дружила с дочерью Марьянских — Любовью, которая называла меня старшей сестрой. Потом мы с мужем ушли на съемную квартиру и продолжали дружить семьями. Праздники проводили вместе. Ева Львовна всегда давала мне из угощенья самый лакомый кусочек — в знак благодарности, за тот кусочек хлеба во время войны. В 1979 г. умерла моя мама Федора Николаевна, и Марьянские пришли проводить ее в «последний путь» Я со своим мужем и старшим сыном Анатолием часто бывали у Марьянских. Их дочь Любовь после окончания медучилища поехала работать в г. Хмельницкий. Мы помогали собирать урожай вишен, яблок, выполняли разные работы по хозяйству. Так продолжалось постоянно, вплоть до смерти Марьянских: Мойсея Лазаревича — в 1993 г. и Евы Львовны — в 1995 г. Прошли годa и многое изменилось, но мы, продолжаем общаться и жить одной семьей с дочерью Марьянских — Любовью.
Галина Ивановна Будзинская. Дунаевцы, январь 2003 года.


Медаль Праведника народов мира, выдана Ивану и Федора Шындыбыло и их дочери Галине (IVAN ET FEODORA SHYNDYBYLO ET LEUR FILLEGALINA).

выдана Ивану и Федоре Шындыбыло и их дочери
Галине (Шындыбыло) Будзинской



(колонка 1, строка 1): «SHYNDYBYLO IVAN & FEODORA & DAUGHTER GALINA» в саду Праведников народов мира
в «Яд Вашем». Фото cына и внука Ильи Будзинскогo
На праздновании села я, как внук и сын Праведников мира, вручил сельской громадe — настоящим и будущим поколениям фотоколлаж «Праведники мира — наши земляки» с фотографиями Праведников мира, спасенных, дочери Марьянской — Любови Моисеевны и фото Сада и Аллеи Праведников, Музея Холокоста в Иерусалиме. Закончил свое выступление стихотворением «Праведники» из «Книги Памяти» и еще раз поблагодарил за приглашение на праздник — и подвиг моих родных стал известным жителям села и далеко за его пределами. Подарил на память «Непокоренного Прометея» — символ мужества и героизма Днепродзержинска (современное) Каменское, который ценой собственной жизни принес огонь людям и спас их от верной смерти.
«Праведников мира» можно сравнить с Прометеем, они ценой собственной жизни, рискуя жизнью своих родных и близких, спасали еврейское население от уничтожения.
«Передавая в дар этот символ города, пожелал сельской громаде села Зеленче новых успехов в расцвете села, мира, добра и благосостояния».

Будзинской Галины и дочери спасенных Марьянской Любови, a также фото фрагмента газеты «Община и ты»
И именно после этого события, бесед со старожилами села, с головой громады и активистами села, я поставил себе за дальнейший смысл своей жизни узнать больше о Холокосте, его жертвах, кто чудом выжил.
И о тех людях, которые спасали евреев, которых по праву называем Праведниками, и кто уже имеет это звание «Праведник народов мира» на Дунаеветчине. Я начал заниматься трагической историей еврейских местечек на Подолье и именно на Дунаеветчине. (История Холокоста еще не в полной мере известна, требует дальнейшего исследования.) Так появились мои материали на эту тему, которые были напечатаны в газете «Дунаевецкий вестник». Первыми были статьи: «Зеленче — село героев», «Это стоит помнить…», «По зову души и сердца», «Стоит помнить» и другие.

Накануне 75 годовщины освобождения узников концлагеря смерти Освенцим 26 января 2020 года, на родине моей матери Будзинской Галины — Праведницы мира в селе Зеленче, громада села почтила память жертв Холокоста и Праведников мира семьи Шындыбыло-Будзинская и семью Иващук Ивана и Марии, которые спасли в годы оккупации председателя сельпо Швидлера Аарона и его сестру Швидлер Эстер. Через несколько месяцев после освождения села Зеленче 30 марта 1944 года, Аарон Швидлер был убит небольшой группой лиц, есть предположение, что это были вояки УПА. Был проведен урок Памяти «Холокост — память поколений”заведующей школьной библиотекой Прокоповой Ларисой Дмитриевной с приглашением жителей села и дочери Иващук — Ольги (Иващук) Третьяк, которая в апреле отметит свой 93 год рождения. Она поделилась своими воспоминаниями о том страшном периоде оккупации, o спасении брата и сестры Швидлер ее родителями, и как она сама помогала матери кормить несчастных. К сожалению, она узнала от меня в апреле 2019 года, что ее родителям присвоено звание «Праведник мира». А весь пакет документов готовила ее младшая сестра, которая жила в городе и ей об этом ничего не сказала. Диплом и медаль «Праведник мира» получила в посольстве государства Израиль в Украине в городе Киеве. Посетив родные мне места в мае 2019 года, проведав могилки родных, я встретился с Ольгой Третьяк, и передал на память этой простой сельской женщине память о ее родителях — фото Стены Почета Праведников мира. Смотря на это фото Стены Почета, где высечены имена ее отца и матери Иващук — Праведников мира, Ольга рассуждает: «родители, спасая Швидлер Аарона и Эстер, рискуя своей жизнью, никак не считали это подвигом, а делали это по велению сердца и человеческого сострадания». После рассказа о своем дедушке Михаиле Балух, бабушке Марии и о своем отце Балух Викторе Валентиной (Балух) Павлюк — заведующей Домом культуры, которые несколько месяцев спасали семью Марьянских участники реквиема почтили память жертв Холокоста и Праведников мира у Мемориальной доски моих родных и сделали фото на память.

2020 год 75-летия Великой Победы и 75-летия окончания Второй мировой войны. Надеюсь, что к этим торжествам городские власти и главы сельских громад в Украине и в Хмельницкой области, установят Мемориальные доски на зданиях, где проживали Праведники мира. Спасая раненых, холодных, голодных евреев, семью или детей, которые чудом уцелели от расстрела, простые люди, мещане, крестьяне рисковали своей жизнью и жизнью своих родных. Именно в Украине и Польше — за спасение евреев, был расстрел спасителя и членов его семьи, как ни парадоксально, по количеству Праведников народов мира Польша занимает 1 место — 6992 человека, Украина 4 (четвертое) — 2634 человека.
Холокост — Трагедия, Человечность, Память и Воспоминания
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в память жертв нацистского террора во время Второй мировой войны. Украина на государственном уровне чтит жертв трагедии с 2012 года. Официально установлено, что нацисты убили от 5,5–6 млн. евреев, цыган, представителей других групп и меньшинств в т.ч. от 2, 2 до 2, 5 млн. чел. на территории бывшего СССР, в значительной мере в Украине. В Хмельницкой области накануне войны проживало 121,335 человек еврейского населения, уничтожено в войну — 115 тыс. человек. Рубиконом массового уничтожения евреев был Каменец Подольський — уничтожено 85 тыс. чел. В г. Дунаевцы — заживо уничтоженных в шахте и расстрелянных во рвах Солонынчикa — 8 тыс. чел. B Дунаевецком районе — 12 тыс. По-моему мнению, уничтожено гораздо больше. Об этом свидетельствовали на судебном процессе полицейские города Дунаевцы и окружающих сел. (Уголовное дело N 526, открыто 29 мая 1944 г., окончено 11 сентября 1944 р. — обвинение по ст.54—1a-54-1б УК СССР от 19 апреля 1943 года, архивное дело N 11825), имеются ужасные цифры. Во рвах Солонынчикa расстреляно и заживо уничтожено 3000–5000 чел. В с. Cмотрич Дунаевецкого района норвежским батальоном уничтожено более 2 тыс. чел. А сколько уничтожено еще в пределах города? При проведении земляных работ выкапывали человеческие кости. Нацистская теория уничтожения еврейского населения — по своей жестокости, зверством, cадизмом даже не может сравниться с девятью кругами Дантового ада. Холокост — это ужас, боль, смерть. Он не должен никогда повториться. Память о миллионах уничтоженных будет жить всегда. Люди, пережившие Холокост и те люди, которые спасали еврейское население с риском за свою жизнь, своих родных и теx, кого спасали, будут с нами не вечно. Но память о том, что они пережили, должна оставаться с нами. Истории этих людей должны храниться в памятниках, Мемориальных досках, музеях, в учебниках, в воспоминаниях, в решительном стремлении человечества предотвратить геноцид. Рассказывая новым поколениям об этом ужасном периоде в нашей истории, старшее поколения помогает отстаивать человеческое достоинство для всех, независимо от национальности и вероисповедания.
Прошло более 75 лет с тех жестоких времен оккупации и уничтожения еврейского населения на территории моей родной Дунаеветчины. Но, несмотря на такой далекий период, еще живы свидетели и жертвы Холокоста, которым уже под 90 лет и более, а также живые их дети, желающих знать, как выжили их родители, деды и кто им помог спастись от уничтожения. А также установлены новые сведения, кто принял мученическую смерть в шахте с. Демьянковцы (Фото №001) и во рвах Солонынчикa. В «Книге Cкорби Украины» в 4-х томах, Хмельницькaя область. Издательство «Подолье» 2003 год, занесено незначительное количество таких жертв, например в урочище Солонынчик установлены фамилии погибших 100 человек.

Дополняю этот список именами родных Карла Эпштейна: мама Бетя, cестры Роза и Геня и семьи Кац (Рихтер) Марины — брат матери Рихтер Залман его жена Меня cестра матери — Рихтер Роза и ее муж Исаак, их 10 месячный ребенок Александр, cемья Полищук — три жертвы, родные Кац Давида — бабушка Соня, Кац Иосиф — погибли жена и двое детей, cемья Кац Мойсея — жена и трое детей, его родители — отец и мать. Обращаюсь ко всем жителям города, неравнодушным людям, краеведам у кого есть сведения о новых именах и фамилиях погибших, просьба оставить в редакции газеты «Дунаевецкий вестник». Это даст возможность установить в полной мере имена жертв Холокоста на Дунаеветчине.
В прошлых публикациях я называл имена и фамилии тех жителей города, которые сумели спастись из Демьянковецкой шахты и после второго погрома во рвах Солонынчикa под с. Чаньков.
Мне удалось найти имена еще двух Праведников мира в Дунаевецком районе, которые спасли Шику и Енцю Куперман (фамилия установлена мной), а также тех людей, которые проявили человечность и спасли еврейского мальчика Михаила Сироту. Учительницу начальных классов Дунаевецкой школы — Лизу Койшман, а также я узнал об истории жизни и спасения в период оккупации мальчика Карла, а сейчас Председателя еврейской общины г. Умани Карла Иосифовича Эпштейна. Его «Воспоминания детства» — это фактически документальный материал о периоде оккупации г. Дунаевцы и уничтожения евреев в период первого и второго еврейских погромов: 8 мая 1942 года и 19 октября 1942 года.
Жизнь не стоит на месте, меняются поколения, и сейчас, более чем через 76 лет после массового уничтожения евреев города, очень трудно узнать фамилии спасенных евреев города и сел района. И тех людей кто их спасал, или наоборот известно имя, фамилия неизвестна, или известная профессия, а фамилию установить не удается. Поэтому нет общего количества выживших в Холокосте и тех людей, кто помог им выжить. Среди них и Лиза Койшман. Фамилии тех, кто сохранил жизнь Лизе Койшман, к сожалению, установить пока-что не удалось.
Лиза Койшман — 1919 года рождения, сначала проживала в селе Горчичная, в школьные годы сидела за партой с Войцыхом И. А., который позже, в годы оккупации стал полицаем, но он помог ей спастись и сделать ей документы на другую фамилию. В качестве свидетеля на судебном процессе по обвинению полицейских г. Дунаевцы, следственное дело N 526 от 29 мая 1944 г. Лиза Койшман cообщила:
«Полицейский Войцых И. А. достал бланки с печатью, штампом за подписью Гебит — комиссара Егерса пришел ночью к Манькевич (сестра Войцыха) и мы вместе с ним сделали фиктивные документы на меня Одну справку я написала своей рукой, вторую Войцых.»
Когда были оккупированы Дунаевцы Лиза проживала в Дунаевцах и работала в Дунаевецкой школе учителем начальных классов, затем спасалась в Горчичной. Мать ей рассказывала о первом погроме евреев в городе 8 мая 1942 г. Евреи города были согнаны в район МТС, сначала отобрали специалистов и дали им пропуска и отправили по домам. Стариков, женщин с детьми, больных и немощных собрали в колонну и погнали в Демьянковецкую шахту и живьем уничтожили, а потом начали строить гетто. Отец Лизы сумел спастись на чердаке у знакомого музыканта, а когда люди с пропусками вернулись в город, он вышел из укрытия. Его опознал полицейский Недзельский, который его схватил и повел в сторону c. Демьянковцы и на пути к шахте застрелил.
Лиза оставила на попечении своего 2-х летнего племянника жительнице Горчичной Манькевич, она была родной сестрой полицейского Войцыха, и таким образом она решили его спасти. Он совсем не был похож на еврея. Однако полицейский Решетюк, узнав об этом, под угрозой выдать коменданту эту женщину, заставил ее отдать ему мальчика, которого забрал в гетто. И он был расстрелян вместе с сестрой Лизы в урочище Солонынчик. Сама Лиза Семеновна Койшман (Куперман по мужу) шла в колонне расстрела с мужем в урочище Солонынчик и они решили бежать. При побеге муж Лизы был убит, а Лиза была ранена, пуля прошла навылет и вырвала слева часть груди. Истекая кровью, в сумерках Лиза добралась до села Горчичная и пришла в дом ветеринара и его жены Марии 20 октября 1942 года в 3:00 ночи. Так как здесь находился мальчик Карл Эпштейн, который в сумерках 18 октября 1942 года бежал из гетто и скрывался, хозяева начали спасать раненую Лизу, а мальчик оставил этот дом. Лиза выжила и была основным свидетелем на судебном процессе по обвинению 28 полицейских г. Дунаевцы и района. Позже она переехала в г. Черновцы и всю жизнь думала, выжил ли тот мальчик. И такая встреча Карла Эпштейна и Лизы Койшман (Куперман) состоялась через 35 лет. Между ними была тесная дружба. Позже Лиза уехала в Израиль, к сожалению ее уже нет в живых, она покоится на Святой земле.
А сейчас об истории спасения еврейского супругов Шики и Энци Куперман — сельской семьей Гавельських.
До войны Шика проживал с женой Енцею в м. Дунаевцях. Сам он работал кузнецом в деревне и хорошо знал Гавельського Иосифа. Они с женой Анной в то время проживали в селе Слободка-Горчичанськая. Когда 11 июля 1941 румынскими и немецкими войсками были оккупированы Дунаевцы, Шика по просьбе руководства колхоза продолжал работать. Когда уже было создано гетто, всех евреев было собрано за колючую проволоку. Там они пережили издевательства, голод и чудом избежали расстрела, вырвавшись из колонны, которую вели на расстрел в урочище Солонинчик. Они пришли в деревню Слободка-Горчичанськая и искали спасения. Некоторые жители села отказывались их принять. Когда они зашли во двор Гавельського Иосифа и его жены Анны, хозяева показали на чердак дома, там они и спрятались в сене. Когда заходят немцы в дом и один из них набрасывает на шею Анны полотенце и говорит: «Если я найду евреев, тебя подвешу». Второй поднялся на лестницу и штыком начал тыкать в сено посредине чердака дома, а супруги Куперман находились по углам чердака. Это спасло их от смерти и хозяев дома, а также их малолетних детей. В течение 18 месяцев супруги спасали эту семью.

Ночью Шика помогал хозяину копать яму и накрывать ее настилом из досок в хлеву, где находилась корова. Когда наступал день, они прятались на чердаке, а потом спускались в подвал, который был выкопан в хлеву. Анна готовила еду, и кормила Шику и Енцю, им зимой от холода давали зимнюю одежду. После освобождения. Дунаевец в марте 1944 года, спасеные вернулись в город. А потом выехали в город Киев, а уже из Киева в США, в город Чикаго.
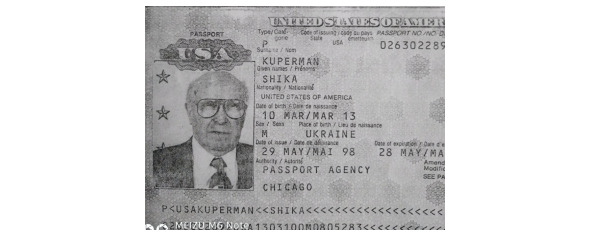

Между спасенными и спасителями существовала тесная дружба. Шика несколько раз приезжал из Киева к своим спасителям. Затем Шика передал историю своего спасения в Израиль и 5 марта 1998 года Яд-Вашем присвоил звание Праведник мира посмертно — Гавельському Иосифу Павловичу (1905—1986 г.г.), Гавельський Анне Степановне (1905—1976 г.г.).
Медаль и Диплом Праведник мира получала в Хмельницком от посла Израиля их младшая дочь Савчина Галина Иосифовна, которая сейчас проживает в. Дунаевцах.
Женщина из села Вихровка — Мороз Антонина (по мужу Рогоза), отошла в вечность в 1989 году, прятала женщину-еврейку с двумя детьми (мальчик и девочка). Сначала эта женщина хотела найти убежище в с. Горчичная и зашла во двор одной женщины. Kак оказалось, это была сестра Антонины. А так как в с. Горчичная жителями были несколько полицейских, там было опасно, и сестра порекомендовала женщине уйти в с. Вихровка к своей сестре Антонине. Местом спасения был глубокий, до 3-х метров подвал, который был построен отдельно от здания. К сожалению, он не сохранился до сегодняшних дней, осталось только пастбище на этом месте. Мальчик и девочка начали вскоре выходить из укрытия, а сельские дети их увидели и доложили старосте. Староста предупредил Антонину и cообщил, что будет с теми, кто спасает евреев. И еврейская женщина, понимая обстановку (а находилась еврейская семья у Антонины более двух месяцев), чтобы не подвергать риску хозяйку, женщина с детьми поблагодарила ее и оставила ее двор. Затем они скрывались в с. Польный Мукаров, а позже в селе Ставыще (Татарискы). Как они выжили — неизвестно. Но когда закончилась война, эта еврейская семья отблагодарила Антонину Рогозу — привезла в подарок отрез полотна. В то время это был большой подарок. А Антонина Мороз (Рогоза), как и другие люди, которые спасали евреев, делали это из порядочности, человечности, помогали тем, кто попал в беду, и отнюдь не считали для себя это подвигом. Однако государство Израиль совсем по-иному относится к этим людям, которые беcкорыстно, рискуя собственной жизнью, спасали евреев — награждает их медалью и Дипломом «Праведник мира». Эти люди фактически сохранили еврейскую нацию.

Среди выживших, на пути к уничтожению в фосфоритною шахту с. Демьянковцы, потом убежать, скрываться и выжить, накануне погрома 19 октября 1942 года — был Михаил Сирота. (Фото №4) Судьба распорядилась так, что в мае 2017 года я познакомился с сыном Михаила Сироты — Ефимом. И при встрече со старожилами с. Горчичная, в беседах с Карлом Иосифовичем Эпштейном, и детьми Михаила — я узнаю историю спасения их отца. Отмечаю, что те люди, кто пережил ужасы Холокоста, колонны расстрела и побега из ада, не всегда в воспоминаниях хотят возвращаться к тем временам, и воспроизводить события своей жизни. Поэтому они не всегда, даже родным не хотели рассказывать о пережитом. Та незначительная информация, которая известна детям Михаила — сыну Ефиму и дочери Элле, а также свидетельства старожилов села Горчичная, информация предоставлена внуками спасителей Михаила, рассказы о своем товарище Карлом Эпштейном — являются тем бесценным сокровищем, которые дают возможность узнать историю жизни и спасения в период фашистской оккупации Михаила Сироты.
Впервые эту фамилию я услыхал в 2008 году, когда общался со своим классным руководителем В. С. Вейхерманом в Израиле. Все время я хотел узнать историю его спасения, и кто был его спасителем.
События происходили так.
11 июля 1941 года румынские и немецкие войска оккупировали город Дунаевцы. В городе наступил оккупационный режим. Школьники были на летних каникулах, а в сентябре дети пошли в школу, но через неделю она была закрыта. Детвора начинает учиться профессиям, помогают родителям. Михайлык стал помогать матери по хозяйству. Вскоре немцы заставляют евреев дробить камни, строить дорогу, подметать улицы, выполнять тяжелые работы, а также платить контрибуцию. Юденрат начинает собирать средства с еврейского населения для ее выплаты и распределяет на работы. Евреям местечка была известна трагедия евреев городка Миньковцы в августе 1941 года, поэтому они отдавали все, чтобы уберечь себя от погрома. А далее, выполняя «решение еврейского вопроса» фашисты и полицаи в мае 1942 года начинают выгонять евреев из домов и собирают их всех в районе МТС (недалеко от современной больницы). Реализуют план архитектора Курилко — загнать живьем евреев в шахту. Так Михаил, его брат Яков и мать Эстер попадают в колонну смертников в Демьянковецкую шахту. 8 мая 1942 года колонна обреченных начала двигаться навстречу своей смерти. В этой колонне находилось более 400 чел. евреев-беженцев из Черновиц и румынских евреев. Они выделялись из общей колонны своей более опрятной и богатой одеждой. Как говорит Карл Эпштейн, который был в этой колоне смертников, ему запомнился один его сверстник из этих евреев, который имел прекрасный голос, как у Робертино Лоретти, пел песню, подымая моральный дух обреченных. Кстати, об этом никто никогда не говорил и не писал, и в шахте погибли не только дунаевецкие, но и румынские и черновицкие евреи. Когда часть колонны подошла к шахте и полицейские начали раздевать евреев, произошел хаос, заминка, и этим воспользовались несколько человек, в том числе и Михаил Сирота. Он на свой страх и риск прыгнул под мост реки Студеницы. Раздались выстрелы. Михаил нашел свое спасение, прижавшись к телу убитого человека. Своими глазами он видел, как осуществлялось надругательство над невинными жертвами. Уже поздно вечером к нему присоединился Карл Эпштейн, который сумел раньше совершить побег из колонны. Они вместе с ним прятались в лесу, во рвах укрываясь листьями и ветками деревьев. А потом они попали на пасеку. Их приютили пасечники — братья Козаки (Василий и Степан). Кто-то из полицаев с. Горчичной узнал об этом и туда пришли жандармы. Там скрывался еще один еврей. Ребята сумели убежать, а того еврея расстреляли. Михаил ушел в c. Горчичная, а Карл решил вернуться в г. Дунаевцы, в гетто, где была его мать и сестра. И там фактически Карл Эпштейн был «снабженцем», добывал пищу для своих родных, осуществляя ночные вылазки с гетто в окрестные села.
В селе Горчичная Михаил попадает во двор семьи Тыжа Николая Алексеевича (1887—1969) и Тыж Татьяны Панфиловны (1890—1990). Голодающего, дрожащего от страха и холода, эта дружная семья приютила в доме, и местом спасения стал небольшой лаз под печью. Хозяева в этом месте хранили дрова. В семье было четверо детей. Кстати, сын Дмитрий Николаевич Тыж 1931 года, (Фото №5) ровесник Михаила, сдружился с ним, и они вместе играли.

И как только шел слух по селу, что полицейские выискивают евреев, Михаил быстро залезал под печь, а Дмитрик закладывал его дровами. Через несколько месяцев после Демьянковецкой трагедии в дом Тыжа поселились немцы. И Cироту Михаила хозяева стали прятать в хлеву, где стояла корова, в яслях. Это был риск для жизни и семьи Тыжа, так и самого спасенного. Михаил сам понимал, что скрываться далее он не сможет. Был случай, когда немцы вошли в хлев и решились доить корову. Через некоторое время, отблагодарив хозяев, Михаил покидает дом Тыжа. И с риском для жизни, идет в неизвестность. Переходит из села в село, прося милостыню. Всегда был голоден. Одни люди давали хлеб, картофель, поили молоком, другие — наоборот, спускали на него собак, говоря «Еще один жыдок ходит». Затем он шел в лес укрывался ветвями, его очень кусали насекомые, от голода опухали ноги. Скрывался за селом Горчичная, в так называемом «Глинище» — месте, где добывали глину. Там были вырыты ямы, в которых можно было найти спасение. В тех ямах и нашел Мишу старший полицейский села Горчичная Решетюк. И повел несчастного в полицейский участок г. Дунаевцы. Когда они пришли туда полицейского уморило и он начал дремать. Михаил поймал момент, начал убегать. И полицейский бросает в него металлическим прутом и разбивает ему голову.
Кровь брызнула с головы и мальчик на мгновение потерял сознание. Этот шрам остался у него на всю жизнь. Полицейский понял, что парень не сможет убежать и снова закрыл глаза и захрапел. Этого было достаточно, чтобы убежать из участка. И Михаил пошел в сторону г. Миньковцы. Некоторое время скрывался в лесу вблизи сел Иванковцы, Демьянковцы, Горчичная. Из Демьянковецкого леса он смотрел на фосфоритную шахту, где погибла его матушка Эстер и брат Яков и слезы катились градом. Он один как перст. Что делать? Куда идти? И как говорят, снаряд дважды в одну и ту воронку не падает, и Михаил снова идет в Горчичную, в надежде на спасение. Ему уже было известно, что во рвах Солонынчикa были расстреляны все евреи с гетто, и возможно теперь не будет уже таких охот на евреев, как на бешеных собак. Идя вдоль скалистых берегов реки Студеницы со стороны Демьянковець, Михаил приходит в один из крайних домов села Горчичная. Там проживала семья Марценюк. Хозяйка дома Марценюк Юзефа, по национальности полька, (и з-за гонения на поляков многие скрывали свою национальность и регистрировались украинцами), предоставила ему убежище, накормила, и мальчик вылез на чердак заснул на сене. Его сон был весь в кошмарах, он часто вскакивал и пытался убежать от пережитого во сне. Моментами у него на лице появлялась улыбка, когда ему, по всей видимости, снился дом, мать, брат Яков и очень красивая от природы, старшая сестренка Рита, которая пела ему колыбельную в раннем детстве. Когда он проснулся, Юзефа ему сообщила, что он для всех будет сын ее дальних родственников, родители которого погибли во время бомбежки. Миша стал помогать по хозяйству, пас корову с ее маленьким сыном Брониславом, который был с ним почти одного возраста. В конце огорода у них росла большая ива, а в ней огромное дупло, в котором в день можно было спрятаться, а ночью Мишу забирали в дом. Мальчик был белобрысый, и отнюдь не был похож на еврея, поэтому с семьи Марценюк были сняты подозрения, что они прячут еврея. А староста села, Бендас предоставил справку, согласно которой Миша украинец и дальний родственник Юзефы. Таким образом, Михаил был спасен и оставался в этой семье. Фронт постепенно приближался на Запад. И наступил радостный день освобождения Дунаеветчины 31 марта 1944 року. Сирота Михаил с наступающими воинами пришел в еврейский район города. Ограбленые дома встретили его серостью и унынием. В одном из домов проживала бездетная еврейская семья, которая и приютила его. И научила Михаила специальности парикмахера. Эта профессия была ему на всю жизнь. Затем он узнал, что в г. Одессa проживает его тетя Фира. И приезжает к ней, в надежде, что тетя примет в свою семью. Но вместо того, чтобы приютить Михаила, она отдает его в детский дом, из которого ему удается бежать. И он возвращается в г. Дунаевцы. Постепенно осваивает специальность и работает парикмахером. В 50-е годы его к нему приходит подстричься Марценюк Бронислав Иванович — сын Юзефы. Они обнялись и вспомнили тяжелые времена оккупации. Кстати, тетя Брониславы — Малярчук Надежда Дмитриевна прятала после первого погрома семью швецов (фамилия и имя, к сожалению, неизвестны). Спасала в хижине, а днем они находили убежище в cкирде. Ночью ночевали в сарае. Время от времени полицейские проводили рейды по селу, выискивая евреев. Уже известный полицейский Решетюк нашел супругов в снопах сена и привел их в гетто. Они встретили свою смерть в урочище Солонынчик. В те же 50-е годы Михаила призвали на службу в ряды армии. Cлужил в г. Львов. В парке г. Дунаевец знакомится с будущей женой Аровой Фаиной Альперьевной. 8 марта 1953 состоялась хупа (свадьба) и через год родился сынок Ефим, а позже и дочь Элла. К большому сожалению, супруги прожили короткую жизнь; Фаина умерла в 1985 году, прожив 57 лет, Михаил умер в 1988 году, прожив также 57 лет. В дни памяти жертв Холокоста поклониться памяти родных всегда приезжал Михаил с сыном и дочерью на место их гибели — Демьянковецкая шахта. Эстафету памяти приняли дети и внуки.

Благодарен Барташок Владимиру Ивановичу — жителю села Горчичная, внукам семьи Тиж — Анатолию Дмитриевичу и Александру Павловичу, Марии Брониславовне Марценюк (Иванюк) — внучке Юзефы Марценюк — родные которых с риском для жизни спасли Михаила Сироту в годы фашистской оккупации и предоставили мне воспоминания родных. Детям Михаила Сироты — Ефиму Сироте и Элли Сасовер (Сироте), товарищу детства Михаила Карлу Иосифовичу Эпштейну — человеку прошедшему десять кругов ада в страшные годы Второй мировой войны — за сотрудничество в написании этой истории жизни Михаила Сироты.

А сейчас рассказ о человеке, который выжил в Дунаевцах в период фашистской оккупации, многократно смотрел смерти в глаза — Карле Эпштейн.
Карл Иосифович Эпштейн родился 14 февраля 1930 года. Проживал в г. Москве. Отец был незаконно репрессирован и отправлен в Сталинские лагеря. Карл с матерью и сестрой вернулся на родину матери в г. Дунаевцы.
После страшных двух погромов май-октябрь 1942 остался жив. Под фамилией Заботюк Владимир Павлович (с этим мальчиком он сидел в школе за одной партой), попадает как «остарбайтер» в Берлин, работает на немецком предприятии.
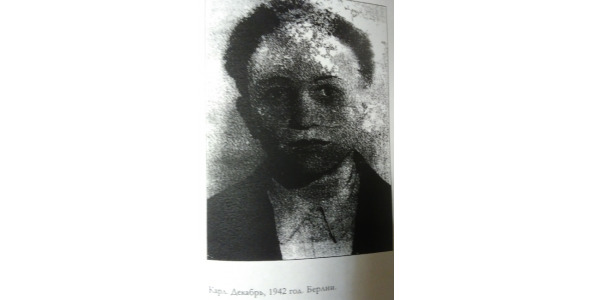
В 1942—1944 годах был узником «Моабитской тюрьмы», а уже в апреле попадает в часть Красной Армии и принимает участие в штурме Берлина. За спасение заместителя командира взвода — медаль «За боевые заслуги», другие награды: «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», и ряд юбилейных наград. Демобилизовался в 1950 году.
В 1953 году встретился с отцом в Норильске. Отец был реабилитирован в 1956 году. После службы приехал в город Львов, там учился и работал начальником цеха на Львовском заводе №246, а затем главным конструктором. Впервые побывал в Демьянковецькoй шахте в 1953 году и ежегодно к 2000 году приезжал на место трагедии в день памяти жертв Холокоста.
В 1970 году переехал в Умань, где проживает до настоящего времени, работал главным инженером завода «Мегомметр».
В 1977 году — директор кирпичного завода. За хорошие показатели в работе и занятое второе место в области среди заводов, награждён областной властью личным автомобилем «Жигули». Сейчас отдает всего себя как Председатель еврейской общины г. Умань. Большую работу проводит по увековечению памяти жертв Холокоста в Умани, в районных центрах, населенных пунктах Черкасской области. При его участии, открыт Мемориальный знак «Памятник жертвам» в с. Ладыженка в октябре 2017 года. Проводит много встреч с представителями религиозных организаций Германии, Бельгии, Израиля и других государств, с дипломатами. Есть даже фото, когда один из немецких представителей религиозных конфессий, встал на колени перед Карлом Иосифовичем, просил прощения за те многочисленные жертвы, которые понес еврейский народ по вине гитлеровской Германии в годы войны.
Он также помог мне узнать о судьбе тех, кто выжил в Холокосте в Дунаевцах — Лизе Койшман и Михаиле Сироте. Я сейчас общаюсь с сыном и дочерью Михаила Сироты Ефимом и Эллой, и помогаю им узнать, кто спасал их отца в годы войны.
В его воспоминаниях написано — мой товарищ Михаил (а это и есть Михаил Сирота). О пережитом в период оккупации Карл Иосифович издал 2 книги — «Десятый круг ада» — в 2002 году в США, и «Рождество 1942 года» — в Германии.

Когда Карл Иосифович передал мне ксерокопию книги «Десятый круг ада», я буквально бросил все, cтал ее читать и вместе с ним (К. И. Е) пережил трагедию дунаевецких евреев, и узнал, каким чудом спасся и выжил этот человек (мальчик). Возможно для того, чтобы показать миру, что представляет собой фашизм.
Краеведам, читателям и жителям города, и тем, кто выжил в Холокосте их детям и внукам я предоставляю «Мои воспоминания детства» — Карла Иосифовича Эпштейна — это его жизнь, трагедия в г. Дунаевцях в период фашистской оккупации. Характерно, что они написаны 20 октября 2000 года, как раз в тот период, когда была 58 годовщина трагедии в урочище Солонынчик — 19 октября 1942, когда погибла его мать Бетя, сестры Роза и Геня. Вечная им память!
Карл Эпштейн
«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА»
Я, Эпштейн Карл Иосифович, родился 14.02.1930 года. К 1937 году мы проживали в г. Москва, ул. Всехсвятская. В апреле 1937 года, отец был арестован, как враг народа. Мать моя Эпштейн Бетя Яковлевна, родом из Украины — г. Дунаевцы Хмельницкой обл. Нас с Москвы выслали. В то время еще не вышел приказ Сталина о том, чтобы родственники арестованных высылались в лагеря. За нами из Дунаевец приехал мамин брат Мотя Фишерман — мой дядя. Мы с апреля 1937 проживали в г. Дунаевцы. В школу я пошел с 8 лет и до войны окончил 3 класса Дунаевецкой школы. Началась война, мы пытались эвакуироваться, но вернулись назад, потому что мать не сумела с двумя детьми сесть в поезд, а станция находилась 18 км от Дунаевец. Пришли немцы, город Дунаевцы было сдано без боя. Началась жизни при немцах. 1 сентября 1941 года я пошел в 4-й класс, но через неделю всех еврейских детей из школы выгнали. Меня мать отдала учиться на сапожника. Мы уже знали, что немцы убивают евреев, а население, в большинстве своем, к евреям относился враждебно, идти было некуда. И вот начались издевательства над евреями. Евреям г. Дунаевцы была предназначена контрибуция в сумме 200 000 руб. и 5 кг золота. Тогда евреи г. Дунаевцы создали юденрат, он состоял из известных евреев города. Они знали, кто из евреев, сколько может дать. Евреи г. Дунаевцы откупились, а евреи местечка Минькoвцы, что находится в 20 км от Дунаевец, контрибуцию не выполнили, и там произошел погром — первый и последний. В м. Минькoвцы, жила моя бабушка — мама моей мамы, тетя, дядя и их дети. Все кроме — бабушки, погибли. Это было 29 августа 1941 года. Бабушка чудом уцелела. И вот моей маме передали, что бабушка жива. Мать послала меня за ней, я привел бабушку к нам в Дунаевцы. Она помылась, надела длинную белую рубашку, легла и ничего не ела, через две недели умерла. Мы ее похоронили. Бабушка знала, что ее ждет, и решила умереть. Юденрат распределял евреев на работу. В Дунаевцах, в бывшем садике, находилась комендатура. Мы дробили камни, делали дорожки для коменданта, зимой 1941– 42 гг. нас гнали чистить от снега дорогу, ведущую на Дунаевецкую станцию. Надо отметить, что в Дунаевцах было очень много беженцев — Черновицких евреев, работавших в разных под руководством юденрата. И вот весной 1942 года на евреев г. Дунаевцы наложили новую контрибуцию — 300000 руб. и 10 кг золота. Гетто в г. Дунаевцы еще не было, евреи жили по всему городу. Юденрат составил списки евреев, которые должны платить. Нашей семье тоже надо было платить, но мы были очень бедны, перед самой войной мама получила из Польши посылку от нашего дедушки из Белостока (Польша). Там были авторучки мне и Розe (сестре), комплект вилок и ложек из серебра. Все это мама сдала в юденрат. Помощником юденрата был наш сосед Шике Корин (с его сыном Сашей я встречался уже где-то в 1960—1961 году). Дело в том, что начиная с 1953 года я регулярно, до прошлого года, ездил в Дунаевцы на могилы моих близких. Итак, евреи и эту контрибуция выполнили. Несмотря на это 8 мая 1942 года наc всех евреев города согнали на прежнюю МТС и началась сортировка. Стариков и детей, матерей с маленькими детьми и родителей, которые не хотели оставлять своих детей, сгоняли в одну сторону, а трудоспособных — в другую. Так меня отделили от матери с сестрой и нашуколонну, растянувшуюся на несколько километров, погнали по дороге на Минькoвцы. Охрана состояла из пеших полицейских и полицейских на бричках, вооруженных винтовками. И было несколько немцев из зондеркоманды с автоматами в касках и с бляхами на груди. Идти надо было около 3 км. Там находились горы и вход в горизонтальные шахты. И тут произошла заминка, колонна остановилась, потому что полицаи и немцы заставляли евреев раздеваться догола. Колонна, длиной в несколько километров, остановилась, люди началиразбегаться, началась паника, стрельба. Я тоже побежал за мной погнался немец с автоматом. Это была окраина Дунаевец, все дома одноэтажные. Люди — украинцы, закрылись в домах, боялись. Я побежал за дом и попал в уборную, опустился вниз и повис на руках. Немец в туалет не зашел, а из автомата прострочил по уборной. В уборной я просидел до вечера. Ни немцы, ни полицейские преследовать евреев, бежавших из колонны послепогрома, не стали. В основном это были пацаны моего возраста 10—14 лет. Всех евреев, которых гнали в шахту, раздевали и загоняли заживо в шахту. Затем вход взорвали, и они там все умерли. Это был первый погром в Дунаевцах. Убивали стариков, детей и родителей, которые не хотели оставлять своих детей. Я дождался темноты, хозяйка дома принесла воду, я до колен был в дерьме, помылся и, когда совсем стало темно, стал пробираться домой. У нашего дома лежала куча трупов, в основном это были те люди, которые прятались и больные, они не могли пойти на сборный пункт в МТС. Их выводили из домов полицейские и расстреливали. Подойдя к дому в ночь на 9-е мая 1942 года, я услышал шум — это полицейские грабили еврейские дома. Я спрятался под кучу трупов, полицейские прошли мимо. Я пролежал под трупами до утра. Утром немцы акцию закончили и всех евреев, которые были признаны работоспособными, отпустили по домам. Вылез из своего укрытия и я. Моя мать и сестра были уже дома, когда и я заявился. И здесь, буквально через несколько дней, началось строительство гетто. Надо отметить, что еврейские дома после первого погрома разграблены не были, поэтому нас, пацанов, юденрат заставил сносить все вещи убитых евреев, что мы и делали в течение нескольких дней. Сносили вещи в бывший магазин. Взрослые мужчины строили гетто. Это целый район обносился забором с колючей проволокой. В этот район согнали всех евреев, оставшихся после погрома. Спаслось и много детей разного возраста и некоторые пожилые люди. Спасся и мой друг Михаил 12 лет, и после второго погрома он спасся. Умер товарищ лет 5 назад. Его мама с его братом погибли при первом погроме. Спаслась моя двоюродная сестренка Геня 4-х лет, она до второго погрома жила в нашей семье. Ее мать, родная сестра моей мамы, тетя Соня со старшей дочерьюРивой 6 лет, погибла в шахте. А девочку Геню она передала через забор МТС одно й медсестре — рядом была больница, и девочку подстригли наголо и положили в инфекционную палату. Когда немцы проверяли, им сказали, что у девочки тиф. Так она уцелела, ее отдали моей матери. Началась жизнь в гетто. Юденрат распределял на работу и однажды 19 человек послали на станцию выгружать уголь. Они, почему-то не закончив работу, самовольно вернулись. И здесь начали делать на столбах крючки виселиц, всех 19 человек — ребят арестовали, согнали из домов всех евреев и стали этих ребят вешать. Люди разбежались, я спрятался на чердаке и смотрел, как вешали. Повесили всех 19 ребят. Самое трудное — это было обеспечить семью пищей. Все вещи, которые у нас были, мама променяла на продовольствие. Помню однажды, уже в гетто, мама променяла родительские валенки на пуд муки врачу-ветеринару, я потом много раз ходил к нeмy в деревню, и он всегда давал мнепродукты. Наша семья в гетто состояла из 4-х человек, обеспечение продовольствием полностью ложилось на меня. Я ночью бежал из гетто и ходил по селах, прося у крестьян подаяния. Ходить приходилось в далекие села за 10—12 км, так как в ближние ходили очень многие, такие, как я. В основном за день набирал 15—20 кг продуктов и — в гетто, а ночью возвращался. Крестьяне, в основном, давали кто картошку, кто и яйцо даст, стакан муки, кукурузу, а кто и собаку отпустит, разное бывало. Но в основном давали, иначе бы в гетто все с голода умерли. Над нами жил сосед, мужчина лет 30—35, он после первого погрома спасся с женой и дочерью лет 6 (шесть). Под нашим домом был долгий подвал, но немцы все подвалы опечатали. А этот подвал находился под нашей комнатой, сосед пробил лаз и мы, как только слышали, что завтра будет погром, все спускались в этот подвал. Ждали погрома. То, что погром будет, в гетто знали все. С гетто взрослых выводили на работу, а детей не выпускали. Охраняли гетто полицаи, на шапках у них и рукавах желтые трезубцы. Мне еще и сейчас жутко, когда я вижу нашу символику — тот же трезубец. Все евреи носили желтые латы, мы, пацаны, носили их на веревочках — пошел по селам, снял латы и в карман. Затем стало сложнее — заставляли пришить к одежде. Неоднократно мы прятались в подвале, ожидая погрома. Я помню, что этот человек, который построил лаз в подвал, рассказывал, что немцы Москву не взяли, что наши наступают и вот-вот возьмут Харьков. С нашей большой родни, проживавшей в Дунаевцах, осталось только 4 человека. Все остальные погибли в шахте в мае 1942 года. У мамы была большая родня. И вот наступило 18 октября 1942 года. В лагерь вернулась рабочая бригада, копала большие длинные ямы. Им сказали, что эти ямы для буртов под картофель. Это было на окраине села Чаньков, в 4-х км от Дунаевец, Место называется Солонынчик. Эти люди и рассказали, что ямы для евреев и будет погром. Вот тогда 18 октября вечером, уже было темно, гетто усиленно охранялось, люди ожидали, что 19 октября будет погром. Мы сидели, в комнате и мать, обращаясь ко мне, сказала: «Карл, хотя бы ты убежал, спасся и когда-нибудь отомстил бы за нас». Это были последние слова, которые я слышал от своей матери. Ни слова, не попрощавшись, я 18 октября 1942 пролез под проволокой и исчез в темноте. Часовой меня не заметил — моросил дождь. Часов в 11—12 вечера, я пришел в село Горчичную и постучал в дом к тому ветеринару, который на муку выменял у моей матери валенки отца. Они меня впустили в дом, и я ночевал в них. Из дома меня не выпускали, боялись, что увидят соседи. 19 октября, днем в селе уже знали, что в Дунаевцах погром. Меня строго предупредили из дома не выходить, прятали меня под печью, а ночью клали спать на печь. Это было 20 октября 1942 года. И вот ночью, часа в 2—3 раздался стук в окно, меня тут же отправили на печь и когда открыли дверь — в дом вошла еврейка, тоже их знакомая учительница младших классов Дунаевецкой школы Койшман Елизавета Семеновна. В нее сзади на спине была маленькая дырочка — входное отверстие от пули, а впереди была оборвана часть левой груди. Она вошла и упала. Здесь нужна была и моя помощь. Мы ее положили на скамейку, и ветеринар начал обрабатывать рану. Ему помогала жена Мария. И вот, когда Елизавету Семеновну перевязали, ко мне обратились хозяева и сказали, что двоих они держать-прятать не смогут и что я должен уйти. Как только начало светать, я покинул дом своих спасителей, которые прятали меня двое суток. Куда идти? Начало светать, я почти разутый и раздетый — холодно. И вдруг я услышал, что кто-то рубит дрова, пошел на стук топора, смотрю — здоровый мужик рубит дрова, в сапогах и нижней рубашке. Я спросил, можно ли войти, но тут на пороге появилась женщина, видимо его мать, и она меня впустила в дом, причитая: «Что это делается на свете?». Она посадила меня к столу, нарезала хлеба, подал целую миску борща, и я начал есть, а она все плакала. Во дворе стучит топор, а я все ем. Хозяйка дала мне есть кровяную колбасу, и тут входит в дом тот мужик, что рубил дрова. Он оделся, подошел ко мне и говорит: «Собирайся, жидок» Передо мной, в форме полицейского, стоял мужик, что дрова рубил. А его мать принесла мне целую тарелку кровяной колбасы. Я надел свое пальто без карманов и стал засовывать под подкладку эту колбасу. Я знал, куда он меня поведет, но оставить колбасу просто не мог. В углу комнаты он взял винтовку и повел меня через село в Дунаевцы. Шел дождь, идти было очень скользко, к его сапогам налипал чернозем, а мы все шли. Идти к Дунаевцам надо 6 км — три подъема и три спуски. И вот пройдено два подъема и начался спуск, а там и последний подъем, когда бежать будет поздно. Дело на пахоте стоял трактор, сзади шел полицейский и до начала спуска я рванул к трактору по вспашке, полицейский за мной и кричал: «Стой! Стой!», но я легкий и уже за трактором, а он по вспашке в сапогах зазруз. Прозвучало два выстрела. Я бежал, только кровянка била меня по ногам, мешая мне бежать. Я до сих пор думаю, почему он в меня не попал? И прихожу к выводу, что стрелял он просто так. Кто его знает… Я убежал. Кругом леса, холодно. В лесу я нашел траншею, набрал туда листья и прятался там несколько дней. Куда идти? Домой? — дома уже нет, нет никого, я уже знал, что такое погром. Знал, что в семьях меня никто не спрячет, знал, что за бешеной собакой так не охотятся, как за евреями. Я боялся встречи с людьми. И я решил идти на восток — там наши. Я двинулся по ночам на Винницу, а днем прятался в лесу, съел кровяную колбасу, потом ел что попало. И так я добрался до Бара Винницкой области. При входе в город надо перейти мост через Южный Буг. При входе на мост стоит румынский часовой, а с другого конца — немецкий. Я слышал, что румыны евреев не убивают и, подойдя к румынскому часовому, стал проситься, чтобы он пропустил меня на свою территорию. Но он меня не пускал. Потом мне говорили, что румыну надо было хоть кусок мыла дать и он бы пустил. Но у меня, кроме лохмотья, ничего не было. И я прошел через мост вместе с крестьянами, которые шли утром в Бар на базар. Но в Баре, оказывается, тaк же вылавливали таких, как я. И на базаре меня схватили полицаи, привели в комендатуру. Меня поместили в кладовую для бездомных. И вот меня полицай — казак в папахе с трезубцем повел к коменданту. Комендант немец спрашивает: «Bist du Jude?» (Ты еврей?). Я притворился, что не понимаю, что он спрашивает. Переводчик перевел: «Ты еврей?». Я сказал, что я украинец, и фамилия моя Заботюк Владимир. Немец рявкнул: «Hosen аb!». Переводчик перевел: «Сними штаны!». Я все понял, но специально стал тянуть, делая вид, что стесняюсь. И тогда переводчик рванул с меня штаны. Немец рявкнул: «Weg von hier!», что означало — вон отсюда. Здесь нужно пояснить, что отец мой был коммунистом, и он не признавал религию евреев, которая требовала делать мальчикам обрезание. Таким образом, я был спасен.
К. И. Эпштейн. 20.10.2000
НАМ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ
История жизни в период оккупации моего классного руководителя Вейхермана В. С.
Тематика героизма народа в годы Второй мировой войны, Холокоста и Праведников и подвига моих родных заинтересовала меня еще в 2000 году, когда я начал собирать материалы, подтверждение свидетелей, воспоминания родных спасенных от фашистского уничтожения, письма, фото и прочее на присвоение звания Праведник мира моей матери Будзинской (Шындыбыло) Галине Ивановне, дедушке Ивану Гордеевичу Шындыбыло и бабушке Федоре Николаевне Шындыбыло. Судьба распорядилась так, что я в 2008 году побывал на Святой земле. Через 35 лет нашел своего классного руководителя Вейхермана Владимира Семеновича, который мне рассказал кто спасал его и родных в годы войны. Затем посетил в Иерусалиме Всемирный музей Холокоста Яд-Вашем. Все это меня очень поразило. Я увидел ужасы массового уничтожения евреев на территории Европы и бывшего СССР, узнал имена Праведников, которые, несмотря на угрозу собственной жизни и родных спасали евреев, часть из них были брошены в Сталинские лагеря и те евреи, которые спаслись.

Будзинский Илья и Вейхерман Владимир Семенович; Маалот, 2016
Возвратившись, домой, об увиденном в Израиле, я рассказал родным о посещении Святых мест. Отцу о Владимире Семеновичу, с которым он работал в конце 50-х годов 19 века в Дунаевецкой школе. После смерти отца 2008 году, перенесенной мною тяжелой болезни и смерти мамы в 2011 году, я восстановил в памяти события фашистской оккупации г. Дунаевцы со слов классного руководителя. Из под моего пера вышли статьи «Это стоит помнить» от 14 октября 2013 года в газете «Дунаевецкий вестник», и в статье «Стоит помнить» от 3 июля 2014 года в этой же газете о своем классном руководителе Владимире Семеновиче Вейхермане. Как он, его младший брат и мать, пережили фашистскую оккупацию и спаслись от уничтожения.
До начала Великой Отечественной войны семья Семена Наумовича Вейхермана и Марии Матвeевны Вейхерман (Аккерман) проживала в Дунаевцах по улице Первого Мая, 4. В семье воспитывались два сына: Владимир (Виля, 1929 года рождения) и Яков (1935 года рождения). С началом войны Семен Наумович был призван в ряды Красной Армии, yшёл на фронт и там погиб. Мария Матвeевна с сыновьями осталась в Дунаевцах. Вскоре г. Дунаевцы оккупировали фашисты. В период первого погрома семье удалось выжить Виля и его братик Яков, которые спаслись в повозке из ясель, с матерью Марией двинулись на восток.
Семья Вейхерман, пережив страшные ужасы войны, скрывалась в разных селах и городках Подолии: Фрампoль (ныне Косогорка), Ярмолинцы, Городок, (село Чорноводы Городоцкого района села Горчичная, Польный, Мукаров Дунаевецкого района, (Лучинец (Винницкая обл.). Алчедар (Молдова) — территория, так званой Транснистрии оккупированная румынскими войсками) Дождавшись освобождения Дунаевец, семья, оставив села Алчедар и Лучинец, поездом вернулась домой.
Первым населенным пунктом, куда пришла семья Вейхерман, был Фрамполь. Со стороны г. Ярмолинцы услышали рев моторов немецких машин. Мария предупредила детей — возможен погром. Уже на утро двигалась колона машин и беженцы вынуждены были уйти в лес и там найти убежище. Через некоторое время решили двигаться на г. Городок. На подходе к Городку, услышали выстрелы и остановились в раздумье, и решили идти в еврейское местечко Ярмолинцы Но в Ярмолинцы так и не пришли, потому, что там уже начинался еврейский погром. Полицаи и немцы начали изгонять из своих домов евреев г. Ярмолинцы и из близ лежащих сел и беженцев, и грузить их в машины и отвозить их в военные казармы Они придумали версию, что собирают евреев для отправки на Святую землю, а фактически — это была акция уничтожения. Все это издали видела Мария с детьми Вилей и Яковом и снова двинулись на Городок. В районе Городка, в ложбине семью Вейхерман полицаи поймали и отправили к другим беженцам, и постепенно начали сгонять туда людей Oбразовался лагерь около 200 человек. В это время Марию не покидала мысль, как выжить и спасти своих детей? И она нашла выход. Подойдя к полицаю она отдала ему стоящие дорогие вещи и как бы «незаметно»» ушли с этого лагеря, и семья попадает в село Черноводы Городоцкого района Tам она находить спасение на некоторое время. А в это время немцы и полицаи в октябре 1942 года проводят акции массового уничтожения евреев г. Дунаевцы во рвах Солонынчика и уничтожение евреев в военных казармах г. Ярмолинцы, и такое название, как гетто, перестает существовать Это становится известно Марии и она решает возвращаться назад в сторону г. Дунаевцы, а потом переправиться через реку Днестр попасть на территорию Транснистрии. Полями, посадками, просеками семья возвращалась в Дунаевцы. Здесь в Дунаевцах встретили соседей (Бурковский и Семенов) и чтобы не показать им, что семья будет жить в своем доме, Мария дала им денег якобы для покупки семечки. А сами пошли к главврачу Михаилу Васильевичу Румянцеву, который во время оккупации помогал евреям г. Дунаевцы, в спасении их по несколько дней, а также ему оставляли вещи на хранение. Забрав у него вещи, Мария с детьми пошла в село Горчичная и зашла в первый попавшийся дом, как позже оказалось, секретаря сельского совета (Фамилию В. С. Вейхерман не помнит) и прятались какое-то время в сарае. (Я предполагаю, что это был староста села Бендас Игнат).

В cеле Горчичная долго оставаться нельзя было из-за полицаев и беженцы покидают это село и идут в сторону села Польный Мукаров. (Фото №10)
Своему спасению в селе Польный Мукаров семья Вейхерман объязана семьям: Максима Паляницы и Ивана Манькевич. До войны Максим Андреевич Паляныця (1894—1991) и его жена Марфа Тимофеевна (1897—1971) проживали в селе Польный Мукаров, работали в колхозе. Семья больше месяца спасала Марию Вейхерман ималенького Вилю в сарае для скота, а затем в доме. Виля был веселым мальчиком. Вместе с дочерьми хозяев Александрой и Верой он грелся на печи, когда было холодно. Как раз в тот период, когда в селе начали регистрировать молодых юношей и девушек для переселения в Германию, Максим Паляныця вынужден был предложить семье Вейхерман искать другое убежище.
И семья Вейхерман пришла в дом Ивана Михайловича (1890—1972) и Екатерины Степановны (1893—1974) Манькевич в селе Польный Мукаров. (Фото№11).

Польный Мукаров — спасители семьи Вейхерман
Иван Михайлович работал ездовым на ферме, возил молоко в Дунаевцы. В семье росли четыре дочери: (Мария, Лидия, Людмила и Галина), старшая из которых, Мария (1918—1985), ухаживала за Вилей. Мария накануне войны вышла замуж за Станислава Иосифовича Ланика, который работал учителем математики. Вскоре Мария родила дочь Галину Ланик (1940—1996). Станислав Иосифович ушел на фронт и погиб. Владимир Семенович до сих пор помнит маленькую Галину. Галина выросла, вышла замуж за Михаила Цыгельского, у них родились дочери Оксана и Светлана. В 1990 году Владимир Семенович задержался с выездом в Израиль, чтобы присутствовать на свадьбе Оксаны Цыгельськой (Чмиль после замужества), правнучки своих спасителей Ивана Михайловичаи Екатерины Степановны Манькевич. (Фото №12)

и Екатерины Манькевич; 1990 год
Потом семья Вейхерман оставила Польный Мукаров потому, что села Дунаевецкого района и г. Дунаевцы находились под немецкой оккупацией и было не безопасно оставаться на этой территории. Поэтому со стороны Транснистрии время от времени приходили люди, помогавшие евреем покинуть зону оккупации немецкими войсками. Tак в один из дней пришел такой человек и помог Марии Матвеевне и Виле переправится через реку Днестр. И они оказались сначала в селе Лучинец Могилев-Подольского района а потом на территории Молдовы в селе Алчедар и пробыли там до освобождения г. Дунаевцы и Дунаевецкого района 31 марта 1944 года. Вскоре семья Вейхерман возвратилась домой в г. Дунаевцы. Через несколько дней встретился Владимир Семенович с Михаилом Янкелевичем Шустером (1930—1998 г.г.) и пришли к Демянковецкой шахте на место трагедии 8 мая 1942 года. Здесь заживо былы погребенены более 3 тысяч человек, в том числе и родня Владимира Семеновича по материнской линии. Сверху через развалины в каменоломнях они увидели ужасную картину: скелеты большие и маленькие, стоящие и лежащие. Эта картина долго была у них перед глазами и осталась на всю жизнь.
Мария возвратилась в свой городок Дунаевцы и чтобы поднять Вилю на ноги воспитать и выучить, второй раз выходит замуж за Аккермана. В этом браке родилась красавица дочь Рита, к сожалению, очень рано ушла из жизни. А что касается Якова — его судьба трагическая Когда Мария с детьми покидала село Горчичная за ними увязался человек (по всей видимости полицай) который начал снимать с Марии хромовые сапоги а ей бросил свои старые и Мария отдала еще и последние деньги и он их отпустил. Потом они пришли к скирде в поле и там немного отдохнули. В поисках пищи Мария с Вилей отправилась в село Польный Мукаров, а Якова, который очень устал и замерз, Мария упрятала в скирду и сказала ждать ее там, не выходить из нее. Но когда через время она возвратилась c Вилей, ребенка в скирде не было. Как она не кричала, рыдала, звала, искала так она его и не нашла. Можно предположить, что его убил полицай и спрятал в овраге или он ушел в лес и там его разорвали собаки или волки или шальная пуля. Если бы он выжил, то он бы через некоторое время бы заявил о себе, ведь мальчику на это время было уже семь лет. А так он навечно остался семилетним и без вести пропавший.
ИХ ИМЕНА ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ВЕЧНО
Много новых слов принесло ХХ века в лексику современного человека. И одно из самых страшных «Холокост», что в переводе с греческого означает «жертвоприношение». Так называют геноцид Германии против еврейского народа в годы Второй мировой войны. То, что произошло с Европейским еврейством на иврите называется «ШОА» — катастрофа, потому что евреи потеряли за период войны — 6 млн. Человек, треть своего народа. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Голокосту. Украина на государственном уровне почтит жертв трагедии с 2012 года. В этот день памяти вспоминаем всех жертв преступлений гитлеровской Германии, а также отдаем дань уважения тем, кто, рискуя собственной жизнью спасал преследуемых, воспротивились этому безумию. Расовая теория, лежавшая в основе нацистской идеологии означало: славяне как «низшая раса» должны быть преобразованы в рабов, а евреи — «нелюди» — уничтожены в первую очередь. Окончательное решение «еврейского вопроса» включало в себя создание гетто, лагерей смерти и массовые расстрелы на всех захваченных территориях. 29 сентября прошла 76 годовщина трагедии Бабьего Яра — ставшая символом Всеукраинского дня Холокоста. На Украине уничтожено 1 млн 700 тыс евреев, составляет 1/3 всех уничтоженных на территории бывшего СССР. Лишь незначительная часть евреев сумела выжить в такой страшный период фашистского нашествия и оккупации. В основном это те евреи, которые сумели эвакуироваться на восток, которые были на фронте и те, которых спасали люди не еврейской национальности. Их называют Праведниками. Мудрецы учили нас тому, что с одного человека возникло человечество. И тот, кто спас одного человека, спас человечество. Праведники — соль этой земли, яркий пример совести и чистоты и до тех пор, пока люди будут люди, для которых человеческая жизнь является высшей ценностью, будет и человечество, и будет мир в мире. Праведники уникальные свете люди, с риском за свою жизнь и своих родных (фашисты фактически расстреливали всю семью тех, кто спасал евреев), они спасали других, даже совсем незнакомых людей. Подвигy спасителей жить вечно! И именно поэтому, в селе Зеленче Дунаевецкого района Хмельницкой, на торжествах, посвященных 23 годовщине Независимости Украины в 2014 году открыта Мемориальная доска Праведникам мира — семьи Шиндибило-Будзинского, моему дедушке — Ивану Гордеевич, бабушки — Федоре Николаевне и моей матери Галине Ивановне. И на этом мероприятии, у меня как сына и внука Праведников, было чувство гордости и благодарности своим родным за величество их подвига, которые в период фашистского геноцида в 1942—1944 гг. c риском для жизни спасали еврейскую семью сельского учителя Марьянского Моисея Лазаревича и его жену Еву Львовну. А с другой стороны у меня была тоска по тем, кто совершил этот подвиг и тех, кого спасли от уничтожения, уже нет в живых.
И здесь, как никогда, уместны слова из стихотворения Наири Багдасаровой «Праведники мира».
Они сейчас, наверное в раю
Кто этот мир от зла старался уберечь
Путь заслоняет к жертве палачу
К разумy пытался достучаться.
Их голос возносился над толпой,
Деяния угодны были Богу!
Навек остались в памяти людской…
Спасители великого народа
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.