
Бесплатный фрагмент - Экзистенции
Экзистенция — это, что никогда не может быть объектом, то есть это нечто такое, что я никогда не могу ухватить в виде предмета. Когда мы говорим о человеке так, что пытаемся в нём пояснить ту его сторону, в которой он никогда не есть то, что он есть, — значит, мы говорим об экзистенции. Есть вещи, которым даётся только отрицательное определение; экзистенция есть одна из этих вещей. То в нас, что мы никогда не можем сделать объектом, то в нас, что скорее не является объектом (который мы перед собой поставили бы и называли бы его словами), а скорее является выражением нас самих в нашем существовании, — это нечто и есть экзистенция.
Мераб Мамардашвили
ЛИМБУС

Белый потолок перестал быть естественной границей досягаемости взгляда, и за ним открылось то, на что только и стоит смотреть. Я смотрел и слушал.
Тишина в городе непривычна и пугающа: одолевает тревога, что все его жители спешно оторвались от своих дел и покинули обжитые места, забыв предупредить тебя о глобальной, но пока не осязаемой опасности. Однако тревога быстро превращается в досаду от мысли, что такой поворот событий был бы на самом деле желаемым, а потому, разумеется, невозможным. Они наверняка все здесь, эти суетящиеся Другие, просто взяли временную передышку, копя силы для очередного бурного дня. Я решил воспользоваться преимуществами ночного бдения и вышел из дома.
Воздух густ и ароматен, и я трогаю его рукой, обмениваясь рукопожатием с порывом ветра, а потом консервирую в сжатой ладони. Скамья возле дома приглашает присесть, но я решился на ночной вояж не ради очередной победы статики над телом, и скамья остаётся позади, словно поверженный агент мировой инерции. Наверное, кто-то считает, что у движения должна быть цель, но я отказываюсь рассматривать цель движения как нечто внешнее самому движению как процессу, и сливаю их воедино. Слипшиеся противоположности — продукты деятельности моей примиряющей натуры, ведь мосты сводит и разводит обычно один и тот же человек. Но сейчас рядом со мною только воплощённое отсутствие, и оно явно приятнее присутствия, давящего безусловностью овеществлённой предметности.
При этом я почему-то не угадывал местность: неизвестные элементы пейзажа свидетельствовали о том, что я попал в незнакомые места. Тем лучше, ведь новые впечатления рождают нового меня. Серый цвет уступал место красному, но всё было настолько разбавлено чернотою неба, что тусклость воплощённого в окружающем пейзаже мольберта напоминала Вавилонскую башню от живописи, когда бог в наказание за пренебрежение к индивидуальности смешал городским рисовальщикам краски. Утром яркость и контрастность цветов вернутся, но сейчас я напоминал героя какого-нибудь фильма, виденного мною в детстве на поломанном чёрно-белом телевизоре: я не всегда мог различить его действия и окружающую обстановку, и мне казалось, что и сам герой мучается от того, что вынужден действовать едва ли не на ощупь. Чтобы избавиться от гнетущего ощущения движения в лабиринте без спасительной нити, я выставил вперёд руки, обрекая их на необходимость встретить невидимую опасность прежде, чем она станет достоянием моего сознания. Итак, я попал в абсолютную темноту, плотность которой незаметно и неожиданно достигла максимума.
— Как такое может быть в современном городе? — Спрашивал я себя вслух, удивляясь попаданию в эту загадочную лакуну. — Откуда взялся этот перерыв непрерывности, чёрная дыра в урбанистическом микрокосмосе, анклав Ничто в бессмысленной континуальности Нечто?
И стоило мне подумать, что чаемое отсутствие осуществилось, достигнув логического экстремума, как обувь начали грызть чьи-то маленькие зубы. В ужасе я стал прыгать на месте, не столько чтобы защитить ботинки, сколько протестуя против вторжения в мою безмятежность чего-то неизвестного и, судя по всему, недружелюбного.
— Тихо, тихо! — Недовольно пробурчал сдавленный голос откуда-то снизу. — Ты можешь наступить на меня.
— А почему я должен считать это нежелательным? — Спросил я, прекращая, тем не менее, свои прыжки. — Кто ты?
— Я крот, самое трагичное в мире животное: только я могу зрить в корень, однако, к сожалению, совершенно незряч. Ты удивлялся темноте и пустоте, а это значит, ты на мгновение стал мною, и теперь знаешь, что надо сделать, чтобы ощутить их в полной мере — надо пробраться в моё царство, ведь земля — это максимальное сгущение тьмы и пустоты.
— Мне неуютно в твоём царстве. Как мне отсюда выбраться?
— Вечно одно и то же: сначала вы сюда стремитесь, а потом не знаете, как выбраться! — Бурчал крот. — Иди за мной.
— Я тебя не вижу.
Где-то внизу появился небольшой источник света, и я увидел, что в лапе крота, одетого в старомодный костюм, находится канделябр с тремя зажжёнными свечами. Мы двинулись вперёд. Свет разгорался всё ярче, и вскоре я уже мог различить происходящее вокруг. Мы шли по узкому проходу между двухэтажными домиками, пока не вышли на свободное пространство. Свет от канделябра словно стал частью среды, потеряв чёткую пространственную локализацию; крот при этом незаметно исчез. Этому я не особо расстроился, хотя вынужденно отметил, что он весьма своеобразно выполнил обязанности гида: вместо того, чтоб вывести меня в знакомое место (впрочем, откуда крот мог знать, какое место мне знакомо, а какое нет?), он привёл меня на небольшую площадь, которую я видел первый раз. Домики, обступающие площадь, намекали на присутствие людей.
Вдруг дверь одного из домиков со стуком распахнулась, и из тёмного проёма выбежал маленький человечек с заросшим шерстью лицом и висящими длинными ушами. В руках у него была плеть, которой он с отвратительным щелчком стеганул меня по лицу, стоило только последнему оказаться в пределах её досягаемости. От неожиданности я повалился на поросшую мягкой травой землю, а человечек запрыгнул мне на грудь и сжал голову ручками с длинными и острыми когтями.
— Что нюхал ты в последний раз? — Завизжал он.
Несмотря на полуобморочное состояние, я постарался припомнить, но ничего конкретного на ум не приходило.
— Не помню, не знаю… — лепетал я, — ничего особенного…
— Ничего особенного? Зачем тогда тебе нос? — Прокричал он, не помня себя от ярости, и, просунув пальцы мне в ноздри, начал их разрывать.
Непереносимая боль заполнила собою сознание, не оставляя места даже для удивления, и я почувствовал, как по лицу начинают течь потоки бурной, как в половодье, крови. Я извивался под тяжестью тела мохнатоголового, но сбросить его с себя никак не удавалось. Когда ноздри были совершенно разорваны, а лицо превратилось в один сплошной очаг боли, человечек слез с меня, засунул руку мне в рот и потащил куда-то, держа за верхнюю челюсть.
Следующее, что я почувствовал, был удар головой обо что-то деревянное, видимо, порог дома, о чём я догадался, когда увидел вокруг себя стены какой-то комнаты. Человечек, наконец, вынул руку из моего рта. Я пытался приподнять голову и осмотреться, но нога в кованом сапоге придавила затылок к полу.
— Не воротятся с миром те, кто ушёл по велению души! — Забасил голос сверху. — И да не будет место их пребывания юдолью неги и покоя!
Две невидимые руки подхватили меня под плечи и усадили в кресло, напротив которого, точно в таком же кресле, сидел человек с совершенно круглой головой. Больше никого в комнате не было, да и сама она была абсолютно пустой. Кровь залила мне одежду и продолжала медленно стекать по лицу.
— Ты обвиняешься в неповиновении данности, — объявил мне круглоголовый после некоторой паузы, — и теперь пришла пора зачитать твой приговор.
— Разве у меня не будет возможности сказать что-нибудь в своё оправдание? — Спросил я, опасаясь, что результатом этого неожиданного суда станут новые издевательства.
— Говори! — Милостиво позволил судья.
— Разве есть что-то странное в том, что когда паутина начинает оплетать твой дом, ты пытаешься убить паука?
— А разве есть что-то странное в том, что паук при этом пытается отравить тебя своим ядом, видя, как ты разрушаешь его многодневный труд? — Парировал человек в кресле.
— Но этой мой дом, а паук в нём — незваный гость.
— Некоторые гости приходят без приглашений, потому что видят в чужом доме свободный уголок. Не надо было оставлять этот уголок свободным, но ты сделал это, и теперь у тебя нет дома.
— Поначалу мне казалось, что мы сможем с ним ужиться… — почти промямлил я, готовый признать разумность доводов судьи.
— Вы все стремитесь уживаться вместо того чтобы жить. Жить можно вместе или порознь, а уживаться — это отвратительный компромисс. — Круглоголовый начал сердиться. — Знаешь, что никогда не сможет ужиться друг с другом? Круглое и квадратное.
После этих слов голова судьи стала превращаться из шара в куб. Выглядел он омерзительно. Не в силах смотреть на него, я попытался закрыть глаза, но неожиданно нечеловеческая боль пронзила их: два неизвестно откуда взявшихся ржавых гвоздя вонзились в меня, прибив веки и не давая им закрыться. Я закричал от боли, удивляясь, что не умираю и даже не теряю сознание.
— Мы всегда разговариваем с человеком на его языке, — сказал судья, не без удовольствия глядя на мои попытки осторожно вытащить гвозди из глаз. Из-за моей спины, чинно вышагивая, появилось существо, отдалённо похожее на цаплю, но с гноящимися язвами и швами на лишённом перьев теле и принялось клевать меня, каждый раз выдирая длинным клювом маленькие кусочки и проглатывая их с громким клёкотом.
Судья промолвил:
— Ну что, ты и на этот раз будешь спокойно смотреть, как кто-то претендует на часть тебя?
Я воспринял эти слова как призыв к действию и схватил цаплю за клюв, пытаясь сжать две её половинки. Впрочем, потом я переменил тактику, и начал, наоборот, раздирать пасть этому мерзкому существу. Та оказалась мягкой и податливой, и вскоре в моих руках оказались две половины этой непонятной птицы. Брезгливо отбросив их в сторону, я закричал, что больше не могу выносить всего этого, и потребовал срочно выпустить меня отсюда.
Судья добродушно рассмеялся:
— Срочность существует лишь там, где есть время. А здесь все отрезки превращаются в прямые.
Одна из рук судьи стала увеличиваться в длине, а тот начал обрубать её ладонью другой руки, принявшей очертания топора. Потом он собрал с пола все получившиеся куски и попытался вручить их мне со словами:
— Отрезки — это ваш, человеческий удел.
Я вскочил и побежал к двери. Как ни странно, она легко распахнулась под напором моего плеча, и я очутился на той самой площади, на которой на меня напал мохнатоголовый. Опасаясь преследования, я ринулся через площадь к единственному домику, в котором горело окно. Но добраться до него оказалось не так-то просто, потому что, как я ни увеличивал скорость, домик не становился ближе, хотя расстояние от дома, в котором меня судили, возрастало. Выдохшись, я остановился, чтобы подумать, но стоило мне встать, опираясь руками на колени, как на затылок с глухим стуком опустилось что-то тяжёлое. Удар был не сильным, но неожиданным, ибо я не видел и не слышал чьего бы то ни было приближения. Однако когда я, лёжа на земле, оглянулся назад, то оказалось, что там стоит неизвестно откуда взявшийся стол, рядом с которым огромный богомол в белом врачебном халате вдевал нитку в довольно крупную иглу. Я начал лихорадочно отползать в сторону, но богомол в пару прыжков настигнул меня, взял за ворот и потащил к столу. Я упирался, как мог, но силы были неравны, и уже через пару секунд я лежал на столе под пристальным взглядом отвратительных глаз богомола. Он оглядывал меня с ног до головы и шевелил усиками. Я ждал, что он пустит в ход свою иглу, и оказался прав: первое, что сделал этот странный врачеватель, — пришил мои ладони к бёдрам. Сдерживать себя было невозможно, и я кричал от невыразимых страданий, понимая при этом, что серьёзных увечий, как и в случае с гвоздями в глазах, мне это не принесёт, и все раны рано или поздно затянутся.
Когда руки были плотно пришиты к ногам, богомол предусмотрительно зашил мне рот, после чего достал из кармана халата жутко смердящий коровий хвост, съел его и отложил иглу в сторону. Следующим, что было извлечено из кармана, оказалась пила, которой богомол разрезал мне живот, залез в него конечностью и принялся отрывать мои органы, выбрасывая их через плечо. Наверное, никакой человек на свете не может выдержать таких мучений, но в этом странном месте возможным было всё. Когда эта пытка закончилась, я почувствовал необъяснимую лёгкость и пустоту: видимо, ничего внутри меня больше не осталось. Затем в дело снова пошла игла, и уже очень скоро об этом кошмаре не напоминало ничего, кроме ноющей боли во всём теле. Богомол в последний раз пошевелил усиками и быстрыми прыжками стал удаляться.
Не без некоторых усилий мне удалось оторвать руки от бёдер, а затем разорвать нить, сшивающую губы. Полежав ещё какое-то время на столе, приходя в себя, я встал и побрёл по направлению к домику, в котором горел свет. На этот раз домик приближался, как и было положено, что дало мне основания надеяться на благополучный исход моего вояжа. Впрочем, никто не мог дать гарантию, что внутри меня ждало что-то хорошее, ибо вера в то, что там живут нормальные люди, способные избавить меня от этого кошмара, почти умерла.
Когда до двери оставалось всего лишь несколько десятков метров, в траве вокруг меня что-то зашуршало и всё пришло в движение, словно под моими ногами был живой ковёр. Я ускорил шаг, но мои ноги тонули в чём-то очень мягком, увязая и скользя. Вскоре отгадка этой тайны явила себя, вызвав новый приступ отвращения: по моим штанинам карабкались крупные белые черви, стараясь приступом взять меня, будто средневековый замок. Я начал трясти ногами, глядя при этом на домик, по которому поднималась копошащаяся масса, закрывая собою дверь и окна. Я хотел преодолеть расстояние до домика несколькими крупными прыжками, но поскользнулся и упал, чувствуя руками и телом раздавленную живую массу. Меня вытошнило, но я встал и пошёл дальше, отчаянно молотя по одежде в напрасных попытках сбросить с себя наглых тварей. Наконец я достиг дома, но стоило мне замахнуться для удара по двери, как та отворилась, и в освещённом проёме возник крот с канделябром в руке.
— Наш долгожданный друг, — сказал он кому-то через плечо и с любопытством принялся снимать с моей одежды червяков, отправляя их себе в рот. — Проходи.
Протиснувшись сквозь узкую щель, я стал озираться по сторонам. Ничего необычного в интерьере дома не было: уютные на вид кресла и диванчики, вдоль стен — шкафы и полки с какими-то свитками, с тёплым треском горел камин, а на окнах и дверных проёмах висели голубые занавески. Примечательной деталью интерьера был огромный вычурный письменный стол, за которым сидел человек и что-то писал. Увидев его, я невольно отшатнулся назад: на худом теле располагались две головы — голова старца и голова ребёнка, при этом глаза ребёнка были закрыты; видимо, он спал. Человек оторвался от своего писания и улыбнулся мне необычайно доброй и успокаивающей улыбкой, что вернуло мне благостное расположение духа. Не дожидаясь приглашения сесть, я опустился в одно из кресел, с благодарностью принимая от крота чашу с густым красным вином. На секунду я подумал, что будет с вином внутри меня, ведь органов не осталось, но никаких специфических ощущений, кроме разливающегося по телу тепла, я не почувствовал.
Старец решил прервать идиллическое молчание:
— Путь — это, прежде всего, метаморфоза идущего.
Вдруг из-под стола вышел крупный белый кот, видимо, лежавший до этого на коленях старца. Дойдя до середины комнаты, он ощетинился и начал изгибаться, а из его пасти показалась голова змеи. Стоило только змее вылезти из кота, она набросилась на него и стала заглатывать несчастное животное, но чуть только кот полностью оказался в брюхе змеи, из-за чего та непомерно раздулась, как змеиную кожу пропорол кошачий коготь, и кот вылез наружу, схватив змею в зубы и проглотив её одним судорожным усилием. Я с нетерпением произнёс:
— Может, вы оставите в стороне свои фокусы и объясните мне, где я и что со мной происходит?
— Думаю, это мне по силам, — благодушию старца не было пределов. — Ты получил больше, чем смел надеяться: стремясь к свету, ты достиг подлинного мрака. И теперь пребудешь в нём вечно.
— Ваш дом — это граница?
— Для человека, разводящего и сводящего мосты, это слишком наивный вопрос, — многозначительно улыбнулся старец, и я понял, что ждали действительно меня.
— Почему именно я?
— Потому что ты лучше других знаешь, что за каждой ступенью обязательно следует другая, и что за естественной границей досягаемости взгляда начинается то, на что стоит смотреть.
— В чём будет заключаться мой труд?
Старец приподнял свиток, над которым трудился, и торжественно произнёс:
— Ты будешь учиться писать!
И тогда мне всё стало ясно. Я встал и пошёл в соседнюю комнату, которая по своему убранству походила на комнату старца. На столе уже лежал пустой свиток, и мне не оставалось ничего, кроме как сесть за стол и начать писать слова, которые, как мне казалось, я знал всегда, но почему-то позабыл в суете дней.
«Голос страха и боли слышу из ваших уст: вопиёте вы от неправедных дел и взыскуете справедливого суда. Но кто родитель ваш, как не страх и боль? Кто дарует вам вас самих, как не страдание? Что есть существование ваше, как не суд, справедливо воздающий вам мерой за меру низости вашей и открывающий вам подлинные высоты ваши?
А я — лишь стража: я стою на границе всякого существования и жду, когда вы прибудете ко мне, подберётесь к своему пределу и наконец-то поднимете веки. Не все переживут миг открытия подлинности, но не бойтесь высокой цены. Здесь, у предела, в точке безусловности, вы можете получить нечто большее, чем бессмысленное продолжение себя во времени. Например, свободу, или твёрдое основание, или импульс, или покой, или полноту себя. Только в бездне, где кончается дорога и не видно моста, вы увидите, за чем всё это время шли.
А я буду неподалёку. Я уже нашёл свой предел, и теперь моя работа — помочь другим увидеть мгновения, когда случайное уступает место закономерному, условное — безусловному, относительное — абсолютному, а существование — бытию. Для этого я пишу эту книгу. Книгу экзистенций».
РУИНА

Многие годы я странствовал, мерил землю шагами и ободом колеса, и вот вернулся в деревню, с которой связаны поныне тревожащие воспоминания. Что привело меня сюда? Нет, не дела; может, неудовлетворённость прошлым? Смущение неудачей? Жажда всё-таки найти выход из лабиринта деревенских улиц, поглотивших меня тогда? Из паутины отношений, трясины привязанностей, зыбучего песка нерешительности, могучих стен навязанных правил и условностей…
Но место назначения было тогда на виду, оно исчезало из поля зрения только в самые тёмные ночные часы, когда любой шаг труден. Теперь же нет её, маячившей на вершине громады, до которой я, узнавший многое о путях и дорогах, надеялся дойти без труда. Лишь руина, лишь развалина видна вдалеке. Туда ли я попал, не ошибся ли? Местные жители, смутно угадываемые, говорят, что туда. И они теперь не мешают мне, не заманивают в сети вопросами о целях, не спешат советовать и советоваться и, как кажется, больше ничего не боятся. Не боюсь и я.
Поэтому смело иду вверх по дороге, ведущей к руине. Куча размётанных по земле камней, огромная, как то, что из них было сложено. Каждый камень намекает на свою значительность, на тяжесть и впитавшуюся в него историю. Но камни безгласны и уже не могут стоять друг на друге, привыкнув к отдельности. С горы деревня выглядит сиротливо и робко, ничто не прикрывает её от палящего солнца, ничто не опутывает липкими нитями заботы.
Спускаюсь вниз, иду на постоялый двор, прошу налить ликёр.
— Меня зовут Карл, я в ваших землях проездом, хотя в былые времена пробыл довольно долго, — говорю знакомому хозяину, но он меня не узнаёт, словно никогда не слышал моё имя дальше первой буквы.
— Это только ваше дело, господин, — отвечает он.
— Что у вас случилось? — Спрашиваю я, махнув головой куда-то вверх. — Землетрясение?
— Нет, мы просто разрушили его. Чиновники слишком много требовали от нас, но жизнь каждого казалась нам богаче того, что предписывал закон, мелочный и единый для всех. А изменить его было решительно невозможно, служители и слышать о реформах не хотели. И однажды мы решили неподчиниться, разрушив то, что и давало право издавать закон. Ведь без этих стен они просто важничающие господа с портфелями, сидящие за теми же столиками, что и остальные.
— Что же стало с ними теперь?
— Кто уехал, кто вышел на пенсию или умер, а некоторые продолжают каждое утро выходить из дома с портфелями в руках, пытаясь убедить нас, что решительно ничего не случилось, и ни один закон не потерял своей силы. Некоторые им верят.
— Законы и раньше были не так чтоб очень сильны, — заметил я. — Помню, в свой прошлый визит я хотел получить разрешение на проживание, но так и не смог добраться до канцелярии. Пробыл у вас довольно долго, и всё без разрешения.
— И что же, удалось вам благополучно устроиться и закрепиться у нас?
— Нет.
— Вот видите, — сказал официант, а я вспомнил то странное чувство собственной чуждости, что преследовало меня тогда. Одиночество, приходящее раньше, чем звучит последнее слово беседы, раньше, чем ухожу я или уходят от меня. Неужели это всё из-за почтения жителей к спускаемым сверху порядкам?
Я расплатился и вышел. Что же мне делать дальше? В прошлый раз у меня хотя бы была цель. Вдруг из проулка послышались гомон и крики, и навстречу высыпала шумная толпа. Не успел я разобраться в причине возбуждения, как двое мужчин схватили меня за руки.
— Вот он! — Вскрикнул один из них. — С утра здесь бродит, вынюхивает что-то, даже на гору поднимался. Наверняка это он сделал.
— Отвечай, кто ты и зачем приехал к нам? — Лица в толпе стали ожесточёнными.
— Меня зовут Карл, я приехал, чтобы… — заминка, которая может стоить мне дорого. — Чтобы взглянуть на места, которые…
— Да врёт он! — Перебили меня. — Разве здесь теперь есть, на что смотреть? Отвечай, зачем ты это сделал?
— Что сделал?
Никто не удостоил меня ответом, видимо, полагая, что преступник лучше других знает о своём преступлении.
— Надо вести его к старосте, — поступило предложение.
Через несколько минут я, ведомый теми же руками, оказался на пороге старого, но крепкого дома. Его хозяин, седой и согбенный, посмотрел на меня с чуть заметной тенью триумфа. Вставать из глубокого кресла он не стал.
— А, вернулись…
— Вы меня помните? — Надежда на благополучный исход дела затеплилась во мне.
— Я ещё тогда подозревал вас и призывал всех держать с вами ухо востро. А теперь вижу, что был прав.
— Но я приехал, чтобы просто… И уж теперь-то, когда на вершине горы руина, я надеялся, что ничто не помешает…
— Детский лепет, — нетерпеливо прервал меня староста. — Для нас ничего не изменилось. Теперь мы все, сознательные жители, — замок на вратах беззакония. А ты, видно, примкнул к несознательным.
— Я сам по себе и ни к кому не примыкал.
Вдруг я понял: то, что мне казалось слабостью, на самом деле сила. Меня уже никто не держит, я могу свободно двигаться. Так зачем же я участвую в этом нелепейшем процессе, настолько лишённом живого содержания, что его участники даже положенную форму воспроизвести не удосуживаются. Нужно уходить, пока это недоразумение не обернулось приговором, вынесенным, к тому же, непонятно по какому праву.
Я молча повернулся и пошёл к двери. Толпа расступилась, впереди замаячил прямоугольник света. Покидая деревню, я снова посмотрел на гору и лишь немного возвышавшуюся над её поверхностью руину. Я отметил, что уже и не помню точные очертания поверженного исполина, детали его архитектурного облика, его образ выветрился из моей памяти. Но я не стал грустить из-за этого, ведь образовавшееся пространство начало наполняться образами какого-то нового, внезапно обретённого меня. Кому нужны дающие иллюзию защиты стены, тот отстроит их в себе заново. А мне сейчас необходим веющий с вершины ветер и солнце, непойманное в силки неприступными башнями. Я даже чувствовал некоторое злорадство, ведь отдельность, на которую меня обрекли недоверчивые жители в своё время, теперь вернулась к ним навязанной каждому всеобщей бессвязностью. Странная деревня, распадающийся на осколки мир. Он похож на тело без органов, поверхность, лишённую глубины, где слова потеряли связь с вещами, мысль не удостоверена печатью безусловной истинности, а человек приговорён быть наедине с собой в уныло длящейся посюсторонности.
ГИПАТИЯ

Ничего особенного, просто закончилась эпоха, а на границе тектонических плит всегда трясёт. В чреве прошлого сидит голодное дитя, у которого пока нет другой еды, кроме плоти матери. Ничего особенного, просто люди устали от множественности областей знания, этик, метафизик, богов… Явился Единый, собирающий отдельные хворостины в метлу, и нужно помочь ему вымести копившийся веками, замедляющий бег времени хлам. Ничего особенного, просто ты женщина, решившая учить мужчин мудрости, прочитавшая, кажется, все остатки давно сгоревшей библиотеки, почитающая учёного отца, но равнодушная к толпе, упорствующей в незнании, но точно знающей твоё место. Ничего особенного, просто ты не чужда политике, близко сошлась с местным префектом, ведёшь с ним беседы, стремишься на него влиять. И почему мудрецы так часто борются за души владык, стоя в очереди с теми, кто вечно будет косить глаза…
Ничего особенного, несмотря на это, могло и не случиться, но нашлись те, кто уже шагнул в новую эпоху, ревнители завтрашнего, такого неизбежного дня. Прозванные парабаланами, блуждающие в городских местах, полных малыми сими, теми «последними», коих не чурался и новый Бог, тоже умаливший себя до куска плоти и освятивший этим глубокие низины тварного мира. Твой же учитель Плотин считал плоть тяжким бременем, а материю — покрывалом тьмы, из-под которого нужно выплыть к свету, сияющему за пределами недвижного мира, даже за пределами планисферы, усеянной далёкими беспокойными звёздами. И нет ничего удивительного, что вам пришлось уйти, а этим новым — остаться и царить на земле, держа небо в уме. Вам тоже была знакома мысль о Едином, но это не то Единое, которое можно попросить о помощи в трудную минуту, когда нет заступников, включая твоего друга префекта.
Твоя самая трудная минута наступила, когда ты, словно царственная особа, возвращалась домой на носилках, а тебя уже ждали те, кто так любил омывать ноги чумных. Интересно, когда они возле какой-то церкви разорвали тебя на части, что стало с твоими ногами? Что стало с глазами, которыми ты ласкала остатки давно сгоревшей библиотеки? Говорят, что был и костёр, в который тебя бросили, словно копившийся веками, замедляющий бег времени хлам. Говорят ещё, что твой конкурент за душу префекта, епископ, узнав о подарке парабаланов, от него открестился. Так что твоя смерть никому не принесла пользы. Какая-то случайность, ничего особенного, такое уж было время. Просто на границе тектонических плит обычно трясёт.
Но купол планисферы движется по кругу и звёзды снова заняли покинутые места: новые маги в мантиях учёных заступили на твоё место, содрав пелену священности с материи и вторгшись в её пределы, чтобы при помощи разума преобразить то, что многие и без того считают совершенным. И, конечно же, побороться за души владык, стоя в очереди с теми, кто вечно будет косить глаза…
Но снова люди устают от множественности областей знания, этик, метафизик, богов… И снова собирают отдельные хворостины в метлу, чтобы мести, чистить и жечь. Ничего особенного, совершенно ничего особенного, просто в чреве настоящего поселилось голодное дитя, у которого пока нет другой еды, кроме плоти матери.
СОДОМ

Сегодня представление удалось: Костолом превзошёл сам себя. Видно, что он дерётся не ради денег — эта ненависть неподдельна, вот она, в сиянии безумных глаз, в звероподобном рыке, в силе рук, обрушивающих каменный молот на голову сопернику. Голова оказалась не крепче яйца, и зрителей окропило кровью. Всеобщее неистовство; женщины, кажется, готовы отдаться Костолому прямо на арене, они любят победителей.
Дальше на моём пути базарная площадь. Крепко держу монеты, ведь воров больше, чем покупателей. Иду к любимой торговке, завожу неспешную беседу, глажу бугристую поверхность гранатов, сжимаю пальцами морщинистые финики, осязаю упругость призывно выставленной загорелой груди. У каждой торговки главный товар — она сама. Эта — моя любимая, но план сторговаться на вечер отвергнут: люди вокруг говорят, что надо идти к дому Лота, там что-то интересное. Пойду за ними, любопытство порою сильнее похоти.
Чем же этот странный человек привлёк содомитян? Он — не один из нас, пришелец, так и не ставший своим. Каждый день ходит за ворота, пасёт стадо, и среди овец ему лучше, чем среди нас. И Бог у него свой, наших и всех окрестных отверг, и не простили бы ему такого презрения, если бы сами их не презирали. Но они добры: за жертвы позволяют нам жить согласно обычаям и привычкам. Отверг Лот и привычки, не желает есть с нашего стола, иной пищей питается. Что за пища — не знаю, но, может, и питательна, если едим мы чрезмерно, а из-за стола всё равно голодные встаём. Вышел однажды спор. Спросил у него жрец Баала: «Вот ты наши дела определил как злые. А как выходит так, что Бог твой — средоточие блага, а на земле царствует зло? Бог твой, выходит, слаб или безразличен ко злу».
Лот тогда смутился, будто это ему ставят в вину дурное, а я говорю: «Не тому удивляться надо, что есть зло на земле, а тому, что есть добро. Ведь то, что для Лота злое — радость нам и утешение, и способ поправки дел, и источник благополучия. А от добра его какая польза, какое удовольствие? Нет ничего, а ведь следует ему Лот, выбрал себе и следует, как мы следуем своему злу и радость с этого имеем. Как не подивиться лотову выбору?» Но сейчас дом Лота заперт накрепко, окна заставлены, чтобы люди не забрались внутрь. Говорят, странники пришли из неведомых земель, и так хороши, что среди народа разлилось возбуждение. Ни язв, ни струпьев, и даже зубы, говорят, целые. Красивые лица, а главное — новые, как предвкушение новых радостей. Но путники внутри, а мы снаружи.
Люди кричат и кидают камни, требуют выдать им чужеземцев. Одни усердствуют, а другие стоят чуть поодаль и ждут итог. И вот выходит Лот и предлагает вместо гостей взять его невинных дочерей, что ждут скорого замужества. Вот так благодетель! Горе семье иметь во главе такого праведника — дочерей, которых долго берёг, готов променять на спокойствие каких-то бродяг! И тут появился один из них на пороге, а другие выглядывают из-за спины. Вот момент, нельзя упустить! Самые ярые ринулись вперёд, машут руками, сжимают пальцы, чтобы за тунику ухватить. А пришелец — проворный, взял Лота за плечи, внутрь уволок и дверь захлопнул.
Смотрю из-за спин, а люди продолжают напирать, шарят в воздухе руками, стены гладят, будто дверь ищут. Но улова у пальцев нет, только кулаки бесцельно сжимаются… И тут видим мы — те, кто находился сзади — что глаза у впереди стоящих ужасные стали — белые и пустые, словно молоко в глазницы залито. «Ослепли!» — поднялся крик, воцарилась сумятица, многие в страхе бежали. А кто уже не видит, куда бежать, падают, катаются в пыли, совсем в стадо безмысленное превратились. Непростое тут дело, лучше мне подальше отойти, а то и затоптать могут.
И вдруг путники вышли из дома, а с ними Лот с женою и дочерьми. Ступают осторожно, чтобы лежащих не задавить, а оставшиеся расступаются, боясь испить из чаши сей. Пойду за ними, любопытство подчас сильнее страха. Неужто решили покинуть Содом? Так и есть: вышли за ворота и к горам направились, в строну Сигора. Оно, может, и верно, не один он из нас, пришелец, вот и пусть уходит с другими пришлецами. А мне пора домой, есть ещё дела, об остатке вечера надо позаботиться, чтобы не впустую прошёл. Да и туча ползёт со стороны моря, небо грозит молниями. По всему видно, дождя не миновать.
ЗОЛОТОЙ ВЕК
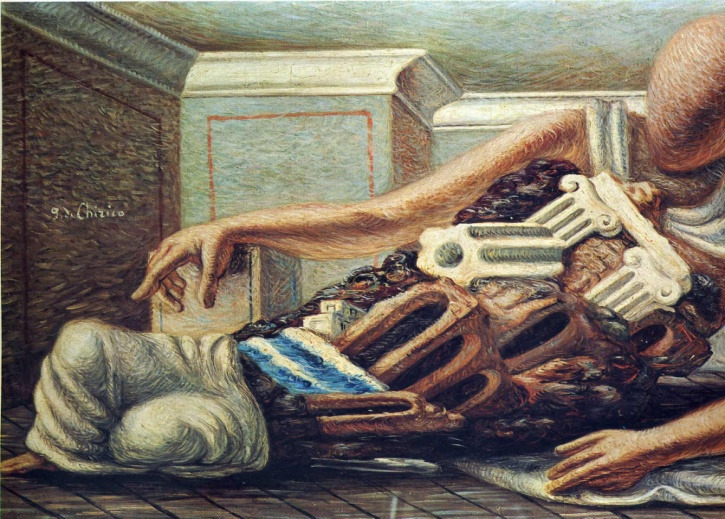
I
Как сказал один наш поэт, «зачем нам двадцатый век, если есть уже девятнадцатый век». Можно было бы и про двадцать первый то же самое спросить, да только нет у нас уже девятнадцатого века. Был, да весь вышел, «слинял в два дня. Самое большее — в три». Потом и двадцатый так же слинял. А те, кто позволил ему слинять, уходят друг за дружкой, оставляя нас один на один с взрощенным ими Левиафаном, что бредёт, не зная дороги, попутно обретая новую кожу.
И мы бредём куда-то вместе с ним, с каждым днём удаляясь от твоей эпохи, тёзка Батюшков. Узнал бы ты ныне свою Россию? Вы — дворяне из родовитых, состоятельных семей, высшее общество с блестящим, словно серебряная ложка, будущим. Вы — слуги царя, но в ваших слугах — весь народ, и на фундаменте из черни бессловесной взошёл дворец высокой словесности, белый, будто из слоновой кости. Ты строил этот дворец, и спасибо тебе за это: в его тени — мой прохладный офис.
Но мы — чернь, и сами чей-то фундамент. Будущее известно в лучшем случае до конца недели, гарантированы обязанности, но не права, а главная доблесть — дороже себя продать. Нас теперь называют людским ресурсом, причём самым ценным для экономики, так-то, Константин Николаевич. Оберни слово в монету, говорит нам время, всё оберни в монету, а что не оборачивается — оставь. Пустое. Не золото, а сущая безделица. Не все спешат этому верить, ведь всё может оказаться ровно наоборот. Золотой век позади, и даже серебряный; наступил век блестящих подделок. Увы, дорогой Батюшков, увы…
II
Усадьба утонула в лунном блеске, смолкли суетливые голоса дворни, и мечта сорвалась с хрупкой привязи рассудка — господина полудня. Хотя всё более расшатывается его трон, всё невесомее его оковы, и открываются ворота для живых образов, которым закрытые глаза — покровители лучшие, чем огонёк лампы и тем паче солнечный свет.
Он приходит ко мне — солнечный свет, но не тот, что у нас — тусклый даже летом, словно пробивается сквозь недоплавленную коросту весенних туманов, а живой и горячий, весёлый, как пламень. Такой бывает лишь в южных краях, на берегах тёплых морей. Италия, земля титанов, пережившая извержение творческого гения и снова впадающая в сон после пробуждения и нескольких веков напряжённого бодрствования. О, эти города щедрой, даже избыточной культуры, которой хватило одарить всю Европу и даже нашу Россию. Меня греет твоё сияние, Италия эпохи Ринасчименто, страна высокого духа и невыносимо совершенных форм. Мне близок поздний гений твоего несчастного сына Торквата, коего ты, несмотря ни на что, смогла оценить, хоть и заковала в цепи. Заковала тело, но не его буйный дух, а это главное.
Как сроднился я с ним, пока работал над переводами; его несчастья так похожи на мои, его голос отозвался во мне эхом, а затем выбрался на волю из теснин души… Я соединил побуждающую силу тассова стиха с русской лирической удалью, и прозвучал «Иерусалим» над нашей холодной равниной чудной сказочной песнью. Ты оживаешь в далёкой и чужой стране, милый Торкват, и зажигаешь в нашем небе подлинный свет золотого века красоты. Так будет, даже если моя стылая душа сгинет в мерзлоте вечного безмолвия…
III
О, презренные, недостойные… Кому я принёс слово в защиту доблести и чести, кого призвал к новым подвигам? Крысы знают лишь казематы, заперли в них свои души и жаждут запереть чужие. И особенно ненавистны им те, кто поставил перед ними зеркало, изобличив крысиные морды под пышностью львиных одежд. Может, за то меня и преследуют, что напомнил им о славных подвигах предков, презревших тупость однообразной повседневности и ограниченность своего мирка, и весёлой волной покатившихся на восток, к источнику святости. Не было страха у этих железных людей, когда смотрели они на мощную стену иноверной твердыни. С одной стороны — бесприютный океан, с другой — немилосердная пустыня, а на границе — свирепые полчища магометанские. Но Иерусалим был освобождён, и христианское королевство заалело крестами на изгаженной дикими маврами земле.
А вы, жалкие ценители поэзии и живописи, изнеженные завсегдатаи балов и театров, развращённые сибариты и эпикурейцы, заменившие рыцарские турниры нелепым маскарадом, а военные вылазки с бравой дружиной — оргиями с дорогими шлюхами. Ни веры у вас, ни чести, ни отваги, а я, кто напомнил вам о них — сумасшедший и достоин каземата и цепи.
Ах, милый Балдуин, несчастный больной юноша, ты тоже надевал маску, но не для никчёмной венецианской сатурналии… Проказа поедала тебя изнутри и снаружи, твоё рыцарское королевство грызли мавританские черви, откусывая вместе с землёй и куски твоего сердца, но ты выстоял и дал им отпор, ты держался до конца, умерев с крестом на спине и мечом в руке. Ты — Солнце нашей истории, красившее золотом чернеющий мир. Ныне же — закат и тьма, и золотой век позади, век доблести и геройства. Но я расскажу о тебе миру, как рассказал о твоих предшественниках Готфриде, Танкреде и Ринальдо, расскажу миру, память которого короче, чем твоё славное правление. И оживёшь ты средь нас, и напитаешь трусливые сердца отвагой и стойкостью. Если хватит сил, если мне только хватит сил, ты будешь жить среди нас и говорить с народами моими словами, даже когда сам я сгину в глубине прекрасной и несчастной италийской земли.
IV
Что за странная, причудливая судьба… Родился на земле Господа нашего, и не простолюдином, а королём великого города Иерусалима, но ни один из смертных мне не позавидует и не восхитится моей участью, пожелав разделить её со мной. Воистину справедлив Господь — великое благословение уравновесил страшным проклятием, дал мало лет, но столь многое позволил успеть. Саладин отброшен, и на какое-то время Иерусалим снова станет городом мира. Преемник определён, и маленький Балдуин уже готовится стать Пятым. Вот и всё, пора в путь… Но сколькими славными делами я мог бы прославить себя и моё королевство, сколько подвигов во славу Господню совершить!
Ведь так далеко мы ещё от идеала святости, так много у нас родовых пороков, принесённых рыцарями из далёкой Европы: усобицы, распри, угнетение слабых, неблагочестие… Хотели иначе, и славный Готфрид Бульонский отказался надевать корону, ибо Иисус, подлинный царь этой земли, носил лишь терновый венец, но овладел царствами обширными. А вот последователь Готфрида, первый из Балдуинов, украсил голову золотом и этим решил судьбу королевства. Хоть и сто лет с тех пор прошло, а может, ещё столько же пройдёт, но если на вершине золото, как на моей главе по сию пору, то нет в таком королевстве божественной правды — не есть оно царство божие на земле, не есть обретённый рай. Потому и падёт. А истинный золотой век — век святости, явленный нам однажды, не повторится.
V
Вот спрашивают меня, почему пошёл я по этой многотрудной и чреватой стезе. Потому что живём мы во времена беззакония и нечистоты. Законы презираются, вера слабеет, земля попирается захватчиками, чужие идолы пытаются взять власть, люди растеряны и напуганы. Кажется им, что великие золотые века Иерусалима позади, а будущее сулит лишь гибель и тлен. Но во всякие времена люди думали так же, потому и приходили к ним пророки, и восходили на трон благочестивые помазанники, чтобы отвернуть людей от греховного уныния, напомнить о законах, о вере и страхе Господнем. Без их усилий не было бы и того будущего, что есть сейчас. Вот и я пришёл исполнить древние установления, а не нарушить, как говорят глупцы, глядящие в прошлое слепыми глазами. Ведь всё и так нарушено.
Есть у нас иные, что ушли в пещеры и там хотят создать маленькое царство Божье, и учат книги наизусть, и закопались в полустёртых буквах, как в песках ширящихся пустынь. Заметёт песок и письмена их, и их самих. Потому что идти нужно к людям, а не бежать от них в подземелья. Так что идёмте, Иерусалим ждёт, и ослик уже постукивает копытцем. Ведь если и начнётся когда-нибудь на земле золотой век, то только с нас.
СПИРАЛЬ

1. Когда над Элитариумом завис огромный корабль, нас всех охватило необычайное волнение. То, о чём ещё недавно мечтали земляне, с надеждой вглядываясь в небо, выпало на долю нашего поколения. Что это, случайность или оказанная нам честь? Может, только сейчас, с нашим нынешним уровнем технического и социального прогресса, мы стали интересны жителям иных миров? И уж теперь, когда их существование бесспорно, с новой силой разгорелись споры о том, первый ли это визит либо мы уже обязаны пришельцам какими-то вехами нашего исторического пути.
Но я не спекулирую на этой теме, я жду возможности расспросить инопланетян лично, не без основания полагая, что удостоюсь этой чести как, возможно, лучший дипломат Элитариума. К чему скромность? Именно мне и моим способностям переговорщика обязан полис быстрым усмирением повстанцев в последней войне. Кто знает, сколько бы мы давили этих крыс военными методами, истощая бюджет понапрасну. А так — одна доверительная беседа, и капитуляция.
А какого мужества мне стоило предстать перед этими дикарями, уже почти потерявшими человеческий облик! С какой тонкостью я подбирал слова увещевания! Встретился бы кто-нибудь из руководства с их звероподобным предводителем, по старинке обвешанным пулемётными лентами, которые им даже вставить не во что… А я смело смотрел ему в глаза и говорил без дрожи, ведь мою решимость подкрепляло убеждение, что историческая правда на моей стороне, и я лучше, чем они, а потому будущее принадлежит мне.
И теперь, когда иная, вероятно, более развитая цивилизация нанесла нам дипломатический визит, нам, а не им, наше положение будет окончательно закреплено. И мне, именно мне, возможно, предстоит сыграть первую партию, став контактёром.
И я не ошибся: когда от корабля отделился шаттл и сел на центральной площади Элитариума, меня вызвали на службу. Конечно, я дал согласие. Что меня ждёт там, за сияющей непроницаемой дверью?»
2. — Воины! Друзья! Вы, полевые командиры отрядов сопротивления, должны услышать это первыми и донести остальным. Ибо волнение пошло в народе, слухи и домыслы гуляют один нелепее другого. Недавно мы послали в Элитариум разведчиков. Нужно было узнать, с чем связаны такие изменения. Беспилотники-контролёры и аэропрореживатели больше не летают над нами, нет ни профилактических бомб, ни ракет. Наш скот больше не мрёт, листья на деревьях не чернеют, и даже вода стала такой, какой и должна быть. Неужели нас наконец-то оставили в покое, подумали мы. Так вот, разведчики спокойно зашли в полис — защитной энергостены больше нет и Элитариум никто не охраняет. Он пуст.
Видно, это как-то связано с летающей тарелкой, которая как раз незадолго до этого улетела. Но никаких трупов наши люди не нашли, пришельцы, похоже, просто забрали элитариев с собой. Думаю, они удостоились чести отправиться на другую планету, более развитую и достойную их, а нам оставили Землю. Что ж, будем жить на ней свободно, как и заслуживаем. А в первую очередь обучимся знаниям и устройствам, что остались нетронутыми. Уж мы-то должны создать с их помощью более справедливое общество, где все будут равны!
3. «Работа двигателей стабилизировалась, корабль вышел на заданную скорость, и у меня наконец-то появилось время записать свои размышления по итогам визита на планету, за судьбой которой я следил всю жизнь. Какое пристальное внимание к ней было приковано в своё время! Ещё бы, первый эксперимент по экспорту представителей нашей расы в иной мир. Пусть во многом похожий, но всё же иной. Как они быстро освоились и заняли доминирующее положение! О том, что до них здесь была другая раса, не осталось почти никаких следов. Впечатляюще, особенно с учётом того, насколько она была совершеннее нашей. Поистине, пресечь конкуренцию в зародыше было прекрасной идеей!
Но нынешнее положение на Земле отвратительно, оно полностью противоречит нашим принципам социального устройства. И это говорит о том, что рассуждения наших мыслителей о генетически присущих людям гуманности, справедливости и тяге к равенству — фикция и антинаучный самообман. Всё благородное в нас — результат сознательного выбора, изнурительной борьбы за победу гуманистических идей, а затем постоянной, кропотливой работы над собой. И очень опасно, что благодушие заставляет нас постепенно забывать об этом. Спасибо землянам, они преподнесли ценный урок, который нам ещё предстоит осмыслить.
И ведь на Земле люди долгие века шли по нашему пути, а затем сбились с него. Наши идеи здесь тоже стали казаться чем-то естественным, и даже когда они рушились под напором чуждых идеологий, никто не замечал грозящей им опасности. В итоге гуманизм проиграл. Не придёт ли однажды и у нас ему на смену вот это — страшное общество фундаментального раскола на лучших и худших, на первых и последних? Причём даже не ясно, на каком сновании одни возомнили себя вправе держать других в дикости и повиновении, на основе чего лишили абсолютное большинство землян человеческого достоинства. Они их не сделали рабами — уровень развития технологий сделал рабов излишними, они просто решили, что одни — лучшие, а другие — худшие, и всё.
Что-то пошло не так, и нам необходимо сделать из этого выводы. И, конечно, нужно понаблюдать, смогут ли земляне использовать свои вторые шансы. Угнетаемые — освоить высокие технологии и создать новое общество, не скатившись снова в гибельное противостояние. А элитарии — освоиться на недавно открытой планете и вытеснить в историческое небытие её ужасных автохтонов. Год в тёмных и жарких камерах, где элитарии сейчас дрожат от страха и недоумения, должен выбить из них спесь. Когда-то у их предков, самого отъявленного сброда нашей планеты, на новой родине получилось превратиться из последних в первые, может, получится и у этих? А мы снова будем наблюдать, как история выходит на новый виток своей малопредсказуемой спирали.
4. — В общем, главное в разговоре то, что наше заключение скоро кончится. Мы подлетаем к какой-то планете, где они нас и высадят. Там обитают разумные, но жестокие твари, которые к тому же быстро развиваются, и нам нужно будет их усмирить и затем вытеснить. Но для начала — просто выжить, если получится. Впрочем, всяко лучше, чем гнить в этом затхлом трюме…
А в остальном — высокопарные рассуждения. Насколько я понял, на своей планете они построили что-то вроде коммунизма, типа того, о котором грезили и у нас, но выкинули на свалку ещё в позапрошлом веке. Свобода, равенство и братство — вот это всё. И надо, мол, нам на новой планете к этому же стремиться, к справедливости и гуманизму. Слышал бы он себя со стороны! Сначала, значит, прикинуться кроткими и послушными, чтобы уничтожить всех, кто там живёт, а затем на таком фундаменте строить гуманное и справедливое общество. Я на это только кивал головой, не стал возражать капитану, но сам думал, почему же аборигены планеты гуманного отношения не заслуживают? Потому что не люди? Может, их можно просто цивилизовать, не уничтожая? А то хотят, чтобы наше пребывание там началось с преступления, за подобное которому они нас на всё это и обрекли, а потом — вперёд, к гуманности и справедливости! Чтоб, мол, виток спирали, а не порочный круг! Не знаю, не знаю… Есть какая-то во всём этом роковая ошибка, но пусть с нею наши потомки разбираются, если они у нас будут. А нам бы выжить, просто выжить под новым Солнцем, или что там у них вместо него…
ХАОСМОС

Буква — одна из точек соединения духа и материи. Плоть, составляющая букву, ничтожна, почти невесома, но дух раз за разом избирает её для своего материального воплощения. Буква для него — словно зеркало, ведь где бы ещё дух узрел себя, если не в откровенном слове, составленном из букв? Буква — орудие логоса.
Букв мало, сами по себе они просты и в отрыве от порождаемых ими смыслов кажутся какими-то нелепыми крючками. Но как бесконечно велика их способность смыслопорождения! Я дотрагиваюсь до свинцовых литер и ощущаю под мякотью ладони пульс вселенной, лишь ничтожная часть которой дана нам в наблюдаемых астрономических явлениях и в уже написанных книгах. Я смотрю в окно и вижу ночное небо, чёрное сукно в бледную крапинку, ставшее строгим и величественным космосом, когда разум даровал порядок дышащему из вселенских бездн хаосу. Без букв и других символов это невозможно.
Поэтому я глажу свои литеры, сидя в одиночестве в принадлежащей мне маленькой типографии. Скоро появится новая книга, буквы уже легли рядом друг с другом в согласии с замыслом автора. Ошибки быть не может. И скоро поднимется ещё одна завеса, ещё одна область тьмы озарится светом человеческого разумения и в грандиозной картине мира проступит ещё один фрагмент. Пустого пространства всё меньше, краски всё чётче, картина всё прекрасней. И я помогаю этому, властвуя над буквами и символами.
Минута отдыха позади, я отрываюсь от размышлений, пью ещё немного вина, чтобы успокоить нервы и унять охватившее меня возбуждение. Как же они прекрасны, мои литеры, бугристые, пачкающиеся, с обратной стороны так похожие на какой-то тайный язык забытого божества. Я поднимаю их и бережно несу к печатному станку, и хотя путь близок, что-то попадается мне под ноги в этом типографском беспорядке, а может, это вино и возраст сделали мои опоры нетвёрдыми, но я падаю. Очень скоро последняя свинцовая буква прекращает дикую скачку по полу и занимает на пыльной равнине своё место, далёкое от причитающегося ей достоинства.
Я лежу и не могу открыть глаза. Может, я заснул или умер? Но я слышу, слышу, как пошёл дождь. Затем в задёрнутое окно что-то застучало. Наверное, вода снова смешалась с твердью и обрела тяжесть. Она проникает в дом, капает с потолка, разрастается блёклыми фресками на стенах. Воздух густеет, и уже трудно дышать, он так горяч, словно позабыл границу между собой и огнём. Вокруг бушует ветер, гром и молнии ополчились на меня, не стесняясь своей ярости. Высоко над головой планеты сошли с орбит и закружились в лихорадочной пляске. Созвездия потеряли очертания, Луна отвернулась от меня, показав спину.
В тишину плотным строем вошли звуки. Комната наполнилась голосами неведомых людей и животных, слова неотличимы от дикого рёва, звуки толпятся и напирают друг на друга, не заботясь о том, чтобы стать понятыми. Недостроенная башня разразилась камнепадом, деревянное судно разбилось о вершину горы. На соседней вершине огромный крест пустил корни и зазеленел. Птицы вырыли норы, гробы отрастили крылья. На мне зазеленели пастбища, по мне прошли стада. Где-то началась война, и спорящих стало меньше. Где-то заплакал ребёнок, и орудия стали стрелять тише. Кто-то устремился в бездну, и бездна благодарно приняла его в себя. Кто-то устремился ввысь, но высота недоверчиво испытала его силой тяжести. Кто-то посадил розы, но вырос репей, кто-то посадил репей, но вырос лавр. Кто-то сел играть со мной в шахматы, то тщательно расставляя фигуры, то разбрасывая их в неистовстве. Кто-то стал говорить яснее других, но ему отрезали язык. Где-то дули в бараний рог, звенели в колокольчики, тянули унылую и протяжную песню, но стада по-прежнему толкались и напирали друг на друга, орудия стреляли, а ребёнок плакал.
Дождь всё идёт, я лежу в воде, а вокруг ржание и блеяние, рёв и рык, шипений и лай, и звуки топчутся по мне, словно требуя найти разбросанные буквы и снова собрать из них слово, без которого они лишь пульсирующий хаос в нечеловеческом мире. И я шарю рукой, нащупываю кусочки мокрого металла, собираю целую пригорошню. Их так немного, но сколько же из них можно составить слов, сколько подобрать ключей к запертым кладовым, сколько выкрикнуть имён, сколько прочесть молитв, сколь великий сотворить космос! И я творю его, раскладывая литеры прямо в луже на полу. Лужа сохнет, наделяющая воздух прохладой вода обнажает твердь, огонь молний возвращается в небесные ножны, грохот грома и ружей стихает, стада обретают пастбища, народы идут на зов, отрезанный язык отрастает, даруя речь.
Можно открыть глаза. Похоже ли то, что я видел, на то, что было здесь раньше? В том ли самом мире мы просыпаемся каждое утро? Играет ли Бог в кости, как я играю с моими литерами? Сколько новых космосов сотворит мой труд? Нет им числа, пока хотя бы кто-то в этом мире складывает буквы в слова.
АТЛАНТ
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
