
- Все
- Детская и образовательная литература
- Детская художественная литература
- Современная детская литература
Бесплатный фрагмент - Два мудреца в одном тазу…
Глава 0 Типа, вводная. Потому что — обо мне, о жизни и вообще…
— Сходитесь! — взвизгнула Даша Скворцова и даже подпрыгнула на месте. То ли от страха, то ли от восторга. И то сказать, когда затевается дуэль — да еще в родном классе, тут не всякие нервы выдержат. Я, к примеру, был спокоен, как лев, — только повернулся чуть боком, как это делали во времена декабристов. А толстый Аркаша Шнуров, играющий Дантеса, косолапо шагнул вперед и стал медленно поднимать пистолет. И ведь по-настоящему целился! Я бы сказал — с упоением. Это прямо Пушкину в переносицу! Мне, значит! А Верванна (это завуч наша, кто не знает) еще и головой одобрительно покачивала. Вроде как все хорошо, все по тексту. Ничего себе закидоны! Это, значит, когда мы со Шнуром на перемене друг друга душим, нас в стороны растаскивают и такое выговаривают, что пересказывать стыдно, а когда такое вот кровопролитие — пусть даже возле доски — уже, значит, нормально все и дозволяется всеми школьными правилами!

Между прочим, даже Свая, когда его уговаривали на роль Дантеса, сказал, что фиг. Сваин Серега у нас самый длинный, а Дантес, кто не знает, тоже был выше Пушкина на целую голову. Каланча, короче. Верванна еще говорила, что он был красивым и девушкам нравился. Странно она это как-то сказала. Я уже тогда заподозрил, что Пушкина она не во всем одобряет. Здорово, да? Ставить в школе пьесу и сочувствовать какому-то толстяку Дантесу. То есть, может, и не толстяк он был, но прыщавая физиономия Шнура, по-моему, вполне ему соответствовала. Если честно, я вообще не понимаю, как его выпустили из России без единого синяка. Прямо полное позорище! Получается, никто даже не попытался вступиться за светило русской словесности. Это только потом разнылись да обревелись. А чтобы, значит, сразу по-мужски взять дубину покрепче или ремень — да отходить проходимца, — таких не нашлось. Не знаю, как кому, а мне и сейчас было стыдно за предков. Мне ведь не абы кого дали играть, — самого Пушкина. И раз уж назначили первым российским поэтом, выходит, я должен был как-то соответствовать. Потому, верно, и случилось то, что случилось…
Шнур сделал еще один медвежий шаг, и шаг этот стал последним в жизни самонадеянного Дантеса…
Бэмс! Это щелкнул мой пистолет, и пластиковый шарик впечатался в лоб Шнура. Между прочим, не такой уж и широкий. В том смысле, что не всякий попадет. Но Александр Сергеевич хорошо, говорят, стрелял, — вот и я не сплоховал. Никто ведь не говорил, что пистолеты должны быть бутафорскими. И Шнур имел полное право взять из дома какой-нибудь многозарядный «Кольт» или «Макаров». Но такого снайперского выстрела он явно не ожидал. Лицо его покраснело, глаза наполнились слезами, и, опережая вопль Верванны, Шнур с рыком устремился на меня с кулаками. Понятно, я вскинул свой «Браунинг» и открыл беглый огонь, благо зарядов у меня хватало. Не знаю, остановили бы мои пули такого громилу, как Шнур, но помощь пришла от друга Вовчика. Сидя на первой парте, он юрко выставил вперед ногу, и Дантес загремел на пол. Класс разразился воплями, учителя повскакали с мест.
Вот тут бы мне и остановиться, — лежачего, сами знаете, у нас не добивают. Нехорошо это как-то — по марсиански, что ли. Но я ведь тоже в роль вошел! Это как в пике или в штопор, — сразу и не выйдешь. И потом, к господину Дантесу у меня много чего накопилось. Это другие кроме «Сказки о рыбаке и рыбке» ничего не читали, а некоторые, между прочим, и картинки из «Онегина» по вечерам листали, и «Капитанскую дочку» до седьмой страницы одолели… В общем, пулял я в Шнура до тех пор, пока завуч не вырвала у меня из рук пистолет. Обозленный «Дантес» все же достал меня разок по спине, но Вовыч треснул его в ухо, за что и схлопотал учительской указкой. На этом пьеса с уроком для нас закончились. Ну, а мы с Вовычем привычно оказались в коридоре…
***
«Да ты человек с талантиком!» — именно такое однажды выдала моя тетушка. Фразочку эту она произнесла, увидев нарисованный на обоях свой портрет. Вообще-то она ошиблась дважды: во-первых, (только это строго между нами!) я хотел нарисовать морскую свинку. У Лешика дома живет такая — толстая, пушистая и жутко ленивая. Но получилась почему-то тетушка. Прямо вылитая! Рука, что ли, дрогнула или глаз заслезился. Короче, изобразил — и ахнул. Ну, прямо точь-в-точь. Совсем как этот… Еще мишек на фантиках рисовал… Орешкин, что ли? Или Шишкин?
Вот…
А во-вторых, тетушка меня явно недооценила. Я, конечно, маленький, но причем здесь талантики? Они-то маленькими как раз не бывают! Значит, талант или талантище — уж как кому нравится. Все равно ведь про свинку я никому не сказал, и получился как бы реальный портрет тетушки. То есть, если бы я признался про свинку, наверное, тетушка могла бы разобидеться, но я ведь промолчал. Зачем людей расстраивать? И за обои испорченные мне бы точно влетело. А так портрет появился — да еще на самом видном месте. И даже удобно, что на обоях, потому что ни рамки, ни гвоздей не надо. Заходят люди и сразу видят: направо — стол, налево — холодильник, а над столом — хобана! — тетушка. Вот она, значит, реальная, в тапках и фартуке, а вот на стене — толстая и пушистая… Ну, то есть, красивая. И сразу тема для разговора появляется, где тетушка симпатичнее — на стене или в жизни. И меня по голове можно погладить. Вроде такой молодой, а уже надежды подает. Талантливый, типа.

Только таланты талантами, а я бы давно поговорил о гениальности. Можно, конечно, скромничать и дальше, но я, если честно, устал. Мне ведь уже девять лет (практически — десять!), и все это время я держу язык за зубами. Живу себе на улице Вали Котика (это герой-партизан, кто не знает), поплевываю вниз с седьмого этажа и скромно помалкиваю. Не в смысле, что совсем не говорю, — говорю-то я как раз много, а хохочу еще больше, но вот чтобы о своей гениальности — об этом я практически не распространяюсь. И все же факт остается фактом, зернышко во мне прорастает, и рано или поздно первые побеги истины обязательно прорвутся наружу. Здорово, сказанул, верно? Словом, прорвутся, и никуда от этого не деться. Возможно, я даже сам об этом проболтаюсь. Я даже знаю, кому проболтаться первому, чтобы весть разнеслась по всему классу, а после — по школе и по моему родному городу.
Между прочим, нечего ржать да усмехаться, — не так уж это и просто! Объяви я с бухты-барахты о своей гениальности, — сходу заплюют и заклюют! Да еще бомбочками водяными забросают. А с другой стороны, если ты гений и даже играл на сцене самого Пушкина, чего резину тянуть? Как говорит дядя Вася, муж моей тетушки: против природы не попрешь. Вот я и не пру. Терпеливо собираю доказательства своей гениальности и до поры до времени маскируюсь. Но когда фактов накопится совсем уж невпроворот, придется проболтаться — сперва моему лучшему другу Вовке Стофееву, а после — Даше Скворцовой. И на каком-нибудь из уроков, когда снова заведут волынку про какого-нибудь доисторического гения, я тихонько встану и объявлю, что в современном быстро меняющемся мире тоже, как ни странно, появляются временами свои гении. Учительница тут же потребует привести пример (она у нас обожает примеры!), и тогда я преспокойно ткну пальцем себе в грудь.
Рисково? Конечно, рисково. И если предварительно не обработать одноклассников, реакцию нашего третьего «Б» несложно будет представить. Половина ребят загогочет, другая разорется. И опять же посыплются промокашки с бомбочками. Но в моем случае все будет подготовлено, и только учительница удивленно спросит, почему я так решил. И тогда мне не останется ничего другого кроме как выставить на парту портфель и при общем изумленном молчании извлечь на свет папку с доказательствами. Тут-то все и подпрыгнут. Тут-то и пораскрывают рты. Учительница сначала очечки снимет, дужки начнет жевать, хмуриться, но после того, как прочтет первые несколько фактов, немедленно схватится за сердце. Хотя нет, — лучше пусть за телефон хватается. Чтобы вызвать в школу журналистов и телевизионщиков.
Ну, а что начнется вслед за этим, я представлял себе весьма смутно. Наверное, мне будет непросто. Сначала придется объяснять разобиженным учителям, почему я так долго скрывал от них столь замечательный факт, а потом… Потом меня заставят давать интервью, рассказывать перед микрофоном, как я дошел до столь блестящих результатов и когда именно ощутил в себе первые задатки гениальности.
Само собой, одноклассники мои будут поддакивать. То есть, не все, конечно. Вовыч с Сашкой Путинцевым будут, — они-то свои. И Гоша с Лешиком подтвердят каждое мое слово, и Даша (она же первая узнала!). А вот, к примеру, Олечка Нахапетова может и гадость какую-нибудь брякнуть. Она у нас самая красивая, а красивые — они всегда что-нибудь не то вытворяют. Кто читал про супругу Пушкина, тот, думаю, меня поймет.
То есть, в первом классе Олечка глазки мне строила, а во втором — взяла и на Вовыча запала. Любовь, что вы хотите! В девять лет вообще любят неадекватно. Для одних — это пунцовые щеки с невнятной речью, для других (самых ненормальных) — рвение в учебе и образцово-показательное поведение. Для меня же любовь выражалась в преследовании. Я не таскал избранницу за косы, не воровал портфель и не писал писем, но несколько месяцев кряду Ольгу Нахапетову я преследовал, как какой-нибудь филер царских времен. От школы и до дома, где она жила. Я не пытался с ней заговорить или что-то там высмотреть, я просто продлевал свое ежедневное счастье. Насколько это было возможно. Пока я видел ее, мне было легко и здорово. Гравитации не существовало, а солнце рассеивало самые мрачные тучи.
Хотя, если честно, была бы возможность, я бы и за косы ее потаскал, и портфель украл, и скакалку узлом гордиевым связал. Но почему-то не решался. Любил, как последний дурачок — на дистанции. А вот Мишуня, что позади меня сидит, оказался куда практичнее. Подобно многим он тоже любил Олечку Нахапетову, но был смелее, что ли. Или хитрее? Во всяком случае, этот умник дразнил Нахапетову совершенно открыто: дергал за платьице, звбрасывал снежками, ставил подножки — короче, доводил до слез всеми доступными способами.
Честно признаюсь, я ему жутко завидовал. Вот как надо было любить! А этот умник не просто любил, — он еще и действовал. Более того, однажды Мишуня даже подрался с Нахапетовой! То есть, так довел, что она набросилась на него с кулаками. А он, понятно, стал с удовольствием отбиваться. Помню, что идиотская улыбка не сходила с его физиономии на протяжении всей драки. Уж я-то его отлично понимал! В эти минуты он был по-настоящему счастлив. Я даже подумал, что, возможно, Олечку Нахапетову он любит куда сильнее, чем я. Потому что отважиться на такое геройское проявление чувств у меня, скажу честно, не хватало духу. Вот побить того же Мишаню я мог запросто, а на нее рука совершенно не поднималась. Прямо чепуха какая-то! Мишку я, кстати, побил. В тот же день. Прикопался к какой-то ерунде и наказал. А он и не понял, за что именно. Любовь, братцы, — суровая штука.
В общем, с Олечкой надо было заранее потолковать. Или проболтаться чуть раньше Даши. Не дура же она полная! Сама потом в мемуарах станет писать, что дружила, знаки внимания оказывала. А когда будущий гений спрятал ей в портфель водяную бомбочку, она этим портфелем достала его разок по кумполу. Для тех, кто не знает, кумпол — это макушка или, говоря проще, репа. Короче говоря — голова человеческая. Вот по этой самой голове Олечка и навернула мне портфелем. А теперь сами судите, — ей же за все эти пакости доставался отменный такой кусок славы! Плюс прибыль с мемуаров… На прибыль, я, кстати, не претендовал, хотя мог бы. И прежде чем гадости говорить, пусть бы подумала, кому нужны будут ее мемуары, если в них не окажется страниц про самое главное. Ну, то есть — про меня…
Вот Шнур со Сваей мемуаров точно писать не будут. Им и на школьную славу плевать, — запросто могут испортить интервью. Из трубочек-плевательниц 45-го калибра. Влепят диктору под глаз жевышем из такой трубки, и всё! — сорвана передача. Еще и кукарекнуть могут! Прямо на самой середине интервью. Я, скажем, начну рассказывать о своей любви к животным — к дворняжкам там уличным, к кошакам голодным, а эти олухи возьмут и закудахчут из-под парты. Остряки-самоучки! И ведь не договоришься с ними. Те еще придурки. В последнем сочинении Свая на полном серьезе написал, что когда вырастет, станет жуликом. И не просто жуликом, а опасным налетчиком. Потому что кто-то во снах летает, другие честно по деревьям лазают, а Свая в своих грезах постоянно грабит магазины и банки. Из магазинов он шоколад тащит и жвачку, из банков — тугие пачки денег, чтобы потом покупать на них все те же шоколадки и жёвку. Шнур, который сидел с ним рядом, ничего выдумывать не стал, а попросту сдул сочинение у приятеля. Чуть ли не слово в слово. Вот и досталось потом обоим. Но самое главное, что эти вундеры нисколечко не врали. Дело заключалось, конечно, не в шоколадках и не в жвачке, — просто такие уж они были сорвиголовы.
Сказать по правде, я тоже был бы не прочь ограбить парочку-другую банков, да только смущался в этом признаться. Неловкость я ощущал, что ли? А может, понимал, что не все, что хочется, — здорово и полезно. С шоколада — вон кариес повсюду, от жёвки — язва желудка и пломбы летят, как бешеные. Вот и с банками судьба грозила массой непоняток. Их, может, и приятно грабить — особенно когда в маске-балаклаве да весь обвешен оружием, но ведь потом ни с кем не поделишься впечатлениями, — прятаться нужно, обманывать. И какая же с этого радость?
Или, скажем, Вовыча с Саней я возьму в банк, а Костяя с Гошиком не возьму. И что получится? Конечно, разобидятся — будут губы надувать, глаза тереть. И выходит, что в банк придется идти всем классом. Разве не глупость? В такой толпе, конечно же, кто-нибудь да обмишулится. Потянется за платком и выронит из кармана улику. И всё, туши свет! Поймают в первый же день. С одной стороны — слава, с другой — позор. Что я скажу папе с мамой? Еще и перед банкирами извиняться. А если тоже разобидятся и не простят?

В общем, неблагодарное это дело — грабить банки. И только Свая со Шнуром этого не понимают. Потому и огребут однажды от своих родителей по самую маковку. А мне это не надо. Ну их — этих налетчиков со всей их романтикой! Хватит с меня моей гениальности. Тем более что доказательств скопился воз, и первое из них — мои страхи. Нет, конечно, пугаются все вокруг, но только мой испуг — особенный. Вроде бы хорошо, весело, и все кругом бегают, играют, а мне, вдруг, бэмс! — и страшно становится. Не за себя, а за все вокруг. За Солнце, которое когда-нибудь остынет, за друзей, что незаметно превратятся во взрослых, а после в старичков и старушек. Страшно за небо, которое из-за труб и торговых центров уже почти и не увидишь. А страшнее всего то, что никто этих вещей не замечает. Что я один, как дурак, стою и дрожу. Машины кругом гудят, люди о чем-то спорят, дети носятся, и никто не думает про наше завтра. То есть, я тоже стараюсь не думать, но иногда все-таки думается. Ну, просто само собой думается… Я вот у Дашки Скворцовой про страхи выспрашивал, она посмеялась. Колян с Гошей вообще не поняли, о чем я толкую. И Вовыч с Лешиком лбы наморщили, точно я ребус им космический загадал. Вот и дошло до меня, что в этой беде я один — все равно как во поле березка…
А еще… Еще в детском садике я свободно говорил по-немецки. Сложно поверить, но это чистая правда. Когда надоедало болтать на родном языке, я без малейших усилий переходил на немецкий. Слова и фразы сами лились с языка, и никто вокруг ничегошеньки не понимал. Даже у воспитательниц глаза на лоб лезли. Я же бойко лопотал на заморском наречии и чувствовал вселенскую грусть. С кем мне было беседовать на немецком? И главное — о чем? О запеканке с компотом, об утерянном в песочнице совочке? То есть, может, и не немецкий это был, а какой-то другой язык, но общаться-то все равно было не с кем! И зачем, спрашивается, расти, получать образование, если с самого начала тебя никто не понимает?
Кроме того, что-то подсказывало мне, что у взрослых дела с пониманием обстоят еще хуже. Вон они какие хмурые да озабоченные кругом! Спешат, торопятся, деньги зарабатывают. Короче, пришлось плюнуть на язык и постепенно все забыть. До самого последнего словечка. Гении, они тоже не резиновые, — знания копить без конца не могут. Если помнить все, что знаешь, так и с ума сойти недолго. То есть, гении и впрямь становятся иногда сумасшедшими, но с этим мне спешить не хотелось.
Ну, и про сны, конечно, стоит помянуть.
Почему, например, я вижу во сне Луну или Марс? Я же там никогда не был! Но вот вижу почему-то. Желтые и красные горы — огромные, абсолютно мертвые, а еще жуткие кратеры, вездесущую пыль и иногда следы — махонькие, совсем детские, с длинными коготками. И там, во снах, я брожу по желто-красным долинам, пытаясь понять, откуда и куда ведут странные следы, ищу жилище хозяев и не нахожу.
Еще неприятнее — война. Она мне снится чаще всего. И будто я на этой войне уже совсем взрослый — чуть ли не старый. Потому что болит спина и покалывает сердце. Мне хочется вздремнуть, полежать, но лежать некогда, и я хожу по каким-то окопам и землянкам, делюсь водой из фляги и уговариваю бойцов держаться. А потом сверху начинают пикировать самолеты, сыплются бомбы, и вслед за налетом на поле перед окопами выползают танки. Черные громады утробно рычат и приближаются, а у нас только одни ружья, и ничего наши пули поделать не могут. Со звоном они отскакивают от брони, рикошетом уходят в небо, и мои бойцы начинают плакать от бессилия.
Между прочим, этот сон я никак не могу досмотреть до конца. Потому что когда танки подходят совсем близко, я в ужасе просыпаюсь. И долго лежу, не мигая, глядя в потолок, пытаясь сообразить, почему у моих бойцов не было ни гранат, ни пушек. А еще я пробую угадать свое звание, и мне кажется, что я как минимум лейтенант, а может, даже капитан или майор.
Позднее из одной передачи я узнал, что во снах люди могут видеть свои прошлые жизни. Что даже Лев Толстой верил в то, что был когда-то ученым Паскалем. Но позвольте! — раз уж Льва Толстого все сговорились считать гением, то и на мой счет давно пора делать выводы. Честное слово, пора!
Глава 1 Смешинка и котлован
В общем, пьеса пьесой, а отдых — он тоже строго по расписанию. Другой бы кто, может, и расстроился, а мы с Вовычем не очень. Хотя… Возможно, пора было задумываться над своим поведением. Нас ведь и раньше выставляли из класса. И даже не далее как вчера выгоняли. За форменный пустяк — только за то, что мы начали на уроке смеяться. Кто не знает, это у нас вечная история. У меня, значит, и у Вовки Стофеева, моего закадычного друга. Нас с ним сиксильон раз рассаживали, и все без толку. Потому что мы со Стофеевым любим и ценим настоящий юмор. Когда однажды мы прыснули у завуча в кабинете, она заявила, что смех без причины — признак дурачины. А нам от этой ее фразы совсем худо стало. Потому что ясно ведь было, что это не про нас. Уж что-что, а причину мы всегда найдем.

Вовыч, к примеру, смешные мультяшки уважал больше, чем страшные, и я тоже. И Чаплина мы обожали. А фильмы «Афоня» с «Бриллиантовой рукой» мы вообще, оказывается, единственные в классе смотрели. Остальные-то больше от «Тарзана» со «Шрэком» тащились, от монстров с десептиконами, а мы Карлсона любили и знали, кто такой Пьер Ришар с Луи де Фюнесом. Даже были в курсе, что Данелия — это не страна, а фамилия. Как, кстати, и Гайдай. И принадлежат эти фамилии режиссерам, которые сняли лучшие отечественные комедии.
Вы, наверное, уже поняли, что парни мы с Вовычем продвинутые. И когда на уроке происходит что-нибудь смешное, Вовыч и я реагируем первые. Ну, а как реагируют нормальные люди на смешное? Верно! — ржут, гогочут, заливаются смехом. Правда, когда нет ничего смешного, нам тоже частенько бывает смешно — ну, просто потому, что смешинка в рот попадает. Есть такая бацилла-бактерия. И ведь сидим друг от друга далеко, а как начнет один сопеть да фыркать, так и другой тут же подхватывает.
Вот и вчерашняя клоунада приключилась у Вовыча, а я его поддержал. Он, видите ли, почерк красивый решил показать Аделаиде (это наша классная, кто не знает), ну и до того увлекся, что не заметил, как залез ручкой на поля, а там и на парте пару буковок вывел. Все единой гигантской строкой. Потом посмотрел на нее, припомнил, как старался да мучился, как думал поразить учительницу, и понял, что все это дико смешно. Другой бы заревел от обиды, а этот гоготать начал. Прямо посреди урока. Опасная штука — чувство юмора. Вот я и поддержал товарища. Вовыч, может, остановился бы, а как услышал мой голос, так по новой зашелся. Теперь ему вдвое смешнее было — еще от того, что я, не зная про его строчку, все равно смеюсь. Но я-то смеялся не просто так. Во-первых, понимал, что какая-то причина имеется, а во-вторых, потому что уловил тот миг, когда смешинка, перелетев через весь класс, клюнула меня в губы. Точно поцеловал кто…
Это я не оправдываюсь, я взрослым пытаюсь втолковать, что детский смех — штука сложная, наукой мало изученная. А они — вместо того, чтобы изучать явление, — сердятся, лупят хохочущих по затылку, вышвыривают из классов. Но гогочем-то мы не из вредности, не от злых мыслей! Просто чувство юмора у нас особое. Да еще бацилла эта под названием смешинка. Никто ведь не ругает за то, что все вокруг подхватывают вирус гриппа. А наш вирус, может, раз в сто сильнее. Потому что в одну секунду из серьезного да задумчивого превращаешься в хохочущего — чуть ли не чокнутого. Мы ведь когда хохочем, эти смешинки сотнями в воздух выбрасываем. Я же видел, как все вокруг заулыбались, кое-кто подхихикивать начал. Еще бы минута-другая, и заразили бы весь класс. Бэмс, — и микроэпидемия! Интересный, кстати, эксперимент, — наверное, и учительница не смогла бы удержаться. Но она в отличие от нас экспериментов проводить не желала, а желала проводить уроки. Поэтому, особо не раздумывая, выставила смеющихся из класса. То есть, нас с Вовычем. Но сегодня хоть урок был последний, — и выставили нас с сумками, как нормальных людей.
В общем, погуляв немного вокруг школы, мы решили идти к котловану. По дороге, между прочим, порассуждали о Пушкине и нелепых законах, простивших Дантеса, поговорили о природе смеха и о том, что вирус смешинки особенно силен в стенах класса, когда кругом тишина и все пыхтят за партами. Нам бы помолчать, а смешинка так и егозит в носу и горле. Стоит же выставить нас вон, приступ немедленно проходит. Почему? Отчего? Может, кто специально в классах эту бациллу распыляет? Вместо дихлофоса? Вот бы чем академикам заняться, а не учебники одноразовые придумывать!
Про учебники мы, кстати, тоже поговорили. Потаскать бы эту тяжесть взрослым, посмотрели бы мы на них! Вовыч свой рюкзак каждое утро взвешивает на безмене и получает неизменные пять, а то и шесть килограммов. А сам он весит двадцать пять килограммов! Теперь задача всем умным взрослым. Поделите-ка двадцать пять на пять, — сумеете? Мы-то с Вовычем давно поделили, даже на калькуляторе перепроверили, а взрослые, видно, с математикой не очень дружат. Так вот, уважаемые взрослые, ответ такой, что для вас это примерно то же самое, что таскать ежедневно пудовую гирю! Нехило, да? Это ведь и на работу, и с работы! Любого бы ушатало. Вон, портфель у моего бати — втрое легче наших рюкзаков! А про сумочку мамы мне и поминать смешно.
Я вообще часто задумываюсь: почему мы со взрослыми живем в одном мире, а говорим о разных вещах? То есть, им неинтересно слушать нас, а мы засыпаем, слушая их. Это вообще какое-то загадочное свойство человека — неумение вникать в мысли соседа. Что же тогда про экстрасенсов толковать? Я ведь не о телепатии какой-то, я — о простом человеческом понимании!
К примеру, выхожу я к доске на уроке того же Глебушки. Это заместитель Аделаиды, кто не в курсе. Ну, то есть, когда она болеет, он как бы вместо нее. В общем, как только я выхожу и начинаю рассказывать, Глебушка прикрывает рот и украдкой зевает. Он-то думает, что замаскировался, но я ведь вижу! А потом я сажусь на место, рассказывать берется он, и тут уж зевает весь класс. То есть, мы так иногда зеваем, что штукатурка с потолка сыплется. И челюстям больно. Вовыч где-то вычитал, что от зевания даже вывих получить можно. Самый настоящий, как в спорте! Но Глебушку кое-кто из девчонок оправдывает. Вроде как «он не сильно старый, вот и устраивает личную жизнь — на свиданиях мерзнет, до остановки провожает, не высыпается». Нехило, да? Он, значит, не сильно старый, а мы с Вовычем — сильно? И потом, мы, может, тоже имеем право на личную жизнь. Чтобы, значит, до остановок провожать, на свиданиях мерзнуть и прочей мурой заниматься.
А еще есть у нас другой прикольный предмет — «Окружающий мир» называется. Мы с Вовычем его больше всего боимся — как открываем, так нам плохо становится. Прямо щеки раздувает, и хохотать тянет. Того и гляди лопнем. Потому что нормальные вещи «окружайка» (это мы так ее зовем, кто не знает) объясняет совершенно ненормально. Оказывается, мир состоит из кормильцев, едоков и мусорщиков. Вован на уроке еще про поильцев ляпнул, так учительница не поняла, что он шутит, и трояк ему вкатила. Но ведь, правда, смешно, — кормильцы, поильцы… Мы что, недоумки какие, чтобы нам все разжевывать?
Или те же раскраски. Кто не знает, это такие контурные рисунки, которые следует раскрашивать в указанных границах. Карандашиками или фломастерами. То есть, в яслях или детсадах — понятно, можно давать и эту чепуховину. Но даже моя sister (это сестра по-английски, кто не знает) — и та предпочитает рисовать самостоятельно. Потому что вся в брата. А брат, между прочим, эти малышовые раскраски даже в глубоком детстве в упор не видел. Это я, значит, про себя. За возраст совсем уж груднячковый отвечать не берусь, но лет этак с двух-трех я уже вполне нормально малевал танки, роботов и прочий боевой металлолом. Вовыч, конечно, художник послабее меня, но даже у него глаза на лоб полезли, когда во втором классе мы открыли новые учебники и увидели эти самые раскраски. Автор учебника на полном серьезе предлагал выбирать из пяти тюбиков нужный цвет и возить фломастерам по каким-то зверькам, домикам и машинкам. Естественно, мы начали ржать. Сначала Вовыч, потом я. Или наоборот, не помню. И оба получили записи в дневнике: «Смеялся над пустым местом». То есть, это Аделаида нас распекала: «Над чем смеетесь? Над пустым местом!». Так и записала в дневники. В результате — мы в это «пустое место» неделю без смеха заглядывать не могли. Сразу начинали краснеть и раздуваться.
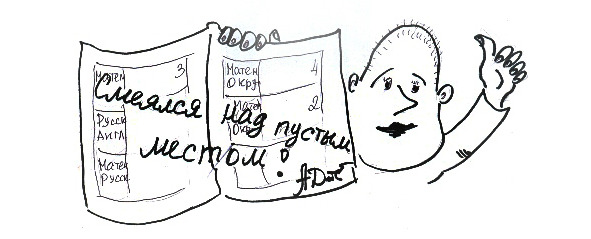
Так вот и оказались у котлована. Хотя объяснить толком, чего нас туда понесло, я бы не сумел. Про смешинку объяснил, про портфели с учебниками тоже, а про котлован… Тем более, что погода была из таких, которые обычно называют непогодами. Ветер задувал, дождик накрапывал… Какой-нибудь писатель — страниц пять ухлопал бы, описывая эту слякоть. А я скажу в сиксильон раз проще: погода была полная фигня. Вот в эту самую фигню-непогоду мы с Вовычем и очутились возле котлована.
То ли центр торговый хотели здесь строить, то ли автостоянку, никто толком не знал. Но котлованище вырыли огромный, уже и сваи кое-где вколотили. Одного строители не предусмотрели — все той же непогоды. И как зарядили осенние дождики, как сыпанул град, весь котлован и затопило. В несколько дней по самый краешек. Стройку, понятно, остановили, а мы, вдруг, обнаружили, что в нашем скучнейшем городском ландшафте возникло географическое новшество. Наверное, природа специально для нас постаралась. Она ведь мудрее самых мудрых строителей и совершенно точно знала, что ни автостоянок, ни торговых центров нам не нужно. Вот и поступила по-своему. Отвернула небесные краники и подарила нам озеро.
Глава 2 Горе-аргонавты
— Тут и города еще не было, — вещал Вовыч, — а про озеро знали уже все окрестные мамонты. И лошади знали — которые с Пржевальским сюда приезжали, и динозавры с гигантскими черепахами. Все вместе приходили на водопой. А когда ледниковый период грянул — тот, что в мультах, они и замерзли. Только один самый последний динозавр ползком кое-как добрался до озера. Всего-то и надо было — перейти на ту сторону! Понимаешь? И все! Один динозавр мог бы реально спастись!
Я потрясенно молчал. Врать-то мы все умели неплохо, но Вовыч врал просто сказочно. Кто его только этому учил! То есть, это ведь он про котлован мне втюхивал! Про то, что на самом деле это озеро, чудом уцелевшее чуть ли не с юрских времен! А я, дурак, слушал и головой кивал. Сто раз видел, как рыли этот котлован, как ревели экскаваторы, как сваи вбивали, а вот Вовыча слушал и верил. Да и как не верить, если у него глаза как фары горели, и руками мой друг размахивал, как голландская мельница.
— Прикинь, это, может, последний динозавр был! Какой-нибудь диплодок с длиннющей шеей! — почти кричал Вовыч. — Они же вон какие огромные были, — и этот думал, наверное, что запросто озеро вброд перейдет. А шагнул ножищей, и ульдык! Он же не знал про глубину. Только пузыри и пошли…
Я с трепетом глянул на темные воды котлована. Может, и впрямь где-то там на далеком дне лежали кости последнего динозавра?
— А сваи? — тихо спросил я. — Те, что из воды торчат?
Спросил не чтобы опровергнуть сказанное другом, а скорее, подбрасывая полешки в пламенную печь Вовкиного красноречия.
— И ты заметил? — он кивнул. — Это археологи. Кости хотели достать, станцию пытались строить.
— Не получилось?
— Почему, построили. А наутро… Наутро вода взбурлила, и выплыл монстр. Понимаешь, потомок того динозавра. Может, внук или даже првнук. И всю станцию в щепки разнес, только эти вот сваи и остались. Потом его с вертолетов пытались расстреливать, на удочку ловили, сети рыбацкие забрасывали, — бесполезно.
— Круто! — выдохнул я, не понимая, отчего первым не выдумал такую обалденную историю. Вроде и книг немало прочел, и Данелию с Гайдаем смотрел, а переплюнуть друга не получилось.
— Помнишь, этим летом в небе моторы ревели?
— Ага… Я думал, пожарные вертолеты.
— Пожарные! — фыркнул Вовыч. — Настоящие боевые, не хочешь? Ящера нашего искали. А чтобы лишнего не болтали, про пожары потом выдумали.
Я снова скосил глаза на поверхность озера.
— Думаешь, глубоко здесь?
— Километра два, не меньше. Глубже, чем на Байкале.
— Ого! — мне стало страшно. То есть, я отлично помнил, что котлован был не слишком глубоким — от силы метра три-четыре. Однако два Вовкиных «километра» проглотил без раздумий.
— Смотри, какой туман, — продолжал Вовыч. — В тумане ящеры обожают выбираться на поверхность.
— Точняк, обожают! — я в этом тоже не сомневался.
— Значит, самое подходящее время его выманить.
— Как выманить-то?
— А так… Я еще вчера придумал. Возьмем, выплывем на середину и посветим в воду фонариком. Раки тоже на свет вылезают, и он вылезет. А мы дадим ему хлебушка, приручим и сфотографируем. Фотки в сеть выложим, в журналы пошлем. Представляешь, как все обалдеют!

— Класс! — я сразу оценил идею Вовыча по достоинству. То есть, если монстр слопает наш хлеб, это сулит серьезные шансы. Потому что иметь прирученного монстра любому хорошему человеку не помешает. А уж нам-то тем более.
— Хлеб где возьмем?
— А это? — Вовыч торжествующе продемонстрировал надкусанный крендель. — И еще два куска в кармане. Я еще позавчера в столовке взял и забыл. Видишь, как удачно!
— Еще бы! — обрадовался я. — А фотоаппарат нужен настоящий — у моего папы такой есть. В следующий раз принесем — и сфоткаем.
— Вот видишь! Теперь только плот какой-нибудь сделать. Чтобы добраться до середины озера.
Я напряженно потер голову. Сначала макушку, потом затылок. Лучший способ что-нибудь выдумать, это наморщить лоб. Взрослые всегда так делают, кто не знает. Но у меня с морщинами пока не очень получалось, и я изобрел свой метод. Просто усиленно тер какую-нибудь часть головы, и нужная мысль тут же вылезала — точно потревоженный червяк из яблока. Наверное, я ее трением выгонял, — все равно как древние люди добывали огонь.
— Надо походить, поискать, — предложил я. — Может, лодку найдем или баркас.
Баркас было бы здорово! — согласился Вовыч. — Как у Верещагина из «Белого солнца пустыни»…
Мы тут же отправились на поиски, но баркаса почему-то не нашли. Даже крохотной лодки возле нашего озера не обнаружилось. Ну, почему вот так? Озеро есть, а плавсредств — ни одного-единого! Прямо хоть плачь!
И все же, кто ищет, тот всегда что-нибудь находит. Вот и мы с Вовычем наткнулись на железную бадью. То ли цемент в ней размешивали, то ли еще что, но была она размером с крохотную лодочку, вся ржавая, с вмятинами, но без дыр. По краям у бадьи топорщились приваренные петли, а на корме белой краской было намалевано число 339.
— Видал, как все сходится! — обрадовался Вовыч. — Трижды три — девять, а девять мое любимое число!
— И мое! — подхватил я. — Нам ведь с тобой по девять лет, ты не забыл!
— Конечно, помню. А тут еще и петли — вон, какие удобные. Совсем как уключины для весел.
— Не утонет твое корыто? — засомневался я. — Тяжеленное, наверное.
— Корабли — они тоже тяжеленные, но ведь плавают.
— Все равно — надо проверить…
Именно это мы и сделали. Стащить корыто в воду было не так-то просто. Но Вовыч был сказочно силен, а я кое-что знал про рычаг Архимеда, и, объединив науку с мускулами, мы столкнули бадью в воду. И вот чудо! — железная посудина не утонула. Просела до половины, но удержалась. И даже когда Вовыч шагнул в нее, качающееся корытце тонуть не надумало.
— Залезай, — отважно пригласил мой друг.
— Ага, — я неловко перебросил ногу через железный борт. Еще секунда, и я стоял рядом с Вовычем. Удивительно, но железная бадья держала нас двоих! Спасибо старику Архимеду: силу-то выталкивающую корабли из воды — тоже открыл он. Славный был сиракузец! Очень полезный для общества старичок.
Парой досок мы оттолкнулись от глинистого обрыва, и уже через несколько мгновений между нами и берегом оказалась приличная полоска воды.

— Куда держим курс? — поинтересовался Вовыч.
— На этот… На зюйд-зюйд-вест. В смысле — сначала прямо, а потом чуть правее той балки.
— Понял…
Я толкнулся доской более решительно.
— Судно, конечно, не фонтан, но вроде плывем.
— Ага… — Вовыч тоже попытался толкнуться, но доска у него ушла в воду целиком и дна не достала. Ойкнув, Вовыч положил ее поперек корыта, а сам присел, ухватившись за ржавые края.
— Глубоко, блин…
— Сам же говорил — два километра. Тут надо грести.
— Я бы греб, — Вовыч заметно побледнел, — но как-то не получается, когда качает.
— Это пройдет, — успокоил я друга. — Морская болезнь как правило долго не длится.
— А сколько она длится?
— Ну… У всех по-разному, — уклончиво отозвался я, потому что ответа на каверзный вопрос не знал. — Главное — делом полезным заниматься и не есть много жирного. У тебя ведь ничего жирного с собой нет? Масла там или колбаски с паштетом?
— Этого нет, — признался Вовыч. И по-моему, сглотнул слюну. — Не люблю есть жирное, когда отправляюсь в дальнее плавание.
— И я не люблю.
— А мы каким делом будем заниматься?
— Ну… Можем за айсбергами следить, а можем палубы драить. Главное — не кукситься.
— Кто куксится-то?
— Никто, конечно. Просто берег-то вон уже где…
Вовыч посмотрел за спину и, по-моему, скуксился окончательно. Так-то он парень храбрый, в боях с ашками из параллельного не раз меня выручал. Да и перед четвероклашками не трепетал, готов был стоять до последнего, но тут я его понимал. Вода — он же стихия, с ней не пошутишь. Особенно когда цунами или водовороты. Видел я в фильмах, что они вытворяют с кораблями — страшная штука! Тут, может, и сам Пушкин растерялся бы! Александр Сергеевич…
Махонькое судно между тем относило дальше и дальше. То ли ветром, то ли обманчиво теплым течением Куросио. Нам и грести было необязательно. Берег, от которого мы только что отплыли, начинал расплываться в белесой дымке. Мне стало не по себе, и я вдруг понял, что успел уже соскучиться по маме с папой, по сестренке и по нашей двухкомнатной уютной квартирке. То есть, минуту назад еще не скучал, а тут вдруг заныло под ложечкой. Или под вилочкой… Словом, где-то в животе. И малодушно захотелось вернуть все обратно. Хотя бы на пару-тройку минут. А уж там все взвесить повторно и как следует поразмыслить над резонностью путешествия. Чтобы не получилось, как у тех двух лошаков. Ну, помните еще стишок детский? Два мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу — и так далее… Нехорошо, в общем, у них там все завершилось. И жирного вроде не ели, и не ругались друг с дружкой, но плаванье долго не затянулось…
Мне по-настоящему взгрустнулось. Спрашивается — и чего мы вечно спешим, куда рвемся? К каким таким радужным финишам? Клоуны, блин, торопыги. Разве плохо нам дома?..
Глава 3 Тоска адмирала
«Не спеши жить», — любит говорить моя мама. Раньше я этого не понимал. То есть, понимал так, что надо жить медленнее. Помните песню Высоцкого: «Чуть помедленнее, кони!». Мой папа ее прямо обожает. Он вообще певцов-старичков любит — Высоцкого, Цоя, Бутусова. Постоянно что-нибудь включает послушать. И «Коней» этих чуть ли не каждые выходные ставит. Вот и я, наверное, как-то пытался соответствовать песенному призыву — ходил в два раза медленнее, ел, умывался. С этим у меня как раз все неплохо получалось. Скажем, просыпаться, постель там заправить или зубы почистить — я мог даже в три или четыре раза медленнее! Но тут моя мама почему-то проявляла нелогичность, и мне тут же прилетало:
«Опять тянешь резину! Не копайся! Застрял ты там, что ли? Ну, сколько можно мозолиться?» И так далее, в том же духе. А попробуйте-ка на школьной физкультуре медленно перепрыгнуть через гимнастического коня! Или на вопросы у доски отвечать с неспешностью столетнего дедушки. И тоже схватите двояк, как миленькие.

Словом, фраза мамина до меня долго не доходила. Бродила этакими кругами около да возле, а в ум не заглядывала. Папа вот у нас мастерил неспешно и тщательно — считал да линейками вымеривал, на калькуляторе сто сорок раз перепроверял, и получалось все ровно да гладко. При этом так крепко, что после не оторвать. Но сколько же времени он на тратил на эти работы! Опупеть можно! Вот дядя Вася, муж моей родной тети — той самой, что с обоев, наоборот все делал быстро и на глазок. Его я понимал почему-то больше, чем папу. Линолеум там отрезать, картину прибить или полку выпилить, — чего, в самом деле, мудрить? Он и не мудрил. Прищуривался, что-то там прикидывал про себя и делал. Получалось, как ни странно, вполне пристойно, хотя не так ровно и крепко, как у папы. Я обычно дергал и проверял — иногда что-то ломалось. Папа, понятно, кривился, а дядя Вася посмеивался и снова приколачивал. Одним лихим махом, не тратя ни единой лишней секунды.
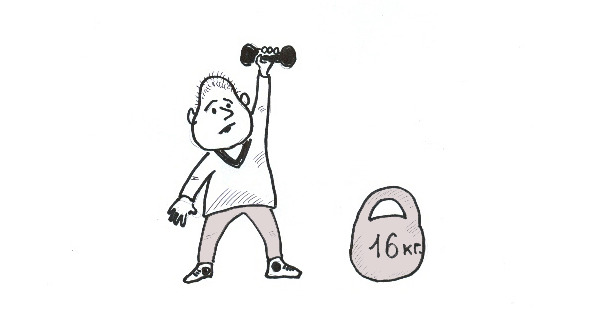
В общем, честно скажу, первое время всех этих расчетов и цифр я жутко боялся. И путался на каждом шагу. Я, например, поднимал гантелину в четыреста граммов, а папа всего в шестнадцать килограммов. Согласно числам у меня получалось больше, но, глядя на гантели, в голову приходил совершенно другой вывод. И оказывалось, что в килограмме этих граммов аж целая тысяча, и все намного сложнее. Или мне, скажем, было шесть лет, а Машке, сестричке моей, три. И получалось, что я был вдвое ее старше. Я-то думал, что всегда так и будет, но прошел год, и что-то пошло с цифрами не так. Настолько не так, что мое старшинство стало стремительно таять. А в девять лет разница между нами стала совсем уж невзрачной. Согласитесь, приятно, когда кто-то тебе только до пояса. А если до плеча? Или даже до подбородка, если на цыпочках? Уж на цыпочки моя сеструха вставала мастерски. Чтобы казаться повыше и пострашнее. Я, кстати, сам ее этому научил. Потому что в шесть лет девчонки тем и хороши, что толком не понимают, что они девчонки. И моя сестра тоже свято верила, что главный ее долг — играть с братом в солдатики, стрелять по мишеням и воевать с недругами. Даже когда я дрался с дворовым Толькой (а он меня на два года старше, кто не знает), моя верная сеструха навалилась ему на левую руку, а я боролся с правой. И ничего этот жердяй с нами поделать не мог. Вот и скажите, что это не помощь! 6 лет — это вам не кот накашлял! Во-первых, шестнадцать килограммов (пуд, кто не знает!), а во-вторых, два глаза и два уха — считай, готовый разведчик в любом вражеском стане. А еще это две руки и две ноги, которые всегда могут оказать услугу родному братцу. Например, сбегать на кухню и принести печенье (потому что ей разрешают, а мне нет), или помочь собрать игрушки перед сном (я же не железный все делать в одиночку!). Так что, может, братик и был бы мне в чем-то полезнее, но я как-то и к сестренке своей привык. Полюбил даже, что ли…
Между прочим, когда мама впервые сообщила, что у меня скоро появится сестренка, и она назовет ее Машей, я и не расстроился почти. Ну, не братик, конечно, и что с того? Реветь и рвать волосы на голове? Больно надо! Разве что немного встревожился по поводу папы. Узнав о том, что у нас с мамой появится малышка, он мог запросто рассердиться. Папа у нас вообще не очень любит появления в доме новых вещей, — палок, которые я волоку со двора, камушков, игрушек разных. А тут, прикиньте, — целый живой ребенок! Да еще девочка. Конечно, рассердится. В общем, я предложил маме взять все на себя — и взял! Вечером собрался с духом и сам рассказал папе обо всем случившемся. И правильно, между прочим, сделал. Папа не рассердился, а наоборот принялся хохотать. Он так хохотал, что даже люстра под потолком звенела. А, отхохотавшись, крепко меня обнял. Ну, и маму, конечно, простил.
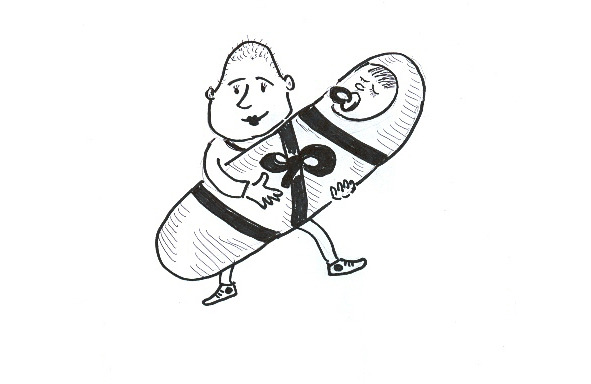
Хотя с Машкой все-таки путанная вышла история. Домой-то младенцев, оказывается, нельзя сразу приносить. Микробы там и прочие дела. Вот и свозят всех мамаш в одно место. Сначала рожать, а после имена новые придумывать. Потому как имен мало, а детей много. Попробуй раздели один пирожок на целый класс! Так и с именами. Короче, в это самое место папа меня однажды и привел. Скучнецкое такое здание, раз в пять больше садика. Куча окон, а прямо на стеклах — номера палат намалеваны маркером. За окнами тетеньки, под окнами дяденьки. Все на пальцах друг другу что-то показывают, на бумажках слова с цифрами пишут. Иногда свистят, иногда орут. Одну тетеньку вообще через окно похитили, я сам видел! А один дядя наоборот — подтянулся на подоконнике и ловко так вскарабкался на подоконник, а после взял да и шмыгнул в окно. То есть, зачем тетенька оттуда удрала, это еще можно было понять, — может, передумала, рожать или по собственной маме соскучилась, но вот что нужно было дяденьке в доме, где вокруг десятки мамаш с орущими младенцами, я решительно не понимал.
Нашу маму я тоже видел в одном из окон, но что она там показывала, разглядеть было решительно невозможно. Кулек какой-то к стеклу подносила — может, с мусором, а может, с продуктами. А может, показывала таким образом, что ей снова нужно что-нибудь принести — в пакете или таком же вот кулечке. Я-то знал, папа ей постоянно продукты привозил. Тетенек в этом здании, наверное, совсем не кормили. Вот их и жалели все — кто яблоками подкармливал, кто апельсинами. И папа мой тоже вел себя, как все окружающие, — руками размахивал, поцелуи воздушные посылал, в общем, малость походил на сумасшедшего. Я глядел то на него, то на других пап, и мозги в моей гениальной голове потихоньку закипали. Странное такое место. Не знаю, как сформулировать, но чем-то оно меня очень расстроило. И зачем было Машку именно здесь рожать? Родили бы дома, спокойно, перед телевизором. Еще и мультяк какой-нибудь сразу показали. Чтобы она очень не пугалась и поскорее привыкла к новому обиталищу.
Словом, так вот у нас Машка и появилась. Какое-то время потусовалась в больнице, а после переехала к нам. И никаких там аистов с корзинками, никакой капусты. То есть, в ту далекую пору мне еще можно было вешать лапшу на уши, но времени-то вон, сколько прошло, — выросли, по счастью — и уши, и мы. И странно даже, что все эти байки про младенцев ничуть не изменились: в школе несли одну пургу, знакомые родителей — другую. Хоть бы что свеженькое придумали! А то снова магазины, куда, поднакопив деньжат, мамаши приходят покупать детей, снова огороды, переполненные младенцами и капустой, мускулистые аисты и прочие овощи-грядки. Прикольно, конечно, слушать все эти мифы и легенды, но, честно говоря, достало. И когда становилось совсем уж невмоготу, я коротко выкладывал им историю про наш двор, в котором деткам после шести лет легко и доступно объясняют всю правду рождения детей. Видели бы вы лица моих собеседников! Точно я взял и поймал их на воровстве! Ну, да сами виноваты. Нечего десять раз одну и ту же глину месить…
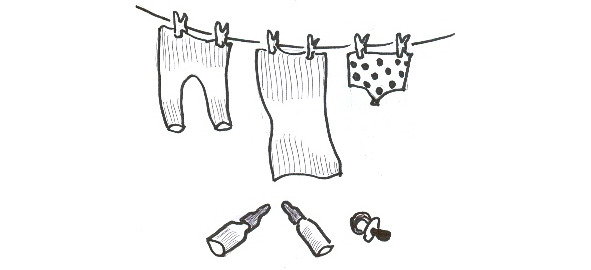
Словом, как стало нас четверо, сразу прибавилось забот-хлопот. Разные там песни по ночам, памперсы да пеленки по всей квартире и прочие дела. Но даже к этим переменам я отнесся вполне ответственно. Почти не ругался при Машке, никогда не пытался ее перекричать и даже сладким иногда делился. А когда сеструха научилась целоваться, я загодя рассчитал, что в будущем непременно буду давать ей ценные советы. Это ж суперудобно, когда есть такой брат советчик. По улицам — вон, сколько тетенек жутких бродит! Ужас, во что одеты и какие у них завивоны на головах, какая пожарного цвета помада! Им-то кажется, что выглядят они опупенно, а на самом деле, полный отстой. И все оттого, что не было в нужный момент под рукой мудрого брата. Так что нашей Машке я и про прически все загодя объясню, и про грязь под ногтями, и про джинсы с кроссовками. Да и без умения драться в нашем мире девчонкам тоже сложно обойтись. Обязательно кто-нибудь да обидит. А тут — хопана! — сунется кто понаглей и встретит кунгфу-панду!
Если честно, имелся у меня и свой секретный план с помощью выбора подходящих женихов. В школе-то этому не учат! А я точно знал, что подберу Машке отличного мужа. Скорее всего, из самых своих проверенных дружков-приятелей. Вроде того же Вовыча или Лешика с Сашкой. Папе-то с мамой вечно не до нас, а ведь это суперважно — правильно выбрать свою половинку. А то вырастет однажды, выскочит за какого-нибудь Тольку из соседней пятиэтажки, и что? Фильм под названием «Приплыли» — так, что ли? К ним ведь даже в гости будет противно ходить. Толян — он же такой, постоянно ехидничает, в драку лезет, конфетами не делится. На фиг такой муженек! В таких делах следовало подходить к делу предельно серьезно — чтобы и на рыбалку вместе, и в лес за кузнечиками, и в киношку с 3-D фильмами. И чтобы у него (у мужа, значит) обязательно машина была, а лучше — грузовик, и характер добрый, и игрушек со жвачкой побольше. А иначе… Иначе и смысла в замужестве, по-моему, нет…
Корытце продолжало покачиваться, где-то отчетливо хлюпало — то ли под днищем судна, то ли в носу у Вовыча. А я вдруг отчетливо вспомнил, как тягостно и долго мы ждали с сестрой нашу маму по вечерам. Это когда она еще во вторую смену работала. Мы с Машкой вставали тогда на подоконник, приклеивались носами к стеклу и ждали. Там за стеклом плыла пугающая мгла, и где-то в этой черной пустоте бродила наша бедная мама. Выл ветер, и почти физически мы ощущали, как мама из последних сил пробивается к родному подъезду. Сеструха моя сдавалась первой и начинала тихонько подхныкивать, а я… Я даже утешить ее толком не мог, потому что и сам был готов разреветься. Но стоило в замке повернуться ключу, и все разом менялось. Мы прыгали с подоконника и наперегонки устремлялись в прихожую. «Мама! Мама пришла!» — орали мы паровозными голосами.
Как только нас соседи терпели?
Теперь-то, когда я совсем взрослый и мне давно грянуло полноценных девять лет, я тоже не очень понимаю, чего мы надрывали связки. То есть, не понимал, пока находился на берегу и дома. Но сейчас, оказавшись в железном корыте, неожиданно припомнил ту безумно радостную вспышку в момент маминого прихода и подумал, что, может, не столь уж безумной она была? И фотоальбом наш семейный припомнил, и папины мощные руки, заботливо перелистывающие страницы… Как же мне нравилось сидеть вдвоем с папой и глядеть на физиономии знакомых и незнакомых людей. Нравилось слушать про далекий город Ирбит (это папина родина, кто не знает), про сплав на плотах, про речку Ницу, превращавшую по весне город в уральскую Венецию. А еще папа рассказывал про Ленинград и Тюмень, где он жил и работал после института, про жаркий Ашхабад и знойный Сухуми, про туманный Владивосток и ветреный Мурманск. Мне казалось, папа успел побывать везде. Может, даже по морям-океанам поплавал. И чего я не взял из дома какую-нибудь мелочь на память? Скажем, тот же альбом, скакалку сеструхину или мамин фартук…
Короче, в такой вот обстановке я и рос. Не самой спартанской, но и не оранжерейной. Обычно в мемуарах начинают врать и приукрашивать — особенно про чтение, что все, мол, великие начинают читать и писать чуть ли не с колыбели (нам Аделаида не раз в пример приводила разных вундеркиндов). Но я в своих мемуарах решил излагать все честно. Зачем вводить страну в заблуждение? Пусть все знают, что читать и писать я выучился поздно — ну, то есть, как все нормальные люди. Во всяком случае, сидя на горшке, я еще не читал и, левым пальцем ковыряя в носу, правым не водил по печатным строчкам. И зубы (чего уж там!) — тоже не любил чистить. И гусениц мохнатых боялся, и жуков рогатых. Я и на грубость не всегда отвечал дерзко и смело. А еще… Еще в детском садике я совершил однажды вполне реальное злодейство — взял и своровал понравившегося мне солдатика. Сначала мне было стыдно, потом не очень, а после — опять немножечко стыдно, так что я даже решил попросить у хозяина солдатика прощения. В мемуарах, конечно. Он ведь их тоже прочтет когда-нибудь. А не прочтет, так сам же и будет виноват. Потому что солдатик тот до сих пор живет у меня, и если однажды прежний хозяин заявится ко мне домой, я верну солдатика без разговоров.
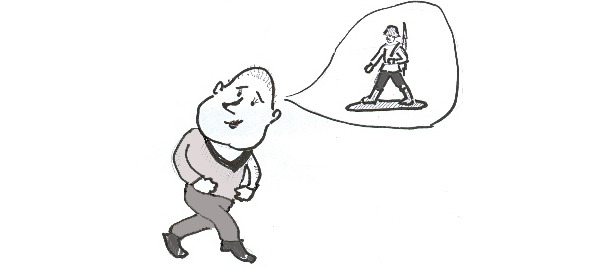
Глава 4 Вслед за Маггеланом
— Ты это… Плавать умеешь? — сипло поинтересовался Вовыч.
— Умею, конечно. Метров пять в бассейне проплывал.
— Я тоже… Метров пять… — Вовыч снова оглянулся на удаляющийся берег. — Значит, если что, будем друг друга спасать по очереди. Сначала я тяну тебя пять метров, потом ты меня. Вместе уже десять, понимаешь?
Я кивнул. Это он сосчитал правильно, — находчивый парень! Правда, расстояние до берега было уже не десять метров, а значительно больше.
— Ну, десять метров мы, думаю, проплывем, а дальше как? — я пристально посмотрел на своего мудрого друга, но про «дальше» Вовычу думать не хотелось. Он скис, это было очевидно, и я его не осуждал. Просто сделал вдох-выдох и взял команду в свои руки.
— Ладно… Проверь пока, нет ли где течи с пробоиной. — Я хозяйственно огляделся. — Обойдешь судно и доложишь.
— А ты?
— Я буду грести и табанить. А еще сверять курс и это… Следить за айсбергами.
— Да какие тут айсберги… — уныло протянул Вовыч и присел на корточки. Наверное, чтобы изучить судно на предмет течи. Я же попробовал гребнуть доской, и железное корыто тут же вертко повернуло вправо.
— Видал? — я бодро кивнул за борт. — Судно руля слушается, значит, скоро выплывем на середину.
— А где она, Макс? Середина эта?
— Как где? — я покрутил головой и в волнении потер лоб пятерней. Вовыч был прав. Берег окончательно скрылся в дымке, и где теперь расположена середина озера, догадаться было невозможно. Со всех сторон нас окружал плотный туман.
— Макс, — выдохнул Вовыч. — Мы не заблудились?
— Без паники! — крикнул я, но голос мой дал петуха. Не то, чтобы я испугался, но что-то с ним — с голосом, значит, приключилось. Наверное, стало немножечко не по себе. Голосу, понятно, не мне. Если кто замечал, такое иногда бывает: колени дрожат, голос отказывает, руки холодеют, — только причем тут хозяин? Если у командира некоторые бойцы трусят, сам командир разве виноват? Иногда, конечно, бывает и виноват, а иногда не очень. То есть, это я так считаю…
Несколько раз окунув доску в воду, я посмотрел за борт. Сначала вода показалась мне темной и ржавой, но потом, прищурив веки, я вдруг увидел дно. То есть не дно даже, а какие смутные тени, коралловые громады, россыпь морских звезд и ежей.
— Кораллы! — в волнении шепнул я. — Там куча красных коралов!
— Где? — Вовыч свесился по соседству.
— Да вон же, под нами!
Вовыч какое-то время молчал, а потом прошептал:
— Вижу. И корабль какой-то. На спине лежит.
— Еще скажи: «на боку».
— А как у него спина называется?
— У кораблей вообще нет спины. Только киль — это, значит, то, что снизу. А еще корма и нос.
— А по краям?
— По краям — правый борт и левый.
— Это я помню, — Вовыч задумался. — А если он лежит вверх ногами?
— Значит, лежит кверху килем.
— Та-ак, — Вовычу явно понравилось учиться. В школе, понимаешь, не нравилось, а тут чего-то во вкус вошел. — Ну, а как будет правильно — борты или борта? То есть — когда множественное число?
Я нахмурился. Ох, и дотошный он все-таки парень! Ну, какая вроде бы разница? Борты, борта, бортища… Еще бы про бортпроводницу спросил!
— Конечно, борта, — не слишком уверенно произнес я.
— А как же тогда — шурупы, нарты, карты?
— Ну-у… Борты — это ведь не нарты.
— Почему нет-то?
— Потому что мы говорим: не штормы, а шторма, — назидательно процитировал я строчку из песни Высоцкого и, сообразив, что ступил на скользкий канатец, поспешил сменить тему. — Давай лучше фонариком светить. Не вижу я корабля. Вот тени какие-то вижу. Крупные, между прочим.
Вовыч снова свесился вниз.
— Акулы?
Я напряг зрение и в самом деле разглядел акул. Прямо целую стаю! Как раз под нашим суденышком.
— Точно! Сколько же их!
— Но если это котлован, откуда они здесь взялись? — удивился Вовыч.
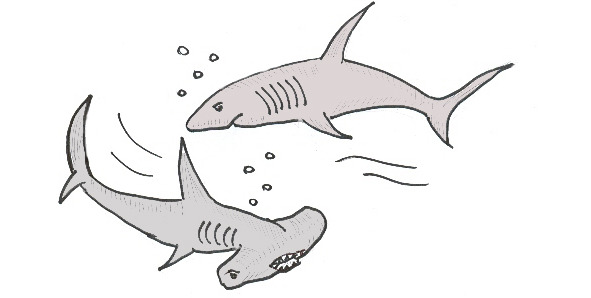
Я начал на него сердиться. Любой дотошности надо знать меру! Почему, откуда… Да какая разница! Мне, во всяком случае, было все равно, какая акула перекусит пополам наше суденышко — океаническая или котлованская.
— Давай лучше хлебца твоего поедим, — умудрено перевел я стрелки.
Вовыч не стал спорить и живо извлек из рюкзачка крендель. Присев рядышком, мы сгрызли его в одну минуту. Все до крошечки. Даже не подозревал, что хлеб бывает таким вкусным. Прямо вкуснее любого шоколада! Я покосился на Вовыча, и он понятливо полез за оставшимися кусками. Их мы смолотили еще быстрее.
— Маловато, — вздохнул я.
— Да уж…
В этот момент кораблик ощутимо качнулся.
— Чувствуешь? — я почему-то перешел на шепот. Вовыч испуганно ширкнул носом, таким же шепотом отозвался:
— Когда на море теплоход мимо проплывал, там на воде такие же волны появлялись.
— Но здесь-то теплоходов нет, — я зябко всмотрелся в туманную даль.
— И баркасов нет.
— Значит, что? Значит, это ОН?
— Или ОНО, — уточнил Вовыч.
— Вот, незадача! А мы хлеб весь сжевали! Чем мы будем его приручать? — я поежился. — Сейчас выплывет, раскроет пасть и обидится, что ничего не даем.
— Обидится и разозлится, — с дрожью в голосе подхватил Вовыч.
Поглядев на него, я подумал, что сейчас он боится даже больше меня. Боится, но изо всех сил старается не показать этого. Совсем как капитаны тонущих судов. Вовыч тоже ведь понимал, что надо подбадривать окружающих. Ну, а кто здесь для него окружающие? Конечно, единственный окружающий — это я.
Мне даже захотелось обнять Вовыча. В благодарность, что ли. Но я ведь не девчонка, чтобы обниматься. Вместо этого я похлопал его по плечу и дал в руки доску.
— Если что, навернем по кумполу доской, мало не покажется.
— Плезиозавру? — Вовыч зябко улыбнулся.
— Хоть плезио, хоть даже тирано! Главное — угодить в самый кончик носа. Там у него, как у акулы, — все самые важные нервные точки. Хрясь! — и враг не пляшет. Гоблин валится в нокаут, а мы в это время делаем ноги.
Утешение выглядело сомнительным, но Вовыч вцепился в доску всеми десятью пальцами. И даже направил в сторону воды, точно это и впрямь был какой-нибудь пулемет или бластер.
— Ничего, Вовыч, пробьемся, — я попытался изобразить на лице безмятежность, и друг мой тоже расправил плечи. Матросы — они ведь такие — всегда следуют примеру капитана. А в следующий миг вся наша бравада улетучилась. Потому что, подняв головы, мы оба рассмотрели одно и то же. И оба в унисон заверещали. Потому что из дождя и тумана выплыла огромная шея плезиозавра.
Мы нашли того, кого искали. Без всяких фонариков.
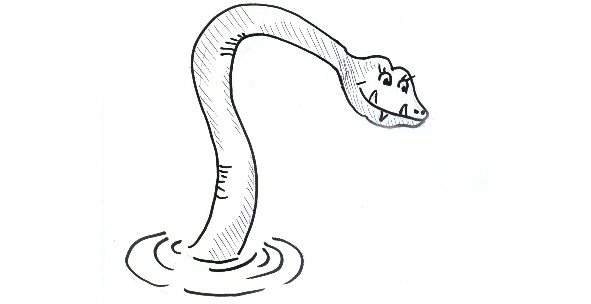
***
Ну, да, испугались, — и что? И вы бы испугались! Это ж не плюшевый мишка и не пластмассовый грузовичок, — настоящий плезиозавр! Считай, зверюга из мезозоя! Конечно, тела мы не видели, только шею, но и шеи встречаются порой такие, что поневоле теряешь последнее мужество.

В общем, детство и страхи — особая тема. Одно без другого, по-моему, не живет никогда. Для нас же, мальчишек, попугать друг дружку да испытать на вшивость — дело и вовсе святое.
То есть, была у нас одна жесткая игра, которую мы прозвали «каруселью». Почему, вы сразу поймете. Потому что втроем или вчетвером мы бегали по бордюру песочницы — по узенькому деревянному ободочку. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Кто думает, что это просто, пусть сам рискнет. Мы же носились по этому кругу-квадрату так, что ветер свистел в ушах. Кого «ляпали» в спину, частенько летел на землю, автоматически выбывая из игры. Ну, а последний из уцелевших, естественно, побеждал. Конечно, при падениях ушибались — порой даже очень крепко, но в основном обходилось без серьезных травм. Везло нам, что ли…
Словом, нормальная такая игра. Немного даже геройская. Но однажды приехала бригада строителей и старый газовый баллон, от которого питались ближайшие дома, выкопали. Баллон загрузили в кузов КАМАЗа и увезли. На месте же газораздатки образовалась приличных размеров ямина. Как выразился мой папа — с воронку от хорошей авиабомбы. Я еще удивился, как это бомба может быть хорошей? А когда одна из соседок, взглянув на яму, протянула: «да уж, добрая берлога», я и вовсе запутался. Во-первых, почему добрая? И причем тут берлога, если нет медведя? И только когда Свая (наш главный хулиган из класса, кто не знает) хорошим ударом поставил добрый синяк пареньку из параллельного класса, я что-то стал понимать. Про добрые ямины и хорошие тумаки. Ничего не попишешь, таков язык взрослых — житейски суровый и не по-детски извилистый.

Яму почему-то долгое время не закапывали, и осенью она заполнилась водой. С ямами и котлованами, я уже понял, это обычное дело. Не дожди, так трубы дырявые, а то и вовсе какие-нибудь подземные воды. Мы же вам — не Сахара. В общем, ямину затопило, а нам только того и надо было. Конечно, мы тут же принялись швырять в воду камни. Вставали в кружок и швыряли. Да так старались кинуть, чтобы окатить человека с противоположной стороны брызгами. Еще бы месяц-другой таких игрищ, и мы бы точно засыпали яму камнями, но кому-то пришла в голову идея, что яма — это отличный экстрим. Стоит ли бегать вокруг песочницы, когда есть такая роскошная воронка — да еще заполненная грязью! Вот мы и стали бегать вокруг ямины. Как-то даже не задумывались о том, что может произойти. Что вы хотите, — салажата!
Короче, кто-то должен был первым споткнуться, и споткнулся тонконогий Гоша. С брызгами ухнул в ямину и, малость побарахтавшись, стал тонуть. Тонущий человек, кто не знает, выглядит препотешно. То есть, пока думаешь, что он дурачится, это и впрямь забавляет. Потому что верещит, пузыри пускает, глаза пучит. Но как сообразишь, что это все не понарошку, что человек и впрямь вот-вот уйдет на дно, сразу становится не до смеха. Говорят: «от великого до смешного — один шаг», а я бы сказал: «от смешного до страшного». Вот и мы поначалу гоготали, пока у Лешика не прорезался голос. Он у нас без того заикается, а после ангины и вовсе никак не мог заговорить. А тут голос возьми и прорежься:
— Ч-чего ржете, он же п-плавать не умеет!

И так это было для нас неожиданно — высказывание о неумении плавать, Лешиков заикающийся голос, что все сразу заткнулись. А Лешик совсем на этом не остановился. Может, сам испугался, что у него, наконец, голос проклюнулся, а может, понял, что впервые замаячил на горизонте реальный подвиг. Мы-то, дураки, еще не доперли, а его озарило. Короче говоря, Лешик ухарски крякнул, скинул шапку с варежками и ринулся спасать Гошу. Он, наверное, думал, что теперь станет единственным во дворе суперменом и, конечно, просчитался. Потому что немедленно хлебнул воды, раскашлялся и тоже принялся тонуть. Созерцать тонущих товарищей — грустное дело, и потому, крякнув еще более громко, я ринулся следом. Только оказавшись в холодной воде, я припомнил, что плавать не умею. То есть, теоретически, конечно, умел и вроде неплохо — хоть кролем, хоть даже брасом, а вот на практике плавал не лучше Гоши. И, получилась полная бестолковщина, потому что теперь мы барахтались и тонули втроем. Конечно, тонуть втроем веселее, чем в одиночку, и Гоше, наверное, стало чуть легче от понимания того, что мы рядом, однако орал он по-прежнему громко. Да и мы с Лешиком не молчали.
На вопли прибежал случайный прохожий. То есть, случайный-то он случайный, но плавал, на наше счастье, отменно. Солдатиком сиганув в яму, он тут же вытащил всех троих. Правда, спасал нас прохожий не совсем вежливо. Хватал за одежду и вышвыривал на бережок. Все равно как котят каких. И сам выбрался из воды сердитый, злой, мокрый, — про часы погибшие что-то твердил, про работу, на которую теперь точно опоздает. Ушел, даже не попрощавшись. Невоспитанный какой-то попался. Но обижаться было некогда, и мы тут же ринулись в подъезд греться и отжимать одежду. При этом наперебой придумывали, что же такое скажем родителям. Лешик заявил, что ничего объяснять не будет, — тихонечко шмыгнет в ванну и попытается отстирать все самостоятельно. Гоша ерунду какую-то выдал — про то, что бегали в догонялки, и вспотел. Но ведь не может человек так вспотеть, что даже в карманах булькает! Гоша уверял, что может, и что однажды у него такое было. Словом, полную пургу нес. Но самую крутую версию, разумеется, предложил я — про угонщиков, мчавшихся от милиции и по дороге окативших нас грязью. Про это решили рассказать все — даже те, кто мокрыми не были. Очень уж красивая история получилась. Но сам я почему-то ею не воспользовался. Пришел домой и рассказал все, как есть. И странное дело, мама совсем не рассердилась. Даже наоборот долго расспрашивала о подробностях, а потом предложила вырезать из фольги медаль за спасение и вручить ее Лешику.
— Он ведь первым бросился за Гошей. Значит, заслужил.
— Но плавать-то он не умел!
— Важен порыв. Потому что теперь вы знаете, что он настоящий герой.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.