
Бесплатный фрагмент - Десять арестов Исаака Г.
15 апреля 1937 года Исаака Григорьевича Гольдберга, известного иркутского писателя и общественного деятеля, автора многочисленных повестей и рассказов, чьи произведения и творчество были осенены положительными отзывами самого Максима Горького, арестовали.

Это был далеко не первый арест в его жизни, хотя и после большого — 16-летнего — перерыва, но на этот раз он оказался последним. Проведя больше года в заключении, 22 июня 1938 Гольдберг был расстрелян. Именно «в заключении», а не «под следствием», так как уже 20 мая 1937 года, «Восточно-Сибирская правда» писала:
«На состоявшемся 11—12 мая совещании молодых начинающих писателей Восточной Сибири подверглась резкой и заслуженной критике работа областного правления союза советских писателей. До недавнего времени в нашей областной писательской организации видную роль играли писатели Гольдберг и Петров и поэт Балин… Теперь эти литературные „корифеи“ разоблачены, как враги народа».
В цитируемой статье П. В. Михайлова грехи «корифея» заключались в развале писательской организации и очернении советской действительности. Однако, тот факт, что на момент ареста Исаак Григорьевич был «старейшиной сибирской литературы», в его деле уложился в два слова: «профессия — писатель». А инкриминировалось ему НКВД: руководящая роль в рядах «повстанческой эсеровской организации», смычка с «правотроцкистской организацией» Восточной Сибири, поставка секретных сведений японской разведке и, главное, подготовка покушения на жизнь члена ЦК ВКП (б), наркома путей сообщения Л. М. Кагановича во время его пребывания в Иркутске в феврале 1936 года.
Среди этого нагромождения обвинений, обычными и единственными доказательствами для которых в те годы выступало «чистосердечное признание» самого обвиняемого, было одно, с которого все и началось — Гольдберг действительно когда-то был эсером. Причем, не рядовым членом партии социалистов-революционеров (ПСР), а одним из видных представителей ее правого крыла, активным противником октябрьского переворота.
Жизнь его довольно резко делилась на до и после 1920 года. Рубеж этот, проложенный входом 5-й красной армии в Иркутск, перечеркнул всю его деятельность как политика, старого (еще со времен Плеве) революционера и публициста-общественника, оставив только литературный «побег», так буйно разросшийся в советское время и сломанный одним бездумным взмахом двигавшейся по стране репрессивной машины 37-го года.
Жизнь в книгах
При аресте Гольдберга был изъят и, к огромному сожалению позднейших исследователей его жизни и творчества, исчез личный архив. Поэтому не удивительно, что биографические работы о нем известных историков сибирской литературы Н. Н. Яновского, В. П. Трушкина и, особенно, П. В. Забелина во многом строятся на воспоминаниях современников и уделяют особенно большое внимание анализу произведений и объяснению поступательного развития Гольдберга именно как художника слова. В общем-то, можно сказать, что такое направление задал сам Исаак Григорьевич, опубликовав в 1933 году статью «Биография моих тем».
Однако, среди детального разбора рассказов, повестей, романов и даже в составленных при его жизни и после реабилитации библиографиях мы не найдем множества рассказов, которые печатались в дореволюционных либеральных газетах и не вписывались в схему творческой эволюции автора на пути к соцреализму. Естественно, нет никакого анализа его публицистических выступлений того периода, за исключением статей в «Забайкальской нови» в 1907 году, связанных с описанием положения пролетариата. Все это понятно и объяснимо. Однако, есть еще одно произведение, не то чтобы пропущенное критикой, но явно обделенное ее вниманием. Речь идет о последнем романе писателя «День разгорается», посвященном событиям революции 1905 года в Сибири.

Книга вышла в Иркутском ОГИЗе самом начале 1936 года довольно значительным тиражом — 10 тысяч экземпляров. В планах издательства на 1937 было второе ее издание, однако после вскоре последовавшего ареста и «разоблачения врага народа» ни о каких переизданиях речь идти уже конечно не могла. Более того, все книги Гольдберга, имевшиеся в библиотеках и книготорговых точках, изъяли. Что-то закрыли в спецхран, а там, где его не было (а не было его практически нигде), наверное, просто списали. Например, в спецфонд Иркутской областной библиотеки по акту от 8 декабря 1938 поступило всего лишь 12 наименований (24 экземпляра) его книг, среди которых романа «День разгорается» не было. Не сохранилось этой книги и в научной библиотеке Иркутского государственного университета. На сегодняшний день она является настоящей библиографической редкостью.
В период «возвращения имен», когда скромно указывали даты смерти «незаслуженно забытых» деятелей культуры, но не называли причин этих смертей, обычно ограничивались переизданием различных сборников «Избранного» или смешанных антологий, например, в серии «Библиотека сибирского романа». Творческое наследие Гольдберга в конце 50-х — 80-ее годы восстанавливалось довольно активно, однако, больше внимания конечно уделялось его «тунгусским» и «партизанским» рассказам и, конечно, «производственным» вещам, таким как «Поэма о фарфоровой чашке» — про Хайтинский завод — или «Сладкая полынь» — про сибирскую деревню периода НЭПа (в 1968 г. она даже вышла в ГДР на немецком языке). Потом случилась перестройка — открыто писать начали про репрессии, а вот переиздавать, наоборот перестали — стало не до того.
Роман «День разгорается» переиздан не был, хотя, например, в 1970 г. группа известных иркутских деятелей науки и культуры (Ходос, Патрушев, Крамова, Лебединский, Рогаль, Хороших, Кротов, Лосев, Седых, Зонов, Кудрявцев, Боскарев и еще двадцать подписей) в открытом письме прямо указывала:
«Вызывает немалое удивление, что роман Исаака Гольдберга „День разгорается“, посвященный событиям 1905—1907 годов в Иркутске, не переиздавался с 1935 года. А ведь в нем художественно, правдиво, с марксистско-ленинской точки зрения изображается один из этапов революционного движения в нашем городе. Изображается очевидцем и горячим участником этих событий, писателем высокого интеллектуального уровня… Настало время серьезно подумать всей общественности о восстановлении литературного наследства заслуженного писателя, нашего земляка Исаака Григорьевича Гольдберга. Произведения его необходимы и в наше время для воспитания молодого поколения в духе советского гуманизма».
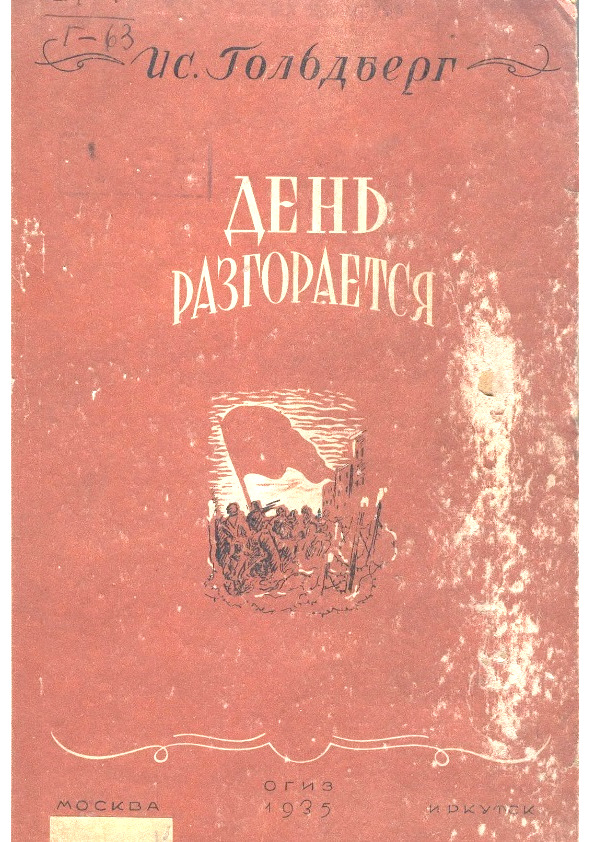
Роман писался долго — пять лет (1930—1934) — и первоначально печатался на страницах журнала «Новая Сибирь» за 1935 год. Конечно, это прежде всего художественное произведение. Причем созданное не «вольным художником» свободным от условностей, накладываемыми высоким общественным статусом, а «старейшиной сибирской литературы», «мэтром», который не мог не оглядываться на критику и не отдать дань правильной расстановке акцентов в изображении событий тридцатилетней давности. Что он и сделал:
«осудил антинародный характер деятельности эсеров, создал образы революционеров, неуклонно и мужественно проводивших политику большевистского III съезда РСДРП».
И конечно же, это произведение автобиографическое. Гольдберг вообще не брал тем «с потолка». Все, о чем он писал — вырастало из личного опыта — будь то рассказы о быте эвенков или байки уголовников. А если этого опыта не хватало, тогда он погружался в тему намеренно. Так было, например, в случае с «Поэмой о фарфоровой чашке», для написания которой ему пришлось пожить в Хайте, или с «Главным штреком», написанным по результатам творческой командировки в Черемхово.
Однако, случай с романом «День разгорается», конечно отличается от приведенных примеров несомненно более значительной личной вовлеченностью автора в описываемые им события.
Жена писателя — Любовь Ивановна Исакова — в 60-е вспоминала:
«В период его работы над романом… походы по городу были особенно часты. Они были необходимы ему для зарисовки обстановки, в которой происходили изображаемые события. Частенько И. Гольдберг работал в архиве, в научной библиотеке, знакомился с документами полиции и жандармерии, читал газеты и журналы тех лет, разыскивал фотографии участников. Для воссоздания обстановки на улицах… приходилось ходить или ездить на извозчике в разные концы города, в бывшее… предместье, где были Кузнечные ряды, где строились баррикады, в железнодорожное депо, где происходили митинги, собрания рабочих, бывал в солдатских казармах и во многих других местах».
Возможно, что эти походы и поездки по Иркутску были вызваны желанием не столько «воссоздать», сколько вспомнить. При этом Гольдберг не слишком старался «обезличить» свои воспоминания при переводе их в художественную форму. Условный неназываемый «губернский город» — это конечно же Иркутск. И хотя автор в основном избегал деталей в его топонимике и топографии, вот это, к примеру, описание, говорит само за себя:
«Главная улица тянулась от реки до реки. По главной улице в праздничные дни, в послеобеденное время, красуясь щегольскими выездами, прокатывались купцы… Одним концом главная улица упиралась в быстроводную студеную реку с широкой набережной, поросшей летом густою травой. … Другим концом главная улица упиралась в мост через суматошную речку, летом почти пересыхавшую до самого дна, а осенью и весной выходившую из берегов и затопляющую домишки Спасского предместья. В Спасском предместьи ютились десятки мыловаренных и кожевенных заводов и заводиков. По эту сторону речки, глядясь окнами на Спасское предместье, расселись кузнечные ряды».
Довольно прозрачных реальных прототипов имеют и многие герои романа: редактор газеты «Восточные вести» Пал Палыч Иванов это редактор «Восточного обозрения» И. И. Попов; доктор Вячеслав Францевич Скудельский и фармацевт Сойфер — меньшевик и в впоследствии депутат II Государственной Думы В. Е. Мандельберг; еврейский купец Вайнберг — И. М. Файнберг; пристав III полицейской части Петр Евграфович Мишин — одиозный для Иркутска пристав III части Щеглов, обвинявшийся в организации погромных черносотенных банд «рабочедомцев»; начальник гарнизона генерал Синицын — начальник Первой Запасной Бригады, генерал-майор Ласточкин; граф Келлер-Загорянский — барон Меллер-Закомельский и так далее. Интересно, что некоторые из этих прототипов на момент выхода книги были живы и даже, возможно, могли его прочитать (если не Мандельберг, находившийся в эмиграции, то Попов, как раз в эти годы активно занимавшийся своими мемуарами).
Событийная канва также довольно точно привязана к Иркутску периода конца октября 1905 — начала января 1906 годов. Знаменитое побоище у дома Кузнеца (в романе именуемого «железнодорожным собранием»), убийство А. М. Станиловского в ресторане «Россия» (в романе — «Метрополь»), деятельность дружин самообороны, стачка почтово-телеграфных служащих, солдатская забастовка — все это есть в романе и именно в той последовательности, в которой они и происходили в городе. Лишь в финале автор отступает от в общем последовательного изложения иркутских событий и вводит сюжет одновременного прибытия в город двух карательных экспедиций — графа Келлер-Загорянского (Меллер-Закомельского) с запада и генерал-майора Сидорова (Ренненкампфа) с востока, с последовавшими расправами над революционерами. Здесь под видом «губернского города», конечно выведен конец «Читинской республики» и публичная казнь пятерых активных революционеров в Верхнеудинске 12 февраля 1906 года. Реальному концу волнений в Иркутске явно не хватало драматичности — в роман попал лишь сюжет с арестом в новогоднюю ночь нескольких сотен горожан.
В общем роман интересен. Пусть это не хроника и что-то в нем затушевано, а что-то выпячено или вовсе придумано, но атмосфера и детали жизни и быта того периода выписаны очень хорошо. В нем дано поведение в дни смуты не только «революционеров» и «забастовщиков», но и «обывателей» и либеральных предпринимателей; появление грабителей-«кошевочников»; реакция уголовных заключенных на высочайший Манифест 17 октября; работа жандармов; погромщики и многое-многое другое.
Можно даже высказать осторожное предположение, что в романе в нескольких «ипостасях» фигурирует и сам автор, отражаясь в таких персонажах как семинарист Гавриила Самсонов, распространяющий прокламации и участвующий в издании нелегальной рабочей газеты, и «нетвердый» большевик Павел Воробьев, вопреки партийным установкам склонившийся к индивидуальному террору. Что характерно — в финале романа Воробьев будет повешен в тюремном замке после неудачного покушения на графа Келлер-Загорянского. В его лице Гольдберг словно демонстративно хоронил свое эсэровское прошлое. Оно, однако, как мы знаем, не отпустило писателя.
Его трагическая и совершенно бессмысленная гибель, как кажется, лишила нас очень интересного цикла произведений, в котором должна была отразиться непростая история Иркутска конца XIX — начала XX вв. В плане Иркутского ОГИЗа на 1937 г., кроме переиздания романа «День разгорается», значилась повесть Гольдберга «Товарищи», которая судя по всему рассказывала о межреволюционном периоде и Февральской революции 1917 года и, может быть, уже даже была сдана в набор. Кроме того, остались упоминания о подготовке повести «Конец Московского тракта» о приходе в Иркутск Транссибирской магистрали. От них не сохранилось ничего, кроме, возможно, двух отрывков, опубликованных в разное время в газетах — «Неправильный календарь» (об одной из первых маевок в городе) и «Первая весть» (о политических ссыльных, узнающих в глухом селе о крушении самодержавия).
Утрата этих произведений (пусть бы и в черновиках) тем печальнее, что, создать их собирался мастер слова и непосредственный участник событий, который на шестом десятке своей насыщенной перипетиями жизни решил обратился к воспоминаниям молодости поверяя их газетными и архивными материалами. А вспомнить Исаак Григорьевич мог не мало.
«То, что вспомнилось»
Мы можем предполагать некоторую автобиографичность отдельных произведений Исаака Григорьевича, но собственных мемуаров о досоветском периоде его жизни существует лишь два. Обе публикации были связаны с революционными событиями в Иркутске и представляют исключительный интерес.
К 10-летию свержения самодержавия «Власть труда» опубликовала его воспоминания «Как Иркутск узнал о перевороте», в которых очень живо рассказывается о совещании, состоявшемся вечером 1 марта 1917 года у генерал-губернатора А. И. Пильца. Гольдбергу, как редактору одной из ведущих городских газет — «Сибири», — после нескольких дней «информационной блокады» были переданы телеграммы петербургского телеграфного агентства с известиями о революции:

«…я заявил, что если немедленно мне будут переданы телеграммы, я их, не взирая ни на какие технические препятствия, пущу в завтрашний номер.
…когда я примчался со своей драгоценной ношей, метранпаж и дежурный наборщик уже кончали верстать газету. Когда я показал им телеграммы, когда взволнованно и опьяненно я сказал им, что все это нужно во что бы то ни стало пустить в номер, обычно несговорчивые, усталые за день от тяжелой работы, товарищи сразу загорелись энергией и энтузиазмом.
— Каких толков! Все сделаем!.. Все успеем!..
Дежурный наборщик, печатник и сторож на извозчиках кинулись собирать и свозить рабочих. … Надо хоть немного знать тогдашние условия типографской работы, чтобы понять, что значит после девяти часов вечера, когда наборная работа по газете совершенно окончена, ухитриться сделать набор более полутора полос семиколонного размера. А это было, благодаря поистине героическим усилиям рабочих, сделано…
Я не помню, как написал я коротенькую передовую. Потом мы вместе с метранпажем выкидывали очередной материал из сверстанного номера и ставили вот этот, вот такой живой, животрепещущий материал, из каждой строки которого каждою буквою кричало:
— Революция! Пришла революция!..
Печатать номер начали в полночь. Кончили печатание назавтра в два часа дня. Немудрено: ведь нам пришлось на этот раз вместо наших обычных семи тысяч экземпляров выпустить небывалую для Иркутска цифру — семнадцать тысяч!».
Второй, и значительно более обширный, материал также был приурочен к «круглой дате». В конце 1925 года в «Сибирских огнях» была напечатана статья Гольдберга «То, что вспомнилось (Листки о 1905 г. в Иркутске)» с воспоминаниями, охватывающими период с апреля по ноябрь 1905 года, и, практически сразу после этого, в нескольких номерах «Власти труда», очерк «Восемь дней (Военная забастовка в Иркутске в 1905 году)», хронологически продолжающий «Листки», но уже почти не содержащий никаких личностных моментов. Несмотря на то, что под романом «День разгорается» самим Гольдбергом указаны даты написания «1930—1935», совершенно очевидно, что тему эту он начал серьезно разрабатывать как минимум на пять лет раньше. Местами «Листки» просто текстуально совпадают с романом.
Это даже не столько мемуары, сколько результат исследовательской работы в попытке нарисовать целостную картину событий первой русской революции в Иркутске на основании современных им печатных и архивных материалов и, лишь отчасти, личных воспоминаний. Но именно в тех случаях, когда Гольдберг не цитирует газетные статьи (в основном из «Восточного обозрения») и конструирует на их основе определенные обобщения, его язык становится живым, очень достоверно передающим переживания стоящего на пороге совершеннолетия юноши, погрузившегося в водоворот «уличной» политики.
Особенно насыщены эмоциями и деталями сюжеты с описанием беспорядков в городском театре на Пасху 18 апреля (1 мая нового стиля), событий бурного дня 17 октября (драка у Дома Кузнеца утром и вечернее столкновение на Большой улице после митинга), ареста членов эсеровской дружины и их последующего тюремного заключения 19—22 октября, действий отрядов самообороны в ноябре.
И в каждом из этих фрагментов мы находим непременное указание на молодость всех активно действующих лиц, на чувство радости от того, что сложные проблемы можно так просто и даже весело решить совместными усилиями:
« — Да здравствует первое мая!.. Ура!..
Все повскакали с мест. Оркестр умолк. … В зале дали свет. По коридорам забегали дежурные околодочники и полицейские. Посредине партера вырос полициймейстер Никольский, задравший голову вверх и высматривающий что-то на галерке. А там все кипело. За первым криком поднялся грохот и громче всего послышалось: — Оркестр, Марсельезу! Марсельезу!
Из партера панически настроенная публика кинулась по проходам к выходу. Галерочная молодежь заметила это, облепила перила и, свешиваясь вниз, закричала: — Трусы!.. Как вам не стыдно!.. Родители сдрефили!?
Под хохот и галдеж многие из побежавших из партера вернулись обратно и уселись смущенно на свои места: штука-то выходила в самом деле конфузная, — ведь у многих наверху, на галерке, были сыновья-гимназисты и техники и дочери-гимназистки!…
Попов и еще кто-то из «родителей» — влиятельных иркутских обывателей — вступили в переговоры с полицией. … А вверху было весело, празднично, молодо-буйно. Листки перелетали из одного ряда в другой. Группировались по голосам, налаживали хор и пели студенческие и революционные песни».
Несмотря на опасность:
«Почти во всех дружинах основным, преобладающим элементом была молодежь, зеленая, но энтузиастически отдававшаяся своему, порою весьма и весьма опасному делу… среди дружинников царило молодое, немного угарное, радостно-боевое, настроение. На сборных квартирах, в караульных частях, даже во время патрулирования, все были веселы, оживленны и как-то праздничны: плескался веселый молодой смех, звенели песни, шумели и разгорались незлобивые споры».
И даже находясь в тюрьме:
«Мы, молодежь — революционная, неугомонная, быстро привыкающая ко всяким невзгодам и условиям жизни молодежь — оказались в меньшинстве. Почтенные либералы… могли… установить свой камерный режим — и тогда нам, нашим тюремным вольностям… была бы крышка.
Мы пошли натиском на наших крахмально-одеколонных сокамерников и… не успели солидные адвокаты, искушенные во всяческих «правах», охнуть, как мы уже осуществили первое наше право: … выдвинули из своей среды старосту, поручили ему разработать камерную «конституцию» и взяли всю полноту власти, таким, образом, в свои руки. Конституция, которую мы с нашим старостой установили, была, что ни на есть, самая «вольная». Коммунистические начала в ней были проведены широко и безоговорочно: передача, хотя бы наиндивидуальная, идет в общий котел, делится на всех. Изъятий никаких.
И нужно было видеть горестные и недоумевающие мины солидных людей, когда получаемая ими в передаче коробка сардинок шла в тщательную разделку, фунт семги, примерно, делился на сорок пять частей, кусок сыру кромсался на миниатюрные кубики… Ребята хохотали и демонстративно подчеркивали свой восторг от такого лакомства, … а бывшие хозяева всех этих деликатесов растерянно переглядывалась и старались скрыть свое неудовольствие».
Но не только смехом, но и с помощью… револьвера:
«…солдаты взяли ружья наизготовку. У нас дрогнули. Но то ли был сильный молодой подъем, то ли никто из нас не осознал еще всей опасности минуты, — но наши ряды не расстроились. Только кто-то постарше летами (не помню, кто именно, но знаю, что это был не случайный человек) вышел быстро вперед, к солдатам, остановился против их строя и взволнованно спросил: — Товарищи, неужели вы будете в нас стрелять?..
Солдаты молчали, с любопытством поглядывая на «врагов» — молодую толпу, вооруженную разнокалиберными револьверами, возбужденную, но сдержанную».
Револьвером, который дает власть:
«…на мое требование немедленно принять раненых и вызвать врачей опрятная, сытая и важная немка с достоинством ответила мне, что заведение это чистое, что для таких случаев мест в нем нет… Я помню четко и ясно, как весь налился я кровью, как одеревенел мой язык — и вместо него показался наган. Я вытащил его из-за пояса и смог сказать только: — Носилки!
И был чудесен этот лаконический, многоговорящий язык; немка сразу оплыла, побелела, сунулась от меня в сторону, и вслед затем вышли санитары с удобными носилками».
Но при этом не добавляет разумности:
«…приподнято-веселое настроение то здесь, то там порою омрачалось тем, что очень скоро приобрело у нас бытовое наименование „восьмой пули“. Восьмая пуля — это та пуля в браунингах, которая закладывается в ствол и про которую, когда выбрасывают обойму, часто забывают. Молодежь, не всегда дисциплинированная и любящая повозиться зря с оружием, делалась жертвой этой забытой восьмой пули. То в одной, то в другой самообороне кто-нибудь нечаянно подстреливал друг друга — и из рядов самообороны выбывал боец. Можно насчитать больше десятка таких случаев неосторожного обращения с оружием, правда, по счастью, не оканчивавшихся смертным исходом.».
И который не только защищает, но и провоцирует других на то, чтобы убить вас и ваших друзей:
«У всех было приподнятое возбужденное настроение. Мы все чего-то ждали, чего-то нового и неожиданного и у всех нас было какое-то радостно-нетерпеливое состояние… Мы сорвались с мест, хватились за свои револьверы, проверили запасы пуль. Мы шумно пошли к дверям… Растеряв своих спутников, я кинулся в толпу, и здесь, на бегу, услыхал возгласы:
— Убили… Убили!
…На остывшей октябрьской земле, свернувшись, лежал кто-то неподвижный, окровавленный. Я нагнулся, взглянул на лицо: оно было сплошь залито кровью, оно было неузнаваемо. Теряя самообладанье, я стал вглядываться в лежащего, узнавать… В этот день многие из нас, наверное, были невменяемы… В этот день нас, молодежь, впервые овеяло дыхание подлинной настоящей борьбы.
Я выбежал из лечебницы фон-Бергман и, ничего не понимая, повинуясь какой-то толкающей меня силе, побежал обратно, туда, к дому Кузнеца. Я бежал, как в тумане. Я никого и ничего не видал. Я бежал — и очнулся только… пред сплошным рядом конных казаков… возле дома Кузнеца расхаживала группа военных. Среди них я увидел грузную фигуру полициймейстера Никольского. Я кинулся к полициймейстеру и закричал:
— Убийца! Это ваше дело! Убийца!».
Приведенные выше наиболее эмоциональные фрагменты воспоминаний Исаака Григорьевича, прекрасно передают мироощущение молодых неравнодушных людей начала прошлого века, которые во многом и создавали ту атмосферу «радостного нетерпения», желания поскорее пережить что-то «новое и неожиданное». Для многих из них это нетерпение закончилось трагической гибелью, еще большему числу были суждены каторга или ссылка. Впрочем, такой итог был вполне предсказуем и движение к нему начиналось еще за несколько лет до событий 1905 года и имело свои причины.
«Братство» (1902—1906)
Ранний период жизни и творчества Исаака Григорьевича, то время, когда в возрасте 18—28 лет он формировался как личность и делал свои первые шаги в литературе и публицистике, не избалован вниманием исследователей. Участие в нелегальном ученическом кружке «Братство» — самый ранний биографический факт — можно сказать каноничен. И в то же время, сведения, обычно приводимые о нем в жизнеописаниях Исаака Григорьевича, весьма поверхностны. Между тем, для понимания истоков Гольдберга — политика и общественного деятеля, а, пожалуй, и Гольдберга-писателя он очень важен.
История с ученическим кружком и одноименным «самиздатовским» журналом «Братство», стала известной благодаря тому, что члены его попали в поле зрения охранного отделения. Сам Гольдберг видимо, вообще не придавал особого значения этому первому противоправительственному опыту, хотя, конечно же, именно он и послужил одним из существенных толчков к более радикальной деятельности для него и его товарищей. Историография его небогата, а хронология местами путана.
Первое упоминание о «Братстве» мы находим в «Обзоре революционного движения в округе Иркутской судебной палаты за 1897—1907 гг.» написанном по «горячим следам» революционных волнений. В нем написано буквально следующее:
«в декабре был обнаружен среди воспитанников VII класса кружок, издававший журнал „Братство“, в котором встречались статьи преступного содержания».
Сам факт возникновения кружка по контексту соотносится с активностью Иркутского комитета Сибирского социал-демократического союза (РСДРП), притом, что по данным самого же «Обзора» в течение 1903 года, начиная с апреля месяца было произведено три «ликвидации наблюдения за членами Социал-Демократической партии», т. е. их планомерные аресты, настолько ослабившие комитет, что в августе 1904 года на сходке присутствовало не более 15 человек.
В биографических справках о жизни Гольдберга об этом эпизоде упоминалось очень кратко и по понятным причинам вовсе не акцентировалось внимание на партийной принадлежности. Обычно это выглядело так:
«Окончил городское училище и готовился держать экзамен экстерном за среднюю школу, чтобы поступить в университет, но в 1903 году был арестован за принадлежность к революционной группе молодежи» или так «Будущий писатель едва успел окончить городское училище, как был арестован за принадлежность к ученической группе „Братство“, издававшей нелегальный журнал».
Следующее и наиболее полное описание событий 1903 года появилось в 1971 году в художественной биографии Гольдберга, написанной П. В. Забелиным на основе не только опубликованных материалов и воспоминаний, но и с привлечением документов из фондов Государственного архива Иркутской области. Сюжету посвящена вся первая глава книги — «На заре». В ней мы найдем указание на количество членов кружка — 12 человек, фамилии и имена семерых из них, ту самую крамольную цитату «преступного содержания», описание изъятого при обыске комнаты Гольдберга при аресте 2 декабря 1903 года компромата и выдержку из протокола допроса Исаака Григорьевича начальником охранного отделения ротмистром М. Л. Гавриловым. Журнал прямо называется «противоправительственным», а в реконструированных Забелиным разговорах члены кружка рассуждают «о возможностях и путях революции», выдвижении из среды интеллигенции «новых дантонов». Однако протокол допроса Гольдберга содержал настолько лоялистские объяснения, что вызвал у исследователя недоумение, которое он и выразил, приписав его жандармскому ротмистру:
«Что это? Путаная, но программа борьбы? Или казуистика потенциального подпольщика? Он доказывает бессмысленность современного правопорядка и в то же время обосновывает мысль о бессмысленности социальной борьбы? Ротмистр Гаврилов, опытный сыщик, с недоумением и раздражением смотрел на тонколицего парня с огромными, странно сиявшими глазами».
В 2007 году вышла небольшая статья М. В. Шиловского, специально посвященная дореволюционному периоду жизни Гольдберга. В ней сразу утверждается, что «Исаак входит в состав ученического кружка, организованного иркутскими эсерами для пропаганды программных положений партии и рекрутирования новых членов», при этом как бы в подтверждение этого факта приводится цитата из воспоминаний Гольдберга со ссылкой на архив литературоведа Н. Н. Яновского, хранящийся в ГАНО. Однако приведенная Шиловским цитата полностью совпадает с фрагментом вводной части статьи Гольдберга «То, что вспомнилось», опубликованной в «Сибирских огнях», а там она скорее описывает период второй половины 1904 года. В статье также приведены сведения о количестве выпущенных номеров (5) и технологии тиражирования (гектограф и пишущая машинка) журнала. Источником этой информации, видимо, послужили воспоминания одного из членов кружка — Ельяшевича — из того же архива Н. Н. Яновского и, вероятно, относящиеся к 50—60 годам.
По удивительному совпадению в том же 2007 году появляется статья Л. Н. Гончаренко и В. В. Коломинова посвященная биографии А. Б. Ельяшевича, видного советского ученого-экономиста и преподавателя, скончавшегося в 1967. В ней приводятся сведения и цитаты из хранящегося в ЦА МГБ СССР следственного дела Ельяшевича, осужденного в 1950 году по пунктам 10 и 11 ст. 58 УК за «активные действия против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственных или особо-секретных должностях при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны» к пяти годам поселения в Канске. Есть там и упоминания об участии Ельяшевича в организации «Общества самообразования и братства» и редактировании им журнала «Братство». Они выдержаны в том же ключе — основным занятием в кружке было чтение революционной литературы, и само его создание произошло под влиянием или скорее под впечатлением от деятельности ссыльных народников и социал-демократов, но не эсеров, «перехвативших» инициативу годом позже.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.