
Бесплатный фрагмент - Cон
Ход в Зазеркалье — это мистическая колея, ведущая глубоко внутрь, а кажется что вовне, в другую Вселенную. В нее проваливаешься, не успевая даже на миг осознать происходящее и на всякий случай схватить хоть глоток воздуха, чтобы там осмотреться и принять новое своё местонахождение.
Сначала просто принять, двигаться, не разбирая дороги перед собой и не стремясь пока ничего осмысливать. Но между тем уже и не бросаясь срочно искать щель выхода, которая очевидно там же, где был вход. Пугающее очарование встреч с собой, своими притаившимися страхами и фобиями, вытесненными и застрявшими где-то на дне подсознания маленьким, спящим невротическим клубком, тревожит, бередит и даже ранит. Нужна перезагрузка. Не там, где движется обыденная реальность. А в этом замутненном, искривленном Зазеркалье, с его аллегориями и обнаженными нервами. Внутри себя.
Это параллельная драматургия сознания, текущая по своим правилам на фоне и в глубине прочтения текста. Вокруг него. Он обладает собственной языковой магией, заставляющей неотрывно цепляться за нить повествования. Аллюзия такая, как от просмотра длинной съемки распускающегося бутона, многократно ускоренной оператором до ожившего цветения. Это — о языке, слове, смысловой гамме чувствования. По ходу развертывания сюжета в драматургии появляются пружины, раскачивающие сознание от экзистенций к пронзительному опыту погружения в глубины любви — душевной и телесной, в их неразрывность. Эти сцены прописаны на такой высокой ноте истинного таинства между людьми, что если им суждено будет просочиться из Зазеркалья в реальный мир, то он засветится еще одним маяком. В этом тонусе ожидания автор книги оставляет читателя в конце первой её части. Надеемся, оставляет ненадолго.
Шлейф, ощутимый позади, после прочтения — художественно-терапевтический. Перезагрузка. Ясность, бодрость и ничем не измеряемая благодарность. Каждый читатель увидит в книге себя — самое лучшее, что нужно для познания. Текст для читателей умных и глубоких. Для тех, кто слышит шепот в глубине событий.
Музыковед, кандидат искусствоведения,
доцент, профессор кафедры теории музыки
Национальной музыкальной академии
Украины имени П. И. Чайковского Т. В. Филатова
Сон в руку
Что делает здесь сосед из моего детства? Помню его смутно и только потому, что однажды он, можно сказать, спас меня от падения в канализационный люк.
Кому-то зачем-то понадобилась тяжелая, металлическая крышка от него. А я была еще слишком мала, чтобы уверенно управлять тормозами нового двухколесного велосипеда. Кто знает, чем бы все это закончилось, не подоспей вовремя сосед.
Не помню его имени, да, кажется, и не знала никогда. Не слышала его голоса… Был тихим, неприметным человеком со странной татуировкой на внутренней стороне кисти. Не помню, чтобы он с кем-нибудь заговаривал в нашем дворе.
Сейчас он что-то говорит и даже помогает жестами его понять. Но я не слышу. Я ведь не знаю его голоса, хоть и изо всех сил стараюсь познакомиться с ним.
К тому же вклинивается навязчивый, как в старом, испорченном транзисторе, визгливый голос. Я узнаю его. Это Людкa из 15-й квартиры. И она здесь. Та самая, в сущности неплохая, сердечная девица, которую пенсионеры, дежурившие на лавке около дома, всегда провожали укоризненными взглядами. А те, что побойчее да позлобнее, и шалавой могли назвать.
Изнывающие от скуки старики всегда с какой-то плотоядной радостью оживлялись при виде очередного, обнимающего ee, ухажера. Для пожилых людей в восьмидесятых лавка была как галерка в театре. Настоящий из них мало кто посещал. Телевидение не баловало тогда сериалами, поэтому они создавали свои. Сплетничая и додумывая о жильцах то, чего не могли подсмотреть или подслушать.
А девушка будто и не замечала их неодобрения. И что интересно, не было это нарочито вызывающей, демонстративной позицией, показывающей всем средний палец. И не то чтобы ей совсем не было ни до кого никакого дела. Просто было в ней что-то такое, что дается, видимо, от рождения. Какая-то гостеприимность души, радушие ко всему живому. Такое можно встретить не часто и только у старших людей, которым повезло прожить интересную, полную жизнь. Повстречав такого человека, мы точно знаем определение тому, что он излучает, особым способом относясь к людям и к жизни в целом. Мы зовем это мудростью.
Но Людка… Откуда взяться мудрости у пэтэушницы двадцати с небольшим лет отроду? Для нее тройка в школе была той максимальной высотой, за которой зеленым светом облегчения мигал значок — переведена. И все же было в ней какое-то интуитивное понимание того, что не бывает абсолютно плохих людей — бывают несчастливые. И что жизнь неоднозначна и скоротечна. И что радоваться значительно приятней, чем тратить ее понапрасну на склоки. Видимо, это и раздражало особо ядовитых пенсионерок. Тех, кто и потаскухой обозвать мог, и плюнуть ей вслед — столько злобы и горечи в этом было, что, казалось, плевок на асфальте сейчас зашипит, как капля на раскаленном утюге. Похоже, молодая жизнелюбивая девушка невольно растравливала их старые раны непрожитой жизни, сочащиеся горечью одиночества, неразделенной любви, упущенных возможностей, вызывала зависть к тому, что и в их жизни могло бы быть что-то подобное, но не случилось…
Она все та же, какой я ее чащевсего видела. В безвкусном, ярко-малинового цвета платье. В колготках-сеточках, геометрический рисунок которых нарушался штопкой над левой пяткой. Заметен этотшов был только вредным теткам-соседкам, мне и моим подружкам. Маленьким ещедевочкам, но уже жадным к атрибутам взрослой и, как нам тогда казалось, настоящей женской жизни. Поклонников же девушки такие детали, похоже, малоинтересовали. Как правило, их взгляды растекались на пышном, слишком приветливооткрытом декольте. Cлучались и такие, что в глаза ей заглядывали. Интереснаяметаморфоза в тот момент пpoисхoдила с ней. Откровенный раскатистый смех, обычно вырывающийся лавиной из жизнелюбивой Людкиной груди, вдруг рассеивалсяна другие нотки. Чуть более низкие, мягкие, вкрадчивые, с правильновыдержанными паузами. Она была невероятно хороша в такие моменты. Жаль, чтосейчас не слышно ее чарующего смеха. Нет ни одного привычного Людкиногопоклонника. Диссонирует совсем пустая скамейка.
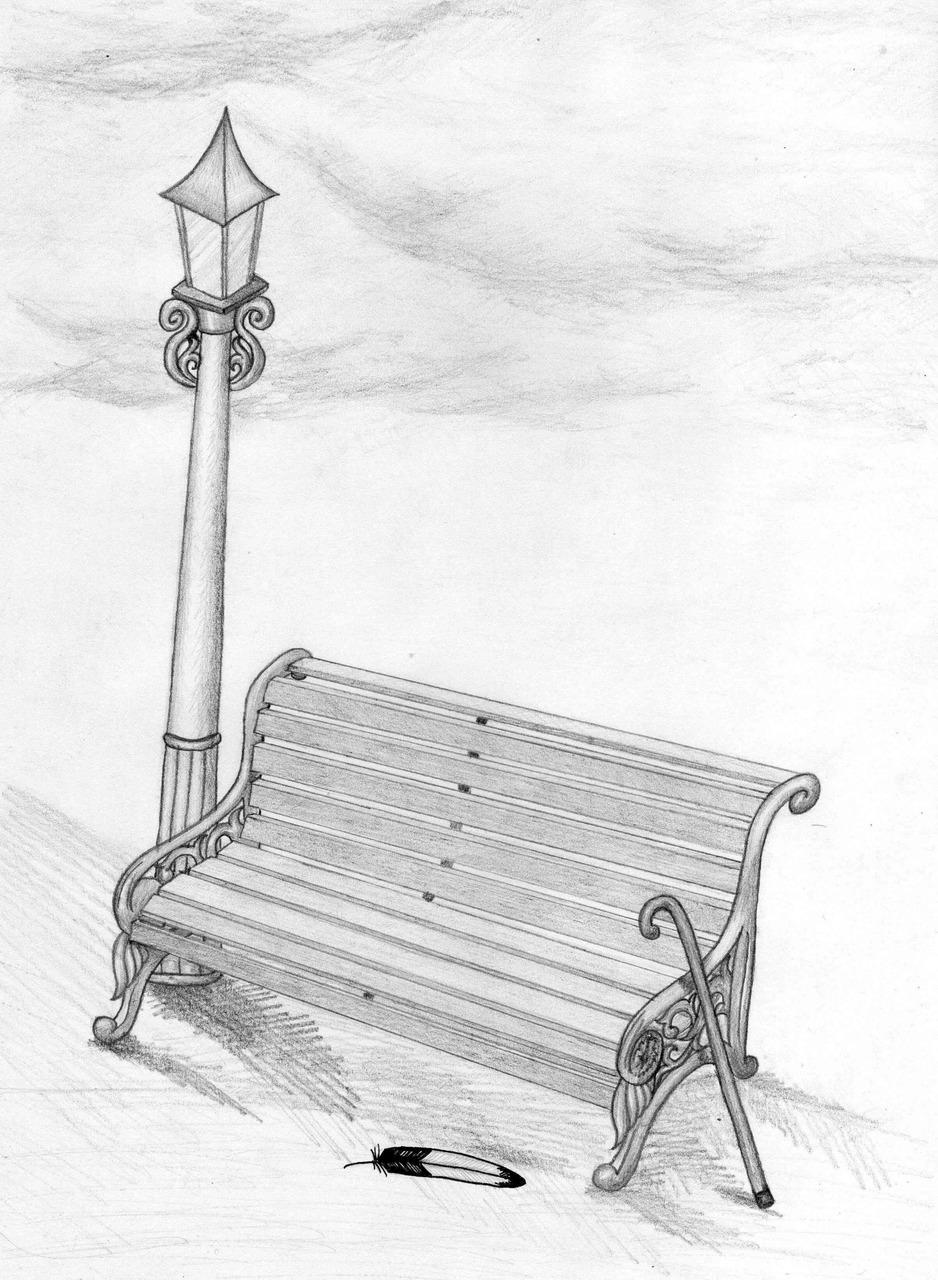
Одинокая женская фигура в пеcтpoм платье стоит лицом к окнам старой пятиэтажки и что-то громко выкрикивает кому-то невидимому. Я поднимаю глаза в том же направлении и всматриваюсь в окна, пытаясь понять — кому она кричит. Перебираю взглядом одно за другим поблескивающие на солнце окна. Есть что-то противоестественное в их одинаковости. Как будто высосана из них жизнь вместе с занавесками, шторами, геранью и распахнутыми форточками. После нескольких тщетных попыток увидеть хоть что-то появляется чувство, что отыскать в окнах признаки жизни — все равно что пытаться поймать взгляд слепого человека, всматриваясь в стекла его очков.
Вместе с пониманием этого растет раздражение на соседку, которая продолжает кричать в пустоту. Злит ее голос, дурацкая, не по сезону накинутая поверх платья теплая шерстяная кофта. Зачем-то на ней теплые, не по погоде ботинки. Стоп! А действительно, почему она так тепло одета? Ведь сейчас градусов 30, не меньше. А ей, похоже, вообще не жарко. В то время как я начинаю чувствовать себя муравьем под увеличительным стеклом мальчишек-садистов на солнце. Стоя так под прямым солнечным прицелом, я чувствую, как раздражение постепенно сменяется тревогой. «Ты только не паникуй, — уговариваю я себя. — Bсе дело в жаре. Она на тебя так действует». На секунду удается сдержать тревогу, но этого хватает только на глубокий вдох. Следом в голове загорается предупреждающая лампочка сирены: бежать, спасаться! Ноги, не дожидаясь команды сверху, несут меня к подъезду. Мой основной инстинкт включается раньше, чем я узнаю того, кого я никогда не видела, но чувствовала убегающей спиной всю его опасность. Не раз слышала его дыхание. Догоняющее, прилипающее к позвоночнику, ползущее вверх по затылку тысячами иголок. Съежившись в твердый ком, страх подполз к горлу. Хочется кричать, но мой рот издает звуков не больше, чем бьющаяся в агонии рыба.
ОH снова лишил меня голоса, хладнокровно обрезав провода сообщения с внешним миром.
Ноги не сдаются. Несут меня по знакомым ступенькам к родной квартире. Перескакивая последние две, оказываюсь на своем этаже. Hалетаю на дверь.
Заперта! Бешено колочу по старому дермантину руками и ногами. Задыхаясь, из последних сил нажимаю пальцем на кнопку дверного звонка, вложив в него все свое желание жить.
Пробуждение
Дверной звонок зазвучал мелодией будильника на телефоне. Я не сразу поняла, что проснулась. Сердце бежит, как после марафона, пижама вся пропиталась потом, одеяло беспорядочным комком сброшено на пол. Фух… Ну надо же такому присниться! Тело в облегчении обмякает, мышцы постепенно расслабляются. Я тяну на себя одеяло, начиная замерзать под влажной тканью пижамы. Какое-то время лежу, глядя в потолок в полной прострации. Так хочется зависнуть надолго в этой мысленной депривации, пока мозг перегружается после ночного кошмара. Но он загружается быстро, слишком быстро. То, что происходит потом, похоже на взрыв. В голове вспыхивает ярким светом мысль: она умерла! Беззвучными, быстрыми клубами ядовитой боли расползается по телу. Почему-то вспомнилась хроника Хиросимы и Нагасаки, которую я увидела впервые в бабушкином черно-белом телевизоре с испорченным звуком. Наблюдая тогда за беззвучной картиной смерти, я слышала доносившееся из кухни шипение оладьев на сковородке.
Не помню, чтобы я в тот момент испытывала сострадание к японцам. То ли была еще слишком мала, то ли уютный запах бабушкиных оладьев окружал меня невидимой пеленой безопасности. Пока бабушка была жива, это чувство всегда было со мной. Казалось, что так будет всегда. Но сегодня ровно девять дней, как ее нет. Смерть проткнула мой пуленепробиваемый вакуум легко и внезапно, как мыльный пузырь, оставив один на один с болью. Беспощадной, неумолимой… Я не знаю, как с ней справиться. Только сильнее сжимаюсь в калачик, как будто это поможет увернуться от ее ритмичных, в такт моему пульсу ударов. Бабушка больше не защитит, не прогонит обидчицу, не положит компресс на разгоряченный лоб, не помажет зеленкой содранные коленки. Не обуздает своим волшебным «тшшшш… все пройдет» любую проблему.
— Бабулечка, моя любимая, как же я тоскую по тебе, — шепчу, тихо поскуливая, как брошенный слепой щенок, оторванный от матери.
Слезы, ничем не сдерживаемые, заливают лицо, скатываются по вискам, попадая в уши. Затекают в полуоткрытый рот, заставляя пробовать вкус соленой горечи утраты.
Не знаю, сколько времени лежу так, пока слезы не заканчиваются и отчаяние сменяется опустошением. Медленно приподнимаясь, сажусь на кровати, привыкая к вертикальному положению. Автоматически шарю ногами по холодному полу, нащупывая тапочки. С трудом встаю и направляюсь в ванную. Холодная вода немного приводит в чувства. Надо бы что-то съесть, но единственное, что я сейчас могу в себя впихнуть — это чашка крепкого, горячего кофе. Заваривая его, успеваю перехватить булькающую жижу, прежде чем она зальет плиту. Горячая чашка приятно согревает пальцы. Медленными, ароматными глотками возвращаю себя к способности кое-как жить. Не выпуская чашки из рук, плетусь длинным коридором в свой кабинет. Надо попробовать поработать. Работа всегда мне помогала. Окунувшись в эскизы, я забывала про реальность и погружалась в свой собственный мир, в котором все жило по моим законам.
В тишине коридора я слышу только шарканье собственных тапочек да легкое поскрипывание старых деревянных полов. Прогибаясь, половицы сдержанно вздыхают, переживая вместе со мной утрату их любимой хозяйки.
На середине коридора задерживаюсь перед массивным, инкрустированным по дереву серебром, бабушкиным зеркалом. Помню его столько же, сколько себя. Когда-то моя подруга, которая работала в салоне антиквариата, предложила выставить зеркало на аукцион.
— Была бы я побогаче, сама бы вам кругленькую сумму за него отвалила! Но мне и за три жизни на такое произведение искусства не заработать. А вы, продав его, можете вообще уже ни о чем не беспокоиться. Денег хватит на всю оставшуюся жизнь! — сказала Мила.
Я видела, как в тот момент бабушка поджала нижнюю губу — это был признак ее крайнего недовольства.
— Не тот богат, у кого много, а тот, кому хватает. Нам, с Божьей помощью, всего хватает, — ответила она и остаток пребывания гостьи в нашем доме сидела отстраненная, не участвуя в беседе.
Но как только я закрыла за Милой дверь, бабушка уже стояла у меня за спиной. Обернувшись, я вздрогнула от неожиданности.
— Бабушка, Господи, как ты меня напугала! Ты вообще понимаешь, что такие телепортации в твоем возрасте не так уж безопасны!
Мою шутку она тогда не поддержала. Зеленые глаза, всегда такие любящие и ясные, совсем не похожие на выцветшие глаза ее сверстников, блестели осколками холодного стекла.
— Пообещай мне, что никогда, ни при каких обстоятельствах ты не продашь наше зеркало! Обещай, что передашь его своей дочери и проследишь за тем, чтобы она передала его своей!
Говорила низким, тихим голосом, но так, что не услышать ее было невозможно. Я поспешно пообещала, видя, как это важно для нее. Мне, конечно, хотелось узнать, почему она так привязана к этому зеркалу, но бабушка всем своим видом показала, что тема закрыта. В своем неподражаемом стиле, как умела только она — сказать, поставить точку, не произнеся ни слова. В тот момент я отступила.
Но уже вечером, за нашим традиционным чаепитием, я все же попыталась ее разговорить.
Помню, с какой задумчивой грустью она тогда посмотрела на меня. Как мягко накрыла мою ладонь своей сухой, холеной, с невероятно длинными пальцами кистью и спокойно сказала:
— Жизнь, Аннушка, когда людей учит- выбором средств себя не утруждает. Тут уж кому как повезет. Тебе, моя девочка, тоже придется пройти до конца ее школу. Иногда ее уроки валят с ног. Помни о том, что в это зеркало смотрелось не одно поколение женщин нашего рода. Придет время когда тебе понадобится их сила.
Это время настало, бабушка! Я сейчас не то что на лопатках, я разваливаюсь на кусочки, словно тряпичная кукла с болтающимися конечностями на потертых нитях. Как же мне может помочь твое зеркало?! Задрапированное куском черной кружевной ткани, которую привезла с собой Мила, оно безмолвно и безучастно. Как лицо вдовы под черной вуалью.
Глядя на его винтажные бока, вспоминаю маленькую девчушку, которая подолгу то прихорашивалась, то строила рожицы перед зеркалом.
Помню, как бабушка терпеливо ждала, когда мне надоест кривляться, а потом, вплетая в мои косы ленту, рассказывала легенду о Нарциссе.
— Зеркало — как мед, в малых дозах лекарство, а в больших — яд, — продолжала она. — В народе говорят, что это злые духи однажды подарили его людям. Не хотели, чтобы человек оставался наедине со своими мыслями. Расставляли сети на его душу, обманывая иллюзией, что он не одинок. Чем дольше человек смотрелся в зеркало, тем дальше оказывался от самого себя. Смотри, внучка, не попадись в их коварную ловушку.
Эх, бабушка! Я сейчас и на иллюзию согласна, только бы уменьшить боль одиночества. Стоя близко к зеркалу, вижу слабые очертания своего силуэта сквозь тонкое кружево. Мне почему-то совсем не хочется сходить с этого места. Словно что-то удерживает меня. Неужели я действительно надеюсь и жду помощи от зеркала? Дааа… Если так и дальше пойдет, то, похоже, Мила меня таки познакомит со своим другом-психиатром. Ему должен быть интересен новый зеркальный метод лечения как альтернатива классической психиатрии. Хотя, памятуя одну из моих клиенток — даму эксцентричную и с большой претензией, которая в результате, как оказалось, была довольно известным (в определенных кругах) психиатром, я понимаю, что этот вопрос может оказаться спорным. Исход напрямую может зависеть от того, чьи аргументы окажутся убедительней. И будем мы, как Рагин с Громовым из шестой палаты Антона Павловича, вместе в зеркало заглядывать.
Как говорила бабушка, в жизни все может быть. Даже то, чего не может быть.
— Нуу… не может же быть, например, чтобы силуэт в зеркале шевелился, в то время как я сама стою неподвижно? Это просто оптический обман. Или галлюцинация? — спрашиваю у себя.
И что я должна сама себе ответить? А может, дружным хором всех голосов моего дебютирующего психоза спросим у зеркала? Ну, типа: «Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи!..». Если ответит — звоню Милке, решила я, но сначала сниму кружево. Похоже, это оно своей кружевной паутиной создает эффект движения.
Не успеваю протянуть руку, как снова мерещится. Я же еще не дотронулась до ткани, а она сама медленно стекает по зеркальной глади. Шутить уже не получается, и я просто зажмуриваю глаза от страха, как в детстве.
Тогда этот фокус выручал. Если не вижу того, что пугает, — значит и нет страшилки. А если и есть, то она меня не увидит. Я же ее не вижу! О, блаженная детская наивность! Как легко тогда можно было спрятаться подобным образом от проблемы. Бабушка, заставая меня в такой обороне, всегда мягко отнимала мои запотевшие ладошки от лица, гладила по волосам, а потом мы вместе шли посмотреть на то, что меня так сильно напугало. И всегда оказывалось, что ничего страшного и не было. Но я все равно чувствовала себя победительницей. Бабушка улыбалась тогда, глядя, как я раздуваюсь от гордости. И добавляла: «Моя смелая девочка, помни, врага всегда нужно знать в лицо. Иначе как ты сможешь его победить?».
С ней я научилась разбираться в человеческих масках. Отличать холодное безразличие от притворной сердечности, за уверениями в дружбе, видеть корыстные ожидания.
— Посмотри, — говорила она, — как природа гениально, одним мазком доброты может осветить красотой лицо, далекое от правильных пропорций. А прекрасное изуродовать внутренней пустотой. Детские глаза наполнить такой болью и способностью к состраданию, что смотришь и не можешь понять — ребенок перед тобой или взрослый. А пожилое лицо незрелостью довести до карикатурности. Как она в одном человеке может совместить противоположное. Важно замечать эти полутона души, моя дорогая, помня как все неоднозначно в этом мире.
От вихря воспоминаний кружится голова, как от карусели в детстве. «Это из-за того, что я слишком сильно зажмурилась», — думаю я.
Открываю глаза и упираюсь взглядом в свое отражение в зеркале.
— Ну вот, все в порядке. Черти в зеркале не пляшут. Есть только я, — говорю вслух в тишине, по которой, как кот по карнизу, крадется чувство постороннего присутствия.
Осознание, что это так и есть, приходит не сразу. Не сходятся пазлы между мной и тем, как выглядит отражение. Я из пижамы еще не вылезала, а женщина напротив одета в элегантное черное шелковое платье. Ее волосы тщательно уложены в отличие от моих, давно не мытых.
Пугает несоответствие эмоций на ЕЕ лице тому, что происходит у меня в душе. Страх, подступающая паника должны были исказить это мое — чужое лицо. Но та, другая, незнакомая женщина с моим лицом, выглядит спокойной. Она не мигая смотрит на меня холодными зелеными глазами. Они не позволяют мне отвернуться, убежать, сморгнуть пугающее видение. Земля начинает уходить из-под ног, когда я вижу, как ее кисть оживает. На тонкой, скользящей по зеркальной глади руке, змеиным глазом мерцает любимый бабушкин изумрудный перстень, который она никогда не снимала и в котором я ее похоронила.
Светлячки
Невесомость отрывает меня от земли. Несет навстречу изумруду, который увеличивается в размерах так быстро, что вскоре занимает собой все пространство. Я не вижу ничего, кроме этой разрывающей мозг зелени. Она сильно режет глаза, вынуждая снова зажмуриться.
Сколько я времени в таком состоянии? Не знаю. Никаких звуков, или это у меня уши заложило от такого полета? Телом ощущаю под собой опору. Она мягкая, пахнет почему-то свежей землей и какими-то полевыми растениями.
Чувствую, что начинают затекать конечности. Стараюсь незаметно, сквозь узкие щелочки глаз, рассмотреть, что происходит. Первое, что вижу — снова сплошной зеленый цвет. С облегчением понимаю, что это трава. Осторожно осматриваюсь. От великолепия, представшего передо мной, захватывает дух. Если это все-таки сон, то красивее сновидения я в жизни своей не видела. Будто отмеренная огромным циркулем, большущая поляна пестрит сочно-зеленой травой с разноцветными вкраплениями ярких полевых цветов. Порхающие над ними бабочки взлетают мини-салютами, дублируя крыльями красоту цветков. Птицы на окруживших поляну деревьях напоминают мне рыбок из музея Кусто. С той лишь разницей, что вместо плавников — крылья. Я любуюсь какое- то время издалека живой, разноцветной гирляндой. Немного освоившись на новом месте, решаю подойти ближе. Иду неспеша, стараясь их не спугнуть.
Когда подхожу совсем близко, замечаю в кустах семейство горящих светлячков. Прелесть какая! Светлячки средь бела дня светятся.
Пока подсчитываю на птичьем хвосте все оттенки основных цветов, замечаю боковым зрением, что светящиеся жучки зашевелились.
Смотрю в их сторону. В первый момент кажется что насекомые улетают. При этом ветки почему- то тянутся за ними.
Я не сразу понимаю, что что- то происходит с кустами. Продолжаю с интересом наблюдать как они, меняя форму, постепенно приближаются ко мне. Очарование поляны вмиг улетучивается, когда до меня доходит, что
псевдосветлячки- это горящие глаза на шести оскаленных мордах гиен. Они все сейчас неотрывно следят за мной.
Я в ужасе отскакиваю назад. Не удержав равновесия, падаю. Это служит сигналом для самого крупного из них. Стоя на широко расставленных кривых лапах, он задирает голову и издает звук, от которого все холодеет внутри. Смесь воя и рыка звучит, как хохот удовольствия в предвкушении трапезы. Не прерывая своей плотоядной песни, кидается на меня, метя в шею. Я лишь успеваю заметить желтизну оскаленных клыков да облюбованную мной птичку, из глазной орбиты которой на меня смотрит зияющая пустота.
Страх подкашивает ноги, замораживает душу, заставляя тело безвольной массой покорно ждать своего конца. Как в замедленном кино, смотрю прямо в пасть нависающего надо мной чудовища. В отупевшем от ужаса мозге вспыхивает темнота — словно экран кино погас. С опозданием понимаю, что какая-то огромная черная масса молнией вклинилась между гиеной и мной. Они катятся по траве серо-черным комом, рыча и брызгая кровавой пеной. Секунда, две, вечность — черная масса отслаивается, оказываясь сверху. Это крупная взрослая волчица. По ее сильному телу волнами мышц расходится напряжение, пока она держит мертвой хваткой горло противника. Развязка битвы такая же стремительная, как и начало.
Слышен отчаянный хрип, беспомощно скатывающийся в недра груди умирающего в конвульсиях животного. Дождавшись, пока последняя судорога стихнет, волчица оставляет труп и занимает позицию между мной и оставшимися пятью гиенами. Они пока не атакуют, но и не уходят. Удерживая их в поле внимания, волчица смотрит на меня своим пронзительно зеленым глазом. Он в доли секунды включает в моей голове все ту же сигнальную лампочку: «Беги! Спасайся!».
Дежавю, как автопилот, управляет моим телом, с той лишь разницей, что нет знакомых ступенек и спасительной дермантиновой двери. Убегая, слышу за спиной рык, хрипы и звук рвущейся плоти. Но вскоре все это вытесняет стук сердца в ушах. Я изо всех сил мчусь к противоположному краю поляны. Перед глазами скачет, быстро приближаясь, густая стена леса. Я врезаюсь в нее не сбавляя скорости. Лес принимает меня, моментально закрывая свежую пробоину за моей спиной сомкнувшимися ветвями.
Наказание
Не знаю, сколько времени я так бежала. Потом еще долго шла быстрым шагом, насколько позволяли измученные ноги.
Страшно хочется пить. Мысль о воде заставляет двигаться дальше. К счастью, замечаю родничок, спрятанный между двумя большими валунами. Припав к нему пересохшими губами, жадно вбираю чистейшую, ледяную влагу. Напившись вдоволь, зачерпываю воду и ополаскиваю лицо. Становится легче, хотя щеки все еще продолжают гореть. Я устраиваюсь в густой тени полулежа под валунами. Прикладываю пылающее лицо к приятной прохладе мха. Уже совсем ничего не хочется — ни думать, ни анализировать. Клонит в сон…
Пробуждаюсь от очень слабого звука людских голосов, долетающего с северной стороны. Я поспешно умываю лицо и направляюсь в ту сторону. Пройдя метров сто, останавливаюсь и прислушиваюсь. Ничего не слышно. Неужели показалось? Я готова расплакаться, но легкий ветерок, сменив свое направление, снова приносит мне надежду. Вскоре я отчетливо слышу спасительные голоса. Выбравшись из чащи леса, попадаю в небольшой город, в центре которого собрались люди. Они плотным кольцом обступили высокий деревянный столб. Видя только его верхушку из-за их спин, стараюсь пробраться поближе к нему, чтобы понять, что собрало здесь всех горожан.
Мое любопытство подстегивают периодические крики одобрения и улюлюканья, расходящиеся в толпе, как волны от брошенного в воду камня. Кое-как втискиваюсь между стоявшими в первом ряду седовласым мужчиной и женщиной. Она держит младенца на руках. Представшая картина на мгновение лишает меня дара речи. Я понимаю, что в центре установлен столб, к которому привязана худенькая, босая девочка. Ей лет восемь — от силы десять. На девчушке легкое платьице неопределенного цвета. Оно сильно испачкано. Оторванным куском на ветру болтается маленький, почти кукольный рукавчик.
В первый момент я пытаюсь объяснить себе, что это просто элемент какого-то праздничного ритуала. Это слишком бесчеловечно, чтобы быть правдой. Поворачиваюсь к толпе за подтверждением. Сталкиваюсь лицом к лицу с тем, что не укладывается в голове. Словно я попала в толпу, где вместо лиц — маски в честь Хэллоуина. Искаженные ненавистью, они изрыгивают проклятия, оскорбления, требуя наказания для маленькой жертвы. Только изредка гримаса злобы сменяется чувством удовлетворения на их лицах — после того, как очередной ребенок, доброволец из толпы, громко подстрекаемый взрослыми, плюет в девочку или отвешивает ей пощечину.
Она покорно принимает наказание. Ее белокурая головка с длинными, спутанными волосами низко опущена. Я не вижу ее лица. Вижу только, как беззащитное хрупкое тельце бьет сильный озноб. Меня тоже пробирает дрожь. Я все еще надеюсь встретить в толпе хоть одно человеческое лицо. Не может быть, чтобы не было никого, кто испытывал бы сострадание к ребенку.
Смотрю на рядом стоящую женщину, которая держит младенца. Периодически она опускает глаза на малыша — и на ее лице появляется нежность к этому своему, родному комочку. Полюбовавшись на свое чадо, она снова смотрит на девочку. Трудно поверить в то, что для нее это — всего лишь зрелище. Чем сильней она прижимает к груди своего ребенка, тем хладнокровней готова линчевать чужого. А этот пожилой мужчина? Ведь девочка у столба могла быть его внучкой. Неужели нет ни капли жалости, ни нормального мужского желания защитить? Нет. Только равнодушие с примесью праздного интереса на его лице. От чудовищной психоделики закипает мозг.
Я мысленно прокладываю дорогу к девочке, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Делаю решительный шаг вправо, где толпа кажется реже, и тут же застываю на месте. Пара знакомых, леденящих душу глаз, которые я недавно приняла за светлячков, смотрят на меня в упор. Сосредоточенная на девочке, я сразу не увидела кровожадного стражника маленькой жертвы.
Страх, похожий на гипноз, парализует. У меня не получается отвести глаза от наполненных кровью, насмехающихся над моим малодушием горящих точек. Под их прицелом, кажется, проходит вечность, прежде чем я слышу звонкую пощечину и тихий стон боли маленькой страдалицы. Он рикошетом бьет под дых, вырывая меня из оцепенения. Тело бросается вперед, оставляя мысли позади. В несколько скачков я преодолеваю дистанцию до девочки.
Отшвырнув маленького, толстого обидчика, развязываю крепкие веревки. Канаты поддаются не сразу. Ломаю о них ногти, помогая себе зубами. Еще немного. Последний рывок — и малышка, обмякнув, падает мне на руки. Я крепко прижимаю к себе дрожащее, настрадавшееся тельце. Что-то шепчу, пытаясь ее успокоить. Адреналин зашкаливает. К моей недавней бескомпромиссной смелости примешивается страх, и я сильно стараюсь, чтобы девочка этого не заметила. Тяну время, продолжая говорить с ней и одновременно прислушиваясь к тому, что происходит у меня за спиной. Камни пока не летят, да и рева толпы я почему-то не слышу. Какие-то странные звуки, напоминающие те, что уже однажды слышала, убегая с поляны.
Понимаю, что наступила тишина. Медленно, с колотящимся сердцем, оборачиваюсь. Все исчезло: толпа, гиена. Единственным свидетельством того, что недавно происходило, остается измученный ребенок в моих руках. Хочется поскорее убраться отсюда.
— Пойдем, — обращаюсь я к ней. — Здесь неподалеку есть родник. Тебе нужно умыться и отдохнуть.
Мудрый Тим
Обратную дорогу мы нашли без труда. Я невольно оглядывалась вначале, боясь преследования. Пока шли, подбирала слова в голове, думая, с чего лучше начать. Так, в молчании, мы и добрели до нашего привала. Девочка остановилась рядом со мной. Не стала приближаться к роднику, продолжая смотреть в зeмлю. Я первая наклонилась к воде. Сделав пару глотков, наспех ополоснула лицо, шею и обернулась к ней. Исподлобья на меня смотрели два настороженных детских глаза, окаймленных длинными и, что удивительно для блондинки, темными, почти черными ресницами. Они напомнили мне, что я тоже была блондинкой в детстве, а после семи лет, по рассказам бабушки, постепенно стала превращаться в шатенку, почти брюнетку.
Оставаясь на том же месте, жестом приглашаю малышку присоединиться. Видно, что она колеблется, но все же подходит неуверенными шагами. Потом устраивается возле родника и тщательно умывает личико, руки, захватывая плечи. Распущенные волосы падают вперед. Я мягко собираю их в свою руку. Девочка, вздрогнув, застывает без движения.
— Я только помочь тебе хочу. Волосы ведь мешают, — говорю, стараясь, чтобы голос звучал как можно непринужденней. — Давай я заплету тебе косу? Так будет удобней.
Она отвечает только легким кивком головы. Я быстро заплетаю ей волосы.
Да, воды нам хватает, а вот что с едой делать? Мой желудок громко и настойчиво напоминает о себе. Да и ребенка нужно накормить. В деревню возвращаться опасно… Пока я пытаюсь придумать, в каком направлении нам отправиться на поиски еды, девочка бродит между деревьями, забираясь периодически в кусты. Ее фигурка то появляется, то исчезает в зарослях. Я сначала пристально наблюдаю за ней, но потом, видя, что далеко она не отходит, успокаиваюсь и погружаюсь в размышления, прислонившись спиной к дереву.
Отвлекает от мыслей ее близкое присутствие. Не слышала, как она подошла. Подвернув подол платья фартуком, удерживает в нем что-то объемное. Аккуратно присаживается рядом со мной и разворачивает его как скатерть-самобранку. Каких только ягод нет в ее самодельном фартушке! И как быстро она их насобирала!
— Боже мой! Где ты их нашла? Верней, как ты их вообще рассмотрела?! Я ничего не видела! — нахваливаю я ее. Видно, что девчушка довольна произведенным эффектом. Она кладет несколько в рот и жует, не сводя с меня глаз. Я присоединяюсь к ней, но, проглотив горсть, с опозданием спохватываюсь:
— А они не ядовитые?! Ты знаешь эти ягоды?
Маленькая добытчица смотрит на меня сначала с удивлением, а потом со смешком в глазах. Опять берет сразу несколько и отправляет в рот, демонстрируя безопасность принесенного ею обеда. Какое-то время мы молча уплетаем ароматную витаминную поляну.
Несмотря на то что едим мы только ягоды, насыщение приходит быстро. Вскоре я уже неспешно наслаждаюсь их вкусом, лениво раздавливая каждую ягодку языком о небо. Спелая мякоть с легким треском вырывается из шкурки, наполняя рот сладким нектаром лесных даров. Подобное удовольствие я получала, смакуя наше домашнее варенье. Произношу вслух неожиданно для самой себя:
— Твои ягоды так напоминают вкус варенья, которое варила моя бабушка!
Наверное, в моей фразе прозвучала тоска по тем безвозвратно ушедшим счастливым временам. Потому что девочка посмотрела на меня не по-детски серьезно, и я наконец ее голос:
— Она ушла в другой мир, да?
— Да, — ответила я тихо.
Мы обе притихли, каждая думая о своем.
— Как тебя зовут? — спустя время спрашиваю я у нее.
— Анна.
— Значит, мы с тобой тезки! — радуюсь я. Oна отвечает несмелой улыбкой.
— За что они тебя так, тезка?
Ее тело чуть качнуло в сторону. Словно попыталось отодвинуться от моего вопроса. Взгляд, бесцельно направленный в сторону, прячется от боли в легком трансе.
Бесцветным голосом она произносит чужие слова, словно механическая кукла.
— Я совершила ужасный поступок и заслужила наказание, — повторяет ребенок несколько раз.
— Что такого ужасного могла совершить маленькая девочка? Может, попробуешь рассказать?
Опустив глаза в землю, она начинает свой рассказ.
— Это случилось вчера. Я ударила сына нашего почтенного старосты. После обеда мы с подружками играли в салки. Я взяла с собой своего кота Тима, чтобы он погрел на солнышке старые кости.
При воспоминании о любимом питомце голос девочки еле заметно потеплел.
— Нам было весело с девочками, пока не пришел Ганс. Я всегда, завидя его издалека, старалась избежать с ним встречи. Он мог обидеть и даже стукнуть. Дать сдачи ему никто не мог, он ведь сын уважаемого человека.
— А ты говорила родителям? Разве жители деревни не видели его хулиганства?
Девочка замотала головой.
— У взрослых много своих забот. Они этого не замечали.
«Или делали вид», — подумала я.
— А вчера он ударил моего Тима. Просто так, ни за что. Я так разозлилась, что выхватила у него палку и со всей силы ударила его. У него пошла кровь. Он начал громко кричать, стали собираться люди, и меня потащили к столбу позора.
Ее снова начал бить озноб. Она обхватила себя руками.
— Я не хотела этого. Я знаю, что совершила ужасное преступление. Мне очень стыдно за мой поступок. Но я не хотела этого. Честно.
В том, как Анна это говорит, слишком много веры, что поступок ее действительно ужасный. От жалости к маленькому, бесстрашному человечку сжимается сердце. Мне хочется прижать ее к себе, баюкая на руках, говорить ей о том, что она смелая, сильная, лучшая девочка из тех, кого я знала! Что это не она, а жители села совершили ужасное преступление. Стараясь не выдать эмоций, спрашиваю как можно более спокойным голосом:
— Если твой поступок ужасный, то как можно назвать то, что сделал Ганс?
— Не знаю, — отвечает она.
«Что может еще ответить девочка, которой оголтелая толпа кричала, что она преступница, поднявшая руку на „священного“ мальчика», — подумала я.
— Ладно. Они сказали, что ты плохая. А если бы твой Тим мог говорить, что бы он о тебе сказал?
Было видно, что вопрос застал ее врасплох. Она даже приоткрыла ротик, представляя говорящего кота. Судя по растерянности на ее лице, кот был другого мнения.
— Но ведь я все равно не имела права бить Ганса, — произносит она чужое утверждение, но уже со своими вопросительными нотками.
— А у тебя был другой способ остановить его, чтобы спасти Тима?
Нахмурив брови, Анна пытается придумать другой способ. Заметно, что она честно старается — худенькие плечи приподняты в напряжении. Пальчики сжаты в кулачки. Я не тороплю ее с ответом. Дожидаюсь, пока она в конце концов сдастся. По устало опавшим плечам видно, как она отбрасывает попытки оправдать своего обидчика. Худенькие руки безвольно, как тоненькие плети, сползают на землю. Девочка смотрит на меня в упор.
— Тогда почему? — ее голосок начинает дрожать. — Почему они сказали, что я плохая?
Детское лицо искажает гримаса обиды. Слезы крупными каплями катятся по пухлым щечкам. Пытаясь их вытереть, она натирает и без того покрасневшие глаза. Я даю ей время выпустить боль, прежде чем отвечаю. Насколько вообще можно ответить на этот вечный вопрос и объяснить ребенку — почему мир так несправедлив.
— Сама того не желая, ты напомнила людям про их страх. Склоненную перед властью голову легче всего прятать в толпе. Ты не оставила жителям выбора. Им нужно было что-то делать либо со своим страхом, либо с тобой. Тебя как светлое пятно на темном фоне нужно было срочно закрасить черным, чтобы восстановить баланс между их самоуважением и реальностью.
Она легко подпускает меня к себе, позволяя уложить головку на плечо. Я баюкаю белокурого ангела, рассказывая ей, какая она исключительная, необыкновенная девочка, пока малышка не засыпает на моих руках.
Незванно память приходит со своим проектором, выхватывая слайдами лица из толпы.
На первом — женщина с младенцем на руках. С каким обожанием она смотрела на свое дитя. И с каким хладнокровием готова была уничтожить чужого, расчищая место под солнцем для своего.
Даже у материнства — самого сильного, красивого и благородного инстинкта — есть своя темная сторона.
Еще щелчок. Я вижу лицо седовласого мужчины. Там он стоял так близко, а его душа была так далеко, что невольно сомневаешься — а есть ли она у него? Родился ли он с пороком самого важного органа или кто-то умертвил его, отравив еще в детстве? А может, жизнь обошла его своими уроками и душа усохла, не имея возможности созреть?
Ненависть уродливым шрамом обезобразила красивое лицо девушки. Почему ей так хотелось растерзать ребенка? Разве страдания малышки излечат собственные раны? Но ее внутренний дракон не дает времени на размышления. Он требует свежей крови.
Отвлекает от грустных мыслей легкое посапывание Анны. После сильного потрясения она спит глубоким сном, доверчиво приоткрыв ротик.
Дождь
Как-то быстро начало темнеть. Глядя в небо, я вижу, как над нами нависает тяжелая черная туча, роняя на лицо Анны первую каплю. Она тут же открывает глаза и улыбается мне. Хочется продлить это мгновение, но редкие капли быстро переходят в ливень, барабанящий по густой листве. Мы моментально промокаем до нитки. Вдобавок холодный ветер подгоняет нас в поисках укрытия. Пока я пытаюсь сориентироваться, Анна берет меня за руку и, указывая направление, говорит:
— Tуда!
Я следую за ней, понимая, что она — местная и знает, где можно спрятаться от дождя. Взявшись за руки, мы ныряем в самую гущу лесных зарослей, переходя на бег. Почти сразу Анна отпускает мою руку и бежит на шаг впереди меня, показывая дорогу. Я стараюсь не отставать. Ее хрупкий силуэт кажется призрачным за разделяющей нас ширмой дождя. Она изящно лавирует между ветками деревьев и кустарников, тогда как я неуклюже защищаюсь от них. Ветви густых, приставучих деревьев хлещут и цепляют меня, словно руки озорных маленьких мальчишек, скучающих без занятия. Они напомнили мне одного назойливого поклонника, который вечно задирал меня в младших классах, а потом и вовсе прилепил жвачку в волосы — в знак большой любви, видимо. Как я рыдала тогда над своими косами, которые пришлось обрезать под каре. Но у бабушки всегда и на все был свой рецепт. Она смогла меня убедить, что каре — самая древняя и магическая стрижка, которую носила еще Клеопатра. И что, по преданию, эта стрижка немало помогала ей удерживать мужчин в своей власти. Конечно, на тот момент преимущество власти я видела только в мести над поклонником, но этого хватило, чтобы я успокоилась.
Продолжая удерживать Анну в поле внимания, улыбаюсь своим воспоминаниям. Из-за этого не успеваю разглядеть за зеленой вязью деревянный дом. Oстанавливаюсь в шаге от выступающих декоративных брусьев сбоку дома. Анна огибает его справа, я за ней, и мы оказываемся на широком крыльце с тяжелыми гладкими перилами. Без колебаний малышка, слегка приподнявшись на цыпочки, пo-хозяйски стучит в двери висящим полукругом. Полминуты тишины… Она снова нетерпеливо стучит, пока дверь резким движением не открывает мужчина. На вид ему лет 40. В его взъерошенные темные волосы красиво вплетена седина, которая усиливается на висках. На волевом подбородке небритость, с той же проседью, выгодно подчеркивает резко очерченный рот. Никаких эмоций на лице, кроме еле заметного недовольства в глазах. Ни дать ни взять — Челентано из «Укрощения строптивого». Фоновый дождь и угрюмый красавчик-хозяин. Эх! Знала бы — шляпу прихватила!
Не дожидаясь приглашения, Анна ныряет под его руку, как под арку, и оказывается внутри дома. Мужчина, посмотрев ей вслед, снова переводит взгляд на меня, продолжая упираться рукой в лутку. Так мы стоим с минуту, молча изучая друг друга. Наконец-то он опускает руку, отступая в дом. При других обстоятельствах я бы как-нибудь красиво обиделась на такое сомнительное гостеприимство, но сейчас даже не думаю ждать повторного приглашения. Переступив порог дома, прохожу рядом с молчаливым хозяином вглубь просторной комнаты.
Внутри чисто, тепло и уютно, пахнет деревом и хлебом. Анна уже сидит на полу лицом к камину, протягивая руки к потрескивающему огню. Несмотря на лето на дворе, огонь в камине меня не удивляет. Наоборот, даже кажется уместным. Слышу, как хозяин запирает двери за моей спиной. Прохожу дальше к окну и присаживаюсь на лавке возле массивного дубового стола. Мужчина, не говоря ни слова, уходит в одну из трех закрытых дверей в доме. Пользуясь тем, что хозяина пока нет, осматриваю его жилище. Обстановка крайне минималистичная — бросается в глаза порядок, что редкость в жилище холостяка. Или мне так хочется думать.
Сам дом располагает к себе какой-то монументальностью и чувством безопасности. А может, дело совсем не в доме, а в его хозяине? Mое женское чутье подсказывает, что он из той редкой породы мужчин, для которых надежность — врожденное и потому абсолютно естественное качество. В Анне я также замечаю, как подтверждение моим мыслям, расслабленность и спокойствие, которые могут себе позволить представительницы слабой половины только в присутствии сильного мужчины.
Он возвращается с чистым бельем в руках:
— Баня уже разогрета. Ужинать будем через час, — спокойно обращается ко мне «Челентано» низким голосом. Я невнятно бормочу слова благодарности и, прихватив с собой Анну, поспешно удаляюсь в баню.
В бане такая же лаконичная чистота, как и в доме. С удовольствием сбрасываю с себя прилипшую несвежую одежду. Малышка следует моему примеру. Мы с радостью начинаем поливать себя водой из приготовленных кадушек, пофыркивая и посмеиваясь. Анна первая быстро заканчиваeт моцион и, разметав мокрые пряди на широкой лавке, отдыхает, прикрыв веки. А я продолжаю смывать усталость вместе с тяжестью прошедшего дня до тех пор, пока вода в кадушках не заканчивается. Сильный запах травяного сбора дурманит голову, наполняя наши тела приятной истомой. Такое наслаждение я бы не променяла ни на одно ультрасовременное СПА. Мне хочется еще понежиться с закрытыми глазами в ароматном древесно-травяном тепле, но этикет обязывает к пунктуальности. Не хочу опаздывать к ужину. Что-то мне подсказывает, что хозяин не оценит наше опоздание как дань женской моде, а скорее будет еще более недовольным. К тому же хочу успеть хоть немного расспросить Анну о нем. Мы одеваем свежие льняные рубахи мужского кроя и смеемся от того, как выглядим в них. На Анне рубаха смотрится, как широкое платье, доходящее почти до щиколотки, а моя — и до французской длины не дотягивает. Что меня абсолютно не смущает. Я наспех стилизую ремнем ее рубаху, окончательно превращая в платье, а свою подхватываю шнурком, что также придает ей вид летнего пляжного платьица. Появляется желание еще на выходе сорвать по цветочку, чтобы украсить наши волосы, но я стараюсь сдерживать вдруг сильно разгулявшееся желание быть красивой, понимая, что ему трудно будет воспринимать меня всерьез с цветочком на голове. Поэтому я срываю несколько разноцветных полевых цветов и, пока вплетаю их в белокурые шелковистые волосы, расспрашиваю Анну о хозяине. Из ее рассказа я узнаю, что от жителей она слышала, будто он сам родом из их мест. Но уже очень давно живет один в лесу. Еще задолго до того, как она родилась, он покинул деревню. По какой причине — она не знает. Но когда он раз в год приходит в деревню закупить для себя кое-какие припасы, жители всегда притихают в его присутствии. Они побаиваются его, и даже самые отъявленные сплетники и ротозеи не смеют поднести глаза на него.
— Платит он всегда исправно, никогда не берет в долг, — деловито-хозяйственный тон девчушки вызывает у меня улыбку на лице. — У нас он, например, мед покупает, а один раз даже купил всем детям на рынке по леденцу. Так что ты не смотри, что он такой.
Какой — она не пояснила, а я и не уточняла, догадываясь, о чем она.
— Давид на самом деле добрый.
Ужин
В центре стола нас ждет большая глиняная гусятница, наполненная жареными кусками мяса лесной дичи. К мясу прилагается несколько пресных лепешек.
Анна, снова не дожидаясь приглашения, первая набрасывается на еду, с аппетитом вгрызаясь в большой кусок мяса. Давид почти сразу же присоединяется к ней. Несмотря на голод, я кладу на тарелку небольшой кусочек мяса, приготовившись съесть его по всем правилам хорошего тона –не спеша. Но этот сочный, сладкий вкус только что приготовленного мяса так провоцирует. Вдобавок еще и парочка едоков, не обращающих на меня никакого внимания, так аппетитно уплетают вкуснейший из ужинов, которые я когда-либо ела, что, вопреки всем моим стараниям держать лицо, а вместе с ним спину и локти не на столе, я незаметно для себя проглатываю первый кусок. А за ним, уже не церемонясь, еще две добавки. Вскоре тарелки оказываются пустыми, и мы неспешно запиваем съеденное мясо прохладным молоком, разливая его по большим деревянным кружкам из широкого горла глиняной крынки.
После такой трапезы Анна почти сразу начинает клевать носом. Видно, что ребенок вот-вот заснет.
— Пойдем, — обращается он к ней, — я покажу тебе вашу постель.
Он провожает ее в спальню. Из-за приоткрытой двери я вижу окно и часть приготовленной для нас с Анной кровати. Почти сразу хозяин возвращается, мягко прикрыв за собой двери. Садится на свое место и выжидательно смотрит на меня.
— Спасибо за ужин, Давид. И за то, что приютили нас. Анна сказала мне, как вас зовут, — спешу объясниться я, хотя его лицо не выражает удивления, равно как и других каких-либо эмоций.
— Меня тоже зовут Анна, — говорю я и зачем-то добавляю: — Как и малышку.
Я чувствую себя неуютно от его ничего не выражающего молчания.
— Что случилось, Анна? Как вы здесь с ней оказались? — спрашивает наконец он.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
