
Бесплатный фрагмент - Чаш оф чи
Сниц
И капельку чуда небрежно плесни
В сны,
И пусть пробирает до самых основ
Снов,
Пусть прячет зима под корнями сосны
Сны,
От холода, снега, до самой весны —
Сны,
Сбиваются в стаю, теплы и тесны
Сны,
Они не боятся крюка и блесны,
Сны.
Сидит на изгибах усталых ресниц
Сниц,
И прячется в ветках мясной и лесной
Сной,
На темной опушке стоит сноговик —
Сник
Со стаями несуществующих слов,
Снов.
Цвета pacific 135
— …на рыжего, — говорю я.
Все изумленно ахают, как на рыжего, почему на Рыжего, зачем на Рыжего, как будто есть хоть какие-то шансы у этого Рыжего — да ни единого шанса нет у этого Рыжего, разве что тот, другой, сломает ногу, или шею на крутом повороте, но зачем ему ломать ногу или шею, вы сами-то подумайте, — так что у Рыжего шансов нет, и-и-и, не думайте даже.
— Простите? — спрашивает букмекер, он еще дает мне шанс одуматься, опомниться, сделать ставку как надо…
— …на рыжего.
Букмекер дрожащими руками берет мои деньги, косится на меня, мало ли чего ждать от сумасшедшего. Подхожу к рыжему коню, он недовольно косится на меня, фыркает, я протягиваю кусок хлеба — рыжий отворачивается, рычит, я первый раз слышу, чтобы лошади рычали. Чувствую, что шансов нет, вот ведь черт, это же надо было так переоценить себя, ну правильно, мы же самые умные, мы же рыжего коня не боимся, мы же…
…черт.
Ну, конечно же.
Вынимаю ножичек, долго не решаюсь, думаю, не обойтись ли малой кровью, например, проколоть палец — нет, все-таки понимаю, что придется резать руку, вот так, протянуть Рыжему густую черную кровь, стекающую с запястья — ага, есть, жадно впивается в рану, получилось…
Прыгаю в седло, пришпориваю, стоять, стоять, куда тебя понесло. Здесь все по-другому, здесь все не как положено, здесь надо самому удержаться в седле на крутом повороте, здесь никто не позволит мне сидеть на трибуне потягивая кофе или там что покрепче.
Мне дают большой меч — сам не верю, что смогу его поднять, а ведь придется. Наклоняюсь, еле-еле удерживаюсь в седле, поднимаю с земли мир, — так положено. Смотрю на своего противника, что это за цвет вообще, не выдерживаю, гуглю, знаю, что нельзя, что гугл еще не изобрели — и все-таки гуглю, pacific 135, ну и цвет… Кто-то сидит в седле, да мало кто, парочка вдов и сирот, чьи мужья и отцы не вернулись откуда-то оттуда, и еще кто-то с одной ногой, как он вообще будет держаться в седле, посмотрю я на него…
На старт…
Рыжий конь роет копытом землю, грызет уздечку, рычит, мне кажется, сейчас он вцепится мне в ногу…
Выстрел. Откуда выстрел, еще же нет ничего огнестрельного — а вот выстрел, и кто-то уже падает, подстреленный, отсюда не вижу, кто. Рыжий конь срывается с места — этот, который сто тридцать пятый, остается бесконечно далеко позади. Держусь осторожно, ведь рыжий конь еще бесплотный, — он еще только песнь о ратных подвигах, он еще только легенда о славных битвах, он еще только обрастает глиняными дощечками и берестяными свитками. Сто тридцать пятый настигает нас — если это можно назвать настигает, поет что-то о тех, кто не вернулся, о тех, кто остался совсем один на целом свете. Подхлестываю Рыжего — он вырывается вперед, он изрыгает уже не только копья и стрелы, но и порох и пламя. Кто-то идет на наши земли, говорит Рыжий, кто-то хочет забрать наших жен и спалить наши дома, — кого-то нужно прогнать, опередить, скорей, скорей, скорей…
Сто тридцать пятый настигает, это еще что, как, почему, шелестит страницами книг, взмывает на страницах, летит, легко одолевая барьеры. Я вижу в его седле юношу и девушку из двух враждующих земель, они хотят быть вместе, но им никогда не быть вместе, дальше случится что-топ плохое. Я скачу по летящим страницам, я называю их розовыми соплями, я смеюсь над ними над всеми. Я скачу между соседним землями, я нашептываю живущим там людям, что они чем-то отличаются друг от друга, да вы сами-то посмотрите, вы говорите клеб, а они говорят халеб, они придут на ваши земли, чтобы убивать…
Рыжий конь вырывается вперед, теперь он дышит не порохом, теперь он расправляет крылья, огромные, стальные, ревущие, несется над городами, сея смерть. Я нахлестываю Рыжего — еще, еще, сильнее, сильнее, Рыжий вырывается вперед на крутом повороте, я сам пугаюсь того, что вижу, какой еще плутоний, куда, зачем, почему. Радостно ёкает сердце, понимаю, что это шанс, и еще какой — трибуны оживляются радостными возгласами, я уже понимаю, что победил…
…черт…
Это еще что?
Какого… какого… какого хрена в самом-то деле, почему этот, сто тридцать какой-то вырывается вперед, он снова взмахивает страницами, говорит на все голоса, на всех языках, пророчит что-то о вечной ночи и вечной зиме, рисует череп на фоне облачного гриба…
Я сдаю позиции — стремительно, неумолимо, рыжий конь хрипит, фыркает, кажется, готовится пасть, загнанный насмерть. Понимаю, что нужно переходить к решительным действиям, навожу мишень, целюсь в скакуна цвета номер сто тридцать какой-то там. Он оборачивается, кто там у него сейчас в седле, девушка какая-то молоденькая, все они такие, жизни не нюхали, а туда же… Зачем она вставляет мне в дуло ружья ветку сирени, рыжий конь смотрит недоуменно, хочет перехватить ветку, сжевать…
Стреляю.
Пуля выталкивает сирень, пронзает голову коня цвета какого-то там, я удивляюсь, когда вижу, что его кровь тоже цвета номер какой-то там, а не красная.
Рыжий конь берет последний барьер, вспыхивает облачными грибами, пересекает финишную черту.
Я жду.
Ничего не происходит, какого черта ничего не происходит, где мои деньги в конце-то концов…
Не выдерживаю, дергаю букмекера:
— Ну… и что?
— Что, простите?
— Я выиграл, не так ли?
— Совершенно верно.
— И… я должен получить то, что мне причитается?
— К сожалению… нет.
— В смысле? Разве я не победил?
Ёкает сердце, неужели они не зачтут мою победу…
— Победили, еще как победили…
— — И…
Но вы не можете ничего получить… Видите ли… — он смотрит на мертвое пепелище, на мои обугленные кости, я уже и сам понимаю, почему…
Цветы убивают цветы
…да, заказывал… нет, не только я… много нас было… да откуда я вспомню, сколько нас было, имя нам — легион. Легион. Ну, посчитайте несколько десятков тысяч, какая разница…
…много где заказывал… сейчас уже не упомню… да вам эти названия ничего и не скажут, поставщики не виноваты ни в чем, они даже не знали, что именно они делают, эти детали никому ни о чем не говорили, из них можно было собрать и как обычную космическую станцию, и как… ну да, вы понимаете… так что нет, от поставщиков вы ничего не добьетесь, они ничего не знают…
…нет, я знаю все, и даже больше… да не было у нас никаких мелких исполнителей, каждый знал все и вся… нет, речь идет не о километрах, я бы сказал, что речь идет о световых годах… да, раньше никто не видел таких станций…
…мы выращивали цветы… да, я знаю, что уже миллионы лет нет никаких цветов… а мы выращивали цветы… на растворе… ну как вам объяснить… мы синтезировали его из космической пыли, вы понимаете, азот, углерод, вода… аммиак… сероводород… представьте себе эту клокочущую массу, из которой пробивались цветы, розовые, кровяные, пульсирующие, расправляющие свои лепестки… а что мерзость, что мерзость, это же цветы, цветы, вы же сами — цветы, почему — мерзость? Да вы не хуже меня знаете, что планет не осталось, где они на планетах вырастут, если все обратилось в пыль, время не щадит никого, даже вселенную…
…да, хотели выпустить в космос, населить космос цветами, живыми, горячими, пульсирующими, летящими в черных космических безднах… нет, не успели, хотя цветы уже распустили свои бутоны, я уже показывал им взмах лепестка — знак солнца, взмах лепестка — знак былого, два взмаха — знак солнца, которое больше не светит, уже учил ко всем словам добавлять — знак того, чего больше нет, помню, кто-то из них ошибался, прикладывал знак отжившего к самому себе, я поправлял, говорил, что он еще есть, что ему еще рано… вот так… Ну что вы морщитесь, что вы морщитесь, вы же сами — цветы, вы же… и какая разница, из земли, не из земли, земля для вас что-то сакральное, честное слово…
…нет, не знаю, меня убили в первые минуты боя… это я от вас узнал, что станции больше нет, это вы мне рассказали, как жгли цветы… Мне иногда снится, как они погибают в пламени, и тот, который говорил про себя — я, который был — снова говорит — я, который был, и на этот раз его никто не поправляет… жуть такая… Ах так, да, цветы на космической пыли — это жуть, а сожженные цветы — это не жуть? Почему вы решаете, кому жить, кому умирать? Что значит, против природы, космические станции тоже против природы, давайте их тогда тоже запретим! Ах, уже? Ну-ну, посмотрю я, как вы без космических станций во вселенной, которая рассыпалась в прах… вот именно, что никак…
Да, я цветок. Нет, я цветок. Ну и что, что искусственный, да, искусственный, нет, не из металла, тут другие сплавы всякие… Почему вы хотите убить меня, можете объяснить? Не убьете? Ну хоть на этом спасибо, хотя лучше бы их не убивали… ах, не убьете, потому что я и не жил? Интересная, логика, и что по-вашему жизнь? То, что растет на земле? Ваша логика устарела на миллиарды лет, не меньше… У меня в голове не укладывается, цветы убивают цветы… да, они были цветами, такими же, как вы… а вы сами, думаете, откуда взялись? Сколько вам лет, уж извините за нескромный вопрос? Значит, вы родились шестьдесят лет назад… а ничего, что в те времена уже давным-давно не было никакой земли, только космическая пыль? Так откуда вы взялись, господин следователь? А я вас помню, вы говорили про себя — я, который был, я поправлял вас — не был, а есть… я выпускал вас в черное бескрайнее небо… Ну, вы же не убьете себя, потому что по вашей логике вас не должно быть? Ах, даже так? Ну-ну… Спасибо, что забыли меня выключить, хоть останусь как память… буду вспоминать самого себя… и всех, кто перестал быть…
Книги на жердочках
— Ну что… — он смотрит на меня с легким презрением, — работать-то умеем?
Киваю как можно непринужденнее:
— Умеем.
— Ага, все так говорят… а как до дела доходит, так все в кусты…
Хочу ответить, что здесь, в космосе, нет кустов, не отвечаю, а то покажут мне на дверь, которой здесь тоже нет.
— Вот это хорошо… вот что… вам пастухом работать приходилось?
Мне кажется, я ослышался.
— Про…
— …пастухом, пастухом… не доводилось?
Хочу соврать про каких-нибудь коз, понимаю, что уже миллионы лет нет никаких коз, ну тогда про кур, и кур уже нет, ну тогда про… про… да ни про что я не совру, не умею я врать…
Не выдерживаю, парирую:
— А где вы сейчас вообще пастуха найдете?
Вот то-то и оно, что нигде… ладно, что есть, то есть… он снова недоверчиво смотрит на меня, сканирует, будто ищет, а не припрятана ли у меня взрывчатка где-нибудь в двигателе, — видите как… книги у меня…
Киваю:
— Книги.
Что-что, а книги у него есть, книги, книги, книги, — бесконечные ряды, действительно бесконечные, мы уже пролетаем который миллион световых лет, а книжные ряды все не кончаются, и даже не собираются кончаться…
— Ну вот… присмотрите за ними за всеми…
— За… за вашими книгами?
— Совершенно верно.
— В смысле… пыль вытирать, страницы подклеивать… — спрашиваю, чувствую, ляпнул что-то не то.
Тихий смешок в его динамиках:
— Э не-ет, я же пастухом вас нанимал… Так что давайте, присмотрите за ними хорошенько… гордость моя, детища мои…
Смотрю на него, не верю, что он написал все это, да невозможно было столько понаписать, должно быть…
Осторожно спрашиваю:
— Может, расставить их по экземплярам, по изданиям?
Снова смешок:
— Да по каким экземплярам-изданиям, они же все в единственном экземпляре, вы что! Эх, чему вас только учат… Ну ладно, осваивайтесь тут, осматривайтесь…
Он улетает куда-то в никуда, в зияющую пустоту космоса, оставляет меня наедине с бесконечными рядами книг. Поворачиваюсь к корешкам, думаю втихаря почитать что-нибудь, не помню, когда читал что-нибудь последний раз, должно быть, тысячи лет назад.
Книги вспархивают — все, разом, разлетаются в разные стороны, хлопают страницами. Кидаюсь за одной, другой, третьей, ловлю, не ловятся, только сейчас понимаю, во что я вляпался, вот это влип…
— …а-а-а-п!
Щелкаю хлыстом, книги рассаживаются по веткам, это я для них дерево сделал, и жердочки сделал, чтобы прыгать, и много еще чего. Беру наугад одну, листаю…
«- …так вы говорите, что черное и белое — это одно и то же? — спрашивает офицер.
Я хочу ответить, что так было во все времена до поры до времени, да, господин офицер, я прекрасно помню эти времена, черные играли с белыми в самих себя, никто даже не задумывался, кто есть кто…»
Книгу отталкивает вторая книга, она тоже хочет быть прочитанной…
«Я сдаю позиции — стремительно, неумолимо, рыжий конь хрипит, фыркает, кажется, готовится пасть, загнанный насмерть. Понимаю, что нужно переходить к решительным действиям, навожу мишень, целюсь в скакуна цвета номер сто тридцать какой-то там. Он оборачивается, кто там у него сейчас в седле, девушка какая-то молоденькая, все они такие, жизни не нюхали, а туда же… Зачем она вставляет мне в дуло ружья ветку сирени, рыжий конь смотрит недоуменно, хочет перехватить ветку, сжевать…
Стреляю…»
Книги больше не разлетаются во все стороны, кажется, им понравилось у меня. кажется, хозяин будет доволен, хотя кто его знает, этого хозяина, вернется, начнет махать крыльями, эт-то ш-ш-то т-т-акое?
А это еще что такое…
Показалось…
Нет, не показалось, прислушиваюсь, приглядываюсь — так и есть, чувствую хлопанье страниц где-то бесконечно далеко, ближе, ближе, налетают клюют, больно, сильно, чер-р-рт, даже не сразу понимаю, что это книги, книги, книги, но какие-то другие книги, не похожие на те, что мне приходится пасти…
Вооружаюсь метлой, а больше нечем, разгоняю, одну, две, три, хлоп, хлоп, хлоп, ага, не нравится, спохватываюсь, а ведь можно в кои-то веки использовать лазер, зря он у меня, что ли…
— Стой! Что творишь-то?
Кто-то отталкивает меня, отчего я буквально кувыркаюсь в космосе, сбывается самый большой страх, потерять управление — нет, кто-то меня перехватывает, не сразу узнаю автора, что ему не так…
— Вы… вы что… это же книги! Книги!
— Да такие книги, что ужас-ужас…
— Ну, уж, какие есть… вы это, не вздумайте даже! Лазером он их… вон метла, вон метлой и действуйте, ишь, нашелся умник…
Не понимаю, отчего он так защищает книги, которые чуть не погубили мою стаю, впрочем, мне не положено задавать вопросы, мое дело — охранять эту странную библиотеку, чтобы не разлетелись одни, и чтобы не напали другие…
…не понимаю.
Отчаянно смотрю на книги, не понимаю, почему я не могу отличить книги, которые мирно сидят на ветках от книг, которые налетают, атакуют, больно ранят, почему, почему… Должен же я их видеть, они же разные, совершенно разные, они должны быть разными, черт их дери. Снова и снова проверяю частоту тех или иных слов, знаки препинания, длину предложений, количество деепричастных оборотов, — все не то, черт возьми, все не то… Если бы я был человеком, я бы мог что-нибудь почувствовать на уровне подсознания, но я уже миллионы лет как не человек, и никакого подсознания и чутья у меня нет…
— Ну как вы? — автор смотрит с презрением, ага, вот он уже мной и недоволен…
Признаюсь:
— Я не могу их отличить… я не вижу, где те, где эти…
Автор бормочет что-то насчет того, что я не последний книжный пастух во вселенной — даже не признаюсь, что я не только последний, но и вообще единственный в своем роде, и не только пастух, но и вообще кто бы то ни было…
Снова терпеливо перебираю частоту слов, частоту букв, что там еще бывает в книгах, средний возраст главного героя… нет, все не то…
Спохватываюсь.
Только сейчас понимаю, почему не могу их различить, ну, конечно же, все так просто, а я-то думал…
— Вы… вы сами их написали.
— Простите?
— Вы сами их написали… все эти книги…
— Еще вам что приснилось?
— Ничего не приснилось, вы сами все эти книжки написали, и за мир, и за… — не говорю проклятое слово, чтобы меня снова не атаковали, — у меня есть только одно объяснение, почему я не вижу эти книги… почему я не могу отличить их… вы сами их написали. И те, и другие.
— Ну и сами подумайте, чего ради мне было такие книги писать? — он кивает в сторону атакующих, — с ума я сошел по-вашему, или как?
Понимаю, что не нахожу ответа, что ответа нет, а значит, мне не остается ничего кроме как искать другую работу…
— Вы осторожнее с такими заявлениями, а то как бы другую работу искать не пришлось… — он будто читает мои мысли, а может, и не будто.
Хочу сказать, что и так придется, если я книги не вижу — не говорю, чувствую, что найти что-то в этой бесконечности будет нереально.
Вы ищите, ищите, я же вас не тороплю, я же понимаю, как сложно все это…
Ищу, ищу, понимаю, что меня не торопят, и в то же время понимаю, что не могут ждать вечно, и так уже прошло сорок тысяч лет. Аккуратно вытаскиваю из клетки пойманную злую книгу, тц-тц-тц-на-на-на, ай-й-й-черр-р-р-т, ты еще руку мне откуси, тварь…
Смотрю на дату написания, может, хоть это мне что-нибудь скажет, перебираю даты, даты, даты, посмотреть бы еще, что было тогда, какие времена, какие события бесконечно далекие…
Оглядываюсь, чтобы никто не видел, осторожно разматываю нить времени, бережно-бережно, чтобы не порвать, вы не думайте, я аккуратно, я её никогда не рвал, если порвет кто, вы имейте в виду, это не я. смотрю, все равно ничего не могу понять, пролистываю событие за событием, нет, все не то…
— Ну как успехи?
Автор появляется некстати, он всегда появляется некстати, как раз после очередного налета злых книг, когда мои подопечные сидят потрепанные и сиротливо поправляют вырванные страницы, я даже не успел их толком подклеить. Хочу что-то сказать в свое оправдание, он перебивает меня:
— Большое спасибо за работу…
Я уже понимаю, что это значит, что другого пастуха он, конечно, не найдет нигде и никогда, но такой пастух как я не очень-то ему и нужен. Думаю, куда податься дальше, чувствую, что не хочу никуда подаваться, я уже привык к книжным стаям, у меня есть целая вечность, чтобы перечитать их все… Как будто меня кто-то здесь оставит после такой картины — потрепанные книги, посреди которых я сам с мотком времени…
Еще раз смотрю на размотанную линию времени, начинаю понимать.
Понимать все.
— Я знаю, зачем вы это сделали.
— Что… сделал?
— Эти книги… зачем они…
— И зачем же, по-вашему?
— Поставить мир на грань войны…
— Ну, это очевидно…
— Но неочевидно, зачем именно поставить мир на грань войны…
— Чтобы…
— …чтобы ваши книги о мире стали кому-то нужны. Чтобы их раскупали как горячие пирожки, чтобы их подняли на щит… вот для чего вы сделали все это…
— Вы оши…
— …вы арестованы.
— А вы молодец… вы лучшая моя книга, честное слово, лучшая… гордость моя…
Вздрагиваю, ошарашенный внезапным открытием, чувствую, что у меня нет слов…
— Но…
— …горжусь вами, отлично… — взмахивает прутиком, — ну давайте, давайте в загон…
Понимаю, что я проиграл, окончательно и бесповоротно, понимаю, что остается только одно, неужели я это сделаю…
Распахиваю загон, смотрю, как чужие, неправильные книги устремляются к нам, стаями, стаями, я еще не знаю, на что я надеюсь, но на этот раз я не ошибаюсь — хлопающие страницами хищники набрасываются на своего создателя…
Память Сагари
— …так вы говорите, что черное и белое — это одно и то же? — спрашивает офицер.
Я хочу ответить, что так было во все времена до поры до времени, да, господин офицер, я прекрасно помню эти времена, черные играли с белыми в самих себя, никто даже не задумывался, кто есть кто…
Я хочу сказать это — не говорю, офицер не вспомнит, даром, что это было вчера — есть у местных офицеров странное свойство, не помнить то, что было вчера…
Офицер… думаю, почему я должен называть коня — господин Офицер, и даже не коня, а конскую голову. Есть что-то такое в мифах Японии, называется Сагари, но тогда он должен жить в лесу и свисать с веток деревьев, а не допрашивать меня на плацу… Да и вообще мы не в Японии…
— Так вы уверяете, что мы не должны убивать белых? — продолжает офицер. Этого офицера я помню, хорошо помню, в прошлый раз я своими глазами видел, как взрывом его буквально испепелило на месте, оставив только тень. В позапрошлый раз ему повезло больше или, наоборот, меньше — он прожил еще несколько часов, поднимая к небу вытекшие глаза…
Он не вспомнит.
Не вспомнит.
Осторожно парирую:
— Господин Офицер, вот мы ходим с вами по клетчатому полю, клетка черная, клетка белая, клетка черная, клетка белая — мы же ходим и по черным, и по белым клеткам, не так ли? Вы же не предлагаете разделить плац на отдельные клетки, разрезать землю?
Говорю так, тут же пугаюсь, что я ляпнул, черт возьми, что я ляпнул, а ведь он не поймет, он ведь примет это как руководство к действию, он ведь разделит, не задумываясь…
— Вот как, значит, мы не должны убивать белых… Значит, пусть белые убивают нас, так, да?
Хочу ответить, что и не так, и не так. Не отвечаю. Уже понимаю, что в этот раз не получится, как и не получилось в предыдущие разы, и все, что мне остается, лихорадочно думать, пока есть время думать, что я скажу ему в следующий раз, и не в эту минуту, а раньше, много раньше, когда мы еще смотрели друг на друга и не задумывались, что говорящие конские головы напротив друг друга — разного цвета…
Выслушиваю что-то про измену и дезертирство, прикидываю, как там наши, Бишеп, наверное, уже казнен, хотя плохо я знаю Бишепа, может быть, выкрутится, если вообще есть какой-то смысл тут выкручиваться, когда через два с половиной часа все рассыплется в прах…
…приговаривается…
…к смертной казни, мысленно добавляю про себя. Весь внутренне сжимаюсь, уже знаю, что меня ждет, это больно, чертовски больно, и почему в который раз бьется мысль, не на-а-адо-о-о-о…
…что-то происходит, почему офицер (так и хочется назвать его сагари) смотрит на меня так странно, почему хлопает себя по лбу, да что ж вы сразу мне не сказали, вот ведь черт, а я и не помнил, а вы тоже хороши, помните и не говорите, что будет-то… да не бойтесь вы, я вас выведу, может, еще успеем что-то сделать…
Он поворачивается ко мне спиной, — это оказывается достаточно, чтобы прострелить ему голову, он падает, хрипит, как раненная лошадь, да он и есть лошадь, лошадь, возомнившая о себе черт знает что, что белые и черные лошади одинаковы… Что-то будет, говорю я себе, еще успеваю поймать себя на мысли, что что-то будет, через два с половиной часа, нет, уже через два с четвертью, понять бы еще, что именно, нет, не понимаю, не помню, будет же что-то… что-то… да какая разница, скачу во весь опор, в атаку-у-у, на скаку рублю вражеского визиря, белая кровь извивается по черно-белым плитам бескрайнего поля…
…цепляюсь за ветку хурмы, поднимаюсь повыше, чтобы видеть полную луну — мой белый собрат делает то же самое, и мы затягиваем песнь ночи, песнь луны, — я на свой лад, он на свой, наши ноты чуть-чуть разнятся, и это чуть-чуть создает неповторимую мелодию. Первый раз задумываюсь, почему наши ноты разнятся, почему он белый, а я черный — что-то вздрагивает в душе, что-то умоляет не думать, тут же отгоняю от себя странное наваждение…
Перевернутое R, опрокинутое Е
В жизни так не бывает, так бывает в каких-нибудь буках о приключениях, вон они стоят в либрарии на полках, — вот в буках так бывает, а в жизни нет. В жизни они не приходят в половине еллевенного, в черных жилетах, с шахматно-клетчатыми лентами на фуражках, у двоих даже расставлены шахматы, идет партия, у двух других партию уже отыграли, кинг и рук лениво перемещаются по доске в вечном шахе. В жизни они не приходят в половине еллевенного, не говорят:
— Вы должны покинуть кастл.
— Осмелюсь предположить, кастл под угрозой обрушения?
— Вы не имеете права находиться в кастле, который вам не принадлежит.
Вот так, out of the blue, из ниоткуда, гром среди ясного неба.
— Прошу прощения, осмелюсь предположить, здесь какая-то эррор, этим кастлом владел еще мой покойный фазер, и передал по наследству мне…
— Вы посмотрите на него, каков самозванец… — холод в голосе говорившего опускается до абсолютного нуля, — Вы должны немедленно покинуть кастл.
— Позвольте, господа, вы не имеете права… — говорю, сам не верю тому, что говорю. Так не бывает в жизни, говорю я себе, так бывает в буках о приключениях, еще так бывает в дримах, но уж никак не в жизни, когда меня окружают, заламывают руки, выволакивают прочь из кастла по каменным ступеням, по гарденовой дорожке, усеянной лиефами, и дальше по роаду через кантри, где те, кто еще вчера любезно приветствовали меня, теперь неодобрительно качают головами, вы посмотрите на него, каков самозванец…
Это бук, говорю я себе, бук с приключениями, только непонятно, почему это все на самом деле, и со мной. Если я когда-то и мечтал оказаться на страницах бука, это не значит, что я на самом деле могу оказаться на страницах бука.
Хочу сказать, что буду жаловаться в полицию, понимаю, что они и есть полиция, и жловаться им на них самих по меньшей мере странно. Хочу сказать, пусть разберется суд, понимаю, что меня и тащат в суд, где карты всех мастей, а эти двенадцать созданий должно быть присяжные пишут что-то на грифельных досках…
— У вас есть кастл?
— Конечно, есть…
Почему они пишут — нет…
— У вас есть фазер?
— Есть… то есть, был…
Почему они снова пишут — нет…
— Вы местный?
— Ну, разумеется.
И почему, почему они снова пишут — нет…
— …обязаны покинуть землю в течение двадцати четырех минут.
Еще пытаюсь возразить, что обычно дается не двадцать четыре минуты, а двадцать четыре часа, — даже не сразу спохватываюсь, что вообще-то никто не вправе вот так вышвырнуть меня с планеты, да что за бред вообще, вышвырнуть с планеты, так не бывает, это не приключенческий бук, а я уже вообще не знаю, какой…
— Позвольте мне хотя бы…
Они не слышат меня, меня для них уже не существует, я понимаю, что в кои-то веки не у кого спросить, какого черта здесь вообще происходит. Здесь никогда ничего не объясняют, в этом обществе, где в одном слое нужно каждый день появляться в новом дрессе, а стоит вам подняться чуть-чуть повыше, то не вздумайте покупать новую мебель, потому что мебель надо непременно унаследовать, и черт пойми, где надо приходить в новом дрессе, а где в старой мебели. И что я, черт меня дери, мог сделать не так, что меня выдворяют прочь с планеты, — пришел в театр вовремя, когда нужно было опоздать минут на двадцать, или в гостях похвалил фамильный сервиз хозяина, когда нужно было ругать его последними словами… сервиз, а не хозяина, хотя черт их пойми. И ведь не скажут, ни за что не скажут, что именно было не так…
— Позвольте… прощу прощения… я… — еще пытаюсь что-то сказать, когда меня ведут к блестящему боллу, в таких боллах по слухам перевозят что-то на луну, как будто вообще нужно что-то перевозить на луну, нет, нет, не надо, пожалуйста, пустите, простие, прошу вас, требую адвоката, что значит, не положено, я для них уже как будто не человек, и черт пойми, что вообще происхо…
…скручивают, пристегивают, закрывается люк, десять секунд до старта, девять, восемь, семь…
…два, один…
…меня сплющивает, сильно, больно, неведомая сила пытается выдавить из меня кровь, внутренности проваливаются куда-то в никуда, болл стремительно поднимается в небо, я за ним не успеваю, моя кровь не успевает еще больше, мои филинги не успевают совсем, покидают меня, я проваливаюсь в беспросветный дарк…
…почему…
И не у кого спросить — почему, как всегда не у кого было спросить — почему…
Почему в нашем кастле надо было переворачивать буквы — R и N слева направо, h и L вверх ногами, к К нужно было приставлять еще одну перевернутую К, а перевернутая P обрастала хвостиками и палочками, и её невозможно было прочитать, но она была. Почему I тоже обрастала палочками, а Е нужно было положить набок.
Почему, спрашивал я.
Мне не отвечали.
Почему к лэмпе нужно было добавлять какое-то — шка, чтобы получилось — лэмпе-шка, нет, не так, неправильно, не ш, а по-другому как-то, не так, и не так, почему R было две, одна нормальная, вторая превращалась в пэ, отбрасывала хвост, и нужно было сделать с языком что-то немыслимое, чтобы получилась эта R, которая пэ, нет, не получается, не хочу, не буду, нет, нет, нет, и убежать, и спрятаться в глубинах кастла, в южном тауэре или на аттике.
Почему, спрашивал я.
Мне не отвечали.
Какие-то особые правила — в каждом доме, в каждом ресторане, в каждом пабе, в каждой скуле, гардене и клабе…
Филинги возвращаются, медленно, нехотя, на смену дарку приходит тускловатый лайт, болл покачивается и замирает. Я не верю, что люк откроется, я даже удивляюсь, когда он открывается от легчайшего тача. Меня встречает колд — но не привычный колд, сырой, туманный, а какой-то особенный колд, сухой, острый, если про колд можно сказать — острый. На невысоких хиллах клочками лежит легкий снов, тонкие твиги качаются на ветру.
Колд, вспоминаю я.
Колд.
Колд напоминает мне, что на мне только легкий джакет, и нужно искать хоме. Кроме того я вспоминаю, что брекфест давно уже прошел, как и время для ланча, и день близится к диннеру, и неплохо бы найти этот самый диннер.
Оглядываюсь — только сейчас понимаю, что врали они все, что это фальс, выдумка, и ни на какую мун меня не отправили — вот она, мун, высоко в небе, как висела, так и висит, с одной стороны подсвеченная огнями ночных сити и таунов. Так что все-таки это земля, но какая-то странная земля с сухим и колючим колдом и сновом на хиллах.
Оглядываю скайлин, замечаю огни вдалеке, что-то похожее на таун, но какой-то непривычный таун, я раньше таких не видел, а ведь вроде бы повидал многое. Выбора у меня нет, я иду к тауну, прикидываю, какие там могут быть порядки, нужно ли сказать добрый дей, или хэй, и нужно ли, входя в хоме, снять хат, или наоборот, надеть. Вспоминаю, что нужно говорить не хат, а хэт, это важно, хэт, хэт, и не добрый дэй, а гуд дэй, гуд дэй…
— Гуд дэй… — говорю я, когда подхожу к веранде хома, где сидят персоны, три мана и воман, один из манов вскрикивает, показывает на меня, еще один ман и воман хватают ганы, — я уже понимаю, что будет дальше, я не жду, что будет дальше, я складываюсь пополам, скрываюсь за оградой, перемещаюсь короткими перебежками, пока по ограде щелкают шоты, шоты, шоты. Здесь надо подумать — почему, но у меня нет времени думать — почему, есть только время бежать, укрываться, прятаться, затаиться, прислушиваться к неторопливым шагам, к нервным перекрикиваниям, а у них получается R, которая без палочки, и двойная перевернутая К получается, и Е, положенная на бок, и еще много чего.
Выжидаю, весь обращаюсь в листен, даже не вспоминаю, что надо говорить — лиссн, слышу, как ман подбирается ближе к моему хилому убежищу, понимаю, что у меня будет только один шанс.
Дарк силуэт появляется из-за стены — бью куда-то в хитросплетение нервов, больно, сильно, представляю себе, как бью людей в черных жилетах и шахматных досках на фуражках, вот так, что есть силы, вот вам, вот вам, гады — что-то всхрипывает, сгибается пополам, рушится в грасс, ган отлетает в сторону, я успеваю наступить на ган и подхватить его, прежде чем ман встанет, направить ствол на мана, не подходи, не подходи, прочь, прочь, прочь, — сам не верю себе, что ман замирает на месте, и у меня есть время ускользнуть в лабиринты городка, раствориться в узких улочках…
…нет, все-таки это не земля, это что-то другое, или земля, но какая-то другая земля. Потому что на земле в хомах не бывает так тепло, даже жарко, в хомах бывает тепло только возле файра, да и то не всегда. И хомов таких не бывает, чтобы в один этаж, и все на одном этаже, и таких плотных двойных доров тоже не бывает, я и не знал, что можно жить с таким комфортом. И все-таки чего-то не хватает, даже сам не могу точно сказать, чего именно. Может, лестницы на второй этаж, хотя всего хватает на первом, может, огромной кровати с пологом, может, пробки, которой затыкают раковину, чтобы умыться. Больше всего не хватает, конечно, леттеров в буках, привычной R, I, D, F, G, V, W, L, и даже Y и Q. Открываю буки, изобилующие в доме, продираюсь сквозь перевернутые удвоенные К, положенные на бок Е, опрокинутые N и R. Вспоминаю почти забытое, де-ре-во — это три, дом — это хоме, до-ро-га — вей, хлеб… не помню. Проклинаю себя, что не помню, ёкает сердце, неужели меня готовили к этому, неужели фазер не случайно говорил не клок, а cha-si, не ти, а chai, не хоме, а dom.
Мне чертовски повезло, что подвернулся пустой хоме, по крайней мере, еще пустой, — стараюсь не думать, что будет, когда вернутся персоны. Сейчас мне некогда думать, через сколько дней вернутся персоны, и что тогда будет, я должен читать буки, я должен читать ньюсы, я должен понять, что случилось, если я вообще смогу понять, что случилось. Какая война, почему война, мы никого не убивали, мы ни у кого ничего не отбирали, мой фазер никогда не опустошал благодатные земли, никогда не выпивал всю кровь из чужой земли, да видели бы вы, как он благоустраивал гардены вокруг заброшенного кастла, много вы понимаете вообще… Что за бред вообще, мы не пьем ничью кровь, мы не крали ни у кого кастлы, не угоняли кастлы в рабство, мы не забирали свет чужих звезд, не оставляли чужие земли в холоде…
Щелкает входная дверь, — исчезаю в лабиринтах дома, если здесь вообще можно исчезнуть, прислушиваюсь к непривычным, жутковатым R без палочки и повернутым на бок Е. Нужно спрятаться, затаиться, только сначала нужно прихватить вон тот бук с флагом земли на обложке, той земли, где мой родной кастл, где гарден вокруг кастла и файр в очаге. Бук выскальзывает из моих хандов, с легким стуком падает на пол, — бежать, бежать, понять бы еще, куда бежать, откуда взялась стена за спиной, не было же никакой стены, как из-под земли выросла, ман и две воманы, смотрят на меня, как на какое-то чудовище, вертятся в голове и не вспоминаются никакие гуд день и хэй, фазер говорил какое-то слово, которое невозможно выговорить, я и не смогу его вспомнить… было же какое-то другое, сейчас, сейчас…
— Топ-ри… фет-чер…
Они отступают, расступаются, смотрят на меня настороженно, устраиваются за табле, мне не остается ничего кроме как сделать то же самое, понять бы еще, какую вилку в какой ложке держать, зорко смотрю за сидящими за табле, долго не решаюсь попробовать нечто осклизлое, дрожащее, причудливое на вкус. Персоны переглядываются, быстро переговариваются своими R без палочки, опрокинутыми Е, наконец, кто-то из манов пододвигает к себе кап — я и ахнуть не успеваю, как ман прокалывает себе запястье, в кап падают кровавые капли, одна, две, десять, двадцать, — ман брезгливо пододвигает кап ко мне.
Меня передергивает — понимаю, что не смогу себя пересилить, не смогу этого сделать, и пусть меня хоть выставляют из хома на колд, я не заставлю себя. Персоны смотрят на меня с недоумением, не верят, не понимают, как такое возможно, как так-то, и это не то недоумение, какое бывает, когда отказался следовать какому-то обычаю, тут другое что-то, как это так, он не пьет кровь, он же должен, он же…
— …А у вас что… не пьют кровь? — спрашивает воман. Раскатом грома это рычащее — кр-р-р-р-овь, R с оторванной палочкой.
— А нет…
— А что у вас…
— А рыб… рыб с чипсом… шепард пай…
— Это как?
— Пастуший пирог… пудинг… корниш…
Они смотрят на меня, не верят, как я могу есть пироги и пудинги, я же должен пить кровь…
— …кот и скрипка… корова прыгнула через луну… тарелка сбежала с ложкой…
Проклинаю себя, что не смогу сыграть эту мелодию, а без мелодии так непонятно, и без картинки непонятно, в буке картинка была, а сейчас я только могу рассказать про пабы Кот и Скрипка, Тарелка и Ложка, Корова и Луна… а вот еще послушайте, Хампти-Дампти сидел на стене…
Мой стори прерывается ревом и грохотом там, на улице, — я еще не успеваю выскочить вслед за бегущим на улицу персонами, но уже понимаю, что таун горит, охваченный файром. Не сразу слышу за треском файра низкий гул в небе, не сразу вижу низко летящего стального равена, он парит над пылающим тауном, он охотится на таун, тауну от него не убежать…
Персоны целятся из ганов, я тоже целюсь из гана, я не верю, что попаду в равена, мне даже странно, что я попадаю в стального равена, который беспомощно кувыркается в воздухе, огибает причудливую дугу и падает на опушку вуда. Я бегу туда, я понимаю, что это еще не все, что в глубине стального равена есть персон, которого я должен добить, чтобы спасти таун, он должен выбраться из обломков равена, если он там один, а то может оказаться и тен, и еллевен.
Я открываю дор равена, я не верю себе, когда вижу изуродованные окровавленные останки, в которых с трудом угадывается лицо Мике, почему Мике, это неправильно, что Мике, он не должен быть здесь, он не должен жечь таун, он не должен лежать здесь мертвый, этого быть не должно.
Мне не дают опомниться, уже который раз мне не дают опомниться, — когда я слышу низкий гул стальных равенов там, высоко в небе, я вижу, как они ровным клином движутся к высокому хиллу, чтобы расположиться там на ночлег. Стальной равен нависает над опушкой, — кажется, они заметили меня, и самое главное, заметили мой дресс, альбион дресс, такой непривычный здесь, в Беловодье. Мне сбрасывают веревочный трап, я и не ожидал, что по нему так трудно карабкаться, что он будет отчаянно раскачиваться в разные стороны, вертеться волчком, — кто-то втаскивает меня в стальные глубины равена, приговаривает что-то, я слышу знакомые неперевернутые гортанные R, θ, ð, я жду, что от них повеет теплом, я не понимаю, почему от них не веет теплом, почему мне сразу вспоминается обескровленная земля и шахматные ленты на фуражках…
Её зовут Жане, я вижу её имя на груди, Жане, оно должно звучать как-то по-другому, я не хочу по-другому, не понимаю по-другому.
Беловодье, говорит Жане.
Они выжидают — чтобы прийти на землю белых скал, чтобы пить нашу кровь и кровь земли, чтобы стреножить наши замки и увести их в рабство.
Я хочу замотать головой, я хочу сказать, что это не так, не так, не так, ничего подобного, я уже открываю рот — когда понимаю, что мне нечего сказать, что я совершенно не знаю, что происходит, но черт возьми, одно я нзаю точно, я же видел таун и теплые уютные румы, и двойные доры, и буки, и табле, на котором стоял диннер, который мы ели, и они удилвялись, почему я не пью кровь…
— Там… там двойные доры… двойные…
Жане не успевает ответить, кто-то звонит Жане, я вижу, как меняется её взгляд, где-то я уже видел такие взгляды, вспомнить бы еще, где, а да, конечно, так смотрят на чужих, так смотрят, когда хотят сказать — вы должны покинуть кастл, так смотрят те, кому по телефону рассказывают, кто я такой на самом деле…
А дальше все как в тумане, рука сама поворачивает рычаги, закрывает равен, на старт, внимание, тен секунд до старта… эйч… севен… фиве… где-то в отголосках памяти — файв, файф, да какой файв, когда — фиве, ту, ван…
…я не успеваю за скоростью, моя кровь не успевает за мной. Я хочу домой, я хочу в кастл, где южная товер и северная товер, где гарден и задний ярд, где либрария и файр в очаге. Я беру курс на землю, которая альбион, я теперь там все сделаю лучше, я сделаю смеситель в раковинах, и еще проведу отопление и сделаю двойные доры и двойные глассы в виндах, и наберу себе буков где все ворды как читаются, так и пишутся, там будет корова, которая прыгает через луну, и хампти-дампти, который сидит на стене, и будет рак верхом на пауке и череп на гусиной шее, и пляшущая мельница. Если бы я был не я, а кто-то другой, если бы все это было в буке, а не на самом деле, я бы должен был остаться, я должен был открыть им глаза на мир, рассказать им всем правду, только чтобы рассказать правду, нужно знать эту правду, а я не знаю, я до сих пор не могу толком понять, что произошло и что происходит. Поэтому я просто хочу домой, если вообще существует какое-то — домой.
Небо ощеривается выстрелами с той и с другой стороны, небо трясется от летящих равенов, я вижу, как кровоточит разорванная, растерзанная земля, я вижу тауны, которые бегут по хиллам, еще пытаются спастись от всепожирающего файра. Я уже понимаю, что в меня будут стрелять — как с той, так и с другой стороны, я понимаю, что я чужой как для тех, так и для других, я никогда не был для них своим, и никогда не стану своим.
Я все еще надеюсь вернуться домой, даже когда вижу, как мой таун раскалывается на мириады осколков, разорванный снарядом, и сама земля, на которой он стоял, ползет трещинами, выплевывая потоки раскаленной магмы. Отсюда я не вижу, где земля, и где луна, на таком расстоянии они обе становятся лунами, далекими, маленькими, разрывающимися на куски в ослепительной вспышке…
…собираю обломки, остатки, осколки, по кусочкам, по фрагментам, скрепляю воспоминаниями. Из обломков камней собираю кастл, но не такой, каким он был, а другой кастл, с двойными дорами, с двойными глассами в виндах, с толстыми стенами. Собираю клочочки земли и грасс, застывшие в космосе фловы, чтобы сделать передний ярд и задний ярд. Хочу собрать буки, чтобы сделать либрару, — буков нет, буки сгорели дотла в пламени вара. Чувствую, что кастл без буков как бы и не совсем кастл, и нужно хотя бы самому написать бук. Бук будет такой, как я хочу, в нем все слова будут читаться так же, как пишутся, а еще не будет перевернутых R и Е, поваленных на бок, и перевернутых и удвоенных К. Я с немалым трудом нахожу копибук и пен, и…
…и…
Понять бы еще, о чем именно будет бук, вот ведь, сколько раз хотел написать бук, говорил себе, когда вырасту, обязательно напишу бук, нет, я еще недостаточно вырос, еще не сейчас, еще потом, и сейчас еще недостаточно вырос, еще потом, и еще не сейчас, и еще… И как назло сколько вертелось в голове закрученных сюжетов, удивительных приключений и невероятных событий, — сейчас не осталось ничего, вар как будто вытрясла из меня все мысли, все до единой…
…а вот оно что…
Ну, конечно же…
Понимаю, что мне не остается ничего кроме как написать все как было, с того самого момента как утром в половине еллевенного они пришли в мой кастл, на них были фуражки с шахматными лентами, и они сказали мне…
Записываю — без перевернутых R и поваленных Е, напоминаю себе, что у меня все слова читаются как пишутся. Смотрю на запас кислорода, прикидываю, что должно хватить…
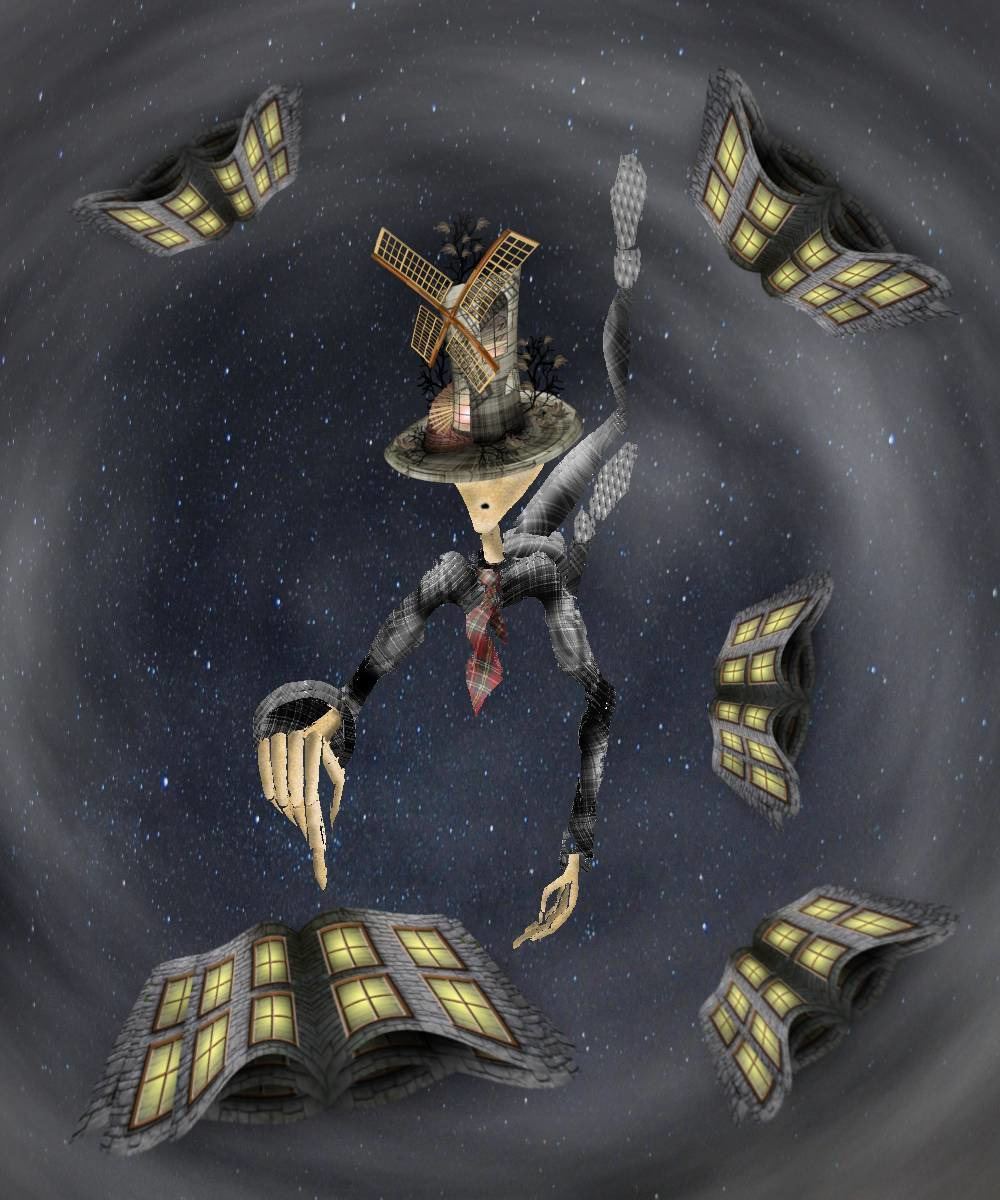
Очередной…
Они никогда не кончаются, думаю я, глядя на бесконечно длинные вереницы стеллажей, они никогда и нигде не кончаются, они доходят до края вселенной, протыкают её насквозь, эти стеллажи, и тянутся дальше и дальше — полки со всеми мыслимыми и немыслимыми книгами. Он ведет меня куда-то в никуда, он, как будто не замечающий всего этого изобилия книг, втыкаюищй в свой телефон, — ловлю себя на том, что злорадно жду, когда он споткнется и провалится куда-нибудь в бездну, — потому что вниз эти стеллажи тоже уходят в бесконечность.
— Вот здесь, — говорит он настолько низким голосом, что я не верю, что это его голос, волей-неволей начинаю искать, кто это говорит, не нахожу. Он толкает неприметную дверь между стеллажами, которая появилась как будто только что, я вхожу, — чтобы увидеть одну-единственную книгу, для чего-то закованную в цепи, как будто эти цепи хоть раз спасали кого-то от смерти…
— …осторожнее, — одергивает меня он, даже на секунду выныривает из своего телефона, чтобы тут же провалиться туда снова.
— Не беспокойтесь, я книг достаточно повидал…
— Те тоже так говорили, — фыркает он, выныривает из телефона.
— Те?
— Ага, пятеро их было… то есть, на моем веку пятеро, а так-то человек двадцать там сгинули… тоже вот так говорили, я про книги все-все знаю, повидал-повидал…
— Ну, знаешь… есть те, которые говорят, есть те, которые и правда знают.
— Вот-вот, они прямо слово в слово так говорили, — он снова выныривает, — и умирали…
Выходит, не вынимая головы из телефона, бормочет что-то, что зайдет через пять минут.
— Через пять минут?
— Ну да, обычно к этому времени умирают…
Меня передергивает, вот так, совсем хорошо, меня уже похоронить успели. В сердцах открываю книгу прямо здесь, прямо сейчас, чтобы посмотреть, как мой спутник вынырнет из своего телефона и пулей вылетит за дверь.
…нет, обычно в книгах так не бывает, обычно в книгах сразу встречают читателя, показывают, что да как. Ну да ладно, книги разные бывают, иногда такие попадаются, что откроешь страницу и сразу провалишься в бурлящий водопад, или окажешься посреди бескрайнего океана. Так что мне еще повезло, что всего-то навсего оказался посреди чистого поля, и черт пойми, куда идти дальше. Иду куда-то в никуда, прячусь от порывов ветра, кутаюсь как могу, н-д-а-а, надо было одеться теплее, так кто же знал, что тут такое, на обложке вроде бы уютная комната с камином, а внутри холодная пустошь, открытая всем ветрам…
Чем дальше, тем больше подбираются холод и тьма, — я не знаю, сколько сейчас времени, но что-то мне подсказывает, что здесь темнеет рано. Не сразу понимаю, что темнота ночи оказывается не моим врагом, а моим союзником — бесконечно далеко на горизонте вспыхивает огонек, я иду к нему, как кажется, несколько миллиардов лет, и все больше чувствую, что не приближаюсь ни на шаг. Когда добираюсь до маленького дома на окраине деревни, понимаю, что уже не чувствую своего закоченевшего тела. Дергаю дверной колокольчик, он отзывается жалобным дребезжанием. Дверь долго не открывается, дом, кажется, затих, затаился, чтобы не пускать меня. Наконец, дверь поддается, недоверчиво смотрит на меня.
— Вечер добрый.
— Что вам угодно?
— Я читатель.
— Очень приятно.
— Да вы не поняли… я читатель.
— Отчего же, понял. Так что вы хотите?
— Разрешите войти?
— Назовите вашу фамилию.
Называю.
— Простите, вас нет в списках приглашенных.
— Но я читатель.
— Мы очень рады.
Дверь уже готовится захлопнуться, когда я, наконец, догадываюсь показать удостоверение читателя. Дверь долго изучает удостоверение, сомневается, думает, уходит с кем-то советоваться, долго-долго не возвращается. Наконец, когда я уже успеваю окончательно закоченеть, дверь возвращается, нехотя впускает меня в дом.
— Добрый вечер, — говорю собравшимся немногочисленным гостям, — с кем имею честь…
— Вечер добрый, — нехотя отзывается кто-то, возможно, хозяин, а возможно, что и нет. Усаживаюсь в кресло, спрашиваю себя, а имею ли я право вообще сесть в кресло, и взять бокал, и прислушаться к разговорам, ну вы же понимаете, такое наследство свалилось как снег на голову, ни с того, ни с сего…
— Простите… — осторожно спрашиваю, — какое… наследство?
— Вам не кажется, что вы задаете вопросы, которые вас не касаются? — говоривший смотрит на меня так многозначительно, что я даже не могу сказать, что вообще-то это мое законное право, я же читатель, я же… а кто, собственно, сказал, что это мое законное право… нет, ну а как же иначе…
Гости поднимают бокалы, осторожно пью, надеюсь, что меня не отравят, хотя кто сказал, что меня не отравят, может, только того они и ждут…
Молодой человек напротив меня падает на стол, дергается в конвульсиях, я понимаю, что жить ему осталось считанные секунды, если не меньше, вот так, да… Бросаюсь к нему, еще пытаюсь помочь, должен же я что-то делать, черт меня дери, кто-то отталкивает меня, прогоняет, прочь, прочь…
И — шепотом, шепотом по залу страшное слово — убийство… убийство… убийство!
Лихорадочно вспоминаю, кто подал бокалы, кто прикасался к бокалам на столе, или нет, лучше подождать, что скажет детектив, интересно, кто здесь будет детективом, а я даже с ним еще не познакомился…
— …это сделали вы.
— Простите?
— Это сделали вы… вы арестованы.
Я не понимаю, что происходит, почему мне скручивают руки за спиной, постойте, постойте, это не я, не я, с чего вы взяли, что я…
— Когда вы подсыпали яд ему в бокал?
— Я… я не подсыпал.
— Когда вы это сделали?
— Честное слово, я не подсыпал… вы мне скажите, зачем мне вообще это делать?
— Затем, что вы чужой, и неизвестно, чего от вас ждать…
— Вот так вот, пустят невесть кого, а потом люди умирают…
— Заприте его в подвале до рассвета…
— Но я… честное слово, я…
Понимаю, что оправдаться не получится, что рассвет не наступит никогда, что сейчас передо мной разверзнутся двери подвала, где уже лежат десятки, если не сотни таких же, как я. Понимаю и еще кое-что — мне не остается ничего кроме как поднесли зажигалку к странице книги, недвусмысленно показывая, что спалю весь их второсортный детективчик, если они посмеют…
— Вы… вы же сами сгорите… — осторожно замечает кто-то.
— Надеюсь, что до этого не дойдет… и у вас хватит благоразумия не прикасаться ко мне… Кто из вас детектив?
— К вашим услугам, — молоденькая горничная выходит вперед с легким поклоном.
— А если серьезно?
— И я серьезно, — в голосе горничной появляются металлические нотки, — ну если хотите, можем показать вам на благообразного господина с моноклем и брегетом… — посмеивается.
— Нет-нет, сударыня, вы говорите, вы детектив… и сколько раз вы обвиняли читателей только потому, что они пришлые незнакомцы? Интересная логика, не правда ли, обвинить в преступлении человека просто потому, что вы видите его первый раз в жизни!
— Скажите, пожалуйста… — горничная смотрит на меня в упор, — а в сколько книг вы зашли вот так… чтобы безнаказанно кого-то убить?
— Простите?
— А ведь не вы первый… вы даже не представляете, сколько читателей приходит сюда… чтобы развлечься.
— Ну, разумеется, читатели приходят в книгу, чтобы приятно провести время.
— Если бы… Но под развлечься я имею в виду читателей, которые приходят сюда, чтобы кого-нибудь убить… ну а что, это же всего лишь книга, правда ведь?
— И… и сколько таких…
— Вы не поверите, десятки, сотни… Ну и как вы думаете, имеем мы право как-нибудь себя защищать?
— Немыслимо… слушайте, я обязательно с этим разберусь…
— Вы думаете, мы дадим вам так просто уйти после того, как вы убили Альфреда?
— Клянусь вам, я ничего подобного не…
— …все так говорили… мы вам не верим.
Отчаянно пытаюсь сообразить, чем кончится эта безумная история. Или же я так и не смогу доказать свою невиновность, и буду убит, даром, что в жизни никого не убивал, или же меня отпустят, я клятвенно пообещаю разобраться с теми, кто убивает героев, выберусь отсюда и мысленно поставлю еще одну галочку, еще одну книгу… в следующий раз, пожалуй, не буду использовать яд, попробую кого-нибудь застрелить, надо же когда-нибудь попробовать…
Дом на границе
Наш дом стоял на границе — в этом на первый взгляд не было ничего удивительного, немало домов стояли на границе чего-нибудь, но наш дом был неожиданным исключением — никто не мог сказать, на границе чего и чего он находится. Когда я задавал этот вопрос родителям, они отмахивались и говорили что-нибудь вроде — вырастешь-поймешь, как говорили всегда. Когда я спрашивал об этом кого-нибудь из гостей, они смущенно отводили глаза, как будто я спросил что-то запретное.
Мало-помалу я и сам начал привыкать, что наш дом стоит на границе ничего, и перестал задавать себе вопрос, что это за граница. Правда, я все еще ждал тайком ото всех, и будто бы даже от самого себя, что однажды появится кто-то или что-то, кто подскажет, на границе чего и чего находится наш дом. Но годы шли, ничего не менялось, никто не стучал в двери моего дома, никто не приходил из ниоткуда. Так было до того вечера, когда…
На пятнадцатом этаже одноэтажного дома
Я жил на пятнадцатом этаже одноэтажного дома. Собственно, архитекторы до сих пор спорили, каким считать мой дом — одноэтажным или пятнадцатиэтажным, или не таким и не таким. Дело в том, что дом так и не достроили, он так и остался единственным пятнадцатым этажом, парящим над городом. Поговаривали, что не хватило денег, но это было полной ерундой, ведь дом строили не из каких не из денег, а из кирпичей и стекла, дерева и шифера, а значит, слова про деньги были как минимум странными. Хотя дом был рассчитан на несколько сотен человек, я жил там один — даром, что на пятнадцатом этаже были еще три квартиры. Никому и в голову не приходило поселиться в доме, куски которого парили в воздухе и вообще непонятно почему не падали — против всех законов физики.
Другие дома сторонились моего дома, никогда не приглашали его в гости уютными вечерами или по праздникам, и дом в одиночестве встречал Солнцестояние, радуясь, что у него есть хотя бы я. Собственно, я жил в этом доме на птичьих правах, дом пустил меня жить, чтобы ему не было так одиноко. Меня самого тоже сторонились — мало ли чего ждать от человека, который живет в доме, которого нет, и не может быть.
Я жил в доме под номером минус семь — вернее, раньше дом был сорок седьмым, но четверка отвалилась, оставив одинокую перекладину посередине, отчего номер моего дома читали не иначе как минус семь. Стоит ли говорить, что это ничуть не добавляло доверия к моему дому — а как раз наоборот.
Дом стоял на улице, у которой не было названия. Улица потеряла свое название когда-то давным-давно, и теперь очень переживала из-за этого. Впрочем, я даже не мог толком сочувствовать улице, ведь неудивительно, что она потеряла название: дело в том, что улица с моим домом шныряла по городу то туда, то сюда, сегодня её видели возле ратуши, завтра возле Торговой площади, а послезавтра около моста.
Остальные улицы, переулки и проспекты даже не здоровались с моей улочкой — они считали её какой-то неправильной, ну еще бы, какая уважающая себя улица будет шастать с места на место по всему городу. Восемнадцать домов на безымянной улице были своего рода изгоями, никто никогда не приглашал их вместе отпраздновать мрачный Самхейн или веселый Имболк. Этот бойкот сплотил дома на безымянной улице, — они проводили вместе каждый вечер а по торжественным датам устраивали пышные празднества. Но мой дом на них, конечно же, никогда не приглашали.
Улица шастала по городу, которого нет. Когда-то он был — сотни лет назад, — но время не пощадило его, оставило только редкие поросшие мхом руины на пустоши. Сотни лет спустя на этом месте снова построят город, даже дадут ему то же самое название, ныне затерянное в веках, восстановят по древним гравюрам и воспоминаниям давно покойных путешественников. Но сейчас, в мое время, никакого города не было, поэтому безымянная улица бродила по пустоши, зажатой между городом, который был и городом, который будет.
Другие населенные пункты делали вид, что нашего города просто не существует — да так, собственно, и было — поэтому ни о каких торговых и культурных связях не могло быть и речи. Наш город даже не был обозначен ни на одной карте — кроме наших собственных карт, в которые мы иногда играли по вечерам. Надо ли говорить, что улицы нашего города были весьма дружны между собой — впрочем, когда появлялась моя безымянная улица, они сразу же демонстративно замолкали.
Наша страна… собственно, никакой страны у нас не было. Наша страна должна была появиться в результате какой-то войны, отколоться от каких-то государств, объединить какие-то земли — но войны запретили еще в восемнадцатом веке, соответственно, страны не получилось. Города, которые должны были входить в наше княжество, тайком собирались по вечерам и по праздникам, пекли пироги и пили огненный пунш. Собственно, я появился на свет только благодаря запретам на войны — мой дед должен был погибнуть в войне чего-то там против чего-то там.
Что касается меня самого… гхм… а давайте не будем про меня, ладно? Какая разница, кто я, откуда, что со мной было до того, как я обосновался здесь? В конце концов, рассказ не об этом, а о том вечере, когда…
Собственно, никакого вечера тоже не должно было быть — это был вечер тридцатого февраля, который решили сделать когда-то, когда пытались сделать все месяцы одинаковыми. Новшество не прижилось, а тридцатое февраля то ли отменили, то ли оставили, — никто так толком и не понял. Тридцатое февраля само не поняло, осталось оно или отменилось, и было оно или нет, поэтому оно приходило осторожно, просовывалось в чуть-чуть приоткрытую дверь и устраивалось на табуретке где-нибудь недалеко от входа. То есть, если вы хотели, то могли предложить тридцатому февраля чашечку чая и кусок пирога, а если не хотели, то могли закрыть дверь в прихожую, чтобы холод не проникал в уют ваших гостиных и кухонь.
В тот день я как обычно пожелал тридцатому февраля доброго утра и предложил ему чашечку чая с куском пирога — а потом отправился смотреть, где на этот раз остановилась моя улица. Внизу под моим домом, которого не было, оказался уютный старинный особняк, больше похожий на настоящий дворец. Сверху же над моим пятнадцатым этажом парило нечто сверкающее, сделанное из неведомых материалов, в чем я с трудом узнал что-то жилое. Это явление надо мной казалось настолько странным, что я побоялся направляться туда, и решил сначала нанести визит жителю старинного особняка — вернее, в свои времена он не был старинным, а вполне даже современным. Я осторожно толкнул дверь особняка, и только потом спохватился, что надо было бы постучать. Дверь поддалась удивительно легко, видно, она была не заперта. Мне стало не по себе, что я вошел в чужой дом, вот так, без спросу, но нужно же было войти, чтобы предупредить гнев хозяина, над особняком которого завис мой пятнадцатый этаж.
— Доброе утро… — начал я, — простите, что так, без приглашения… но дело в том, что мой дом оказался над вашим… Нет, вы не подумайте, я не в претензии, просто… чтобы вы на меня зла не держали… я только побуду здесь недолго, пока моя улица не отправится куда-нибудь дальше…
Хозяин не отвечал, и чем дальше, тем больше я понимал, что хозяина в комнате нет — но так нет, как будто он был здесь буквально считанные секунды назад: кажется, чашка далекофе только что двигалась под его рукой, а кресло еще хранило очертания тела… стоп, постойте-ка! Я снова посмотрел на кресло — мне показалось, что минуту назад оно было совсем другим, мягким и плюшевым, а не легким и плетеным, да и столик был массивным, из красного дерева, а не стеклянным. Я оторопело смотрел, как меняются предметы в комнате, и находил этому только одно объяснение…
— …кто-то убил хозяина дома… но не сейчас, в настоящем, а в далеком прошлом, и получилось так, что он не появился в этом доме, не обставил его по своему вкусу, все переменилось моментально… понимаете?
— Ваше имя? — спросил следователь.
Вместо этого я ответил:
— Я живу в минус седьмом доме на безымянной улице…
— Это что, розыгрыш?
— Что вы, ни в коей мере.
— Нет никаких безымянных улиц… и отрицательных домов…
Я хотел возразить, что отрицательный не дом, а номер, но меня перебили:
— В каком вы хотя бы городе?
— Понимаете… тут такая проблема… моего города или еще нет, или уже нет…
— Да что вы мне голову морочите в самом-то деле?
— Но как вы не понимаете, тут человека убили, надо же что-то делать!
— Паспорт ваш…
— Понимаете… у меня нет паспорта…
— А что такое? Потеряли?
— Да и не было никогда…
— Как же вы всю жизнь без паспорта живете?
— Так видите, какая проблема, у меня нет страны… страна, в которой я должен был жить, не существует, потому что…
— Ну, так а что я для вас сделать могу? Страны у вас нет, города у вас нет, улицы нет…
— …есть, но…
— …дома нет…
— …есть, но…
— Ну что это за улица такая, что это за дом такой, вы сами-то подумайте? Вот то-то же… Ничего не могу сделать… в возбуждении уголовного дела отказать…
Мне ничего не осталось кроме как идти домой, если это можно было назвать — домой. После обеда я решил наведаться в дом наверху, а заодно еще раз посмотреть дом внизу — но моим планам не суждено было сбыться. Улица не нашла ничего лучше, как перебраться в другой конец города ближе к ратуше, и я оказался среди незнакомых домов и перекрестков. Проще всего было оставить загадку старинного дома в покое, в конце концов, не меня же там убили — и все-таки я решил попытать счастья и что-то понять. Поэтому я направился в ближайшее кафе возле дома и заказал чашку кофе. Хозяин посмотрел на меня косо, как будто думал, а есть ли у меня вообще деньги — но все-таки принес двойное депрессо с тоскливками.
— Представляете… — начал я, — сегодня я был в одном доме… нет-нет, вы не думайте, я не лазаю по чужим домам… я зашел в гости… и… я увидел мертвого хозяина… вернее, даже не так, хозяин был живой… вернее, его не было… вернее, кто-то убил его в прошлом… и он исчез в настоящем… понимаете?
Я ждал, что сейчас мне придется долго и терпеливо объяснять происходящее — каково же было мое изумление, когда хмурый хозяин буквально вцепился мне в горло мертвой хваткой, явно намереваясь расправиться со мной сию же минуту. К счастью, я оказался проворнее, и через несколько минут мой противник уже оказался на полу с прижатыми к полу руками.
— Почему… почему вы хотели убить меня?
Кажется, он понял, что бесполезно притворяться и отпираться, и уже открыл рот, чтобы что-то сказать — когда моя улица сорвалась с места и кинулась прочь по городу, петляя среди переулков и отталкивая дома. Мне не оставалось ничего кроме как броситься за ней и успеть схватить улицу за поводок. Какое-то время улица с лаем неслась по улицам, волоча меня за собой, и я выслушивал вслед гневные тирады, что нельзя держать такие улицы, и на кой черт я её завел (как будто я её заводил), и вообще. Наконец, улица остановилась на берегу реки и принялась мирно щипать траву. Никогда я еще не был так зол на свою улицу, на свой дом, а больше всего — на самого себя, что не нашел себе места поприличнее.
Как всегда я первым делом пошел смотреть, над каким домом оказался мой пятнадцатый этаж, — на этот раз внизу был небольшой уютный домик, который как будто остановился на берегу реки и смотрел на волны. Я позвонил в дверной колокольчик — никто не ответил. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Я уже хотел было оставить дом в покое и пойти восвояси, когда дверь распахнулась. Девушка на пороге испуганно ахнула, глядя на мое горло, и я только сейчас понял, что на моей шее остались глубокие следы пальцев того, кто пытался меня задушить.
— Простите… не бойтесь… пожалуйста, не бойтесь, честное слово… это… ну вы понимаете… он умер… там… человек в доме… то есть, он не умер… то есть, кто-то сделал так, что он был, а теперь его нет, и никогда не было… а потом я рассказал об этом хозяину кафе, а он чуть меня не убил…
— Вы… да вы… да как вам не стыдно? — девушка срывается на крик, оборвавшийся жалобным всхлипыванием.
— Простите, я всегда так делаю, если мой дом над чьим домом останавливается, я извиниться захожу, что помешал, я не хотел…
— Да вы… да как вы можете… да это же вы все сделали, вы!
— Что… что сделал?
— Да сами-то, сами-то посмотрите! — она показала куда-то в реку — я посмотрел с берега, чтобы разобраться, что натворила моя улица, готовый увидеть все, что угодно — и все-таки ахнул, когда буквально наткнулся взглядом на мертвое тело.
— Кто… к-кто это?
— А то вы не знаете!
— Честное слово, нет…
— Вы что, смеетесь? Да сами-то посмотрите, вы…
Я пригляделся как следует, и ахнул, когда узнал свое собственное лицо.
— Вот видите… видите, что вы натворили! И теперь вы все это уже не исправите, вот вы что наделали!
Я так опешил, что даже не смог возразить, что ничего подобного, я ничего не делал — и вместо этого ответил:
— Я все исправлю. Честное слово, я все исправлю.
— Ну и посмотрю я на вас, как вы исправите, когда…
…я не успел услышать, что она сказала, — улица снова сорвалась с места, поскакала куда-то во весь опор, я еле-еле удерживался в седле. Улица то бежала мелкой рысью, то переходила на галоп, то приостанавливалась — но только чтобы снова пуститься вскачь. Я проклинал улицу, я проклинал город, который как будто делал все, чтобы не дать мне разгадать тайну старого дома. Когда улица остановилась, я проклинал её и всех её родственников до седьмого колена. Тем не менее мне ничего не оставалось кроме как выйти из дома и оглядеться, над кем на этот раз завис мой пятнадцатый этаж.
Мне показалось, что я знаю это здание — не то старую церковь, не то старую школу, не то и то и другое вместе взятое — и там-то я точно найду разгадки на мучившие меня вопросы. Только сейчас я догадался, что город не прячет от меня разгадку, а наоборот, водит меня по нужным местам, чтобы я мог собрать воедино все фрагменты пазла и догадаться, что происходит. Осталось только войти в старую не то школу, не то церковь, чтобы получить последний фрагмент загадки…
— …постойте! Постойте! — кто-то бежал ко мне, запыхавшись, кто-то теребил меня за плечо, — вы… вы… это вы?
— Да, это я.
— Вы… вы живете в непостроенном доме?
— Совершенно верно.
— В доме минус семь?
— Точно.
— На улице без адреса?
— Именно так.
— В городе, которого еще нет или уже нет?
— Вы совершенно правы.
— В стране, которая…
— Да-да.
— Вам письмо.
Я посмотрел на обратный адрес на письме без адреса, — и мир перевернулся у меня перед глазами. Я бросился прочь от дома, прочь от города, туда, где… где… а впрочем, это касается только меня, давайте не будем об этом, ладно? В конце концов, у меня тоже есть свои секреты, которые, ну, честное слово, не имеют никакого отношения к делу… Итак, я бросился прочь из города в… и каково же было мое изумление, когда я там ничего не обнаружил, ничегошеньки-ничего из того, что обещали мне в письме! Я понял, что меня обманули, и довольно жестоко. Я бросился к своему дому — и, разумеется, его не нашел, улица с домом ушли неведомо куда. И это значило только одно — мне никогда не раскрыть этой загадки…
— …ну-ка, ну-ка, постойте-ка, постойте!
— Что такое? Вы кто?
— Кто, кто, читатели ваши, кто ж еще? Ну-ка хватит перед нами тут секреты секретничать, рассказывайте все, как есть, вместе разберемся, что случилось…
Я не хочу разбираться, что случилось, не надо, ну пожалуйста, не надо, я умоляю, я прошу. Меня не слушают, листают страницы назад, до того момента, как началось действие книги, до того момента, как он недоуменно смотрит на меня, недоуменно повторяет:
— Но… но почему? Но за что? Что я вам сделал-то?
Терпеливо объясняю — как объяснял тысячам и тысячам до него:
— Ну, вы же понимаете, правила есть правила. Вы поймите, я против вас ничего не имею, против вас вообще никто ничего не имеет, но вы поймите, вы должны покинуть дом, потому что вашего дома нет, и покинуть улицу, потому что вашей улицы нет, и из города тоже придется уехать, потому что нет никакого города, сами понимаете.
— А если я построю дом не здесь, вернее, не сейчас, а в городе, когда он еще был, что тогда? Нет, нельзя, говорю я, потому что вас тогда еще не было…
— …вы сами виноваты, вы нарушили правила, мыслимые и немыслимые, вот кто вас просил строить дом там, где вас еще нет? Так что вы сами виноваты, теперь вас быть не должно, нет, не здесь, а вообще быть не должно, вы сами виноваты, больше никто. Так что мне ничего не остается кроме как вас ликвидировать, всего хорошего.
Он еще пытается бежать, он не понимает, что от меня невозможно убежать, я не стреляю или что-нибудь в этом роде, я пишу на странице книги, что он утонул пару дней назад — и все. Он исчезает где-то в пучинах студеного канала, я мысленно киваю сам себе — получилось. Что-то настораживает меня, что-то мне не нравится, я еще не понимаю, что именно, спохватываюсь слишком поздно, у него было мое лицо…
— …это вы, это вы все сделали, — говорит девушка, её зовут Эльга, я не сказал читателям, что её зовут Эльга, и что мы хотели обвенчаться, я тоже не сказал, и что мы не обвенчались, я тоже не сказал, — потому что Эльга жила в еще не построенном доме, и мне пришлось её выселить, потому что правила есть правила, ну как же иначе. Эльга не может мне этого простить, и того, что я убил её возлюбленного, она тоже простить не может, еще неизвестно, что сильнее.
Это вы все сделали, говорит хозяин маленького кафе, это вы во всем виноваты, а я как сидел в своем кафе, так и буду сидеть, даром, что кафе сгорело три года назад, а я все равно здесь буду, даром, что я умер десять лет назад, а я все равно буду, поняли вы? И ничего вы мне не сделаете, ничегошеньки-ничего. А вот теперь сами же и попались, сами же и виноваты, теперь вы сами себя самого себя ликвидируете, потому что закон. Это вы отправили письмо, спрашиваю я. Я, а то кто же, отвечает хозяин маленького кафе, а вы и поверили, а вы и купились, что кто-то ответил на вашу апелляцию, что кто-то вас помиловал. Вот теперь вы и не узнаете, что было там, не то в старой церкви, не то в старой школе, никогда не узнаете, ни за что не найдете. Вы это сделали нарочно, чтобы я лишился своего шанса на спасение, говорю я. что вы натворили, говорю я, а если там был шанс на спасение для нас для всех, что тогда, а если там можно было что-то сделать, чтобы все мы жили, что тогда, а? Хозяин кафе не знает, что ответить, теряется — я срываюсь с места, я бросаюсь в лабиринты города, чтобы найти не то церковь, не то школу, уже понимаю — не найду…
Ненастоящая Эми
Джесси вспоминает, когда она последний раз ела. Нет, не с девчонками в кафе, когда соберутся, закажут чего-нибудь такого, невыговариваемого, ванильно-клубничного или наоборот, рыбно-соусного, — а вот дома, например, когда приходит из школы, и…
Джесси вспоминает, не помнит.
Тогда Джесси пытается вспомнить, что было в школе, нет, не в смысле, как записочками перекидывались и шептались о своем, о девичьем, а ну… хотя бы какие предметы сегодня были, а вчера, а позавчера, а какой день недели сегодня вообще, а где вообще расписание, а нету.
Джесси пытается вспомнить, когда она последний раз спала. Тоже ничего не вспоминается, хоть убей, а вот когда Джесси, например, мылась, тоже не помнит, нет, что-то вспоминается, в ванне лежала с пеной, только это не то…
Джесси начинает понимать, это может значить одно, только одно:
Джесси не существует.
Аглая задумывается: по-хорошему Аглае задумываться должно быть некогда, Аглая должна быть вся в делах, это постирать, то приготовить, за Китти проверить, чтобы уроки сделала, а то ведь не сделает, да и так не сделает, и сяк не сделает, а проверить надо, и на работе завал должен быть, такой завал, из-под которого вообще не выбраться, и домой добираться когда-нибудь никогда с десятью сумками, доверху набитыми непонятно чем… Почему всего этого нет, спрашивает себя Аглая, почему она не помнит, что делала на работе, кем она вообще работает, работает же, почему Аглая только помнит, как приходит домой, и печет что-нибудь такое вкусное, что можно печь разве что под настроение, но не так, не каждый вечер, и Китти… что она вообще делает, Китти эта, вчера говорила, у неё две пятерки по пению, а кроме пения с рисованием у них вообще что-нибудь бывает в школе, или нет…
Аглая открывает дневник Китти, смотрит на пустые графы, пение с рисованием мотаются по строчкам, не знают, куда им себя деть. Так не бывает, говорит себе Аглая. Так не бывает.
А это значит только одно, думает Аглая.
Только одно.
Аглаи не существует.
— Эми, ну придумай мне маму, — просит Лола.
— Да, ну, зачем тебе… — хмурится Эми, не понимает, зачем Лоле мама, а то ведь начнется, сначала мама, потом папа, потом троюродная тетушка, потом мамина или папина работа, потом сотрудников там человек сто, потом у них семьи-дети, а Эми как это все в голове удерживать должна…
— Ну, Эми, ну пожа-а-алуйста, ну только маму…
— Да зачем…
— Ну, у Китти есть, а у меня нет, ну Эми!
— У Китти мама пироги печет…
— И моя печь будет… или нет, пусть она работать будет где-нибудь в парке аттракционов, чтобы мы бесплатно могли…
Эми вспыхивает:
— Нам что, по четыре годика, на каруселях кататься?
— Ну, зачем на каруселях, пусть там воздушные шары будут!
— Ты че, так просто не можешь воздушный шарик купить?
— Да не-е-т! — Лола сердится, — в небо на воздушном шаре, сечешь?
— А-а-а… — Эми оживляется, а ведь правда хорошо Лола придумала, здорово будет. И здорово, и боязно как-то, что-то это далеко зашло, что придуманная Лола управляет настоящей Китти. Хотя это, если подумать, тоже здорово…
…Джесси еще раз смотрит в дневнике, школа номер тридцать семь, если это правда, сворачивает на улицу, где должна быть школа, и правда, стоит трехэтажное здание, оттуда выбегают девчонки-мальчишки, Джесси разглядывает бегущих, ищет себя, не находит, черт, почему, почему нет, почему…
Джесси не сдается, Джесси не отступает, Джесси во что бы то ни стало найдет настоящую себя, найдет, найдет, вот увидите. Джесси идет к дому, как будто ждет, что ей по дороге подвернется настоящая Джесси. Интересно, сможет она заговорить с настоящей Джесси, или не сможет, сможет настоящая вообще её увидеть, или нет. Наверное, нет, потому что… потому что… ну, потому что из настоящих её только Эми видит, и все.
Джесси сворачивает в узкий проулок, где пустые заброшенные дома, здесь хочется ускорить шаг, идти побыстрее, хоть Джесси и выдуманная, ненастоящая, а все равно — побыстрее. И боязно, и в то же время так и хочется заглянуть в глубину темных домов, в черные провалы без окон, где розовые джинсы и рюкзачок в виде дракона, и красные волосы, и что Джесси тут делает, почему она тут лежит с перерезанным горлом, и ноги уже сами несут прочь, а-а-а-а-а-а!
…А Китти пойдет и разберется, вот так, сама пойдет и разберется, почему они все мертвые там в заброшенном доме лежат. Сама разберется, даром, что Китти не настоящая, она вот сейчас возьмет и к Эми пойдет, сама пойдет, а не тогда, когда Эми про неё вспомнит, и нажмет на кнопку звонка, и что-то где-то затрещит, и непонятно, то ли это звонок работает, то ли что. Щелкает входная дверь, на пороге старая тетка лет сорока, ну а что вы хотели, Джесси всего тринадцать, для неё все, кто за двадцать, все старые-старые тетки, а кому за сорок, те ну вообще, люди столько не живут.
— А… а… — Китти заглядывает в комнаты, пытается понять, а где Эми, Эми-то где, а Эми-то нет, и никакого намека нет даже ни на какую Эми, даже ни полнамека, даже ни четверть намека…
— …девки, тут, короче, дело такое… — Китти волнуется, Китти заикается, когда волнуется, только бы не заметил никто, — короче, девки, Эми-то ненастоящая…
Все трое собрались в маленьком кафе, кафе тоже выдуманное, как Китти, как Джесси, как Лола, как крабовое мороженное.
Девчонки вспыхивают, да как ненастоящая, да Эми же.
— Да точно вам говорю, я к ней домой зашла, ну, не домой, ну, где она живет якобы, а там тетка какая-то старая, сорокалетняя…
— Ну, может, мама её, или бабушка там…
— Да нет, ты понимаешь, ну я так посмотрела, ну нету там никакой Эми, ну нету! — Китти замолкает, потому что заходит Эми, шортики коротюсенькие, ботинки со шнуровкой до самых колен, курточка какая-то понавороченная, Лола уже хочет спросить, где Эми такую купила, не спрашивает, вспоминает, Эми-то, Эми…
— Эми… тут такое дело… короче… ты тоже ненастоящая…
Эми вспыхивает:
— С чего это вдруг, а?
— Ну… я вот у тебя дома была…
— А я же про тебя не думала вроде…
— Ну, думала, не думала, ну, извини, извини, ну я вот так вот просто пришла… а там тебя нет…
— Ну, знаешь, я не всегда дома бываю, — Эми фыркает так, что чуть не расплескивает какой-то фруктовый фраппе-латте-шоколатте.
— Да нет… там тетка какая-то старая… сорокалетняя…
— Ну, ничего себе старая, это я в сорок лет старая, да? — фыркает Эми.
— Ты… — девчонки оторопело смотрят на Эми, почему она про себя говорит, почему возмущается, почему…
— Ну, девки, ну это для вас сорок лет старая, ну не для меня же…
— А ты… тебе сорок?
— Сорок два. Сейчас скажете, вообще на кладбище ползти пора…
— А ты… а тебе не тринадцать? — спрашивает Лола, как будто и так непонятно.
— Ну, было мне тринадцать… когда-то…
— И ты с нами дружила? — спрашивает Китти.
— Да какое там дружила, вы все из себя, пальцы веером… Я себе так представляла, что с вами дружу… Что мы дружной компанией ходим… все вместе…
— Ну а так, подойти к нам, поговорить? — не понимает Лола.
— Ты чего, больная, что ли, ты еще мало надо мной насмехалась, я ж для тебя пустое место была! — Эми срывается на крик, — да хуже, чем пустое место! Хуже!
— Эми… ты… ты чего?
— Чего, чего… ненавидела я вас, вот чего… вы все… вот я вам чем не угодила, чем не угодила, я спрашиваю, что вы меня и знать не хотели?
— Да что ты, ты нам всем угодила, ты…
— …ну, это вы так говорите, ненастоящие потому что… А настоящие на меня бы и не посмотрели… ненавижу вас всех, ненавижу! Исчезните! Исчезните!
— Так это ты? — спохватывается Джесси, — это ты?
— Что я?
— Это ты нас всех убила, да?
— Ну, я вас не убила еще, я вас еще всех не настолько ненавижу…
— Да нет… тогда… тридцать лет назад, или сколько там прошло…
Эми краснеет до кончиков волос.
— Нет, это не я… слушайте, девчонки, честное слово, это не я сделала!
— А кто?
— Да никто не знает, кто, до сих пор не нашли… Слушайте, ну честное слово, ну не я это, не я!
— Да ладно, ладно, успокойся, не ты, так не ты…
— …Слушайте… а если правда она, вот тогда что? — спрашивает Джессию
— Что она? — не понимает Лола.
— Ну… если правда Эми так сделала… Если она правда вот так нас терпеть ненавидела, что убила… заманила вот так вот в заброшку старую, и… — шепчет Китти.
— Да ну тебя совсем, ты это как представляешь себе вообще, чтобы Эми…
— Не, ну а кто еще? — Китти хмурится, — вот что, девчонки, действовать надо… разобраться…
— Не надо ничего разбираться.
Это Джесси.
— Не, ну Джесс, ну тебе вот все равно, кто нас убил, а нам вот не все равно, понимаешь?
— Это я вас всех убила.
— Это… это как?
— Это так. Так вот. Вы хоть знаете, какая она была, Джесс эта? Та еще тварь… она же что задумала-то вообще, вы хоть знаете? Она же хотела сделать вид, что типа Эми в свою компанию берет, а сама со стервами со своими… Ну что вы на меня так смотрите, стервы они были, еще какие стервы! А сама со стервами со своими хотела Эми туда в заброшку заманить… и…
— …а за что?
— Да ни за что. Ей же интересно было попробовать, как оно, человека убить… Они же сначала там собак-кошек…
— …да ну тебя совсем!
— Что да ну меня, я, что ли, все эти гадости делала? Вот они там в заброшке обсуждали, как они Эми… вот тогда я их всех… Ну что вы на меня так смотрите, вы бы их получше знали, девок этих, вы бы вообще не знаю что с ними сделали, я еще хорошо с ними обошлась, считайте…
— Ну, ты даешь вообще…
— Ну а вы как хотели… я сначала хотела Эми предупредить, потом решила, ну, нафиг, действовать надо…
…Китти рисует себе звездочки на ногтях, вместо тоненьких звездочек получается что-то жирное, аляповатое, нелепое, у Китти всегда получается аляповатое и нелепое. Китти пытается вспомнить, когда она покупала лак для ногтей, ничего не вспоминается, как будто этого никогда и не было…
…Лола вспоминает, что задано на сегодня, ничего не задано, потому что никогда ничего не задано, и все-таки что-то должно быть задано. Лола открывает ворд, на чем она остановилась, а, ну да, Аффирмация расправила свои серебристо-фиолетовые крылья и стремительно взмыла навстречу восходящей луне, оставив растерянных стражников далеко внизу — прохладная апрельская ночь подалась ей навстречу, щедро осыпая звездами… Нет, пожалуй, хорошо даже, что Эми ей маму не придумала, а то бы сейчас наорала бы мама, а-а-а, уроки не сде-е-еланы-ы-ы-ы…
— …а ты у меня будешь макияж делать и ролики снимать, — говорит Эми.
— Вау, круто, — соглашается Джесси, Джесси со всем соглашается, Джесси все нравится, ну еще бы, Эми так придумала, чтобы Джесси нравилось, что Эми предлагает. Эми придирчиво смотрит на Джесси, да точно ли Джесси делает все, что хочет Эми, а то мало ли. Надо бы и остальных покрепче к рукам прибрать, а то опять задумываться начнут, а там чего доброго кто-нибудь засомневается в словах Джесси, начнет задумываться, а там и до правды недалеко…
Знаки океана
Сегодня море забрало Альвареса, и мы думали, хороший это знак или плохой. С одной стороны, Альварес был отъявленным негодяем, и мы все только облегчено вздохнули, что его не стало, — с другой стороны какая разница океану, кого забирать в жертву. Время шло, ничего не происходило, нам оставалось только гадать. Два месяца спустя был шторм, который выбросил на берег останки разбитых кораблей, груженых золотом. Купцы нашего города пришли в ужас, они боялись, как бы мы не бросили их в шумящие волны, как купца Альвареса, чтобы получить больше золота. Действительно, в ночь с осени на зиму горожане как сорвались с цепи, схватили всех купцов, связали их и бросили в океан. Ждали богатых даров, приходили на берег, но там были только волны, бьющиеся о камни. На следующую ночь разыгрался шторм, который разрушил половину городка, — мы хоронили своих близких, и не понимали, что мы сделали не так. Той же зимой утонул Энцу, а на следующий день море выбросило на берег останки животного, вымершего миллионы лет назад. Мы пытались понять, что это значит, но не понимали. А вот когда утонул Талис, море выбросило останки существа, которое будет жить миллионы лет спустя. Мы пытались разгадать океан, который то и дело подбрасывал нам подсказки, — но мы не понимали ни одной. Иногда океан даже отступал на несколько километров, обнажая дно, усеянное причудливыми растениями и руинами бесконечно древних городов — мы бродили по пескам, входили в то, что осталось от домов, иногда с трудом удерживались, чтобы не забрать себе какую-нибудь понравившуюся вещь — но не решались, ведь океан не давал нам эти вещи.
Какое-то время океан выбрасывал на берег останки чужеземных воинов, утонувших в глубине — мы не решались снимать с них золотые доспехи и оружие, украшенное драгоценными камнями, лишь позволили себе забрать в город причудливые механизмы, которые сами вращали колеса и махали крыльями. Пару раз океан выбрасывал на прибрежные камни неведомых созданий, облаченных в невиданные доспехи — мы погребали их на кладбищах, но не знали, какие ставить памятники, просили прощения у океана, что не знаем, как правильно.
В день крушения звонили в колокола, передавали друг другу из уст в уста легенду о крушении, даром, что никто не знал, в чем заключается эта легенда, и что это за крушение. Звонили в колокола, как было велено, три коротких удара, три длинных, три коротких удара, три длинных — кланялись океану, просили подать какой-нибудь знак, но океан по-прежнему молчал…
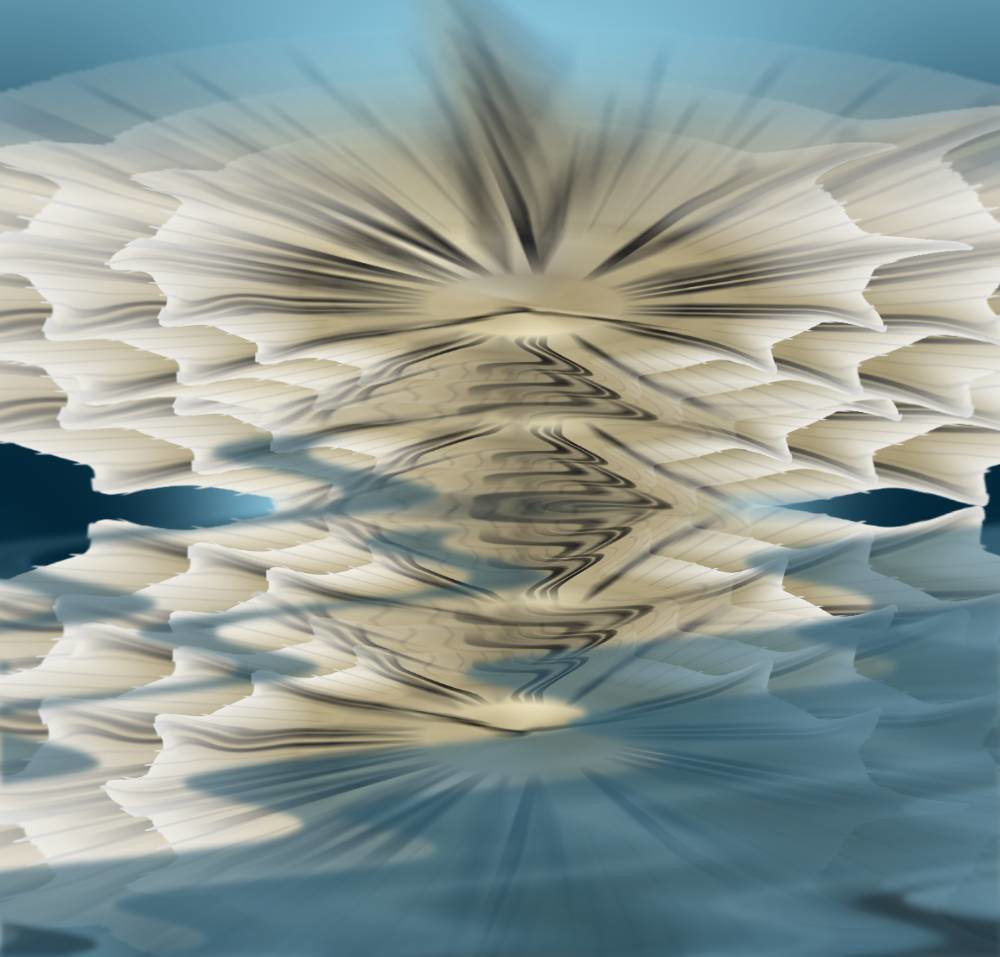
Звезды в розыске
— …что, простите, пропало?
Я понимаю, что не должен переспрашивать, я уже слышу голос шефа, — ну, извините, вы не справляетесь, всего хорошего, — и в то же время понимаю, что не могу не переспросить, потому что слово какое-то… Я никогда в жизни не слышал этого слова, я вообще не знал, что такие слова бывают. А вот же…
— Что, простите, пропало?
— Да квазары же, квазары!
Никакой ошибки — я окончательно понимаю, что никогда в жизни не слышал этого слова.
— Очень… очень вам сочувствую.
Он начинает сердиться:
— Сочувствуете? Да вы даже не понимаете, о чем идет речь!
И это не мешает мне вам сочувствовать. А теперь будьте добры объясните, что это такое.
— Вы не слышали о квазарах?
— Простите, нет.
— В космосе…
Хлопаю себя по лбу:
— Ну, конечно же! Далекие звезды…
— Ну, не совсем звезды… ну вот, а говорите, что не знаете…
— Честное слово, не ожидал, что кто-то потеряет квазары.
— Ну, потеряли-то их все… А вот ищу их только я один, никому нет дела, понимаете?
Понимаю, что не могу винить тех, кому нет дела до квазаров. Оформляю заявку, особые приметы, когда их видели последний раз, во что они были одеты, ни во что, что они делали, ничего не делали, пульсировали, как всегда.
— Очень хорошо. Мы их обязательно… м-м-м… мы все сделаем, чтобы их найти.
— …нет, простите, мы все еще не нашли квазары…
— Да какие квазары, какие квазары, вы хоть понимаете, что пропало Магелланово облако?
— Ну, облака, они такие… тают, растворяются, рассыпаются дождем… Или… постойте… вы говорите о галактике?
— Ну, разумеется, о чем же еще?
— И оно тоже пропало?
— Совершенно верно.
Хочу сказать, что мы не занимаемся пропавшими галактиками и квазарами. Не говорю — потому что нигде не написано, что мы не занимаемся пропавшими галактиками и квазарами.
— Что же… мы сделаем все возможное.
— Да что вы сделаете, ничего вы не сделаете…
Хочу отрезать, что если так, то вообще нечего к нам обращаться. Не отрезаю, вижу, что горе у него нешуточное.
— Боюсь, что должен огорчить вас… — говорю, давлюсь собственными словами.
Он обреченно глядит не на меня, а куда-то сквозь меня.
— Они все пропадают, — говорит он, — все… Что-то поглощает галактики, туманности, звезды… что-то… все ближе и ближе к нам…
— Может, до нас не дойдет… — говорю, сам не верю в то, что говорю, потому что чего ради оно не дойдет, дойдет, и еще как.
— Вы понимаете… — он обреченно поворачивается ко мне, — звезды, планеты… дело всей моей жизни…
— Ну а вы не пробовали заняться чем-нибудь другим, например…
— …крестиком вышивать? Чем другим вы предлагаете заняться телескопу?
Только сейчас начинаю понимать, какую глупость я сморозил, Это ж надо было ляпнуть, предложить телескопу заниматься чем-то другим…
— Может… следует сообщить в прессу? — спрашиваю осторожно, ожидаю очередную вспышку гнева.
— Нет, ни в коем случае, — отмахивается телескоп, — еще паники нам тут не хватало.
— Ну, какая паника, мы же не будем сообщать, что что-то неведомое движется к земле, чтобы отправить её в небытие… скажем, что пропали планеты, звезды, нашедшего просим вернуть за вознаграждение… Может, и правда кто-нибудь звезд с неба нахватал, у себя дома в шкаф прячет, а мы тут мучаемся…
Телескоп не отвечает, смотрит мимо меня, слежу за его взглядом, хоть убейте, ничего не вижу.
— Луна, — говорит телескоп, — луна…
— Нет никакой луны.
— Вот в том-то и дело! Сегодня же полнолуние, понимаете вы, а полной луны нет! Вы посмотрите, как выглядит небо в той стороне… ни туманностей, ни звезд…
Поддаюсь его голосу, смотрю, завороженный редким зрелищем. Сам не понимаю, как на меня обрушивается неведомое нечто, что-то происходит… мгновение спустя ослепительно-черное небо ощеривается мириадами звезд, мне даже приходится зажмуриться, мне кажется, это сияние испепелит меня…
— Обошлось, — выдыхаю я.
— Обошлось, — вторит мне телескоп.
— …знаете, что я заметил…
— А что такое? — телескоп настороженно смотрит на меня.
— Вот я посмотрел исчезнувшие звезды… по слоям…
— И что же?
— Мне кажется… это знаки…
— Знаки?
— Да… знаки… какие-то буквы, или что-то в этом роде…
— Вы хотите сказать…
— …вселенная хочет что-то сообщить нам.
— Но… что же?
— Это нам и предстоит выяснить…
…сам не понимаю, как неведомые знаки складываются… нет, не в слова, во что-то необычное, но в то же время имеющее смысл, я начинаю понимать, что именно говорит вселенная, выговаривает слой за слоем.
Подскакиваю, подброшенный пониманием того, что хочет сказать нам вселенная, пониманием того, как ничтожно мало нам осталось. бросаюсь прочь из дома по улицам городка, скорее, скорее, к дому телескопа, может, мы вместе успеем…
Визио
Немалую опасность представляют глубоководные течения, которые унесут вас в лабиринты подземных пещер так далеко, что вы уже не сможете вернуться к обитаемой зоне, и окажетесь в лучшем случае в пещерах, где нет корма, а в худшем случае вас ждут потоки, вода в которых буквально кипит, и сварит вас заживо.
Не меньшую опасность представляют течения, которые ведут вверх — они тоже обрываются раскаленными потоками, способными сжечь вас дотла. Старайтесь держаться золотой середины, только так у вас есть шансы выжить.
Но это еще далеко не все, что может подкарауливать вас в пещерах. Бойтесь так называемых слышащих — они улавливают малейшее движение воды, и вы легко можете стать их добычей. Однако и те, кто почти ничего не слышат, могут быть смертельно опасны — они затаиваются в глубинах пещер и выжидают подходящего момента, чтобы заглотить вас целиком.
Не думайте, что ваши сородичи так безобидны, как кажется на первый взгляд — на самом деле они только и ждут, как выгнать вас с обжитых мест и захватить ваши расщелины и кормовые угодья. Поэтому не подпускайте никого к себе слишком близко, но и не держитесь в стороне — выбирайте золотую середину, чтобы с вами ничего не случилось.
Однако, самую большую опасность представляют так называемые лжецы — вы узнаете их по гулким манящим голосам, словно бы обволакивающим сознание. Они будут говорить вам, что земля доживает последние дни, и рассказывают небылицы о далеких-далеких мирах, где можно не прятаться глубоко под землей, где солнце не превратило мир в раскаленную пустыню, и не превратит еще много-много веков. Они будут называть вас последними потоками Хо Мо, и звать вас с собой в дальние края. Они так убедительно скажут, что хотят спасти вас от неминуемой гибели, что вы и правда поверите, что мир доживает последние годы. Единственный способ спастись — не слушать их лживые речи.
Впрочем, есть еще один вариант, на тот случай, если вы их все-таки услышали. Попросите их рассказать о визио. Послушайте, что они скажут, какие безумные речи обрушатся на ваши головы. Переспросите несколько раз, чтобы убедиться, что речь идет не о слышать, не о слышать, а о чем-то совсем другом. Спросите их про ред и про грин, про блу и про вайт. После этого вы окончательно убедитесь, что имеете дело с безумцами, от которых нужно спасаться как можно быстрее.
Имейте в виду, что с каждым годом пригодный для жизни слой становится все уже, и вам нужно быть все осторожнее, чтобы не подняться слишком высоко и не опуститься слишком низко.
Письмо от кузины
В том же году получили сигнал бесконечно издалека — казнить мятежников. Мы немало удивились, что у нас, оказывается, когда-то был какой-то мятеж и какие-то мятежники. Мы поднимали архивы, искали, что был за мятеж — ничего не находили, видно, это было слишком давно. Казнить было уже некого, мятежники, если они и были, давным-давно умерли и сами их кости рассыпались в прах. На всякий случай мы послали ответ, что мятежники казнены — хотя совершенно не знали, что это были за мятежники, и что с ними случилось.
Когда сорок лет спустя издалека пришел сигнал — немедленно найти сообщников, где бы они не прятались — мы уже успели подзабыть, кого именно мы должны искать, чьих сообщников, что вообще происходит. Подняли архивы, нашли что-то про мятежников, решили, что речь идет все еще про них. Через год послали ответ, что сообщники найдены и казнены.
Здесь проще сказать, что мы ждали следующего приказа — но это было бы неправдой. Мы ничего не ждали, мы жили своей жизнью на своей земле, убирали по осени хлеб, гадали, выпадет ли в этом году снег хотя бы на пару дней — сне означал какую-то хорошую примету, только мы не могли вспомнить, какую именно. Поэтому, когда пришел новый сигнал бесконечно издалека — немедленно помиловать мятежников — мы были слегка растеряны. Делать было нечего, мы сообщили, что мятежники помилованы и отпущены на свободу. Кто-то даже предложил приписать, что мятежникам поставили памятник на площади — но мы решили, что это уже лишнее. Хотя, если разобраться, лишнее было все — все равно наши ответы никто не читал, читать было некому. Мы сами не знали, откуда нам это известно так точно, — что бесконечно далекая столица давным-давно рассыпалась в прах, и последний человек в столице навеки закрыл глаза, и сама звезда, много тысячелетий согревавшая столицу, не то погасла, не то сгорела много веков назад. Мы не помнили, чтобы кто-то говорил нам об этом, мы просто знали.
Поэтому даже не дрогнули, когда пришел приказ атаковать Белые скалы, — тем более, что никаких Белых скал у нас давным-давно не было от берега до берега, от полюса до полюса, от океана до океана.
Обычно, когда приходил приказ, его передавали сразу же на весь мир, на всех площадях, во всех городах, и даже в маленьких деревушках. Это-то и сыграло роль роковой ошибки, когда во всеуслышание городу и миру зачитали приказание — немедленно казнить всех, кто сидит во дворцах и правит городами и деревушками. Страна забурлила, как кипящий котел — одни говорили, что приказания можно не слушать, ведь те, кто их отдавал, давным-давно умерли, да и были ли они вообще. Другие говорили, что как же так, ведь пришел приказ, а приказы просто так не приходят, и надо непременно исполнять. Мы уже понимали, что стоим на пороге гражданской войны — и не сможем её остановить, — что-то было сильнее нас. В маленьких городках собирались самопровозглашенные армии, шли войной на столицу, из столицы посылали войска в городки, чтобы унять мятежников, но…
…каково же было наше изумление, когда мы шли — дни, месяцы, года — но не могли добраться до ближайшего города. Нам ничего не оставалось, кроме как вернуться домой, да и то пришлось немало постранствовать, прежде чем мы увидели огни родных окраин.
Мы так обрадовались несостоявшейся войне, что даже не сразу задумались, почему все случилось именно так, — а когда спохватились, было уже поздно о чем-то задумываться, мы не могли добраться не только до соседнего города, но и до соседнего дома, — его огни в темноте ночи мерцали все дальше и дальше. Пожалуй, мы встревожились по-настоящему, когда идти из одной комнаты в другую приходилось несколько месяцев подряд — но тогда уже поздно было тревожиться о чем-либо.
Полгода назад я получил письмо от своей кузины, оно лежало посреди комнаты — саму кузину я увидеть уже, конечно же, не мог. Она писала, что облюбовала себе кресло возле камина, там еще есть маленький столик, за которым можно пить чай. Еще кузина писала, что это не мы отдаляемся друг от друга, а сигналы поступают все медленнее и медленее, и монжо как-то их ускорить — но как именно, она не знает. Мне казалось, что если мы объединимся с кузиной, то придумаем что-нибудь, как справиться с этой напастью, сжать или ускорить наш мир — и в то же время понимал, что уже не успеем ничего сделать…

(Название засекречено)
— …очки надень, — шипит злой человек. Сам не понимаю, почему считаю его злым, ну кажется он резкий какой-то, жесткий, может, тут по-другому и нельзя, но все равно — злой…
— Надень, надень! Без глаз хочешь остаться?
— А…
— …она ж глаза колет, дурище ты эадкое!
Надеваю очки, и все-таки зажмуриваюсь, когда вижу её, вернее, еще сам не понимаю, что вижу, что за черт, зажмуриться, крепче, крепче, не открывать…
— Смотри… во все глаза смотри!
Пересиливаю себя, смотрю хоть не во все глаза, но как-то так. Больно колет глаза, еще и еще, я заставляю себя смотреть.
Бежать.
Бежать во весь дух.
Бежать со всех ног.
Потому что уже некогда, некогда, не осталось времени спрашивать — да что я вам сделал, да за что, да почему, потому что они уже не собираются спрашивать вопросы и отвечать ответы, они собираются убивать.
Бежать — перескакивать через овраги, через ограды, через весь этот городишко, через самого себя, ворваться в густое частолесье, частое густочащье, зажруиться, когда ветки обожгут лицо хлесткими ударами.
Они — те, там, сзади — не догонят, не настигнут, они не видят, это я могу видеть, они — нет.
Уже понимаю, что все кончено, что мне нет обратной дороги в городок. И все-таки не верю себе, когда по смолистым стволам щелкают выстрелы.
Бежать.
Мир захлебывается кровью, простреленный навылет.
Бе…
…жать…
— …ну, знаете, это страшно просто!
— Думаю, не так уж и страшно… что случилось?
— Да вы не понимаете… — женщина воздевает руки к небу, понимаю, что она уже в крайней степени отчаяния, — он же… ну как это называется…
— Он — это ваш сын?
— Ну да, Итан…
— И что же он?
— Ну… как это называется… не помню…
— Боюсь, если вы не вспомните, я ничем не смогу помочь.
— Да у этого и названия-то нет! Ну… когда он знает больше, чем другие… ну мы вот видим дом там, дерево, снег выпал, к полудню растаял, а он (засекречено), понимаете?
— Ну… это редкая способность…
— А можно с этим что-то сделать? Ну… чтобы он не видел ничего такого?
— Боюсь, что нет… есть только один выход…
— Что видите? — спрашивают люди таким тоном, будто думают, то ли просто показать мне на дверь, то ли пристрелить на месте.
— Вижу (засекречено).
— Правильно. Здесь?
— (засекречено).
— Отлично. Здесь?
— (засекречено).
Люди молчат, люди снова думают, то ли убить меня, то ли прогнать, наконец, кивают, будто бы нехотя:
— Приняты.
— …очки надень, — шипит злой человек. Сам не понимаю, почему считаю его злым, ну кажется он резкий какой-то, жесткий, может, тут по-другому и нельзя, но все равно — злой…
…наконец-то решаюсь снять очки, наконец-то решаюсь не зажмуриться, а заставить себя посмотреть во все глаза. Правда тоже смотрит на меня, недовольно пофыркивает, постукивает копытами, в памяти трещит голос инструктора, осторожнее, лягнет, мало не покажется…
Протягиваю руку, правда настороженно обнюхивает меня, отдергивается (вздрагиваю), наконец, поворачивается ко мне бочком-бочком, понимаю, что могу положить руку на взмыленную спину, подтянуться на руках…
«…просто феноменальные способности, правда в его руках гарцует удивительно легко и ловко, — его появление произвело настоящий фурор, люди даже аплодировали, когда он показывал мир…»
Читаю, не верю себе, бред, бред, бред, быть этого не может, да вы этого Итана хоть видели, что он показывает, и близко на правду не похоже, это же (засекречено), а гарцует-то как, гарцует, будто и правда что-то знает…
…пришпориваю правду, снова бросаюсь в атаку, еле удерживаюсь в седле, когда правда встает на дыбы и заливисто ржет — уже понимаю, что этот бой для кого-то из нас станет последним, если не для обоих, но, черт возьми, я должен уничтожить того, кто показывает черт знает что под видом правды. Только сейчас понимаю, насколько переоценил свои силы, я ведь и с мечом обращаться не умею, какого черта я вообще его схватил, он мне только мешает, вот Итон, Итон да, у него меч в руках только так летает, того и гляди вышибет меня из седла, только сначала рассечет пополам…
Правда подо мной снова встает на дыбы, заливисто ржет, поворачивается…
…поворачивается…
…это еще что за черт…
Нет, быть того не может, почему я не вижу отдельно свою правду и его неправду, почему я вижу единое целое, повернутое миллионами граней, что я вообще вижу, очки, очки, где очки, нет очков, нечто непонятное, оказавшееся единым целым, больно обжигает уже не глаза — сознание…
…прихожу в себя, вернее, не сам — мой недавний противник растирает мне виски, очнитесь, да очнитесь же…
— Это… это что?
— Я откуда знаю, первый раз такое вижу… Чш-ш, не смотри, совсем рехнешься…
— А сам чего смотришь?
— Так интересно же…
— Ну, так и мне интересно…
…осторожно пришпориваю правду, — Итан придерживает её за уздечку, как будто правду можно удержать. Осторожно ведем правду через холмы, в сторону городов. Думаю, сможем ли мы показать им то, чего сами толком не понимаем…
Гости оттуда
По воскресеньям наш ресторанчик пользовался особой популярностью — потому что в город приходили те, кто оттуда. Я так и не решался спросить у них, из какого они века — из двадцать пятого, или из какого-то намного дальше за пеленой времен. Они заказывали субботние вечера, запеченные в домашнем уюте и сны в ночь с субботы на воскресенье. Я не знал, откуда у них такая любовь к субботам, быть может, в их временах уже не было суббот. Впрочем, хозяину не очень нравилось, когда я задавал гостям вопросы, да и задерживались гости ненадолго — они приходили в наш городок, чтобы перейти Центральный Бульвар и оказаться на другой стороне города, выходцы с северо-востока — на юго-западной, с юго-запада — на северо-восточной. Да и там они оставались буквально считанные десятки минут, чтобы снова отправиться в двадцать пятый век или в какой там они отправлялись, но уже на другую сторону города. Возвращались оттуда ближе к вечеру, груженные тяжелыми баулами. С северо-востока на юго-запад тащили полные сумки первых влюбленностей и тепло домашнего очага, с юго-запада несли юношеские мечты и предрассветные сны. Я догадывался, что несут то, чего нет у них самих, но не спрашивал, что у них случилось с домашними очагами и предрассветными снами.
Чуть дольше задерживались те, кто делал в нашем городке остановку между двадцать пятым веком нашей эры и двадцать пятым веком до нашей эры. Потом странники снова появлялись в нашем времени, но уже в других городах во всех краях, на всех окраинах бескрайнего мира. Я понимал, что где-то там бесконечно давно не было границ между княжествами, и весь мир был каким-то единым величайшим княжеством.
Иногда мне хотелось оставить ресторанчик и нудного хозяина и отправиться вместе с воскресными странниками в какие-нибудь неведомые края. Но еще больше мне хотелось посмотреть дивный мир, где не было границ, величайшее княжество, охватывающее всю землю…

Вообразивший охотника
— …о! …о…е! А! а… А!
Круть-круть-круть-верть-верть-верть…
— Что? Что такое? Алан! Алан!
Чаша алоэля стремительно вертится, отпущенная чьей-то рукой, придвигается все ближе и ближе к краю, почему он её не подхватывает, да чего ж ты ждешь, растяпа, почему ты не ловишь чашу, почему она стремительно вращается уже в пустоте, рушится на марморный пол, разлетается мириадами осколков, вздымает брызгами. Недоуменно смотрю на чью-то ничью руку, ну какого черта ты не ловишь, не подхватываешь, какого черта, в самом-то деле, слежу за рукой, не сразу понимаю, что это моя…
...рука?
Рука?
Рука?
Черт меня дери, не было у меня никаких рук, не было, только быстрые ноги, несущие меня через мокрый осенний лес, это не может быть моя рука, почему она двигается по моей воле, повинуется моим желаниям, неуклюже мотается туда-сюда, сбивает со стола еще одну чашу…
— Ала-а-а-н!
Каким-то куском сознания догадываюсь, что обращаются ко мне, но этого быть не может, не могут обращаться ко мне, я не Алан, как я могу быть Аланом, чтобы позвать меня, надо крикнуть… чер-р-рт, я даже не могу выговорить это своим теперешним горлом…
— Алан!
Подскакиваю, как подстреленный, да почему как, я и есть подстреленный, мне же только что прострелили хребет, и мокрый осенний лес стремительно завертелся кувырком, все больше обагряясь кровью, моей кровью. Бежать, бежать, бежать-бежать-бежать, перебирать стремительными сильными ногами, убегать от смерти, от самого себя, от…
— Алан!
И все-таки никакой ошибки, Алан — это я, это я сижу в «Лисе и Гончих», это я пью алоэль, вернее, пил, пока он не завертелся волчком и не рассыпался мириадами осколков. Откуда это, откуда, спрашиваю я себя, откуда это проклятое воспоминание о том, чего не было, я не скакал верхом на гнедом Арбалете, я не целился в стремительно ускользающий рыжий хвост, я не прострелил его в двух шагах от поваленного бука, он не завертелся огненно-рыжим вихрем, обагряя листву своей кровью…
Этого не было, говорю я себе.
Этого не могло быть.
И все-таки…
— Алан?
Кто-то трясет меня за плечи, я и не знал, что у меня есть плечи, и за них можно трясти, а ведь нате вам плечи, и за них трясут, Алан, Алан, ну что такое, Алан, да очнись же, ты чего, заснул, что ли…
— А… да… пойду, полежу…
Поднимаюсь наверх по шаткой лестнице, ноги меня не слушаются, ну еще бы, я пользуюсь ими первый раз в жизни, до этого у меня таких ног не было. Спохватываюсь, что делаю что-то не так, понять бы еще, что именно, а, ну да, это же не мой дом, я же живу не здесь, и мне еще идти через весь городок, а зачем мне идти через весь городок, если мой дом стоит напротив, а затем, что я не помню, где мой дом, я не могу этого помнить, ведь я, это не я…
Дом кажется непривычно большим, непривычно шумным, непривычно гулким, мне не хочется спать на этой скрипящей кровати, и в то же время я нахожу её необычайно уютной, а мысли о родной норе вызывают оторопь. Заставляю себя полюбить свою нору, черт возьми, полюбить любой ценой, я должен быть очарован норой, я люблю нору, особенно долгие-долгие вечера, когда можно затаиться ото всех где-нибудь в глубине, открыть очередную историю о похождениях Охотника, читать страницу за страницей, как он стрелял стремиетльных оленей, юрких зайцев и шустрых лис, слышать недовольное ворчание отца, опять ты жжешь свет, жда сколько же можно, тебе говорят, пообещать себе — обязательно-обязательно — что когда я стану взрослым, то буду читать, сколько захочу, и покупать книжки, сколько захочу, и никто мне ничего не сделает, никто-никто и ничего-ничего. Забираюсь на постель, раскрываю наугад толстый том на полке возле кровати, — так и есть, «охотник пришпорил своего Арбалета и направился в чашу, подернутую первыми проблесками зимы — чтобы увидеть, как стремительно ускользает в чаще рыжий хвост…»
— …вы читали… и представляли себя охотником на лис?
— Да, я даже сделал себе некое подобие ружья и нашел конскую голову, чтобы играть в охотника… — Тайно, конечно, чтобы никто не видел…
— И каково вам сейчас быть охотником?
— Ну, знаете ли… с одной стороны я, конечно, в восхищении, что мечты сбываются, а с другой стороны… как бы это сказать…
— …еще не пробовали охотиться?
— Нет, категорически нет, об этом и речи быть не может.
— Соседи, наверное, смотрят косо?
— Да не то слово, косо… даже слишком косо…
— Не боитесь, что кто-нибудь пронюхает?
— Да похоже, что уже начинают пронюхивать… хотя мне кажется, что я не один такой, иногда мне кажется, что в Беате прослеживаются какие-то черты…
— …чьи черты?
— Ну… вы её не знаете… я даже не смогу произнести её имя…
— Её подстрелили охотники, не так ли?
— Верно…
— Тогда осмелимся предположить, что вы испытываете не только восхищение, но и…
— …вы совершенно правы… жажду мести…
— И именно поэтому вы убили Мерфи?
— Вы… вы с ума сошли… я не убивал никакого Мерфи… я…
— Его обнаружили сегодня утром мертвым у себя дома… кто как не вы мог сделать это?
— И все-таки это сделал не я.
— Мне ничего не остается кроме как арестовать вас.
— Это потому что я лис?
— Послушайте, мне нет никакого дела до того, лис вы или не лис, но я должен арестовать вас, потому что вы убили Мерфи.
— Бред… бред и ничего больше…
Смотрю на него, понимаю, что ничего не докажу, ничегошеньки-ничего, он повесит на меня смерть Мерфи, хорош следователь, ничего не скажешь, а ведь может, это его рук дело…
Тайна таинственного черепа
Задание №432. Переведите фразы из текста на язык фокс.
Фокс Фоксман считался величайшим пройдохой в Лондоне и его окрестностях, но тем не менее нынешний поступок моего друга (если я мог назвать этого хитреца своим другом) выходил за все мыслимые рамки…
…неизменно появлялся в пальто из твида, и я всякий раз думал, кто же был такой этот твид, из шкуры которого Фокс Фоксман справил себе отличное пальто…
…этот дом, как и большинство домов в Лондоне и его окрестностях когда-то состоял из огромных залов, впоследствии поделенных на уютные квартиры и комнаты. Как я понимал, у Фокса Фоксмана не было средств нормально переоборудовать помещения, и он так и остался в исполинских залах — чем очень гордился и говорил, что живет по-королевски. Я старался тактично не упоминать, что зимой в этих залах становится невыносимо холодно, и никакого очага не хватит, чтобы согреть такие хоромы…
…он уверял, что нашел этот череп, роясь у себя в саду — чему я был нисколько не удивлен, потому что помимо плутовства Фоксмана отличала небывалая страсть к рытью в саду. Он даже получал какие-то награды на соревнованиях по копанию, — впрочем, наград на состязаниях по краже кур у него было намного больше…
…одного взгляда на этот череп было достаточно, чтобы сказать себе — это подделка, мистификация, не более того.
Мы выручим за этот череп кучу денег!
Я даже не удивился, когда увидел на пороге двух констеблей, облаченных в неизменные твидовые пальто, и в который раз подумал, что за зверь такой этот твид, из которого делают пальто. Мне даже захотелось попробовать себя в охоте на твида, или устроить состязания по охоте на твида, в которых Фокс Фоксман, разумеется, возьмет главный приз.
Вы обвиняетесь в подделке черепа.
Никто и никогда не видел подобных существ, следовательно, это искусная мистификация.
Я понял, что должен всеми правдами и неправдами вызволить из заточения своего друга, чего бы мне это ни стоило. Хотя к стыду своему признаюсь, на какие-то несколько секунд я подумал о том, чтобы оставить все, как есть, в конце концов, Фокс Фоксман сам сделал все возможное, чтобы подвести себя к этому трагическому финалу.
Ну и жалкий же вид был у Фокса Фоксмана, когда я его увидел — уши, обычно торчащие торчком, повисли, как у побитой собаки, роскошный рыжий хвост висел как грязная тряпка, шерсть потеряла свой золотистый блеск.
Да будет вам известно, что подобные черепа валяются по всему Лондону и его окрестностям — детишки играют с ними, домохозяйки делают из них фонари, подсвечники и горшки для цветов, а вы говорите, что это подделка!
Наконец-то я остался с Фоксом наедине.
Фокс, дружище, как ты не понимаешь, что если ты признаешься в подделке, то отделаешься крупным штрафом, не более того, а если ты докажешь всеми правдами и неправдами, что это реальные останки, то тебе грозит немалый срок за осквернение могилы!
Ты что, хочешь, чтобы я сказал неправду?
Друг мой, Фокс, можно подумать, за всю свою жизнь ты сказал хотя бы слово правды!
Ну, то была одна неправда, а то совсем другая неправда, это две разные неправды, понимаешь?
Друг мой, — Фокс воздел белые лапки к небу за стенами темницы, — ты понимаешь, где мы находимся? Нет, что в тюрьме, это понятно, и что в Лондоне, это тоже понятно… но что за история сейчас происходит с нами? Где ты в реальности видел, чтобы по Лондону бегали говорящие лисы, носили твидовые пиджаки и продавали черепа, которые светятся по ночам? Теперь ты понимаешь, что мы находимся в самой что ни на есть сказке? Ты понимаешь, что эти черепа еще себя покажут, и мы станем свидетелями удивительных чудес?
Ну, хорошо, признаюсь, я подделал этот череп… хотя на самом деле ничего подобного.
Приговаривается к штрафу в размере…
Кажется, мой плутоватый друг был немало раздосадован тем, что ему пришлось расстаться со своими роскошными апартаментами, и переехать в комнаты поскромнее. Может быть, его и радовало то, что в новой квартире было тепло, но Фокс Фоксман не показывал это ни единым движением кончика усов.
Друг мой, клянусь тебе, этот череп должен себя показать, ведь недаром мы находимся в сказке!
Охота на твида? Да что ж ты сразу не сказал! Хорош дружочек, ничего не скажешь! Да мы заработаем на этом дельце миллионы, не меньше! Это будет почище охоты на Снарка!
Я изо всех сил старался сделать вид, что разделяю энтузиазм моего друга, хотя ничего подобного не испытывал — сияющий череп буквально завладел моими мыслями, я не мог думать ни о чем кроме него — смотрел на останки неведомого существа и ждал, что произойдет какое-то чудо, — но все оставалось неизменным…
Анкх-аунт
…все та же надоедливая мелодия, снова и снова, снова и снова, да хватит уже…
…выволакиваю себя из небытия, вижу телефон, что он здесь делает, это вообще мой телефон или чей, вроде бы не мой, но эта надоедливая мелодия, чтоб ей провалиться…
Не выдерживаю, жму на экран, где здесь ответить на вызов, где-где-где, жму на зеленую трубку, ни черта не происходит, вспоминаю что-то давно забытое, а может, никогда и не известное, жму на кружок в центре, веду пальцем до зеленой трубки, ну только попробуй не сработать, уже не знаю, что я с тобой сделаю…
Говорю, ни на что не надеясь:
— Алло.
— Телефон мой верните немедленно! — динамики взрываются женским визгом, — у вас вообще ни стыда, ни совести!
Осторожно спрашиваю:
— А вы… а вы кто?
— Вы еще и издеваетесь, что ли?
— Ни в коем случае, что вы…
— Ничего, что это мой телефон?
— Очень рада.
— Так верните немедленно, черт бы вас побрал! Вообще ни стыда, ни совести у людей нет…
Хочу сказать, что если со мной будут так разговаривать, то черта с два я кому-то что-то возвращать буду. Не говорю, вместо этого спрашиваю как можно спокойнее:
— Вы… вы где?
— В смысле?
(да не визжи ты так, не визжи)
— Ну… адрес ваш?
— Вот так, я ему еще и адрес свой говорить должна!
— Ну а как я вам телефон верну?
— Вы сами сейчас где находитесь?
— Я… э-э-э… — хочу ответить, тут же осекаюсь, понимаю, что вообще не знаю, где я нахожусь. Оглядываю пустую комнату, толкаю дверь, ни на что не надеясь, так и есть, заперто…
— Слушайте, а я не знаю, где я…
— Да вы издеваетесь, что ли?
— Нет, я правда не знаю… меня заперли где-то…
— Да я сейчас милицию вызову! — телефон взрывается криком.
Спохватываюсь:
— Вызывайте, обязательно вызывайте, скажите, что меня тут заперли!
Короткие гудки, чер-р-т… пытаюсь перезвонить, понимаю, что номер не определился. Снова оглядываю свою тюрьму, пытаюсь вспомнить, как я сюда попала. Ничего не вспоминается, хоть убей, совсем ничего, но ведь было же у меня что-то кроме этой комнаты без окон и запертой двери, вспомнить бы еще, что именно…
Минуты растворяются в вечности, захлебываются в ней без остатка. Кажется, успеваю погрузиться в сон, потому что снова просыпаюсь от надоедливой мелодии, в которой чудятся все те же секунды, падающие в вечность, тинь… тинь-тинь-тинь-тинь… тинь…
Я уже знаю, что делать, нажать на круг в центре, провести пальцем до зеленой кнопки, сказать:
— Алло?
— Да вы мне телефон вернете, или нет?
Откашливаюсь:
— Послушайте, да я вам с удовольствием его хоть сейчас верну, я отсюда выбраться не могу!
— Да я сейчас в полицию позвоню! — динамики снова взрываются грозным окриком.
— Так звоните, звоните, чего вы ждете-то? Вы хоть понимаете, что меня здесь заперли с телефоном вашим?
— И правильно, и нечего телефоны чужие воровать!
— А кто вам сказал, что это я? Меня саму тут взаперти держат, я позвонить не могу никому…
— А вы… а вы где находитесь?
— Да то-то и оно, что не знаю я… Слушайте, а ведь это можно по телефону как-то вычислить, я только не знаю, как это делается обычно… вы только в полицию позвоните… они разберутся…
Телефон пищит, понимаю, что заряда осталось мало, катастрофически мало, добавляю:
— Поторопитесь… пожалуйста.
Отключаюсь. Жду непонятно чего. Мне кажется, или комната стала меньше, нет, это только кажется, она не может стать меньше, и потолок не может стать ниже, нет, нет, нет. стены не могут ползти, мне это только кажется, черт меня дери, мне это только кажется, кажется, кажется, это неправда, неправда, неправда…
Смотрю на телефон, ну, черт возьми, ну зазвони уже, давай, зазвони, ну сколько там можно в полицию названивать, не несколько же вечностей подряд, хотя кто их знает, сейчас начнется у неё там, все операторы заняты, ваш звонок очень важен, ваша позиция в очереди сто миллиардов двести триллионов какая-то, тинь… тинь-тинь-тинь-тинь-тинь… Хоть бы услышать это тинь-тинь-тинь, уж на что бесит меня эта мелодия, хоть бы услышать…
Тинь…
— Алло?
— Слушайте, вы уж определяйтесь как-нибудь, или вы просите полицию вызвать, или требуете не вызывать!
— Так я прошу… очень прошу…
— А что вы мне сообщение пишете, чтобы я в полицию звонить не смела?
Холодеет сердце:
— Я… не писала… честное слово…
— А кто? С вашего же номера! С моего, то есть, потому что это мой телефон!
Вспоминаю, спохватываюсь, только сейчас понимаю, что это мой телефон, еще какой мой, что я, не помню, что ли, как я его выбирала, продавец еще лебезил на полусогнутых, вот, отличный дизайн для девушки, розовый, с цветами — рыкнула на него так, что мало не показалось, вы мне про расширение камеры скажите, а не для девушки, нашли дуру, думал, буду визжать от восторга, что телефончик розовенький… убила бы… а ведь правда хороший оказался, то, что надо…
Листаю телефон, галерею, так и есть, мой телефон, кто еще в здравом уме будет фотографировать дворы-колодцы, арки, ведущие в никуда, крыши высоток, панорамы ночного города, лабиринты лестниц. Комната сжимается еще больше, комната грозно напоминает, что времени у меня не так много, и некогда решать, чей это телефон, да я ей вообще «Пульсар» этот подарю, я ей что угодно подарю, пусть только вытащит меня отсюда…
Присматриваюсь к телефону, смотрю на время, это не время, потому что время не может идти в обратную сторону, 23:12, 23:11, 23:10… Стены еще чуть-чуть сползаются в мою сторону, я даже слышу едва различимый шорох.
— Это… это не я… слушайте, это этот, который меня похитил, и взаперти держит, вот! Это он пишет, это не я!
— Вот… он пишет, у вас двадцать минут осталось…
Меня передергивает, могла бы и не говорить…
— А вы можете ему в ответ написать, что он хочет вообще?
— Сейчас, спрошу у него…
Телефон отключается, снова остаюсь наедине с пустотой, смотрю на экран, 18:57, 18:56, 18:55… чер-р-рт…
Тинь-тинь-тинь, пожалуйста, ну пусть будет тинь-тинь-тинь, ну пожа-а-а…
Тинь…
— Алло…
Ну, ничего себе! Вы хоть знаете, сколько он за вас затребовал!
Спрашиваю с надеждой:
— А… а у вас столько есть?
— Слушайте, ну, может, у вас родственники есть какие… вас как зовут?
— Эмма.
— Надо же, и меня тоже… а полностью как? Ну там, фамилия, имя, отчество?
— Линк Эмма Игнатьевна…
— Да вы издеваетесь, что ли?
Короткие гудки.
— Чер-р-рт…
Номер не определен — вызвать, номер не определен — вызвать, номер не… телефон отключается окончательно и бесповоротно, остаюсь в полной темноте с надвигающимся стенами. Хочется колотить в стены кулаками, бью несколько раз, сильно, больно, — мне кажется, или движение ускоряется, кто-то играет со мной, понять бы еще, кто именно…
Вспомнить. Вспомнить о себе хоть что-нибудь. Эмма, Эмма Игнатьевна, то есть, так меня еще никто не называет в двадцать лет, фотограф, вечные усмешки, фоторгаф, это не профессия, а нормальную работу когда себе найдешь, а мне фотки сделаешь, что значит, две тысячи, мы же родственники, помогать друг другу должны, да провались они, все родственники и поглубже… стоп, нет, нет, родственники, милые, ненаглядные, я вам всю жизнь бесплатно фотки делать буду, только вытащите меня отсюда кто-нибудь…
Тинь…
— Алло?
Слушайте, ну этого быть не может, чтобы нас звали одинаково… а год рождения какой?
— Две тысячи второй. Вы только не отключайтесь, пожалуйста, ну я вас умоляю просто…
— А дата?
— Тридцать первое октября.
— Ну, ничего себе… это розыгрыш какой-то, честное слово, это же я Эмма, ну девшука, вы меня разыгрываете…
Хочется заорать, что это вы меня разыгрываете, и вообще, это вы меня сюда засадили, и теперь издеваетесь, быстро выпустите меня отсюда, а то я… а то я… ничего я вам не сделаю, куда я денусь…
Чувствую, как стена касается моего плеча, отодвигаюсь, упираюсь в другую стену, хочется кричать.
— А сколько тебе лет? — голос в динамике.
— Двадцать один будет. А вам?
— Ну что ты, неприлично такое спрашивать…
— А вы первая спросили!
— Ну, ты молодая еще, а я…
Меня передергивает, вот ты какая, значит…
— Ну а все-таки?
— Ну, сама посчитай, какой сейчас год? Сто семьдесят четвертый, вот и считай…
Меня снова коробит, какой, к чертям, сто семьдесят четвертый, кто из нас с ума сошел, она или я…
Не выдерживаю, выпаливаю:
— Столько не живут же…
— Да ну тебя совсем!
Короткие гудки. Черр-рт…
Стены касаются плеч.
Терзаю телефон, ищу уже сама не знаю что, найдется все, сегодня — десятое апреля две тысячи сто семьдесят четвертого, с ума сойти можно. Набираю дрожащими руками, Линк Эмма Игнатьевна, поисковик услужливо выдает мне мириады аккаунтов, буквально случайно натыкаюсь на свою фотографию, смотрю год рождения, совпадает, год смерти… стоп… две тысячи девяносто восьмой… это еще что за знак на аккаунте, перывй раз вижу такой крест с петлей наверху, найдется все, посмотрим-посмотрим, анкх, сакральный символ, знак бессмертия, ставится на аватары послежизненных, это еще что такое…
Начинаю понимать.
Начинаю догадываться.
Нажимаю «вызвать» уже ни на что не надеясь, вздрагиваю, когда она (то есть, я) отвечаю:
— Алло.
— Послушайте, я вас умоляю…
— И даже не просите… ну вы же понимаете, что если я вам деньги переведу, у меня вообще ничего не останется?
— Я вам возмещу…
Думаю про себя, интересно, как. Стены сжимаются, приходится сесть на корточки, поджав колени, чтобы не чувствовать стен.
— Да вы хоть понимаете, что меня тогда сотрут ко всем чертям?
Внезапная догадка, ну, конечно же…
— А вы хоть понимаете, что вы — это я, и если меня здесь раздавят, то и вас не будет?
Кто-то в динамике давится собственным голосом.
— Слушайте, ну вы меня разыгрываете, честное слово…
— Что-то прорывает внутри, хлещет потоком:
— Да это вы меня разыгрываете, это вы меня сюда засадили, а теперь издеваетесь надо мной! зачем вы это вообще делаете? Зачем? Зачем? — не договариваю, слезы льются градом…
00:45, 00:44, 00:43…
Стены мягко касаются со всех сторон, еще не сдавливая…
Тинь… тинь-тинь-тинь… тинь…
На ваш счет переведено…
Снова терзаю поисковик —
Линк Эмма Игнатьевна.
Аккаунт удален.
Моя настоящая память распахивается настежь, иллюзия каменного мешка рассевается — с наслаждением вытягиваюсь во весь рост. Смотрю на свой аккаунт с анкхом, ваш баланс составляет… отлично, отлично… Подыскиваю следующую жертву, вот, например, Антипенко Олег Павлович, над хорошенько изучить его аккаунт, пропустить его память через себя, заглушить свою собственную память, замереть на маленьком островке посреди бездны — я еще не знаю, что скоро он начнет осыпаться — ждать, когда услышу тинь… тинь-тинь-тинь…
Когда я стану властелином мира…
Когда я стану властелином мира, у меня все будет по-другому.
Я еще точно не знаю, как именно — но по-другому.
Я знаю точно одно — правила игры:
Если я не убью его, он убьет меня.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
