
Бесплатный фрагмент - Царь сцены — талантливый артист
ЦАРЬ СЦЕНЫ — ТАЛАНТЛИВЫЙ АРТИСТ
Мне повезло: жизнь моя состояла из отдельных фрагментов, каждый из которых был наполнен своим, только ему свойственным смыслом. Например, один фрагмент: воспитание сына, нежное взаимопроникновение души в душу, пока в одно летнее утро я не проснулась с легким чувством полета — и не поняла, что эта часть моей жизни окончена, я дала ему все, что могла. А дальше мы — просто лучшие друзья.
Долгие поиски работы в тяжелые, но счастливые — молодость! — годы. Кстати, вот это фрагмент отличался тем, что я познакомилась со многими интереснейшими людьми. Работы нет, мы с сыном как два бездомных котенка слоняемся по городу, в котором случаются неожиданные и прекрасные встречи, некоторые из них подарили мне друзей на всю жизнь…
Ну, и так далее.
А одним из счастливейших стал тот чудесный десяток (ну, чуть поболее) лет моей жизни, когда я работала в отделе культуры газеты «Республика Башкортостан». Меня и взяли-то, как сказали, чтобы я вылавливала приезжих знаменитостей, потому что такие материалы очень читаются подписчиками из районов. Но вылавливать как-то не пришлось — в первые годы, по крайней мере. Все они охотно шли на общение и ни один, слышите, ни один никогда не позволил себе развязной вольности, грубого слова да вообще намека на оскорбление настырной в меру, но, скажем, не наглой журналистки. Я не лезла в их личную жизнь, она и не была мне интересна: ну, скажите, чем так захватывающа история о том, что соседский дядя Петя женился в третий раз, а его бывшая пообещала нынешней оставить коварного изменщика без штанов и последней рубашки? Артисты — те же люди.
Мне всегда было интересно, как из-за грима и костюмов выглядывает нежнейшая материя их душ. Как разрывая эту материю в клочья, они умирают на сцене в …тый раз, а потом встают на поклоны, медленно приходя в себя или, напротив, чуть не взлетая от обурных потоков обожания, льющихся из зала. И все-таки возвращаются в этот мир, а надо бы по дороге домой зайти в магазин, и сын, зараза, двойку принес, и плечо что-то побаливает после вчерашнего неудачного падения…
Мои любимые. Спасибо за то, что усевшись в бархатные кресла, мы забываем о своих магазинах и двойках, и плачем, сами не зная почему. Ведь все это обман, придуманный автором, режиссером, костюмером, осветителем для того, чтобы вы в очередной раз вышли на сцену, забыв себя и видя только сотни устремленных глаз, встречающих Отелло, Онегина, королев и Золушек…
Этот сборник — из интервью, взятых за годы моей работы журналисткой. Мне горько их перечитывать: многих, с кем я имела счастье общаться, уже нет и это потеря для меня — потеря близкого человека, настолько я сроднилась с особым запахом кулис и суетой перед спектаклем.
Но чтобы не заканчивать предисловие на печальной ноте, вспомню один из тех забавных моментов, который случился со мной во время визита в Уфу блестящего рассказчика, эрудированного, интеллигентного Святослава Игоревича Бэлзы. Он приехал к нам, чтобы вести один из концертов в театре опеы и балета. Пресс-конфереренция близилась к концу, о предстоящем концерте было все сказано, журналисты тоскливо поглядывали на Бэлзу, понимая, что сейчас он встанет и более тесного общения не случится. Стол для гостей стоял на небольшом возвышении и Бэлза уже встал, чтобы спуститься в холл. Набравшись духа и храбро выпятив грудь, я преградила ему единственный путь к свободе. Бэлза удивленно поднял бровь.
— Это… У меня взятка и просьба, — пролепетала я.
Бэлза удивился еще больше. Я протянула ему небольшой пакетик и продолжила: «Вот взятка, а просьба — не могли бы вы дать небольшое интервью?» Святослав Игоревич заглянул в пакетик, радостно улыбнулся, пошептался с сопровождающими его лицами и сказал: «Ну, вы, со взяткой, идите сюда, садитесь, спрашивайте». Позади взволнованно сопели коллеги. Мы проговорили полтора часа.
Я «купила» интервью очень недорогой ценой: готовясь ко встрече, прочитала в интернете, что Святослав Бэлза, как и его папа собирает сувенирных котиков. В пакетике и лежал такой котик: стеклянный, забавный, рыжий. «Уфимских котиков у меня еще не было», — Святослав Игоревич был доволен, но как довольная была я!
Пока же поделюсь с вами своим счастьем общения с замечательными людьми, чья жизнь, любовь, призвание, судьба — творчество.
Александр Галибин: «Николай II для меня человек, взошедший на Голгофу»
2005 год
При упоминании имени Александра Галибина один мой знакомый радостно воскликнул: «Ну как же, Пашка-Америка!», настолько ярко и незабываемо дебютировал молодой актер на киноэкране в 1977 году. Строго говоря, это был и не дебют. Первым фильмом Александра Галибина еще во время учебы в ЛГИТМиКе был фильм «И другие официальные лица», но Пашка-Америка в дуэте с молоденькой и милой Мариной Дюжевой оставил просто незабываемый след в сердцах участливых зрителей. С этого мы и начали наш разговор с главным режиссером Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина Санкт-Петербурга, гастроли которого с успехом прошли недавно в Уфе.

— Ваш герой из кинокартины «Трактир на Пятницкой» вызвал сострадание и симпатию, в то время как попытки нынешних режиссеров привлечь внимание зрителей к нелегкой жизни братков, как бы человечно их ни изображали, вызывают только чувство омерзения и недоумения.
— Я, честно говоря, редко смотрю наши многочисленные сериалы вроде «Бандитского Петербурга» или «Бригады». Жалко времени, хотя, безусловно, там играют талантливые артисты. Что касается старых фильмов, то персонажи в них все-таки идеализированы. Рецидивисты показаны не страшными, а как бы отстраненными от нынешней действительности. Сегодняшний криминал в сериалах реален, узнаваем, и это отталкивает, вызывает тревогу.
— После окончания школы вы, хотя и со второй попытки, поступили в престижный театральный вуз, значит, путь уже был выбран. Понятно, что практически все девочки в то время мечтали стать актрисами. Но как юноша дошел до жизни такой?
— Все было достаточно просто. С первого класса я перепробовал множество кружков в Ленинградском Дворце пионеров: пел, фехтовал, занимался боксом, моделированием, легкой атлетикой, ходил в радиокружок. А в 12 лет, попав в театр юного творчества, понял, что поиск завершен. Коллектив, созданный М. Дубровиным полвека назад, — удивительное явление в нашей жизни. Из него вышло много талантливых людей, в том числе и знаменитый ныне режиссер Лев Додин. Помню, что родители мои к такому выбору отнеслись тогда без восторга, но терпимо. Спасибо им за понимание. Отец, зная мой упрямый характер, сказал только: «Время покажет». Так что особой поддержки у меня не было, мои удачи — это мои удачи, мои шишки — это мои шишки.
— По окончании ЛГИТМиКа вы достаточно стабильно снимались, участвуя иногда в двух фильмах в год. Что заставило уйти в режиссуру? (В 1992 году Александр Галибин окончил режиссерский факультет Российской академии театрального искусства в Москве, мастерская Анатолия Васильева).
— Это был конец 80-х — начало 90-х годов, жизнь резко менялась. Менялось и отношение к профессии актера. В том числе и мое. И я сделал тогда важный для себя выбор.
— Интереснее быть режиссером или актером? А кем труднее?
— Режиссура, в общем-то, содержит в себе элементы актерства, и при этом режиссер — фигура самодостаточная. А насчет трудностей… Можно, конечно, собрать группу одаренных людей, поставить достаточно значимый спектакль, но это будет одноразовый успех. Режиссура — наука, длинный путь во времени. Режиссер ищет точки соприкосновения с миром, строит как бы систему координат по отношению к жизни и к самому себе, выражая свое отношение к миру через спектакль.
— Вы ставили не только драматические, но и оперные спектакли. Я имею в виду «Пиковую даму» на сцене «Мариинки». Не хотите снять и художественный фильм?
— Я поставил еще «Снегурочку» в той же «Мариинке». А фильм, конечно, снять хочу и сниму. Формы реализации могут быть самыми разными.
— Что вам больше нравится ставить — современных авторов или классику?
— Я ставил много современных спектаклей. Не занимаюсь поисками на сцене образа героя нашего времени, он многолик. В пьесе должны быть персонажи, отражающие дух времени, совпадающие с какой-то частью окружающего мира, но такой драматургии, к сожалению, все меньше. Классику я люблю — это на века. Потому поставил «Нору», мне дорога в ней тема семьи, свободы и права человека на свободу, тема красоты человека, через нее пытаюсь передать вечные истины.
— Как вы считаете, будущее российского театра — антреприза или все-таки стационарный театр, а может быть, и то и другое?
— Репертуарный театр, безусловно, будет всегда. Другое дело, что необходимость театральной реформы давно назрела, и театры должны будут выбирать путь своего развития, учитывая, что реформа — это не разрушение, это созидание. В связи с этим должен появиться и другой тип художественного руководителя. Ведь театр — огромный, очень своеобразный организм, тащить его за собой вперед способна выдающаяся личность. Сейчас таких мало.
— Если появляется свободное время, на спектакли каких режиссеров вы предпочитаете ходить?
— Я не хожу смотреть работы конкретного режиссера, если есть свободное время, смотрю постановки, ставшие событием в театральной жизни, которые пропустил по каким-либо причинам.
— Легче работать с актерами, если сам являешься актером?
— В общем, когда знаешь жизнь и по ту и по другую сторону рампы, это помогает, но иногда и мешает. Я мягче там, где нужно проявить твердость.
— Наверное, с каждым театром связаны какие-либо байки, легенды, мистические истории, и «Александринка» не исключение…
— Не могу конкретно рассказать какой-нибудь случай. Но, безусловно, театр — это живой организм. Там, конечно, живут тени людей, работавших на той или иной сцене, в пустом зале слышны шорохи, звуки, скрипы. Это особый мир, мир со своей историей. В будущем году «Александринка» отмечает 250-летие. Указом Елизаветы Петровны она получила статус первого российского государственного театра. Четверть тысячелетия — это почтенный возраст. Наш театр уже не просто театр, это театр-дом, театр-музей.
— В романе Коллинза «Женщина в белом» у одного любопытного персонажа на все случаи жизни была единственная книга «Робинзон Крузо», и к ней он обращался в минуты радости и печали, в ней искал ответы на все вопросы. Есть ли такая книга у вас?
— Да, можно сказать, есть. Это Библия, но я отношусь к ней не как к догме. Это книга, в которой можно найти ответы практически на все случаи жизни.
— Говорят, плох солдат, не мечтающий стать генералом, актер, не мечтающий сыграть Гамлета. Есть ли для Александра Галибина роль-мечта и спектакль-мечта?
— Если бы тот или иной спектакль или роль были мне неинтересны, я просто не взялся бы за них. Тот же спектакль так, походя, не поставишь, слишком много задействовано людей, средств, сил. Если нет увлеченности — нет успеха. Я отвечаю за каждую роль и за каждый свой спектакль.
— В 2000 году вы сыграли очень масштабную, трагическую роль последнего российского царя в фильме Глеба Панфилова «Романовы — венценосная семья». Как вам работалось с Глебом Панфиловым, каким виделся образ Николая II — символом, мучеником, несчастным человеком?
— Я благодарен Глебу Панфилову за возвращение в кино. Для меня на публике появиться как актеру очень непросто, да еще в такой роли. Глеб Панфилов многому научил меня и как режиссера, и как актера. Это человек и мастер, безусловно, талантливый и мудрый. Что касается роли Николая II, для меня последний российский император — прежде всего человек культурный, образованный, преданный стране, семье, много сделавший для России, личность неординарная и глубоко трагичная, человек, взошедший на Голгофу.
— Не тянет ли вас иногда заглянуть в будущее, что-то изменить в жизни?
— Я думаю, жизнь моя идет своим чередом, и внутренне позволяю случиться тому, что должно случиться.
Станислав Куняев: «Стихи пишутся неоскорбляемой частью души»
2005 год
У нас в гостях — Станислав Юрьевич Куняев, поэт, литературный критик, переводчик, главный редактор журнала «Наш современник», лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького.

Куняев — фигура неоднозначная. Кто-то называет его лидером современной патриотической литературы, кто-то резко не приемлет его жесткую манеру отстаивать свою точку зрения всеми способами, вплоть до рукоприкладства, и способность в глаза выражать симпатии и антипатии. Ясно одно: как бы ни относились к нему, он остается личностью с ярко выраженными лидерскими качествами и своеобразной точкой зрения на интересующие его вопросы, с достаточной силой воли, чтобы эту точку зрения отстаивать. В дни Аксаковского праздника писатель побывал в Уфе.
— Станислав Юрьевич, Россия богата талантами, любой уголок страны может похвастаться выдающимися людьми. Чем вас привлек именно Аксаковский праздник?
— Сергей Тимофеевич Аксаков вообще занимает особое место в русской литературе. Талантливых писателей у нас много, но все же самые крупные литераторы всегда старались решать глобальные, скажем, мессианские задачи — связанные с ролью России в мире, с загадками русской истории. Сергей Тимофеевич же, опираясь на свои личные переживания, свое детство, юность, описывал, казалось бы, бытовую сторону жизни. Но вдруг именно это направление оказалось таким плодотворным и глубоким, что он, в сущности, стал основоположником целого литературного жанра, который затем нашел воплощение в произведениях Тургенева, Бунина, Льва Толстого. Так получилось, что описывая патриархальные устои — домашние, семейные, бытовые, Сергей Тимофеевич очень близко подошел к загадкам русской души. Мы живем в апокалипсическое время, время, когда рушатся империи, стремление властвовать приобретает глобальные масштабы. И эта устойчивость, надежда на счастье и согласие, которыми пропитаны произведения Аксакова, крайне необходимы каждому народу, каждой семье, поэтому он — не писатель прошлого дня, он — писатель живой и, может быть, для будущего сделает не меньше, чем другие русские гении. Он был человеком света, высокой простоты души, а именно света сейчас так не хватает.
— На полки книжных магазинов хлынул поток книг самых разных жанров и направлений, в аннотациях каждая преподносится как сенсация и несомненный бестселлер. Как в таком разнообразии отличить плохую книгу от хорошей?
— Я бы сказал, «хорошая» или «плохая» книга — термины сомнительные. Скажем, есть книги живые и книги механические, мертвые, тут оценка идет, скорее, на подсознательном уровне. Да, много хлынуло книг с Запада, с умелой завязкой, лихо закрученным сюжетом, но все это жизнь ненастоящая, виртуальная реальность. Вообще, род человеческий ослабел духом, это коснулось и России, и наша задача, задача русской классики — не дать этому ослаблению духа окончательно разрушить человека. Я думаю, что все-таки в России есть на это надежда, потому что она сохранила большой резерв духовности. Западные писатели тоже не сразу сдались, была литература Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека, Вульфа, но американское общество решило, что подобная литература слишком сложна для обывателя и сделало ставку на массовую культуру, и, в конечном счете, то великое, что зарождалось в Америке, зачахло, угасло. А мы все-таки тянем, поддерживаем традиции русской литературы на современном материале, эта ниточка у нас еще не оборвалась.
— Лев Анненский задолго до перестройки высказал мысль, казавшуюся тогда возмутительной: когда отменят цензуру, литература будет конъюнктурной. Его быстро заклевали, но в результате что же получилось — литература действительно творит, в основном, на потребу массовому читателю. Насколько же велик процент этой самой конъюнктурщины на книжных полках?
— Количественно она действительно занимает большое место, но ее слабость заключается в том, что такая книга устаревает через два месяца, нужно писать дальше и дальше, иначе как писателю тебе — смерть, тебя забудут.
— Действительно ли конъюнктура — это так страшно? Вот Акунин: пишет легко, захватывающе, изящно — читателя все же и развлечь надо…
— А вы знаете, сколько романов написал Акунин?
— Ой, много!
— А у Шолохова назовем «Тихий дон» — и все, ему и писать больше ничего не надо было, это уже писатель с большой буквы.
— Хочется понять: вы не боитесь отстаивать свою точку зрения в силу характера или благодаря сложившейся гражданской позиции: «Ну, кто, если не я?».
— И это чувство тоже есть, но главным для меня, определяющим является поиск истины, и, если я убедился в том, что иду в правильном направлении, меня уже не остановить, это придает мне силы.
— А у сильной личности есть слабые стороны?
— Да, Господи, полно, но лучше всех про это знает моя жена. Я очень часто переоцениваю свои силы, иногда самонадеян, особенно, когда во что-то уверую, готов голову себе разбить, поэтому порой терплю и поражения.
— В 1989 году вы стали редактором «Нашего современника». Редактор — это больше все же администратор, хозяйственник, нежели человек творческий. Удается ли вам совмещать руководство одним из ведущих литературных журналов и деятельность писательскую?
— Редакторы бывают разные. Я, можно сказать, играющий тренер, пусть скорость не та и не тот глаз, но за счет опыта можно многое сделать. И, знаете, издание журнала — это тоже творчество. Мы обсуждаем каждый номер, ищем, какой материал поставить, куда, как он соответствует другим материалам. У нас очень демократичный коллектив, каждый имеет право высказаться. Мой коллектив — это целый оркестр, пускай я дирижер, но без оркестра и дирижеру делать нечего.
— Да, взаимоотношения с коллегами, единомышленниками, может быть, процесс и плодотворный, а вот с чиновниками ведь музыку не сыграешь…
— Вы знаете, я стараюсь как можно меньше в этот мир влезать. Наша подписка дает почти все необходимые средства, поэтому, к счастью, унижаться не приходится, разве что в редчайших случаях. Около 50 процентов авторов у нас из Иркутска, Уфы, Орла, они постоянно публикуются, а значит, пропагандируют наш журнал — у нас хорошая, крепкая опора на местах.
— В начале 90-х годов вы с сыном Сергеем написали биографию Есенина. Поэт пишет о поэте — это, по-моему, правильно и интересно, но почему именно Есенин?
— Когда началась перестройка, снова возник пресловутый русский вопрос: что и почему опять случилось в России? Ответить можно, только разгадав тайны и противоречия национального характера, а русский характер нужно изучать по жизни и судьбе самых крупных, противоречивых, трагических фигур нашей истории. В начале ХХ века я считаю такой фигурой Сергея Есенина, которого любят все, но по-настоящему знают немногие: его убеждения, сильные и слабые стороны, множество проблем… Есенин жил так же, как и мы, в эпоху перемен. Чтобы предугадать закономерности сегодняшних пертурбаций, нужно знать революционную эпоху. О том, что наша книга интересна и нужна, говорит и тот факт, что она выдержала уже шесть изданий.
— В данный момент вашей жизни какие вопросы вас интересуют и как писателя, и как человека? Сейчас, насколько я знаю, вы не сочиняете стихов, но зато написали десять биографий для серии «ЖЗЛ», интересный и спорный двухтомник «Поэзия. Судьба России». Что за этап начался в вашей жизни? Пришло время прозы и анализа новых проблем?
— Да, сейчас я не пишу стихов. Они пишутся, как говорил Пришвин, «неоскорбляемой частью души», а с 90-го года моя душа постоянно чем-то оскорблялась. Оскорбление вызывает раздражение и желание нанести ответный удар, что позволяет мне, как писателю, сделать только публицистика, в ряде случаев — историческая проза. Я пытался отобразить свои чувства и свое время стихами, но увидел, что соскальзываю на прямую конфронтацию, а стихи, глубокие, объемные, лирические, не получаются. Я понял, что лучше того, что написал, больше не создам. Но, слава Богу, судьба дала мне возможность писать мемуары, быть историком (недавно написал книгу о наших взаимоотношениях с Польшей «Шляхта и мы» — поляки до сих пор меня проклинают), публицистом, исследователем, а что касается стихов — не хочу упрощать жанр, столь дорогой для меня. Лучше не писать политических стихов, а поразмышлять о сегодняшней жизни в прозе.
«Синяя птица»: Песни продаются со сцены, как в ларьках на рынке
2006 год
30 лет назад из каждого окна, похрипывая и подскакивая на ходу, заезженная пластинка тосковала: «Отшумел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла…» А белый пароход уносил на волнах мечты длиннокосых девочек в аккуратных школьных передничках, и неумело, ломающимися голосами, но от сердца эти песни пели мальчики в многочисленных ВИА, обязательных почти в каждой школе…
Трудно было представить, что в наше время повсеместного присутствия на сцене табора длинноногих супермоделей, лазерных спецэффектов, бьющих по глазам и начисто забивающих смысл песен, полный зал соберут шесть человек, которые просто будут стоять и петь, и зал неожиданно дружно, до мурашек по коже, нестройным хором подхватит: «Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда!» Тексты их песен незатейливы, но составлены с уважением к русскому языку, и даже Михаилу Задорнову, так любящему поизмываться над несуразностью современной попсы, пожалуй, не к чему придраться. В любые времена у «Синей птицы» был, есть и будет свой зритель, пришедший послушать живой голос и звук, незамысловатые песенки о вечной любви, уравнивающей все возрасты, — это, наверное, и называется классикой жанра. Руководитель ансамбля Алексей Комаров рассказывает о прошлой и нынешней жизни и поныне популярного ВИА.

— Вы начинали работать в советское время, когда цензура в своих запретах доходила до абсурда. Не могли бы вспомнить какие-либо курьезные ситуации по этому поводу?
— С цензурой мы столкнулись в самом начале существования коллектива, в 1975 году. Называлось это явление не цензура, а худсовет. У нас была готова к записи пластинка с четырьмя песнями, и худсовет забраковал одну из них, потому что текст ее показался неоднозначным. Трудно сказать, что они там усмотрели. Пластинку нужно было срочно спасать, заполнять образовавшийся пробел. Пожертвовав двумя не вписывающимися в формат куплетами, но зато, написав вступление, мы втиснули в маленький диск новую песню. Вот так свет увидела одна из наших самых популярных песен «Клен».
Да уж, худсоветы нам очень не нравились, а вот сейчас их не хватает. Причем не нам — их вам не хватает. Мы несемся в какой-то лавине шоу-бизнеса: прайм-таймы, рекламное время, рейтинги… Сегодня со сцены просто продается продукт, как в ларьках на рынке. И если понижение качества не влияет на количество продаж, это считается рентабельным. Я думаю, мы живем в переходный период, нужно какое-то время, чтобы количество денег, вложенных в эстраду, перешло в качество.
— Вы полагаете, тогда с нашей сцены исчезнут безголосые длинноногие «звездочки», бесполые молодые люди неопределенной ориентации?
— Да нет, никуда они не исчезнут, спрос на них всегда будет у части зрителей, просто они займут свое место в каких-то клубах, и, пожалуйста, пусть они будут известны, но не в таких масштабах и не на всю страну.
— Скажите, пожалуйста, чем был вызван столь длительный перерыв в вашей деятельности — с 1991 по 1999 год?
— У нас определенный слушатель, настроенный на спокойную, лирическую волну. Поклонникам, которые взрослели вместе с «Синей птицей», думаю, трудно было веселиться под наши песни в то время, когда на их глазах разваливалась страна, в которой они родились, любили, трудились и жили. Это было время, когда после «черного вторника» наступают «черные четверги». Мы ушли со сцены не по собственной воле, трудно было выходить в зал, заполненный лишь на треть. На пятки наступали тинейджеры, как-то очень лихо ориентирующиеся в ситуации. А нам не хватило опыта — в накоплении капитала (да мы его и не копили!), в общении с ОБХСС, не хватило наглости не возвращать взятые кредиты. К счастью, эти грустные времена позади, и мы безболезненно вернулись на сцену.
— Однако перерыв был довольно большой. Какими были ваши ощущения при возвращении на сцену?
— Мы с радостью поняли, что такой жанр, как вокально-инструментальная музыка, жив, востребован, потому что неотделим от молодости, первого свидания и первого расставания. Эти песни доказали свою состоятельность, выдержали испытание временем, и мы с удовольствием исполняем тот репертуар, что помнят и любят наши преданные поклонники.
Но мы вернулись на эстраду не только за счет старого багажа. Хотя, что греха таить, многие наши коллеги поступили достаточно просто: они взяли проверенные песни, адаптировав их к сегодняшнему слушателю, к современному звучанию. Мы записали и новый компакт-диск, мнения о котором были самые разные, что нас только радует. Нам не нужно поголовного поклонения — хватает слушателей, которым можно отдать тепло своих сердец и в ответ получить частичку их души.
— Вашему ансамблю 30 лет, а вы такие молодые…
— Да, на самом деле, знаете, даже наши прежние поклонники удивляются: «Нам уже столько лет, мы стареем, а вы нет…» Видимо, дело в том, что музыка, творчество стареть нам не дают.
— Определите, пожалуйста, свое творческое кредо.
— «Синяя птица» — это не коллектив с одним солистом. Это жанр, концепция, разработанные создателями ансамбля Робертом и Михаилом Болотными, и моя задача — сохранить коллектив в таком первозданном виде, не дать ему свернуть с этого пути и передать его в надежные руки. Я хочу, чтобы звучала Песня, пусть банальная, пусть наивная, но вечная, красивая песня о любви.
— Чтобы не сойти со сцены, жанр должен развиваться. Что нового привнесла «Синяя птица» в нынешний век?
— А вот мы как раз не хотим отступать от стиля, от жанра. Были попытки сменить имидж, название, сохранился даже плакат с надписью «Группа «Синяя птица». Мы на нем такие серьезные, неулыбающиеся. Успеха этот демарш не имел. Я считаю, мы оригинальны тем, что не теряем своего лица, сохраняем наработанное. Верность ориентира подтверждают зрители: слушатели на концерте просят нас исполнить уже новые, созданные после 1999 года песни, написанные в старом стиле. Как и в былые времена, мы ансамбль прежде всего вокальный.
— Где вы берете темы песен, для кого их пишете?
— Темы чаще всего автобиографичны, хотя, вообще-то, ситуацию можно и смоделировать. Адресуем их, прежде всего, женщинам, сидящим в зале, а мужчины, пришедшие на концерт, в чувствах солидарны с нами. «Синяя птица» для меня — это красивая мелодия, любовная лирика, сильный вокал. В нашей песне есть герой, и это рассказ о любви. 97 процентов наших песен — о любви, и только три процента — о счастливой любви.
— С кем из профессиональных композиторов и поэтов вам плодотворнее и легче работалось?
— Песни рождались и в самом коллективе, их писал Михаил Болотный, мы исполняли песни Симона Осиашвили, Роберта Рождественского, Вячеслава Добрынина, Юрия Антонова, Александра Жигарева, Михаила Пляцковского, Игоря Шаферана, Леонида Дербенева. Наиболее удачным был союз профессиональных композитора и поэта и профессионального исполнителя: каждый обладает талантом, и союз этих талантов обеспечивает максимальный результат.
Конечно, когда начались все эти хозрасчетные дела, исполнители стали собирать стадионы и получать соответствующие гонорары, композиторы не выдержали и запели. Не скажу, что это было плохо, но все-таки каждый должен заниматься своим делом.
Мы же продолжаем идти своим путем, с той лишь разницей, что в жизнь нашего коллектива вошли два основных правила, доказавшие свою дееспособность. Во-первых, мы следуем определенному распорядку жизни, исключающему все, что мешает творческому процессу, во-вторых, нам не хочется, чтобы коллективная деятельность обезличивала членов нашей группы — каждый из участников имеет право на свой проект, право на самовыражение в той или иной форме.
Даниил Крамер: «Я был замордован правдивыми лицами»
2006 год
Даже понедельник не кажется тяжелым днем, когда он завершается в Большом зале Башкирской филармонии, где зачарованная аудитория, как губка, впитывает нежно-вкрадчивые или стремительные, рассыпающиеся водопадом звуки джазовой импровизации и реагирует на них благодарными аплодисментами. Чувствовалось: сегодня сюда пришли не желающие отметиться и тем поднять свой престиж, небрежно упомянув: «Был на концерте такого-то. Неплохо, неплохо…», сегодня собрались друзья.
В отличие от строгих правил концертов классической музыки здесь позволяется аплодировать в любом месте, когда особо удачный пассаж сыграет на струнах вашей смятенной души или скрипка вдруг загрустит в унисон вашим печалям и горестям. А хлопать хотелось часто и много: ведь на рояле играл Даниил Крамер — заслуженный артист России, обладатель Европейской премии имени Густава Малера. Его сольные концерты и выступления с различными отечественными и зарубежными музыкантами проходили в Испании, Франции, США, Финляндии, Чехословакии, Италии, Германии, Швеции, Венгрии, Польше, Австрии, Австралии, Китае, в странах Африки и Центральной Америки. Даниил участвует во многих крупных международных джазовых фестивалях. Он — почетный член Сиднейского профессионального джаз-клуба, член джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция).
Компанию Крамеру на уфимской сцене составил Давид Голощекин. Давид Семенович не был в Уфе аж 25 лет и за это время стал единственным наиболее убедительным мультиинструменталистом (скрипка, тенор-саксофон, флюгельгорн, фортепиано, сопрано-саксофон, виброфон, карманная труба) в нашей стране и довольно заметной фигурой в мировом джазе. А созданная и руководимая им Филармония джазовой музыки представляет собой настоящую «джазовую Мекку» Петербурга.
Разговор с Даниилом Крамером состоялся во время короткого перерыва между репетицией и концертом.
— Как же началось увлечение джазом (а возникло оно у Даниила Крамера — академического пианиста, окончившего Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, еще в студенческие годы), ведь в начале 80-х довольно трудно было достать качественные записи профессиональных джазменов?

— Даже то, что я мельком где-то от кого-то слышал, было необычно: аккорды, непривычные тогда, эта волнующая меня, советского мальчика, свобода, которую я ощущал в этой музыке (собственно, я не отдавал тогда себе отчета, что именно свобода волнует, я не мог это так сформулировать, я был пацан).
Когда стал студентом, что-то стал понимать, хотя со всех сторон был замордован советскими газетами и правдивыми лицами, которые лгали в глаза. «Политика — искусство лгать» — это известно. Чем честнее лицо политика, чем убедительнее голос, тем больше он врет. И вот тогда эта музыка была для меня настолько удивительна, что казалось глотком свежего воздуха, воздуха душевного, музыкального. При этом я никогда не бросал классику и до сих пор не считаю себя полноценным джазовым музыкантом. Вот Давид Семенович — он настоящий джазмен. А я так — кусочек отсюда, кусочек оттуда, немножко от того, немножко от сего…
— Ваши джазовые кумиры тогда и сейчас. Пристрастия меняются…
— Я попал в общежитие Гнесинки и впервые услышал таких музыкантов, как Билл Эванс, Чик Кореа, Оскар Петерсен. Это совершенно отличалось от того, что я слушал в 1972 — 1974 годах в Харькове, где родился. Я купил пластинку «Джаз-оркестр «Шарпс энд Флетс». Это моя первая джазовая пластинка. А записаны на ней были, помнится, «Воздушная кукуруза», «История любви», словом, она являлась уменьшенным вариантом оркестра Поля Мориа, только в худшем исполнении. Но присутствовало на ней это магическое слово — джаз! Я послушал ее и понял: «Все, я знаю, что такое джаз!». В общежитие Гнесинки приходили ребята с совершенно другим уровнем знаний.
Понимаете, вокруг всего есть нечто, которое называется «около». Вокруг всего есть бездарность, есть средние личности, и дурак тот, кто по одному или двум впечатлениям судит о целом. Таким дураком и был тот советский мальчик, прибывший из Харькова. Много позднее я осознал: нужно тщательно все прослушать, изучить со всех сторон и только тогда робко сказать свое мнение.
— А сейчас вы по кому судите об уровне мастерства, по каким именам?
— Сейчас у меня за плечами около четырех тысяч собственных концертов, и то я не считаю себя полноценным джазменом. Я как был наполовину классик, так им и остался. Участвовал во многих фестивалях различного уровня, но до сих пор прислушиваюсь к мнению тех, кого считают высокопрофессиональным музыкантом, и свое мнение держу при себе.
— Одна из отличительных особенностей джаза — преобладание разговорных интонаций, подражание разговорной речи при игре. О чем разговаривают со слушателями Даниил Крамер и Давид Голощекин?
— Джаз, вообще, диалоговая музыка, в этом его специфика. Даже когда музыкант играет сам с собой, все равно в той или иной мере присутствует элемент диалога. Лично я рассказываю сказки.
— С хорошим концом?
— Когда играю я один — нет. Я не голливудский американец, не фабрика грез, я — россиянин и реально смотрю на жизнь. Когда играю с партнером, стараюсь понять, какую сказку мы рассказываем вдвоем. Вся джазовая музыка построена на принципе разговора.
— Что, на ваш взгляд, является критерием талантливого джазового музыканта? Можно ли за импровизацией скрыть слабое исполнение, так же, как в живописи зачастую за абстракционизмом прячется неумение рисовать?
— Конечно, так бывает, особенно в том, что мы называем свободный джаз — это, на мой взгляд, место для маскировки абсолютного дилетантизма, но, вообще, импровизация импровизации рознь. Вот года три назад кто-то мне рассказывал, что в Нью-Йорке успешно прошла выставка очень модного художника, который выставил 40 картин с отпечатками собственных ботинок. Ну, я не знаю, нужно ли для таких картин мастерство.
Когда импровизирует великий музыкант, это сразу понятно, когда импровизирует дилетант — тоже сразу понятно. Никогда еще ни одному дилетанту не удавалось скрыть от музыканта, что он дилетант. Вот от вас, от журналистов, удается. Вы можете наградить званием «Золотой голос России» певца, голосом не обладающего, а мы не можем. Мы — очень малоприятные люди в этом плане, суровые к себе, к окружающим, к друзьям. Мы говорим противные вещи, потому что так живем и для того, чтобы играть классную музыку. Нужно быть откровенным до отвращения человеком, чтобы уметь говорить: «Здесь нехорошо, здесь удачно». Слово «гениально» профессиональные музыканты употребляют настолько редко, а журналисты настолько часто, что это и показывает разницу в понимании.
— В одном справочнике я нашла такое определение: «Джаз — разновидность импровизационной и танцевальной музыки». То ли справочник не прав, то ли джаз действительно танцуют?
— А с этой точки зрения, румынская народная музыка — это джаз? Там тоже импровизируют, да еще и подплясывают. А русская народная музыка или любая другая? Это нулевое определение, оно не говорит вам ни о чем.
Чтобы понять, что такое джаз, нужно изучать его историю с истоков, от времен сотворения. Этот вопрос волнует народ и журналистов еще с 30-х годов. Он ставит в тупик любого джазмена, ведь невозможно ответить одной фразой. Луи Армстронг, по-моему, ответил гениально: «Если вы знаете, то вам нечего объяснять, если спрашиваете, то никогда не поймете». То же самое, если вы спросите, что такое классическая музыка, то же самое, если я буду считать, что журналистика — это искусство писать о людях. Верно ли это?
— Безусловно, нет. Джаз считался изначально «музыкой черных». Имеет ли сейчас место «расовая дискриминация» при приоритете афро-американских исполнителей или белые музыканты отвоевали свое место под джазовым солнцем?
— Джаз — это слияние двух музыкальных культур — европейской и африканской, возник на американском континенте и был подхвачен затем всеми. Изначально да, это была музыка африканцев, но сейчас это две равные части одного музыкального жанра: европейские наработки, то, что было накоплено к началу ХХ века, плюс неожиданные, не свойственные Европе, не характерные для нее африканские ритмы. Все это скрестилось на американском континенте в силу обстоятельств. Привезли рабов, они пошли в церковь. И что они там услышали?! Европейскую музыку! Интонации, ритмы джаза — от них, а гармония — из Европы. Вот и все. Симбиоз дал совершенно новый сплав, называемый джазом.
Борис Грачевский: «Я хожу по солнечной стороне жизни»
2006 год
Скажите: «Данте», и вам назовут «Божественную комедию», имя Сервантеса наверняка свяжут с «Дон Кихотом», художник Александр Иванов практически всю жизнь писал одну картину — «Явление Христа народу», ну, а Борис Грачевский — это, конечно, «Ералаш». Соседство со столь великими именами, возможно, не совсем уместно, но в один ряд их выстраивает общее обстоятельство: «Ералаш», как и названные выше творения, знают и любят все.

И это не дешевая популярность нынешних скандально откровенных передач, а 32 часа и 40 минут коротких талантливых фильмов, дающих взрослым возможность легко, по-детски посмеяться, а детям не на шутку задуматься. «Много-много веков назад я шел по улице, мне было лет десять, и вдруг я уловил совершенно непонятный запах. Я спустился в лощинку и увидел маленький мостик, а вдалеке что-то красивое, окутанное туманом. Оказывается, это снимался фильм „Утренние поезда“. И вот этот запах павильонного дыма, который объяснить невозможно, толкнул меня на то, чтобы перестать заниматься строительством ракет и прийти в настоящее кино».
Если верить модным нынче учениям эзотериков, все в жизни неслучайно, нужно лишь уметь читать знаки судьбы и не бояться следовать им. Наверное, поэтому и оказался выпускник Калининградского механического техникума в должности организатора производства у великого сказочника кино Александра Роу, где, думаю, и освоил мудреную науку: как правильно пугать детей, чтобы они счастливо взвизгивали от страха, и веселить взрослых, чтобы они забывали о проблемах и, не стесняясь, утирали слезы от смеха. Примерно так и вели себя зрители, собравшиеся на праздник «Ералаша» в зале ДК УЗЭМИК в Уфе, а журналисты с удовольствием пообщались с обаятельным и артистичным Борисом Юрьевичем после представления.
— С какой целью вы приехали в Уфу? Только ли желание устроить праздник для детей в каникулы и провести кастинг двигало вами? И что: в Москве перевелись талантливые дети, или это ваша обычная практика — отбирать будущих «звезд» для «Ералаша», куда бы вы ни приехали?
— Вы сегодня были в зале и сами все видели. Я специально стоял на сцене во время просмотра кандидатур и слушал реакцию зала. Сегодня он был роскошный, теплый, отвечающий и реагирующий буквально на все. Я себе поставил твердую четверку за концерт. Что касается отобранных для съемок детей, они отправятся в Москву, на студию имени М. Горького на общий кастинг, и так делается всегда.
— Многие нынешние папы и мамы выросли на «Ералаше», теперь любимый киножурнал смотрят их дети. И лишь учителя в сюжетах остаются неизменными — скучные, страшные, злые, иногда просто глупые.
— Таких монстров, каких вы описали, у нас нет. Любой нормальный ребенок скажет, какой учитель хороший, а какого к школе подпускать нельзя. Но почему-то каждый раз, когда в отношении учителя допускается ироничный или критический тон, поднимается крик. А кто сказал, что в школе работают только идеальные люди? В «Ералаше» есть рубрика, где дети рисуют плохих и хороших учителей. Хороших там тоже много, поверьте. Очень важно, чтобы ребенку посчастливилось, и он попал к талантливому учителю. Станет такой педагог рассказывать про тычинки и пестики, и все будут слушать его, открыв рот, потому что от него идет сильная положительная энергия. Я видел подобных, это потрясающие люди. Именно учитель может настолько увлечь ребенка, что из него впоследствии выйдет физик, математик, химик.
А есть и другие: «Так, все взяли ручки и записали: «Онегин — негодяй, лишний человек». Я попробовал пацаном открыть рот и сказать: «А чего это он плохой? Ну, бывает в жизни всякое. Чего это лишний-то?» И получил то, что полагалось сразу же. Замолчал и честно писал «чего изволите» всю жизнь. Мы недооцениваем, что примерно с двух лет ребенок — это уже личность, а мы ломаем ее и, возможно, личность будущего гения. Вот Пушкину написали, когда он учился в Царском Селе, напротив математики: «Не проявил интереса». А был бы у нас Пушкин, если бы его ломали на этой математике?
— Борис Юрьевич, говорят, что вам предлагали возглавить детский канал на телевидении. На какой стадии этот проект сейчас?
— Года полтора назад я стал активно говорить в прессе о необходимости создания подобного канала. В связи с тем, что реклама в детских программах запрещена, к таким передачам просто утратили интерес, о них забыли. Когда началась перестройка, мы все попадали лицом в грязь и плакались: вот-де какие плохие, бейте нас, мы — совки. И пятнадцатилетние дети выросли, не осознавая, что такое русский менталитет. Эти дети стали нерусскими в социальном плане, они потеряли сказки, мультики, а взамен приобрели эти страшные целлулоидные истории, абсолютно пустые, как жвачка, которую жуешь целый день, вкуса нет, а выбросить жалко. При всех недостатках, которые у нас были, мы очень тщательно работали с детьми, иногда с перебором, но работали. Напрочь улетучился патриотизм. Считаю, что Россия — единственная страна, способная сопротивляться американскому искусству, которое давит, как танк. Я раньше переживал о том, что «Ералаш» не покупает заграница, а потом понял: это не от недостатков его, а от достоинств — наш юмор намного тоньше.
Мы разработали концепцию такого канала, но частоту нам не дали, а дали Питеру. На что я сказал: все равны, а питерские равнее. Мы хотели дать детям лучшее из того, что сделали российские кинематографисты. А сделали они много и в самых разных жанрах.
— Почему так мало детских фильмов снимают сейчас?
— Они есть, но лучше бы их не было: что хорошего можно сделать за три копейки? Такие фильмы снимают практически на скудные государственные деньги в отличие от той же Америки, которая денег не жалеет и своего зрителя растит с пеленок. Там в семье вторым или третьим дитем становится телевизор. Мы, сами того не замечая, воспитываем ребенка, разговариваем с ним, еще когда он ползает, читаем сказки, когда он еще не говорит — он развивается быстрее. У тех же американцев наоборот: задача отключить детей на 30 — 40 минут, пока родители будут заняты чем-то своим, а малыш, открыв рот, будет смотреть телевизор. Я это называю воспитанием телепузиков.
— Какими качествами должен обладать ребенок, чтобы сниматься в «Ералаше»?
— Это, прежде всего, неординарная внешность, желательно, смешная, и совсем необязательно быть рыжим. Плюс еще талант, непосредственность, свобода перевоплощения.
— Борис Юрьевич, вы работаете с детьми с 1974 года. Изменились они, стали более прагматичными, раскованными, или дети есть дети, одинаковы во все времена?
— Когда в 1974 году мы затевали «Ералаш», у нас был определенный адрес: десятилетние дети. Сегодня пятилетние сидели в зале и с удовольствием смотрели на происходившее. Я думаю, за эти годы дети поумнели глобально в силу того, что появилось очень много дополнительной информации.
— А есть ли зарубежные аналоги «Ералаша»?
— Нет, была похожая передача у американцев, но она скорее напоминала программу «Хочу все знать», театрализации там меньше, больше познавательного фактора.
— Ваши дети как-то связаны с вашей работой?
— С дочкой у меня были проблемы. Она окончила ВГИК, а работать стала маникюршей. Я ничего не понимал и не мог ничего поделать. Мне пришлось взять ее в «Ералаш», но я был очень недоволен тем, как она работает, и, в конце концов, мне пришлось ее уволить. Это длинная история, но я тем самым сделал для нее большое дело. Она не ушла обратно в маникюрши, а открыла туристическое агентство и теперь так же, как и сын, успешно работает и зарабатывает хорошие деньги.
— Ощущают ли ваши актеры себя «звездами» со всеми вытекающими последствиями?
— Конечно, приступов «звездного» величия не избежать. Вот Саша Лойе: блеснул — и как не было. Обнаружился в одной лишь картине «Next» — и все. Обаяния нет, характер у него отвратительный. Я, безусловно, стараюсь одергивать детей, у них ведь все может проявиться невольно. Как-то мне один ребенок говорит: «Вы знаете, Борис Юрьевич, папа сказал, что я — гениальный артист». «Ну, а ты что думаешь?» «Я думаю, что я просто хороший». Потом и с папой переговорили. «Сын у меня — „звезда“. Почему же за главные роли он получает, как остальные?» Я спрашиваю: «А кто ж его сделал „звездой“? Хотите, он вообще сниматься не будет?» Потому дети боятся портить со мной отношения. Я ведь никого не выгоняю: «Вон отсюда!» Просто трубка телефона будет молчать, и этого они страшатся, как огня.
— Чем, кроме «Ералаша», вы занимаетесь? Хотите ли снять полнометражное кино?
— Пишу грустные стихи, снимаю серьезное документальное кино. Недавно закончил работу над фильмом «Прелюдия для детства с оркестром» — о том, как краснодарские дирижеры замечательно приучают детей к большой музыке. Когда зрители видят этих детей, слушающих симфоническую музыку, с ними что-то происходит: они начинают плакать, хотя слез я не планировал. Сейчас завершаю картину о трех уникальных людях: из Питера, Алма-Аты и Екатеринбурга, один — врач, двое других — нет. Работают они с детьми, страдающими от церебрального паралича. То, что делают эти люди, иначе как чудом созидания не назовешь.
— Борис Юрьевич, братья Стругацкие дали такое определение счастья — «Жизнь дает человеку три радости: дружбу, любовь и работу. Конечно, можно прожить и без какой-нибудь из них, но тогда счастье не будет полным». Вы счастливый человек?
— Я — счастливый человек, потому что делаю то, что мне нравится, и это имеет признание у людей. Сегодня, в 57 лет, это для меня главное. У меня в жизни происходит много событий, но основное: просыпаюсь с ощущением счастья от того, что буду делать нужное и очень важное дело. Я хожу по солнечной стороне жизни. Я пью жизнь не как дорогой коньяк маленькими глотками, а как в жаркий день у колодца воду из оцинкованного ведра. Поэтому у меня сейчас с жизнью абсолютно эротический роман. Мне хочется делать как можно больше. Древние говорили: «Что оставил, то пропало, что отдал — то твое». Я хочу отдать все. Планов у меня еще очень много. Надеюсь снять игровое кино, совсем невеселое, о пятнадцатилетних девочках по сценарию молодой дебютантки из ВГИКа.
— Замечательный есть мультфильм «Фильм, фильм, фильм…» Режиссер, работающий с маленькой девочкой…
— Так это про нас! Сегодня вы видели зимний сюжет с чудесной девочкой. С чего началась съемка? Во-первых: «Я не хочу». Потом: «Мне холодно, я не буду ничего делать — и все». А на площадке на пять — семь тысяч долларов стоит техники, аппаратуры, вокруг девчушки прыгает и надрывается вся команда. Да, это про нас.
— Очень нравятся рисованные заставки в «Ералаше». А кто их делает?
— Представьте себе, все тридцать два года их делает один и тот же человек: Юрий Смирнов, грустный, седой, лохматый. Раньше их сюжеты мы придумывали вместе, сейчас он перестал слушаться, делает, что хочет. Единственное, в чем послушался — перешел, наконец, на компьютер, стал современным таким дядькой.
— Сейчас фильмы кто-нибудь просматривает, как в старые времена? Сожалеете ли вы о прежних годах?
— Фильмы раньше смотрели, а сейчас я никого уговорить не могу. «Ну что, мы твоего „Ералаша“ не знаем?» Но! Когда уволили тех редакторов, которые владели искусством цензуры, то уволили людей, которые еще и занимались делом: они работали с автором. Они заставляли его что-то переделывать, дорабатывать, совершенствовать, а сейчас каждый сам себе режиссер, сам себе придумал, сам снял, сам собой доволен. Ведь очень трудно человеку быть критичным по отношению к самому себе. Важно, чтобы была какая-то третья сила, которая одергивала бы: «Что ты там такого наснимал?!» Чего мне хочется, так это чтобы детям всегда говорили правду. Чем меньше они будут слышать вранья, тем лучше. Когда я был маленьким, то мечтал о том, что напишу письмо почему-то американцам и расскажу, как нам тут все врут, ни о чем. Не хочу в подвале у какой-нибудь жирной мерзкой тетки выпрашивать кусок колбасы. Хочу зарабатывать и покупать, что хочу и сколько мне надо.
Ада Роговцева и Ольга Волкова: «Душа, как и земля, требует отдыха»
2006 год

Спектакль «Париж спросонья» по пьесе Жана-Мари Шевре, с аншлагом прошедший на сцене Национального молодежного театра, убедил-таки уфимского зрителя в том, что антреприза — это не всегда скабрезный водевиль с шутками ниже пояса, а в провинции еще полно театралов, способных оценить прославленный французский юмор. Компания ЭкоSoft при помощи продюсерского центра «Радус» устроила своим сотрудникам и сумевшим попасть в театр уфимцам настоящий праздник, привезя из Москвы спектакль с полноценными декорациями, замечательно сыгранным актерским составом и литературной первоосновой, сочетающей в себе забавные ситуации, злободневность и остроту темы. В 2000 году пьеса была удостоена международной премии ООН, а в 2001-м номинирована на премию Мольера как лучшая комедия.
Хотя каждый персонаж претендовал на свою долю внимания, солировал все же дуэт двух очаровательных немолодых дам в исполнении народной артистки СССР Ады Роговцевой и народной артистки РФ Ольги Волковой. В кино Ольге Волковой всегда доставались роли острохарактерные, и она исполняла их с блеском. Зритель любит комедии-сказки Эльдара Рязанова и потому, несомненно, запомнил актрису, снявшуюся в шести картинах режиссера: «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Привет, дуралеи!», «Тихие омуты». Из последних работ, пожалуй, бесспорной удачей можно назвать роль Бабы-Яги в картине Сергея Овчарова «Про Федота-стрельца».
Что касается Ады Николаевны, то для нас она, можно сказать, родной человек: ведь в районе Белорецка снимался многосерийный фильм «Вечный зов», в котором актриса сыграла одну из самых трагических своих ролей. В этом году у Ады Николаевны своеобразный юбилей: 40 лет как кинематограф много и охотно использует обаяние и шарм замечательной актрисы. Похоже, Ада Николаевна и Ольга Владимировна составляют прекрасный дуэт не только на сцене, но и в жизни, охотно отвечая на вопросы и дополняя ответы друг друга.
Итак, как живется в Париже двум одиноким немолодым дамам? И если правда, что мой дом — моя крепость, где же находится счастье — внутри или снаружи?
— Какова, по-вашему, основная мысль пьесы, для чего поставлен этот спектакль?
А. Р. — Мы живем сейчас в разорванном, страшном мире, где царит межнациональная вражда, почти резня. Когда я прочитала пьесу, меня сразу зацепило то, что вопрос отношений между людьми разных наций решается очень человеческим способом — любовью. Когда люди сталкиваются очень близко, задевают душевные струны друг друга, рождается истинное отношение человека к человеку: любовь, ответственность одного за другого, а значит, надежда на то, что все наладится в мире, еще есть. Если героиня Ольги Волковой по натуре человек мягкий и открытый, то моя — проходит сложный путь, связанный с работой души. Она из тех, кто не принимает людей иного цвета кожи, считает, что Франция как губка впитывает всякое отребье. И так думают коренные обитатели многих стран.
О. В. — Эта проблема стала и нашей тоже, к сожалению. Мы много где были со своим спектаклем, и, когда мне говорят: «Китайцы уже скоро будут в Хабаровске!», я отвечаю: «И что! Я объездила всю страну от Калининграда до Владивостока, видела пустующие разоренные земли, пусть их поднимают трудолюбивые люди, которые умеют работать». А смешанные браки? Я — за них! Один мой знакомый, занимавший очень ответственный пост, был крутой антисемит. А дочка его собралась рожать от еврея. Прибежала ко мне: «Ольга Владимировна, что делать?!». Я и ответила: «Рожать еврея! Папа твой от своего вируса излечится мгновенно, он не сможет не любить внука». То, что мир заселен так разнолико, — это замечательно!
— Вы обе — прекрасные актрисы, уже состоявшиеся, причем состоявшиеся не только в профессии, но и в жизни: у вас большие семьи, дети, внуки. Есть ли ощущение чего-то несделанного в жизни? Что бы вы хотели еще успеть?
О. В. — Мне кажется, любой живой человек буквально сосуществует с постоянным чувством ответственности. Мы живем в сложной стране, где плохо старикам и детям, уважать такую страну, испытывать патриотизм по отношению к ней трудно. Я сама бабушка, надеюсь, скоро буду и прабабушкой, и с ужасом думаю о старости и беспомощности, не хочу видеть утомленные, раздраженные взгляды, устремленные на меня.
Пугает проблема безотцовщины, не знаю, как поднимать детей в России, где мужчины как-то не рвутся выполнять свои мужские обязанности. Вот у людей с восточной кровью другое отношение к детям. Ребенок никогда не останется брошенным, даже если растет без отца. В России такого нет, и, по-моему, давно. Коммунисты тут ни при чем. У меня внучка, ей 13 лет, мне — 67. Хочу увидеть, как она встанет на ноги. Невозможно успеть сделать все, что хочешь. Но, с другой стороны, эта душевная неудовлетворенность добавляет силы. Если жить расслабленно, то сразу помрешь. Те барьеры, которые мы преодолеваем, держат в тонусе.
А. Р. — Я вспоминаю Антона Павловича Чехова, который всегда выставлял перед человеком все более и более высокие нравственные планки, а еще Фаину Георгиевну Раневскую. Когда она была уже глубокой старухой, ее спросили, над чем она работает. И Фаина Георгиевна ответила: «Над собой». Это самое главное в жизни. И неважно, сколько вам лет: 10 или 90.
К сожалению, возраст выставляет более сложные задачи, нужно душой еще поддерживать и тело. Меня тоже волнует проблема разобщенности современной семьи. Стариков нужно не просто жалеть, их нужно учиться понимать. Все должно держаться на прочной семье, на осознании, что такое детство, юность, зрелость. Зрелый человек — человек, который несет ответственность за стариков и детей. Меня потрясла поездка в Америку, а именно, встреча с женами элиты Голливуда. Это очень обеспеченные дамы, а занимаются они институтом семьи. Я читала книги, которые они издают и пропагандируют: «Теща и зять», «Невестка и свекровь» — там тысячи примеров того, что бывает в семье, как этого избежать, пишут абсолютно обо всем.
— Вот вам и сексуальная революция…
— По сути, и мы, актеры, задаем все эти вопросы себе и стараемся их решать через художественные образы.
— Ада Николаевна, вопрос к вам. В юности многие из нас грешат стихами, а вы не оставили этого занятия до сих пор. Что это: еще одна грань вашего таланта, досуг, форма самовыражения?
А. Р. — Писать я начала еще девчонкой, когда умер Сталин. «Он умер, его нет уж больше с нами, закрылись ласковые, добрые глаза…» Для меня его смерть, конечно, была потрясением. Стихи — это всегда потрясение, выброс адреналина. Потом желание писать ушло и появилось опять уже в пору влюбленности в моего будущего мужа, а потом вдруг в 50 лет, когда стресс стал состоянием души, я опять стала писать. Это не поддается анализу. Стихи, как любовь: приходят или не приходят. Мои изданные книжки стихов — это семейные книжки, среди авторов сын, дочка и я. У меня новых стихов почти нет, а вот у ребят полно, ради них книжку хочу переиздать. Мне звонят, сына называют настоящим поэтом, и это безумно приятно. Мне вообще хочется сказать всем людям: не стесняйтесь! Не стесняйтесь выражать свои чувства на бумаге или вслух, не думайте, что вы неумелые, непрофессиональные или не имеете на это права.
О. В. — Была у меня родственница, очень домашний, семейный человек, тащила на себе проблемы трех сыновей, внуков. После ее смерти нашли стопку стихов, и у меня даже мурашки по коже пробежали: до чего эта женщина была одинока. Мы ведь не миллионеры, мы не оставим после себя ни машин, ни дач, ни бриллиантов. Мы можем оставить в наследство вот эти семейные воспоминания, свою родословную, семейные предания, курьезы, легенды. Это они помогают соединить звенья утерянных родственных связей. И об этом тоже сегодняшняя пьеса.
Есть в ней еще один фокус. Что радует в старости? Влюбленность! Влюбляться надо всегда: в людей, кошек, собак. Надо любить, принимать, пускать в душу. Кажется, сердце уже не вмещает, а я всех их помню и люблю: и случайного прохожего, и проводницу в Вологде. Они все живут в моем сердце.
А. Р. — Как сказал Андрей Платонов, «не обязательно владеть предметом своей любви, гораздо важнее чувствовать его постоянным жителем своего сердца».
— Где, по-вашему, легче играется: в стационарном театре, в котором все друг друга знают, каждый представляет себе, чего друг от друга ожидать, или в антрепризе, где артисты все-таки собираются на время, отыграют какое-то количество спектаклей и разбегаются?
А. Р. — Тяжелее как раз в театре, там все прекрасно знают гнусные характеры друг друга. Это такая своеобразная театральная коммуналка. А вот антреприза вроде съемочной группы. Другое дело: бывают съемочные группы, которые иначе как дешевками не назовешь, а есть съемочная группа Никиты Михалкова, который собирает актеров на полтора месяца, и получается одна большая дружная семья.
О. В. — Нам, считаю, тоже повезло. У нас прекрасный интеллигентный антрепренер — Вадим Дубровицкий, по образованию режиссер. Если позволено будет сделать ему небольшую рекламу, хочу сказать про фильм, который Вадим мечтал снять давно, и в котором я тоже получила роль: это трилогия В. Сухово-Кобылина, материал сухой, если кто вспомнит классику, и далекий вроде бы от современности — «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». Вадим снял 24-серийный фильм, который сейчас монтируется. Тема Кречинского идет в картине насквозь, потому сериал получил название «Полонез Кречинского». В главной роли — Александр Лыков, которого зрители прекрасно помнят хотя бы по «Улицам разбитых фонарей». Он блистательный актер и, думаю, соберет за Кречинского все мыслимые и немыслимые премии. Вадим с Лыковым отточили эту роль до блеска — получился исключительно инфернальный, стильный, красивый герой. Кроме того, Вадим со свойственным ему профессионализмом и тут постарался подобрать блестящий актерский состав: Алексей Петренко, Богдан Ступка, Валерий Золотухин, который очень неожиданно и феноменально играет роль старовера, — я такого Золотухина еще не видела. Думаю, в этом фильме замечательно проявилась культура диалога, забытая ныне и в кино, и на телевидении. Это не просто говорящие головы, это — интеллектуальная схватка.
— Ольга Владимировна, вы родом из Петербурга, столько лет играли на петербургской сцене. Как вы рискнули все бросить и переехать в Москву, начать все заново, не говоря уже о том, что Петербург, на мой взгляд, это как диагноз, он — в крови?
О. В. — Петербург — это мой дом, я там родилась, но из дома иногда выходят. Мы должны быть там, где нас ждут. Питер живет очень обособленно, жизнь театров чудовищно трудна. А Москва манила меня давно, выбора там гораздо больше, надо было рисковать. Во мне всегда присутствовал этот азарт — все начинать с нуля. Кто-то из больших японских художников сказал: «Настоящий художник каждые пять лет должен менять манеру рисования», и мне все время надо себя ворошить. Судьба, в общем-то, ко мне благосклонна, но особых подарков, скажем прямо, не было. Работу я искала сама. Переезд в Москву состоялся благодаря моей просьбе дать роль в одной из столичных пьес. Роль мне дали, и в 58 лет я рванула в никуда.
Не понимаю многих молодых людей, которые из всего воздвигают какие-то немыслимые проблемы. Помню, когда я родила дочку, поздравить меня в палату зашла высокая красивая женщина. У нее была такая история: она — еврейка, муж — русский, родители дружно против их брака. Отец — инвалид без ноги, бабка старая, мать — врач, бегает по своему участку, жить негде! И вот моя красавица рожает двойню, устраивает детей в Дом ребенка, там же сама работает нянечкой, затем оканчивает институт, устраивается работать в вечернюю школу. Она сажала детей в рюкзачок за спину и ездила везде с ними, потом вообще укатила на Сахалин работать программистом, там вышла замуж за гармониста, замечательного парня, родила дочку и, заработав на квартиру, вернулась обратно. Она еще мне звонила и спрашивала: «Чем тебе помочь?».
— Как вы считаете, почему молодые актрисы, снимающиеся в наших бесконечных сериалах, хорошенькие, талантливые, переходят из фильма в фильм безликой чередой, не запоминаясь и не выделяясь, как, например, актрисы старшего поколения? Чего им не хватает, чтобы стать настоящими звездами?
О. В. — Бездарный сценарий — главная беда. Им там нечего делать: говорят, говорят, ничего не происходит — и запоминать нечего. А сама по себе молодежь сейчас очень талантлива.
А. Р. — Да, деградации никакой нет. Просто раньше всего было меньше, отбор был строже. Сейчас всего много, из этого «всего» приходится выбирать то, что получше хотя бы.
О. В. — Не надо хоронить нашу кинематографию и сетовать на отсутствие талантов. Я была на последнем фестивале «Молодое кино» в Москве, и очень пожилой критик сказал: «Ну, наконец-то началось!». Молодые ребята снимают маленькие учебные фильмы — глаз не оторвать! А вот интересных современных спектаклей мало: нет драматургов, остро пишущих на злобу дня. Душа у людей, видимо, отдыхает, как земля.
А. Р. — Наша страна привыкла за последние полстолетия, и даже больше, решать какие-то глобальные вопросы, мы привыкли мыслить масштабно. А западная литература, англичане, французы, вдруг нас перещеголяли именно в отражении современности, потому что продолжали идти путем исследования человека, а на эту основу уже наслаивались исторические, религиозные, социальные проблемы. Помните, нас пугали мелкотемьем, отсутствием масштаба личности? Что за чушь собачья? Человек пришел в мир — это пришла личность!
— Ада Николаевна, вы сказали в одном из интервью: «Стыдно быть богатым в бедной стране». Но существование богатых — это факт, с этим надо жить. Что нужно сделать богатому человеку, чтобы жить было не стыдно?
А. Р. — Создать Третьяковскую галерею, открыть новый МХАТ, строить школы. Что-то делать, чтобы в городе, где ты живешь, не было хотя бы нищеты. Получи то, что тебе необходимо, остальное — отдай. Человеку ведь, в сущности, немного надо. Чехов написал, на мой взгляд, гениальное завещание человечеству: «Помогай бедным, береги мать». Можно ли еще что-нибудь пожелать?
— Ольга Владимировна, вы работали с великой французской актрисой Жанной Моро в фильме Рустама Хамдамова «Анна Карамазоff». Расскажите немного о ней.
О. В. — К тому времени она долго не работала. А Рустам Хамдамов, мальчик, который шил с мамой в Ташкенте шляпы, мечтал снять фильм, будучи еще ребенком, и именно с Жанной Моро. Он вырос, жизнь не складывалась, потому что он — поэт, небожитель, не от мира сего. У него отняли фильм, который он почти снял («Раба любви» — авт.), но он, наконец, нашел деньги, нашел свою Жанну, написал на нее сценарий. Жанна собрала всех журналистов, сшила у Кардена платье с низким вырезом: для нее начиналась новая жизнь. И дала большой банкет в белом мраморном зале. Она была и остается не звездой, а настоящей королевой. В этом и кроется секрет нашей профессии: иметь желание играть, начинать все сначала!
Когда Башмет простужен, его альт — шипит
2006 год
На музыкальном Олимпе России немало артистов, отличающихся профессионализмом, безупречным исполнением и несомненным талантом. Но, пожалуй, найдется немного имен столь известных, как имя Юрия Башмета. Даже у людей, далеких от музыкальных пристрастий и имеющих весьма неопределенное представление о том, что такое альт (инструмент, на котором играет маэстро), оно на слуху. Возможно, способствует этому вполне заслуженный международный авторитет и всемирное признание музыканта, сделавшего альт одним из лидеров современного исполнительского искусства. В качестве солиста Башмет сотрудничал с такими выдающимися дирижерами, как Юрий Темирканов, Мстислав Ростропович, Сейджи Озава, Рафаэль Кубелик, Курт Мазур, а камерный оркестр «Солисты Москвы», созданный им в 1992 году, с успехом гастролировал в США, Японии, Австралии, Европе.

Народный артист СССР, лауреат премии Award-1993 — «Лучшему музыканту-инструменталисту года» (этот титул сродни кинематографическому «Оскару»), почетный академик Лондонской академии искусств, основатель и председатель жюри первого и единственного в России Международного конкурса альтистов в Москве, офицер изящных искусств и словесности (чин, присвоенный музыканту по указу министра культуры Франции) — вот далеко неполный перечень званий и наград именитого гостя, попавшего из жаркой экзотики Индии в самый разгар уфимских крещенских морозов.
— Как вам удается столь успешно совмещать исполнительскую и дирижерскую деятельность?
— В общем-то, и игру, и дирижирование можно назвать исполнительской деятельностью, а удачных примеров, когда талантливые музыканты становились не менее талантливыми дирижерами, множество: взять хотя бы Мстислава Ростроповича, Владимира Ашкенази, моего коллегу Владимира Щербакова. Это все — одна специальность, но разные специализации, просто у дирижера инструмент — это оркестр, а у солиста, например у меня, — это альт. Думаю, владение инструментом очень помогает в дальнейшем. Вот, скажем, когда-то в спортивном лагере я был горнистом, и через много-много лет неожиданно навыки горниста пригодились мне в Эдинбурге. Оркестр исполнял симфонию Шуберта, я дирижировал, а валторнист, заслуженный, опытный музыкант, никак не мог выполнить просьбу сыграть так, как мне надо. В конце концов, устав от моей настойчивости, он попросил: «Может, вы покажете, что вам надо?» «Если бы я так же прекрасно, как вы, играл на валторне, — ответил я, — то, возможно, мы с вами находились бы на прямо противоположных местах: вы — за дирижерским пультом, я — в оркестре. Мне важно понять: можно ли сделать то, что я хочу». Музыкант протянул валторну, я помолился Богу, взял инструмент, и у меня получилось. Когда владеешь инструментом и дирижируешь, это приносит только пользу.
— Бывают моменты, когда вы устаете от музыки и просто хотите тишины?
— Не помню такого. Иногда хочется одиночества. Есть море материала, что я не успел прослушать, есть любимая в данный период музыка. Со временем мы меняемся, но и любая музыкальная запись проживает свою жизнь, соответственно, меняется наше мнение о ней. Давид Ойстрах замечательно ответил на вопрос о том, как он относится к записям: «Запись — это документ, который с годами становится обличительным».
— Вы известны как музыкант академического плана, однако работаете и в шоу-программах, с Элтоном Джоном, Стиви Уандером. Вам так интересна эта интеграция в масскультуру?
— Вы знаете, к подобной смеси жанров на Западе относятся очень серьезно. Есть даже произведения, специально написанные для музыкантов, способных выступать в различных жанрах. Сам я в юности играл на гитаре, а поскольку учился в музыкальной школе, был в авангарде уличных ребят, руководил серьезной музыкальной группой. У меня болезненное отношение к тем, кто свысока, легкомысленно относится к любым жанрам. Когда скрипач балуется на скрипке — это очень серьезно и требует большого профессионализма. Очень мало на земном шаре людей, которые понимают, с одной стороны, суть инструмента, с другой — суть жанра. Вот маленький пример из моей жизни. Как-то Сережа Никитин попросил меня принять участие в вечере, посвященном памяти Булата Окуджавы. Я не спал ночами, пытаясь попасть в тему. Музыка Окуджавы кажется очень простой, но чем дальше я репетировал, тем меньше мог воспользоваться тем, что умел. Это оказался совершенно другой жанр и стиль. Сыграть строго — получится классика, а нет — получится «ресторан». С трудом я нашел то, чего никогда не делал, и можете себе представить, как радовался этому. Потому я очень уважаю людей, которые могут переключаться.
— Как себя чувствует ваш инструмент в такую холодную погоду? (Вопрос далеко не праздный, ведь альт Юрия Башмета — большая ценность во всех смыслах этого слова. Это старинный инструмент, сделанный миланским мастером Паоло Тестере в 1758 году — авт.).
— Инструмент ведет себя как живое существо. И, конечно, зависит и от температуры, и от влажности. Вроде бы в Уфе ему неплохо, хотя мы с ним только приехали из Индии, из Бомбея, где было плюс 30. Разумеется, связь между нами неразрывна. Я простужен — он шипит. Видимо, для извлечения звука в организме музыканта задействовано много мышц, сухожилий, всего. Поэтому, если состояние музыканта нехорошее, это передается и инструменту.
— Что вы любите помимо музыки?
— Может быть, я вас разочарую, но у меня одно хобби — это музыка, а мне еще за это и деньги платят. Люблю кино, книжку хорошую почитать, особенно в самолетах, когда нечего делать, могу сыграть в бильярд.
— Как вы оцениваете музыкальную подготовленность, культуру слушателей вообще, не только в России, ведь тот же Владимир Ашкенази мрачновато смотрит на публику? Вы раздражаетесь, когда, скажем, между первой и второй частями сонаты раздаются хлопки?
— Сложилось мнение, что за границей более культурные слушатели, это-де у нас публика такая невоспитанная. Ничего подобного. Могу отметить некую генную подготовленность немцев. А вообще, все зависит от того, какой климат в стране в прямом смысле слова. Например, итальянцы, живущие ближе к Германии, суше по сравнению с теми, кто ближе к Ницце. Вот те орут на концертах как резаные.
А по поводу неуместных хлопков лучше всего, по-моему, сказал Дмитрий Кабалевский: «Когда я слышу аплодисменты между частями, я радуюсь — у меня появился новый слушатель». Ведь на самом деле, когда человек увидит, как ведут себя более подготовленные слушатели, он либо не придет, если такое времяпрепровождение ему не по вкусу, либо на всякий случай не зааплодирует первый и в конце концов поймет, как себя вести. (Кстати, судя по количеству хлопков, раздававшихся между частями симфонии Моцарта и концертино Паганини, у Юрия Башмета в этот вечер появилось немало новых слушателей).
Больше всего все-таки я люблю выступать в России. Кроме чистой музыки, здесь происходит некое единение, слияние душ и случаются разные чудеса. Здесь я дома…
Владимир Спиваков: «Моя скрипка ведёт себя как капризная женщина»
2007 год
В музыкальном мире России можно насчитать множество талантливых людей, отмеченных званиями народных артистов, лауреатов различных международных и российских фестивалей и конкурсов, любимых на родине и востребованных за рубежом. Но только один из них справедливо носит яркое прозвище «Маэстро Праздник», вполне оправдывая его на протяжении уже многих лет. Ведь там, где играет оркестр во главе с артистичным, изящным, улыбчивым дирижером, царит роскошный праздник — праздник вечной музыки.

Что особенно приятно, народный артист СССР, награжденный орденами «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством», Почетного легиона, офицер искусств и изящной словесности, Владимир Спиваков, а речь, конечно, о нем, — уроженец Уфы. Перечисление титулов и наград маэстро, названий фестивалей, в которых он принимает участие как член жюри или организатор, имен мировых музыкальных знаменитостей, с которыми сотрудничал, займет немало времени. А его благотворительный фонд, созданный в 1994 году и занимающийся помощью больным детям, созданием условий для творческого роста одаренной молодежи — приобретением для них музыкальных инструментов, выделением стипендий и грантов, воспитал множество юных талантов, мировая слава которых уже вполне сопоставима со славой самого Спивакова.
При этом музыкант, как человек уникальный, меряет жизнь иными мерками и мыслит иными категориями, относясь, например, к «звездной болезни» как к признаку недалекого ума. «О какой „звездности“ можно говорить, когда каждый день имеешь дело с истинными светилами? Бах, Чайковский, Моцарт, Скрябин и другие гении уберегли меня от высокого мнения о себе».
Концерт, прошедший на сцене Башгосфилармонии в Уфе, и общение с маэстро состоялись в рамках всероссийского турне Национального филармонического оркестра России. Владимир Теодорович ответил на ряд вопросов.
— В СМИ часто называют ваш оркестр символом новой культурной политики державы, пережившей глубокий кризис и вступившей в период стабилизации. Какими же качествами должен обладать музыкант, играющий в вашем оркестре?
— Действительно, выступления оркестра пользуются большим успехом и у нас, и за рубежом. Американская пресса после первых же концертов назвала оркестр послом новой России. Прежде всего, коллектив, несмотря на разницу в возрасте, очень дружный. В среднем артистам 39 лет. Вместе мы отмечаем дни рождения, на вечеринках царит атмосфера непринужденности, раскрепощенности, никто не чувствует себя выше или ниже другого.
Главное условие пребывания в оркестре — профессионализм. Чтобы попасть к нам, нужно пройти конкурс. Состав оркестра периодически меняется, но никто никого не выживает. У нас настолько спаянный коллектив, что человек сам чувствует, пришелся ко двору или нет.
— Один довольно известный дирижер сказал, что у нас в музыкальных учебных заведениях готовят солистов, а не тех, кто способен играть в коллективе. Так ли это?
— В ряде случаев, да. Приходят порой снобы, особенно если у них есть какая-то поддержка в музыкальном мире, есть старинный раритетный инструмент. Время от времени такой человек взбрыкивает — кто, мол, он и кто мы. С подобными амбициями долго исполнителю в нашем коллективе не продержаться.
В нашем оркестре, скажу без лишней скромности, работают самые лучшие музыканты страны, и на одной сторонней поддержке тут не уедешь: надо постоянно подтверждать высокий уровень, самое безупречное отношение к делу и самые лучшие человеческие качества. Конечно, когда набирали оркестр, попадали люди случайные. Невозможно ведь одновременно набрать 110 человек, обладающих одинаково высокими достоинствами. Но, тем не менее, отбор был суровый и, видимо, объективный, потому что за годы нашей работы пришло всего лишь пять — шесть новых исполнителей.
— Владимир Теодорович, любители музыки знают вас и как высокопрофессионального дирижера, и как виртуозного скрипача. Трудно ли совмещать эти две, в общем-то, разные профессии, какая больше по душе?
— В последнее время совмещать дирижирование с игрой на скрипке все труднее. Хотя совсем недавно играл в Ереване сольный концерт из произведений Брамса, Шнитке, Пярта и Рихарда Штрауса. Конечно, возраст диктует некий крен в сторону дирижирования. Ведь в нем главное — не быстрота движений и выносливость (хотя и без них не обойтись), а некая зрелость музыкального прочтения, что со временем и нарабатывается.
— Вам присвоили титул «Артист мира ЮНЕСКО». На земном шаре очень много талантливых артистов, музыкантов, но этим званием могут гордиться очень немногие. В чем его особенность?
— Да, на сегодняшний день «Артистами мира ЮНЕСКО» являются лишь министр культуры Бразилии Жильберту Жил, японская балерина Мияко Йошида, камерунский музыкант Ману Дибанго, американский художник и писатель Скотт Момадей. И, что приятно, двое русских — дирижер Валерий Гергиев и я. Думаю, звание это дается не только за профессиональные заслуги и достижения, но и за общественную деятельность. Наверное, учитывались все наши благотворительные акции, работа фондов, поддержка одаренных детей и так далее.
— Как вы считаете, вернулась ли культура музыкальной критики, или в области классической музыки пресса тоже «желтеет»?
— Я уже высказывался как-то о том, что серьезной, профессиональной критики у нас нет. Прибавить к этому ничего не могу, к тому же просто не имею времени читать газеты. Да и зачем реагировать на каждый выпад? Однажды музыканты звонят мне и говорят: «Владимир Теодорович, нас страшно обидели, написали, что оркестр напоминает стадо баранов». Ну, что тут говорить: о Малере, других музыкантах еще и не то писали. Главное, всякий раз, думая о музыке, я понимаю: суета вокруг нее не имеет никакого значения. Важно только одно — есть великий духовный мир замечательных композиторов, к которому я имею счастье прикасаться.
— Как вы относитесь к инициативе министра культуры Франции ввести уроки хора в школах страны?
— Замечательно отношусь. Это он решил сделать после того, как ему показали фильм о детях, поющих в хоре. Шостакович, например, мечтал, чтобы в общеобразовательных школах изучали не только буквы и цифры, но и ноты. В Америке выпускники школ обязательно умеют играть на каком-либо инструменте. Общество сегодня чрезвычайно разобщено. Но людей разъединяют не политические убеждения, а невежество. Значит, нужно найти что-то объединяющее. Мне кажется, что лучше, чем что-либо, это сделает искусство.
— В 1989 году вы организовали международный фестиваль в Кальмаре во Франции и являетесь его руководителем по сей день. В мире так много фестивалей, особенно, говорят, в Германии, где чуть ли не в каждой деревушке свой. Зачем нужен еще один? Не кажется ли вам, что это как-то нивелирует звание лауреата международного конкурса?
— Знаете, чтобы выйти на мировую сцену без участия в международном конкурсе, надо быть, скажем, Евгением Кисиным. Такие таланты рождаются раз в сто лет. Так что фестиваль, конкурс — это реальный шанс для молодого исполнителя показать себя и выйти на каких-то импрессарио. А потом, конкурсы дают довольно своеобразные «премиальные»: организаторы гарантируют, например, что первая премия предоставит музыканту возможность сыграть, скажем, с оркестром «Би-Би-Си» или что-нибудь в таком духе.
— Что помогает вам жить в таком графике: фестивали, концерты, конкурсы, репетиции, наконец?
— Думаю, у людей вообще изменилось ощущение времени. То время, которое требовалось Моцарту, чтобы привести в гармонию состояние своей души, сейчас ужалось бы до двух минут. Один известный музыкант сказал: «Я отдыхаю в адажио Восьмой симфонии Брукнера». И я его понимаю.
— Владимир Теодорович, вы играете на бесценной скрипке Страдивари, а дирижерскую палочку вам подарил великий Леонард Бернстайн. Говорят, старые инструменты имеют свою душу и характер. Как ведут себя ваши инструменты?
— Ну, скрипка-то не совсем моя. У меня просто нет 2,5 млн. долларов, чтобы купить такое сокровище. Это скинулись мои друзья, две семьи, и купили ее мне в пожизненное пользование. Что касается дирижерской палочки, то она меня не подводит, а вот скрипка ведет себя как капризная женщина — по настроению. А я, как настоящий мужчина, ей подчиняюсь.
«…Золотое сердце, золотые руки, золотая душа. Ты теперь принадлежишь музыкальному Олимпу». С такими лестными словами Леонард Бернстайн подарил свою дирижерскую палочку Владимиру Спивакову и, думается, не ошибся в своем определении.
Анна Самохина и Андрей Носков: «А Гамлет, оказывается, звучит банально!»
2007 год
Анна Самохина впервые сверкнула на небосклоне отечественного кинематографа яркой звездой, триумфально пройдясь по приморской набережной, как по красному ковру Каннской лестницы в кинофильме «Воры в законе». Строго говоря, это был не первый фильм Анны, снявшейся до этого в телесериале «Узник замка Иф». Но широкому кругу зрителей запомнилась юная актриса, не потерявшаяся на фоне таких мэтров, как Валентин Гафт, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, и успешно справившаяся со сложной ролью именно в этой ленте, снятой режиссером Юрием Карой по мотивам рассказов Фазиля Искандера. Должно быть, справедливо мнение, что настоящие таланты чаще рождаются в провинции. Целеустремленная и энергичная девочка из Череповца, выпускница Ярославского театрального училища, актриса Ростовского драматического театра не затерялась и в столице и полюбилась зрителям яркой красотой, непосредственностью и органичностью игры в кинофильмах «Царская охота», «Дон Сезар де Базан», «Тартюф», «Русский транзит», «Китайский сервиз». Носков — уроженец Украины — прибыл в Санкт-Петербург из города Новая Каховка и, несмотря на молодость (в тридцать с небольшим лет), много чего успел. Успел окончить ЛГИТМиК, студентом третьего курса поиграть в ТЮЗе имени А. А. Брянцева, театре А. Джигарханяна, Русской антрепризе имени А. Миронова, знаменитом БДТ, поработать ведущим детской передачи «Разноцветная собака» на Санкт-Петербургском телевидении, окончить аспирантуру на кафедре пластического воспитания, сняться в фильмах А. Балабанова и В. Титова и, наконец, вместе с братом Ильей (юным Фандориным из телесериала «Азазель») стать художественным руководителем Театрального товарищества «Носковы и компания».
Если ранее в круг поклонников Андрея входили, в основном, завсегдатаи театров Санкт-Петербурга и Москвы, то участие в сериале «Кто в доме хозяин» добавило к числу поклонников артиста обширный круг скучающих домохозяек и детей. В Уфе Анну и Андрея объединило участие в одном театральном проекте. Встреча с артистами состоялась по этому поводу.
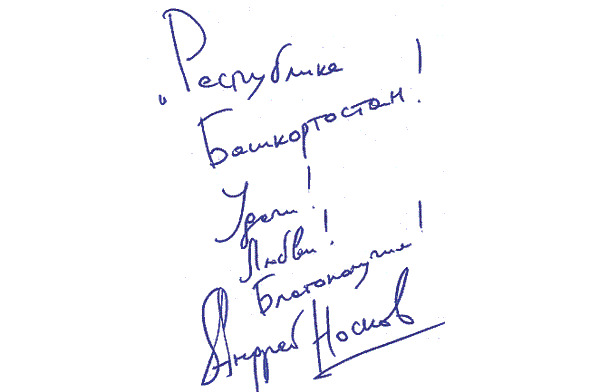
— Анна, вы потрясающе выглядите. Есть ли у вас свои секреты сохранения красоты и молодости?

А. С. — Их много: как правильно питаться, как правильно спать. Считаю, что не нужно, конечно, перебарщивать с косметикой — это как зависимость диабетиков от инсулина — подсядешь и уже не освободишься. И если днем умело наложенный макияж только прибавляет женщине привлекательности, то ночью кожа обязательно должна отдыхать, как и весь организм в целом: от стрессов, от дневных нерешенных вопросов — они только мешают крепкому сну. К сожалению, в силу ремесла я часто не могу сразу уснуть после спектакля: переживаю, обдумываю, как, впрочем, и многие люди других профессий — но выспаться я должна обязательно.
А. Н. — Анна, на мой взгляд, очень конкретный человек. Она может грустить, может веселиться, и делает все это очень искренно. В ней есть огромная жажда жизни — и потому так ярко горят ее глаза.
— Анна, на мой взгляд, вы — одна из немногих актрис, которым удаются как костюмные роли, так и роли современниц. Вы прекрасно носите платья разных эпох, а таких актрис сейчас мало. Как вам удается так вживаться в исторический образ?
А. С. — Может быть, нас раньше лучше учили. Я думаю, образование пострадало сейчас во всех сферах, в том числе и в театральной. Во времена моего ученичества много внимания действительно уделяли умению носить костюм, держать осанку. В современной театральной школе, на мой взгляд, именно этой области отводится очень мало времени. А, кроме того, я — сторонник той эзотерической теории, согласно которой мы живем не одну жизнь. Думаю, что-то там было со мной в прошлом, потому и чувствую себя в старинных нарядах абсолютно комфортно.
— Андрей, какова цель создания театрального общества «Носковы и Компания»? Вам захотелось самому попробовать себя в режиссуре, захотелось большей свободы в творческом самовыражении? И, кроме того, организатор, учредитель — это и администратор. Как вам удается совмещать роль хозяйственника и актера?
А. Н. — Мне прекрасно работалось со всеми режиссерами, но наша профессия всегда предполагает поиски чего-то нового, а тут подвернулся такой свободный безработный период, но на месте стоять не хотелось. Я вообще считаю: актер никогда не должен простаивать, всегда должен играть, ошибаться, но играть. Нам с братом играть в тот период было нечего, и мы придумали вот такой проект, и он осуществился. Конечно, правильный вопрос относительно организации, продюсирования и прочего — это отдельная профессия, не хочется этим заниматься, а нужно. Но у нас очень хороший директор, который все это на себе тащит, и пока, слава Богу, достаточно уверенно.
— А режиссеров приглашаете со стороны или сами ставите?
А. Н. — Пока у нас успешно реализован только один спектакль — «Путешествие», и режиссер работал приглашенный, но — почему бы и нет? У нас все впереди.
— Анна, а есть ли у вас какие-то страхи, которые мешают вам спокойно жить?
А. С. — Я многого боюсь: боюсь воды, боюсь самолетов, как все нормальные люди, боюсь высоты. И как ни странно, очень люблю машины, хотя прекрасно понимаю, что это самый опасный вид транспорта. И все же люблю дорогу. И, конечно, кошмар всех актеров — забыть текст на сцене, хотя я такого случая в своей практике не припомню. Но, как, наверное, всех актеров, меня мучают ночные ужасы — я сплю и вижу во сне: стою на сцене и не могу произнести ни слова! Это просто жуть, просыпаешься в холодном поту.
— Как вы относитесь к тому, что у нас в российском кино, как и на Западе, привыкли вешать на актеров ярлыки — «секс-символ», «самый желанный мужчина» и так далее?
А. С. — Думаю, секс — это секс, а символ — это нечто отдельное: это как знамя, как значок. Ну, если я похожа на знамя, значит, так и есть.
А. Н. — А я считаю, у нас действительно сейчас этим чересчур увлеклись, но и мы сами, актеры, в общем-то, даем повод для развешивания подобных ярлыков; своими работами, ролями себя как бы программируем на такое отношение к нам. И мы этим ограничиваем себя в своих собственных фантазиях, воображении. Человек всегда индивидуален, непредсказуем, и, раздавая крепко прилипающие определения, мы себя втискиваем в определенные узкие рамки. Я — против ярлыков.
— Андрей, вы уже в школе вели бурную актерскую жизнь: участвовали в клоун-группе, сами ставили спектакли. То есть, выбор профессии перед вами не стоял?
А. Н. — Да, в общем, к концу учебы в школе я уже полностью определился с выбором, в отличие от брата, который, хотя и занимался в драмкружке, актером решил стать, только когда приехал в Петербург, увидел город и понял, что такое актерство. У нас ведь в городе даже театра не имелось, поэтому желание заняться лицедейством было таким неосознанным, слепым.
— Анна, как вам работается на одной сценической площадке с дочерью?
А. С. — Трудно, прежде всего, ей. Когда ты еще совсем молодой актер, ты, конечно, очень волнуешься перед каждым выходом на сцену, а когда работаешь еще и с родным человеком, тут вообще всего тебя судорогой сводит. Но это по молодости. Мы с дочерью работаем уже давно. Тот момент — когда я ей мешала, все мои внимательные оценивающие взгляды со стороны — преодолен. Играем как два полноценных профессионала, и в театре у нас вполне деловые рабочие отношения. Вне дома она называет меня Анна Владленовна.
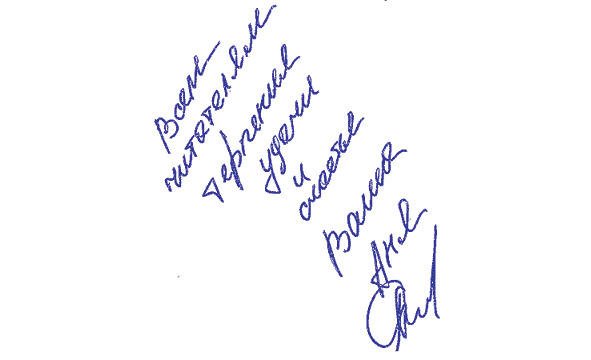
— Андрей, что для вас главное при выборе роли?
А. Н. — Самое интересное — это играть любовь и во всем искать оттенки хорошего. Ну, сколько мы живем на этой маленькой планете? И если уж нам даны чувства, эмоции, то они должны быть положительными, светлыми, хорошими.
— Как, по-вашему: работа в сериалах для актера — школа или гибель?
А. Н. — У нас сейчас снимают достаточно объемные фильмы, а все, что больше двух серий, — уже сериал, и я не понимаю актеров, которые говорят: «Я снимаюсь не в сериале, а в телеромане». Сериал сериалу — рознь, так же, как есть Шекспир — великая классика, есть Гольдони — великая классика. Но они совершенно разные, причем Гольдони ставят гораздо реже — просто боятся, не умеют. Что касается ситкомов, я знаю, что, прежде чем попасть на экран, они проходят самый строгий отбор. На всех каналах идет только три сериала, снятые в этом жанре, а штук семь даже близко к телевидению не подпустили. Телевизионный комикс «Кто в доме хозяин» — это хорошо, грамотно, правильно и качественно сделанный продукт.
А. С. — Вообще, после кризиса, который пережил наш кинематограф, а он молчал лет десять, и ветер гулял по студиям, думаю, что мы сейчас переживаем просто второе рождение. Это же только начало. А ведь мне казалось: уже ничего никогда не будет, актеры испытывали страшный стресс. Хорошо, что машина закрутилась с новой силой.
А. Н. — Страшно не обилие посредственных сериалов, страшно другое. Вот я снялся у замечательного режиссера Александра Рогожкина в четырехсерийном фильме «Своя чужая жизнь». Фильм этот на телеэкраны пока не пустили. Скажем так, руководству канала показалось содержание крамольным и бросающим на него, на канал, некую тень. Но время, уверен, расставит все по своим местам. Как это было уже не раз.
— Андрей, какую роль вы мечтаете сыграть?
А. Н. — К сожалению, я принадлежу к тому малообразованному поколению, о котором говорила Анна. Сейчас, по-моему, молодые артисты вообще не мечтают. Спрашиваешь их о том, что видели, чего хотят. «Да мы не знаем, да что скажете…» Есть у меня задумки насчет Шекспира, Мольера, но открываться не хочу. Летом я попал на мастер-класс в Швейцарию, там мы работали над пьесой «Гамлет». Пьесу эту я никогда не любил, а тут мы поработали, покопались, и мне вдруг так понравилась пьеса! Не знаю, мой ли это материал, но вот, представьте, как это ни банально — Гамлет!
Александр Семчев: «Хотел быть лётчиком, космонавтом и священником»
2007 год
С рекламой можно бороться по-всякому: можно выключить телевизор и засесть в кресле с позабытой книжкой, можно сходить на кухню, подлить горяченького чайку и с кайфом продолжать наслаждаться любимым фильмом, словно ничего и не было. А можно поступить и более радикально: вообще пересмотреть свое к ней отношение.

Во-первых, воспринимать ее как способ наших актеров (и не худший!) подработать. Во-вторых, хорошая реклама — тоже искусство: попробуй-ка в несколько секунд втиснуть драматический или комический сюжет и убедить зрителя, что без «Колгейта» или «Олвейса» ему не жить. И в-третьих, поскольку большинство наших востребованных артистов к участию в роликах относятся презрительно, снимаются в них актеры, которые зачастую становятся затем звездами российского кино и театра.
Пример — Александр Семчев. Запомнившийся всем обаятельный розовощекий дед Мороз, любитель пива «Толстяк», очаровал всех, даже тех, кто рекламу не любит. До пива Александр еще лакомился «Твиксом», пока тетка с пуделем поджаривались в солярии, а потом встречал их, поменявших расцветку, обескураженным: «Здрасьте…» (между прочим, его придумка!).
А начиналось все в Вышнем Волочке, с опозданий в школу и желания задобрить учителей забавным лицедейством. В десять лет дебютировал в роли, из которой выросло много знаменитых артистов, — играл Бабу-Ягу, не обошел стороной кукольный театр. Представьте, вел дискотеки, а после армии был звездой в местном драмтеатре, куда однажды наведались преподаватели Щукинского училища. Талантливого провинциала заметили, обласкали и пригласили принять участие сразу во втором туре вступительных экзаменов.

Замечу сразу: кино, как правило, дает очень небольшое представление о масштабах таланта того или иного артиста. В легкомысленной, грубоватой (это простительно, ведь первооснова — французские средневековые фарсы) пьесе «Шуты города М», прошедшей в Уфе с аншлагом, именно игра Семчева отличалась хорошим академизмом, основательностью, за которой угадывалась школа высокого класса. Иначе и быть не могло. Ведь Александр Семчев — артист МХАТа, и в его багаже роли в основном классического репертуара: Яичница («Женитьба»), Оргон («Тартюф»), Пигва («Сон в летнюю ночь»), Лариосик («Белая гвардия»).
Александр немногословен и мало похож на человека, измученного известностью. Похоже, актерство для него — такая же работа, как, например, хирургическая операция для врача или урок, проведенный учителем в школе. Так ли это, я и пыталась выяснить в разговоре с ним.

— Александр Львович, буквально с самого детства вы лицедействовали, кого-то разыгрывали, смешили. То есть вы сразу сознательно стремились завоевывать публику, готовясь в артисты, или просто потребность игры у вас в характере?
— Желание кого-то изображать скорее у меня в характере. Ребенком я не отдавал себе отчета в том, кем хотел бы быть. Все зависело от впечатлений: сначала детских, затем отроческих, юношеских. Поэтому поочередно хотел быть водителем, космонавтом, летчиком, священником, директором какого-нибудь солидного учреждения, смотря в какую среду я попадал. Родители мои никоим образом на мои метания не влияли, к театру они отношения не имеют, сейчас оба уже на пенсии.
— А когда в ваш город приехали преподаватели Щукинского училища и пригласили в Москву, были у вас какие-то сомнения: ехать, не ехать?
— Это было уже после армии, к тому времени я таки определился и понял, где хочу быть. То есть вопрос не стоял — кем: актером, осветителем, рабочим, а именно где — только в театре. Я вообще актер, прежде всего театральный. Люди, играющие в кино, не очень хороши на сцене. У них нет понятия перспективы, в кино им приходится сниматься в эпизодах, локальных сценах. Это совсем другая специфика.
— Люди узнали и, между прочим, сразу вас полюбили за обаятельную наивность потребителя пива «Толстяк». Можно много рассуждать о профессиональной этике актера, снимающегося в рекламном ролике, но вопрос в другом: согласились бы вы воспеть достоинства заведомо недоброкачественного продукта при условии, что рекламный клип будет сделан очень профессионально?

— Рекламный блок я воспринимаю только как способ зарабатывания денег, не более того, и пульт во время рекламной паузы не терзаю. Хорошо, что люди начали пользоваться всеми этими продуктами, кремами, дезодорантами, раньше-то их не было. А на съемки я соглашусь, если ролик действительно будет сделан качественно, и его объект все-таки хотя бы не принесет никому вреда. Но подать рекламу вкусно у нас пока еще не умеют.
— Так пиво «Толстяк» хорошее?
— Нормальное пиво. Для своего класса вполне достойное. Тут совесть у меня чиста.
— За роль Лариосика в спектакле «Белая гвардия» вы получили «Чайку». Легко ли было играть эту роль после классической постановки Владимира Басова, после Сергея Иванова, обаятельного, долговязого Кузнечика из фильма «В бой идут одни старики»?
— Мы не ставили перед собой задачу кого-то переиграть, переубедить зрителей в том, что мы лучше. Мы были просто другими. У нас в спектакле строилась своя тема — тема семьи, такая семейная хроника. Там не было никакой политической подоплеки. Существует ведь еще и старая мхатовская постановка, в которой роль Лариосика играл сам Михаил Яншин, но мы просто делали свою работу, не оглядываясь на то, что сотворили другие.
— В театре вы в основном заняты в пьесах классического репертуара. Роли современников вы сознательно отвергаете или просто не видите пока для себя ничего интересного?
— Считаю, что с современной драматургией у нас проблема, как, впрочем, и с режиссерами. То, что я читал, мне не нравится, например, фривольности братьев Пресняковых, которые сейчас в большой моде. Я не понимаю и не принимаю мата, льющегося со сцены на головы зрителей как ушат помоев. Конечно, такие вещи и экранизируют, и ставят в театре, и у них имеется свой ценитель, но я себя чувствую комфортно только в ролях классического репертуара. Вопрос, однако же, еще в том, как подать то или иное произведение — та же проблема, что и в рекламе.
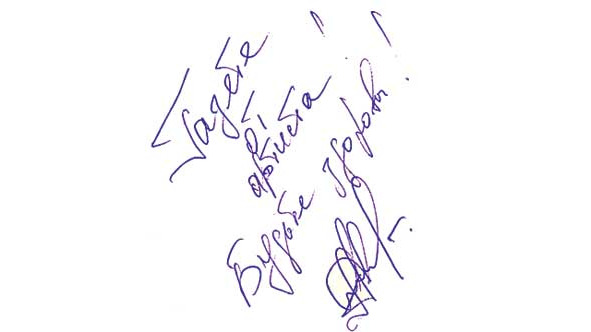
— Ваши эталоны в искусстве: Фаина Раневская, Жан Габен, Евгений Леонов — актеры разноплановые. Леонов, например, которого вроде бы принято считать артистом комического жанра, гениально сыграл в «Донской повести». Есть ли и у вас потребность иметь в своем репертуаре роль трагическую?
— То, что я комик чистой воды, — это заблуждение, бытующее как среди людей профессиональных, так и среди зрителей. Лариосик — роль-то не смешная. Возможно, есть там какие-то комические ситуации, но это скорее в силу характера самого Лариосика. Подсознательно ведь все равно чувствуешь обреченность героев и думаешь: «А где ж они будут году в 37-м?»
— Разрешите вопрос личный. Люди такого типа, как вы, многим чисто внешне кажутся открытыми, доверчивыми, ласковыми, очень спокойными, добрыми. Вы такой, каким кажетесь?
— То, что толстые люди (будем называть все своими именами) добрые, — это ошибка. В большинстве своем люди полные закомплексованы в большей или меньшей степени. Все равно, большой объем, масса не скажу, чтобы были патологией, но являются все же отклонением от нормы. Я, например, комплексую на пляже, стараюсь расположиться где-нибудь в сторонке, чтобы меня не разглядывали. Это на сцене можно примерять какие угодно маски, быть каким угодно и всему найти применение. А в жизни я разный — в зависимости от обстоятельств.
— Чего же вы боитесь? Есть ли чисто актерские страхи: забыть роль, упасть со сцены?
— Однозначно боюсь остаться без работы. Существует момент узкой специализации: чем стройней, тем шире диапазон ролей. А среди толстяков тоже есть своя конкуренция. И я не могу влезть режиссеру или продюсеру в голову: «Почему бы Семчева не снять?»…
Боюсь ранней смерти. Боюсь чего-то не успеть.
— А вы человек увлекающийся? Слышала, вы строите загородный дом строго по законам фэн-шуя?
— Да нет, просто попалась книжка по фэн-шую под руку как раз тогда, когда строился дом. Я полистал, посмотрел, вроде интересно. Взял оттуда какие-то элементарные, поверхностные вещи, не более того. И уж, конечно, не лезу ни в какую их восточную философию.
— Вы — трудоголик? Беретесь за все роли, которые вам предлагают?
— Я — ленивый. Но если уж возьмусь, так возьмусь. А от ролей иногда отказываюсь: «Извините, это уже было, хочется чего-то новенького». Наверное, как с возрастом меняются какие-то жизненные ценности, так же и перед актером возникают другие задачи и появляются новые творческие амбиции.
— Накладывает ли роль какой-то отпечаток на жизнь и характер артиста?
— Абсолютно нет. Это было бы какой-то патологией, идиотизмом. Отыграл, вышел из театра, забыл. Я не играю в жизни, может быть, иногда придуриваюсь, но, думаю, играть надо на сцене, а не среди людей.
— Где вам хорошо, комфортно: на сцене, дома, среди друзей?
— На даче. Пусть там даже беспорядок, навалено все. А еще бывают квартиры-музеи, квартиры-офисы. Это кошмар. А за городом: природа, средняя полоса России. Можно сидеть в фуфайке, курить и ни о чем не думать.
Владимир Стеклов: «Игра в театре — дело женское»
2007 год
Владимир Стеклов не относится к числу тех волооких красавцев, украшающих обложки дамских романов, но, безусловно, принадлежит к тому типу мужчин, которые обладают ярко выраженной харизмой, а проще, обаянием сильного человека. Такие актеры, как Владимир Стеклов, или, допустим, Сергей Шакуров, вызывают у любой женщины ощущение собственной нежной слабости и чувство уверенности в том, что такой мужчина и гвоздь в доме вобьет, и мамонта притащит, и плечом заслонит от любой напасти.

Но кинематограф разглядел эту его суровую обаятельность, только когда актеру исполнилось 35 лет. Зато театр уже вовсю эксплуатировал талант Стеклова, окончившего Астраханское театральное училище и блиставшего к тому времени на сцене знаменитого «Ленкома».
Чеховская «Чайка» и «Чайка» Б. Акунина, «Событие» по В. Набокову, «Жак и его господин» Милана Кундеры, «Антоний и Клеопатра» Шекспира (в стадии репетиции) — небольшой перечень нашумевших спектаклей разных театров, в афише которых значится фамилия В. Стеклова. А в кино — роли в фильмах: «Плюмбум, или Опасная игра», «Узник замка Иф», «Воры в законе», «Криминальный квартет», многочисленные сериалы — количество сыгранных им ролей давно перевалило за 60, и в привезенном в Уфу антрепризном спектакле «Сокровище острова Пеликан» артист играл, как всегда, добротно, профессионально и достоверно. По-другому он, видимо, и не умеет.
— Владимир Александрович, вы играли в театрах Кинешмы и Петропавловска-Камчатского, в драматическом театре имени К. С. Станиславского, в прославленном «Ленкоме». Сейчас состоите в труппе театра «Школа современной пьесы», участвуете в антрепризах. Что заставляет, по-вашему, нынешних актеров путешествовать из театра в театр, ведь, в общем-то, в традициях русской сцены были сложившиеся составы, актеры, которые приходили в театр юными и чуть ли не умирали на той же сцене?
— С одной стороны, это вечное стремление человека энергичного найти что-то новое, к чему рвался еще Костя Треплев, герой «Чайки»: «Нужны новые формы». С другой стороны, мне как актеру просто необходима какая-то, пусть условная, свобода. Я много снимаюсь, а театральная работа, как понимаете, предполагает привязанность к одному месту и более-менее строгий распорядок дня. Ну, не получится у меня связать интересную роль в кино с подмостками — уйду.
— Существует поговорка, с которой я, правда, не согласна: «Женщина-актриса — женщина вдвойне, мужчина-актер — не мужчина». Справедливо ли такое утверждение?
— Что-то в этой фразе есть, потому что у актера действительно женская психология, это профессия женская. Но я по этому поводу не комплексую, просто стараюсь как-то корректировать свои отношения со спецификой своей работы. И, может быть, именно от проявляющегося женского любопытства это желание бросаться в крайности, делать сложные вещи в театре, кино. И это не обязательно работа без дублеров. Просто желание обрести новые качества.
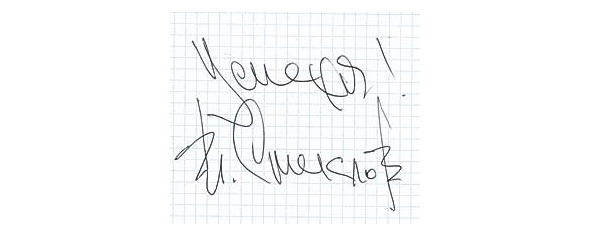
— Если вы так считаете, то хотелось бы знать, как актер-мужчина переносит переход в иное амплуа, иную возрастную категорию. Ведь многих женщин страшит старение, вообще возраст?
— Мужчинам все-таки проще. Тут ведь дело даже не в возрасте — меняется индивидуальность. Например, в наше время в 15 лет еще рано играть Ромео, а в 25 — уже поздно, и все дело в том, как найти золотую середину и не выглядеть смешным при этом. Правда, в театре, конечно, легче. Удаленность сцены от зрителей позволяет долго держаться в определенной категории. В кино же существует враг — крупный план, и все твои морщинки — достояние зрителя, поэтому тут важно не просто суметь сменить амплуа, но и сохранить свою индивидуальность, а вот тут приходится надеяться только на опыт.
— Несколько лет назад должен был состояться уникальный проект — съемки фильма в космосе, и вы прошли специальное обследование, тренировались. Но полет не состоялся. Обидно, но почему?
— Да по самой банальной причине: американская компания, которая руководила этим проектом, не смогла оплатить полет из-за финансовых трудностей, хотя Российское космическое агентство всячески шло навстречу, снижало стоимость контракта. Вот поэтому съемки фильма Юрия Кары «Тавро Кассандры» так и не состоялись. А я ведь даже пищу приучился из тюбиков есть.
— Вообще в вашей биографии много интересных фактов. Вот в детстве вы играли не в машинки, а в куклы.
— Да я этим еще в детском садике занимался. Тогда в город часто приезжали на гастроли кукольные театры, я очень любил ходить на их спектакли, вот и доходился. Сначала лепил кукол из пластилина, в основном, солдатиков — желтых и синих и устраивал сражения. Потом мастерство повысилось: стал делать кукол из лоскутков. Мама помогала в основном советами, она работала старшим бухгалтером, времени на меня было мало. Но вот как сделать кукле голову из папье-маше, научила меня она. Набивал ватой, опилками, потом рисовал лицо. Очень любил делать декорации: избушку, плетень, колодец. У меня даже занавес был: такая тряпочка, которая открывалась и закрывалась. Я ее прошивал ниткой, а в начале спектакля раздвигал руками.
— А балет как вас увлек?
— Занимался четыре года в балетном кружке при Дворце пионеров. Звездой не был, но танцевал, говорят, неплохо. Кстати, даже зарабатывал на этом. Летом — я как раз окончил первый курс Астраханского театрального училища — приехал к нам на гастроли какой-то театр оперы и балета, так я подрабатывал в массовке. Между прочим, платили за выход по три рубля! В опере «Аида» я под звуки марша нес опахало над самим фараоном. Но споткнулся и треснул этим опахалом фараону по голове. Роскошный колпак у него сразу развалился, фараон меня обматерил не по-царски, а из спектакля, конечно, меня выгнали.
— И все-таки вы выбрали именно драматическое искусство?
— Да, вроде как случайно. Как это часто бывает, дружба подтолкнула. В девятом классе друг записался в драмкружок, ну и я с ним за компанию. Помню, когда на прослушивании до меня дошла очередь, я побагровел, стал заплетающимся языком бормотать что-то про любовь: комиссию, конечно, насмешил — рыжий, перепуганный мальчик что-то там про любовь лопочет. И вдруг из-за двери раздались аплодисменты. Так началось это безумие, которое длится до сих пор.
— Владимир Александрович, ваша старшая дочь Агриппина, говорят, блестяще играет у Константина Райкина в театре «Сатирикон». Как вы относитесь к профессии дочери, играли ли с ней вместе?
— Агриппина — сильный человек, проявлений слабости не допускает ни у кого, даже у родителей. Граня — это моя гордость. В театре у нас было две совместные работы: в театре «Сатирикон» «Жак и его господин» Милана Кундеры и у Андрея Максимова в пьесе «Любовь в двух действиях». Сначала взаимоотношения отца и коллеги меня, честно говоря, озадачивали, и я испытывал как бы двойную нагрузку. Но сейчас все в норме. Граня — очень одаренный, высокопрофессиональный человек. У нее есть планка, ниже которой она не опустится ни за что.
— Кстати, откуда такие имена — Агриппина и Глафира?
— Просто имена выбраны по святцам. Обе дочери довольны. Хотя, мне кажется, выбор старых имен для детей сейчас не редкость.
— Многие зрители, особенно пожилого возраста, жалуются на то, что среди молодых актеров нет звезд вроде Смоктуновского, Яковлева, Ульянова, а в кино крутится много денег и мало души.
— Да, по-настоящему блестящих талантов теперь мало. Зато средний уровень артистов стал значительно выше. Кино стало коммерческим? Ну да. А что не стало? А, кроме того, шедевры и в кино, и в музыке, и вообще в искусстве — это не повседневное явление. Пусть редко, но они и у нас случаются.
— Владимир Александрович, мы своих земляков знаем наперечет и гордимся ими, но вот вас к ним вообще-то не причисляли. А между тем, едва приехав в Уфу, вы отправились навещать родственников. Проясните, пожалуйста, если можно, этот вопрос.
— Дело в том, что моя жена — коренная уфимка. Правда, давно уже живет в Москве. Она совладелица стоматологической клиники и одновременно практикующий врач. В общем-то, наше знакомство и состоялось обычно: нас как-то представили друг другу за кулисами театра, потом я пришел к ней на прием, и вот не расстаюсь с ней, тьфу-тьфу, уже около 12 лет. Ольга хоть и бизнес-леди, но это не мешает ей оставаться доброй, женственной. Рядом с ней ощущаешь себя сильным, способным защитить, словом, она такой тип женщины, который мне как раз и нравится. Вот к таким, которые «коня на скаку остановят, в горящую избу войдут», отношусь настороженно: предпочитаю, чтобы женщины проявляли героизм в иных формах.
А в Уфе я навещал ее сестру, которая работает в одной из больниц. Прошел, кстати, заодно и обследование — меня по-прежнему можно посылать в космос!
Светлана Тома: «Каждый прохожий в твоей жизни — учитель»
2007 год
Талант, обаяние и красоту Светланы Тома можно бы сравнить с экзотическим ярким цветком, поразившим своей необычайностью зрителей в фильме «Табор уходит в небо». Картина, которую увидели киноманы 120 стран, весьма убедительно доказала, так же как несколько ранее «Летят журавли», что в непостижимо загадочном и суровом нравами Советском Союзе есть прелестные и талантливые актрисы и выдающиеся режиссеры. Именно Рада заставила сердца мужчин забиться чаще и сильнее; школьников всей страны — воспринять Горького не как нудное приложение к школьной программе, а как писателя-романтика с любящей и гордой душой, а женщин — почувствовать обаяние и нежную власть, присущую прекрасной половине человечества.
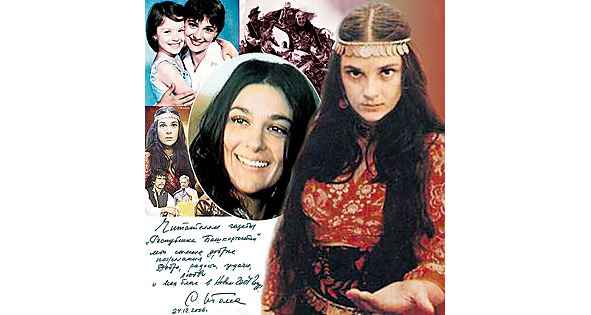
Ее свободолюбивую и страстную цыганку вспоминают в первую очередь, стоит назвать имя Светланы Тома. Однако между нашумевшим фильмом и моментом, когда совсем юная, еще и не актриса, а будущий (как она думала) юрист робко переступила порог киностудии, прошел целый десяток лет, вместивший учебу в Кишиневском институте искусств и участие в таких весьма заметных лентах, как «Красные поляны», «Живой труп» и «Лаутары». Да и нынче талант актрисы востребован: театральные и кинопостановки, выступления и записи на радио. Нас, уфимцев, Светлана порадовала по полной программе отработанным концертом, состоявшимся перед показом фильма «Табор уходит в небо» в кинотеатре «Родина». Скорее, это был даже не концерт, а исключительно приятный вечер, проведенный в компании старого (не в смысле возраста!) друга. Обаятельного, с известной долей очаровательного кокетства, охотно отвечавшего на вопросы и удивившего собравшуюся публику проникновенным и очень достойным чтением стихов А. Ахматовой и З. Гиппиус и вполне профессиональным исполнением песен и романсов. Пожалуй, особенно зрителей тронуло деликатно положенное на музыку Луизой Хмельницкой (сестрой актера Бориса Хмельницкого) стихотворение Б. Пастернака «Свеча горела».
Из ответов актрисы на вопросы зрителей и разговора, состоявшегося после концерта, и сложилось это интервью.
— Светлана Андреевна, вы не жалеете, что, так и не выучившись на юриста, ушли в артистки?
— Когда не идет какая-то роль, жалею, что не стала криминалистом. Мучаюсь, работаю — и вот работа сдвинулась с места и пошла. Сожаление пропадает, и остается только одно чувство — ощущение того, что судьба ведет меня по правильному пути. Вообще, жизнь представляется мне цепью взаимосвязанных и предопределенных случайностей.
Я приехала из своего глухого села Сомовка в Кишинев поступать на юридический факультет, жила у любящих и весьма озабоченных обеспечением безоблачности моей жизни тетушек и дядюшек. На улицу выходила, сопровождаемая напутствием: «Светунюшка, ты запомни, это не село, это город, тут повсюду жулики».
И вот стою я на троллейбусной остановке, подходит ко мне ослепительный молодой человек в белом костюме, элегантный и неотразимый. Первая мысль: «А вот и он — жулик!». Да еще и спрашивает: «Девушка, хотите сниматься в кино?». Ну, несомненный жулик. Как он ухитрился вытянуть номер телефона моих тетушек, до сих пор непонятно, но на кинопробы я пришла со свитой родственников. Тетушки решительно сказали: «Кино — это клоака» и дружно подслушивали под дверью. А блестящий жулик оказался, конечно, Эмилем Лотяну. Так что же это: случай, судьба? Еще до института я снялась в моем первом фильме «Красные поляны». Тем, может быть, и интересна жизнь: утром планируешь, что будешь делать днем, а невидимый режиссер ведет тебя совсем в другую сторону.
— Ваша настоящая фамилия звучит, в общем-то, вполне обычно — Фомичева. А вот Тома — изысканно, почти по-французски. Что это — псевдоним?
— Тома — это фамилия моей прабабушки. Честно говоря, я о ее существовании как-то и не задумывалась, открыл ее Лотяну, познакомившись с моей семьей. Прабабушка по маминой линии — родом как раз из Франции. По семейным преданиям она вышла замуж за австрийца, от этого союза появилась на свет моя бабушка; она в свою очередь связала жизнь с венгром, живущим в Румынии, родилось шесть девочек, среди которых и была моя мама. Потом родилась я, потом моя дочь Ирина, потом внучка Машка. У нас одни девочки, зато такое буйное смешение кровей! А взять фамилию прабабушки как псевдоним мне посоветовал Лотяну.
— Светлана Андреевна, минувший год для вас — год юбилеев. 30 лет как вышел на экраны фильм «Табор уходит в небо» и 40 лет как вы снимаетесь в кино. В «Таборе» есть очень откровенная сцена купания. Для тех лет это была настоящая эротика. Как вы решились участвовать в таком эпизоде, как его, вообще, не вырезали?
— Да уж, конечно, проблемы существовали, и еще какие! Была назначена премьера в кинотеатре «Россия» в Москве, ныне кинотеатр «Пушкинский». Но до того кто-то из инструкторов горкома партии увидел фильм и добился того, чтобы премьеру сняли из-за этой сцены: велено было или вырезать, или премьеры не будет. Лотяну, конечно, ничего не собирался вырезать — эпизод нес определенную важную смысловую нагрузку. Он обратился к Гришину, бывшему тогда первым секретарем горкома партии. Гришину привезли картину, он ее посмотрел и сказал: «А что, очень красиво, никакой скабрезности». И восстановил премьеру.
А сцена, конечно, вызвала шок, и не только у нас. Советский Союз считался в то время страной пуританской, строгих нравов, и когда фильм привозили в такие страны, как Индия, Латинская Америка, он шел там с буквой «А», то есть детям до 14 лет картину смотреть было нельзя. А ведь эпизод получился очень красивый.
— Как приняли цыгане тот факт, что Раду играет не цыганка?
— Вообще цыганку я играла трижды: Раду в «Таборе», Машу в «Живом трупе», Тину в «Моем ласковом и нежном звере». Не скажу, чтобы цыгане сразу приняли меня за свою, признали, но я сама у них научилась многому. В «Живом трупе» играли артисты театра «Ромэн», а в «Таборе» — уже настоящие странствующие цыгане. Я все время за ними подсматривала: как они ходят от бедра, как общаются, какие у них жесты, амулеты, любимые слова.
Вообще, думаю, каждый прохожий в твоей жизни — твой учитель, и не только если ты — актриса. От каждого можно получить что-то хорошее и полезное. Вот цыгане научили меня лечить головную боль — нужно повязать голову синей шерстяной материей и носить, пока боль не пройдет. Вообще сам фильм они приняли очень хорошо. В Париже, помню, на его премьеру пришли цыгане чуть не со всего города, заняли кинотеатр — яркие, нарядные, в звенящих украшениях, а потом барон пригласил нас всех в свой особняк и устроил роскошный ужин.
— У большинства людей сформировалось однотипное представление: «Цыгане — воры, попрошайки, обманщики, сейчас еще и наркоторговцы». А у вас какое сложилось впечатление — ведь вы много с ними общались?
— Я общалась с ними исключительно во время съемок. Кто-то из них меня принимал, кто-то нет, кто-то говорил, что я — цыганка, но скрываю это. Среди цыган, так же как и среди людей любой национальности, есть выдающиеся люди, есть и дурные. Просто существует то, что на виду, — это цыганки, что хватают за рукава, на вокзалах, а есть такие, которых мы не видим, — очень хорошие и достойные люди.
— Кинозритель запомнил вас как женщину страстную, сильную. Роли какого репертуара вам ближе всего?
— В государственном театре я не играю. Есть три частные антрепризные компании, в которых я сейчас работаю. И есть три спектакля, в которых я занята: это комедия «Заложники любви» Н. Демчик, а также спектакль по пьесе Ксении Драгунской «Любовь — кровь» — драматическая история женщины в разные периоды ее жизни. Совсем девочкой ее играет моя дочь Ирина, а женщину зрелую играю я. Партнеры там замечательные: Валентин Смирнитский, Сергей Виноградов, Евгений Стычкин, Валерий Золотухин. Есть, правда, уже редко играемый спектакль «Нина» с Дмитрием Харатьяном и Сергеем Никоненко — тоже комедия.
Вообще, в них-то я и люблю играть. Люблю романтические роли, очень хочется сыграть в мюзикле, где много можно танцевать и петь. Чего не люблю — так это быт, простую обыкновенную жизнь. Скажу так: моя профессия — это моя жизнь, ведь самые грустные дни — дни расставания с моими героинями, а счастлива я тогда, когда чувствую, что зрители слышат, как бьется мое сердце в фильме или спектакле.
— Кстати, о дочери. Вы не отговаривали ее от актерской профессии, не убеждали, что «кино — это клоака»?
— Детей нельзя учить жить; у нас своя жизнь, у них — своя, и они должны прожить ее так, как хотят и представляют, и наша «мудрость», которой мы их пичкаем, только вызывает ответную негативную реакцию. Да мы же и сами такими были в молодости. Для меня самым болезненным моментом было замужество дочери. У нас с Ириной была как бы одна орбита, и вот она оторвалась, ушла в сторону и стала кружиться по своей.
Я это пережила. Болезненно, но пережила. Ребенок — это не собственность. В одном восточном трактате мудро сказано: «Дети — драгоценный сосуд, который дан нам на хранение». Мы должны сберечь ребенка и… отпустить. Безоблачные отношения складываются между родителями и детьми, если родители почаще держат рот на замке. Я была молода — у меня была своя жизнь, у Ирины — своя, внучке моей 15 лет — она отстаивает свое «я», попутно взращивая в нас терпение и понимание. Воспитание — это не упреки и назидания, это та атмосфера, которая царит в семье.
— Светлана Андреевна, чем сейчас занят ваш партнер по фильму «Табор уходит в небо» Григоре Григориу? Вы с ним составляли одну из самых красивых сценических пар в истории российского кинематографа.
— Он ушел из жизни вскоре после Лотяну. В апреле будет три года, как умер Эмиль, а через полгода не стало и Гриши. Он попал в страшную автомобильную аварию и не выжил после нее. Лотяну очень ценил Гришу и как актера, и как человека, называл его «актером со стальными мускулами и нежным сердцем». Таким Гриша и был, таким и остался в памяти. Он был очень ярким актером.
— Светлана Андреевна, хотя вы сменили имидж, но не утратили молодости, красоты и обаяния. У вас есть свои женские секреты?
— Не подумайте, что лукавлю, но секретов никаких нет. Считаю, что красота, долгая молодость — это дается от природы, идет от мамы с папой. Ну, не ем я мяса лет тридцать, я вегетарианка, но это ни о чем не говорит. Единственное, думаю, о чем нужно помнить и мужчинам и женщинам любого возраста — это о простом и разумном питании: желудок — не помойка. Меня часто спрашивают, как я отношусь к пластическим операциям. Положительно отношусь. Великая итальянская актриса Анна Маньяни говорила: «В моих морщинах — моя жизнь». Ну, это была ее точка зрения. Когда я сочту нужным что-то изменить в себе, я это сделаю, а пока довольна тем, что есть.
Владимир Конкин: «С годами Корчагина я люблю ещё больше»
2007 год
Трудно сказать, к счастью это или к сожалению, когда дебютная роль актера бывает значимой и яркой. С одной стороны, актер сразу взлетает к вершинам славы, его узнают на улице, а маститые режиссеры наперебой стараются пригласить в свой театральный или кинопроект. С другой стороны, те же режиссеры, не считаясь с желанием дебютанта, вовсю эксплуатируют звездный образ, сложившийся с первого фильма. Да и для самого актера удачное исполнение роли становится некой планкой, опускаться ниже которой уже стыдно.
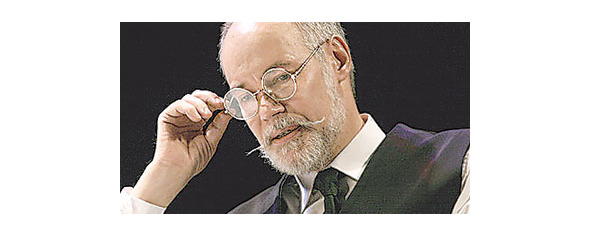
Для Владимира Конкина это был Павел Корчагин, герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Сейчас многочисленные рейтинги глянцевых журналов выявляют если «символов», то обязательно «секс». А для тех, кто был молод в семидесятые, Корчагин остается просто человеком, не спасовавшим перед трудностями и болезнями. Несмотря ни на что, он не разучился любить жизнь и радоваться каждому наступившему дню.
Корчагин и Владимир Шарапов из сериала «Место встречи изменить нельзя» — вот две звездные роли, принесшие актеру общероссийскую славу и неоднозначное с его стороны к этой славе отношение. Ведь в багаже роли самые разноплановые, особенно если учесть, что с завидным постоянством Конкин снимался и снимается в кино, а его актерская карьера делится на довольно длительные и творчески насыщенные театральные и кинопериоды.
И все же. Год 2007 — юбилейный для фильма «Как закалялась сталь». За прошедшие со дня выхода ленты 35 лет мечты о светлом коммунистическом будущем сменились рыночной реальностью: одни тихо, по-английски, вышли из рядов КПСС, другие демонстративно и красиво устраивали в прямом телеэфире аутодафе своему партбилету, устраивали с тем же пылом, с каким некогда доказывали свою преданность идеалам социализма. История России менялась на глазах и переписывалась заново, и только ленивый не лягнул наше славное прошлое в то или иное больное место.
Как ныне народный артист России Владимир Конкин относится к столь знаковой фигуре, как Павел Корчагин? С этого вопроса началась наша беседа, незаметно перешедшая в монолог, в котором артист поделился размышлениями о времени, о себе и своих героях.
— Образ Корчагина за это время стал еще более родным и близким. Это, действительно, была моя дебютная и такая масштабная роль, значение который я, может быть, и не осознал для себя сразу. Потому что уж очень бурно все началось в моей жизни: постоянные интервью, поездки и все другие соответствующие известности атрибуты. Порой меня это раздражало, порой смущало — я человек по натуре стеснительный и с годами сего качества, к счастью, не утерял.
С тех пор и повесили на меня ярлычок «Корчагин», хотя затем я снимался много: в «Романсе о влюбленных», в «Марине», в других фильмах. Мне очень хотелось играть разноплановые роли, я ведь человек был молодой, да и сейчас это желание не угасло: думаю, в судьбе любого человека можно найти и показать что-то интересное. Однако существовал такой негласный приказ по Госкино СССР (узнал я о нем случайно): Конкину не рекомендуется сниматься в ролях, дискредитирующих Павла Корчагина.
А я смешливый, более того, в дипломе у меня написано: «Лирический герой-простак». И пел, и танцевал, да и дипломный спектакль мой — водевиль «Когда цветет акация», в котором играл Борьку Прищепку. Мои педагоги были изумлены, когда меня утвердили на роль Корчагина.
Потом произошла как бы обратная реакция, и я понес корчагинский крест. Сбросить его, кого-то просить, уговаривать для меня было тяжело, в силу моей прямолинейности. Приклеенный ярлык дико меня раздражал, я мог высказать всякому в лицо все, что по этому поводу думаю.
Картина «Аты-баты, шли солдаты» стала мостиком к новому кинематографическому образу. Спасибо Леониду Быкову — он относился ко мне с большим уважением, а я его просто любил с детства. Потому и дуэт у нас получился замечательный: трогательный, смешной лейтенант Суслин, только что из школы — Суслик, и детдомовский заводила ефрейтор Святкин — Сват. Все это было достаточно забавно, но люди выходили из кинотеатра и плакали. В этот фильм как-то вместилось все: первая и последняя любовь мальчика-лейтенанта, его наивные отчаянные стычки с ироничным героем Быкова, все это сметалось страшным ураганом войны и завершалось гибелью и подвигом тех, к кому успел привыкнуть, кого полюбил зритель за те полтора часа, что идет фильм.
С 1979 года ярлык «Корчагин» сменился ярлыком «Шарапов». Я-то уже и внутренне, да и внешне не тот, и «череп по волосам плачет», а все «Шарапов». За спиной 49 фильмов и 39 спектаклей — мой творческий багаж за 40-летнюю сценическую жизнь.
Жалею о том, что давно не показывали картину «Как закалялась сталь». Думаю, кому-то страшно: а вдруг молодежь задумается над тем, что были у людей иные идеалы, иные мечты, интересы, отличные от секса и накачанных бицепсов. Ведь мало что изменилось: у власти те же бывшие партийцы. Я вижу этих сытых, самодовольных, но кричащих о благе народа людей, покровительственно хлопающих меня по плечу: «Володя, а помнишь нашу комсомольскую юность? После того, как ты сыграл Корчагина, я пошел в высшую партийную школу». «А я поехал на БАМ комсоргом».
Сегодня это богатейшие люди нашей страны. А своего героя я люблю еще больше. Таких, как он, были миллионы, этих мальчиков и девочек, которые в силу своей молодости не могли понять происходившего в стране. Они были романтиками, рвались к новой жизни, а их колпачили уже тогда. На их плечах уже въезжали в новую жизнь партийные товарищи.
Нынешнее так называемое искусство лишает людей перспективы завтрашнего дня, принижает их, не имея никакого отношения ни к нравственности, ни к любви к Отечеству, людям. Вся эта попса, спортсмены, мотающиеся по стране и агитирующие за ту или иную партию, — это просто обслуга, подобная моему персонажу Шабашкину, тому самому, что говорил помещику Троекурову: «А как же совесть? Совесть у вас за столом сидит. Вы ей косточку дайте — она вам руку лизнет». Вот и все — это же Пушкин. Что изменилось с тех пор? Ничего.
Я стараюсь жить своей жизнью, у меня свое государство — это семья. Жена, которая никогда не работала, потому, может быть, у нее и была возможность обрести силу, помогающую сохранить крепкую и дружную семью. У нас трое детей. Старшему скоро будет 35 лет, младшей дочери Софии — 19 лет. Совсем недавно, родилась четвертая внучка — Теодора, в переводе с греческого «Богом данная». Совпадение или нет, но в день ее рождения исполнилось 212 лет со дня рождения нашего прапрапращура, книгоиздателя Александра Филипповича Смирдина. Он первый в России ввел в практику книгоиздательства выплату гонораров авторам за писательский труд.
В своей жизни я отвечаю только за свою семью, своих детей и внуков и каждый поступок стараюсь соизмерить с собственной совестью. Однако тоже иногда хочется взбрыкнуть — фамилия-то у меня все-таки лошадиная. Хотя, если вернуться к греческому: конан — это труженик. 35 лет вкалываю после окончания театрального училища без единого отпуска. При этом стараюсь публику не эпатировать, нигде не тусуюсь, в рекламах не замечен. Львица рождает одного-двух львят, а крыса каждый месяц по пятнадцать крысят. Крысой я жить не желаю.
Жить со мной непросто. Если бы не изначальная искренность чувств, которая возникла у нас с женой с момента встречи, возможно, личное государство мое быстро бы развалилось. Ведь живем мы так: сегодня густо, завтра — пусто. А идти к кому-то на поклон, как делали персонажи Островского: «Дядюшка, я одумался, возьмите меня на службу», — я не собираюсь. Потому что не покидают меня уверенность и надежда на то, что вот окажусь, например, в Уфе, денег нет, голодный, раздетый, найду кого-нибудь из вас, постучусь в дверь и скажу: «Вы помните?». А вы: «Владимир Алексеевич!» и накормите, и приютите, а я, конечно, в долгу не останусь. Я старался всегда играть живых, непростых людей, начиная с первой же роли. Потому и получил в 22 года звание заслуженного артиста. Между прочим, был самым молодым заслуженным артистом страны.
Возможно, мои роли как-то плохо сочетаются в глазах зрителей с тем, что я — человек глубоко верующий, так же как и моя жена и дети. Но тут история давняя и достаточно личная. Мой старший брат Слава умер семнадцатилетним мальчиком от полиомиелита. Он не был крещен. Мне тогда было всего два года. А в пять лет я заболел скарлатиной, болезнь дала осложнение на сердце, и я начал умирать. Тогда наши бабушки дружно сказали родителям: «Что же вы делаете со своими детьми? Вы уже одного потеряли, этого хотите тоже в гроб положить? Его крестить нужно немедля». Из больницы чуть ли не на руках бабушки принесли меня в церковь. Я все помню: и серебряную купель, и как я грыз шнурок от крестика, дети ведь все в рот тащат, а бабушки привинчивали крестик к кровати. В третьем классе меня отправили в санаторий в Малаховку, и кто-то у меня этот крестик украл. Помню, так мне было обидно, и не потому, что меня обокрали, а потому, что украли именно крестик. Может быть, это и был маленький толчок к пробуждению во мне веры.
А потом многое что в жизни случалось, многое я повидал, всяких встречал людей и вот стал таким, каким меня видите. Помню, снимали мы еврейские погромы в Шепетовке. Когда-то они действительно там были, и жили в ней люди, которые эти погромы еще помнили. Так мы на самом деле сожгли пол-Шепетовки, но жители были безумно этим довольны: им дали новые квартиры, и они просто умоляли нас не давать пожарным тушить свои старые халупы. Шепетовка — местечко очень интересное, там еще сохранились еврейские традиции. Нас пригласили на свадьбу и угощали всякой фаршированной вкуснятиной — все было очень весело и необычно.
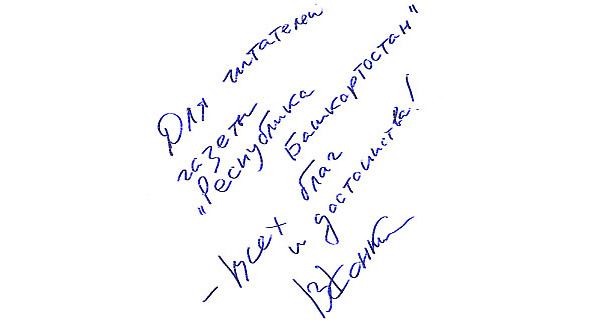
Ведь, к сожалению, пока мы жили в «большой семье советских народов», на самом деле практически ничего друг о друге не знали. Мне повезло больше. Мой папа работал главным ревизором Приволжской железной дороги, я много поездил по стране. Потому и видел, где и как живут люди, люди разных национальностей и видел не показуху для больших проезжих начальников, а будничную, но необычайную для меня жизнь. Вот я раньше представлял себе: что там акын — ну, сыграет на двух струнах что-то невнятное. Но когда услышал его впервые в юрте, где и надо его слушать, испытал эмоциональный шок. Я плакал, ничего не понимая, спросил: «Это ведь песня о любви?» Мне ответили: «Да». Меня трясло, пока я слушал. Такое надо испытать самому, надо — вкушать. Да и у меня самого в крови много чего намешано. Родился в Саратове, в роду у нас были и поляки, и немцы, и белорусы, и украинцы — такой сам себе «союз нерушимый». Родители воспитали меня в абсолютной терпимости ко всем национальностям.
Я много раз видел, как мама моя подходила к какой-нибудь соседской девчушке с растрепанной косичкой и поправляла ей бантик, а папа вытирал сопливый нос и мне, и моим друзьям. Главное ведь не лозунги и призывы, а атмосфера в семье. Поневоле научишься воспринимать жизнь правильно, если дома постоянно звучит классическая музыка, папа играет чуть ли не на всех мыслимых музыкальных инструментах, занимается художественной самодеятельностью, а мама водит на все театральные премьеры.
Потому я и говорил не раз, что главное в жизни — семья, мое государство. Вот уже несколько последних лет занимаюсь тем, что записываю на диски русские сказки. К сожалению, это немецкий проект, у нас опять денег не нашлось, а ведь очень многие дети не представляют себе чудесную мелодику русской народной речи. Мне приятно, когда мои друзья и знакомые рассказывают о том, что их маленькие дети не засыпают до тех пор, пока дядя Володя не расскажет им на ночь сказку.
Ольга Прокофьева, Валерий Гаркалин, Семен Стругачев: «Шекспир нуждается в современном переводе»
2007 год
Зритель часто ассоциирует сценический образ, созданный актером, с личностью самого актера, перенося на него свои симпатии и антипатии. Может быть, поэтому так любимы мастера комедийного жанра, вызывающие у нас смех, а не слезы и переживания, которых и в жизни хватает.

Трех актеров, которых объединило в Уфе участие в одном театральном проекте, роднит многое: они всенародно любимы и известны широким массам именно своими комедийными ролями. Каждый протоптал свою нелегкую дорогу к заслуженной популярности и у каждого за плечами серьезные и сложные театральные роли, о которых веселящийся кино- и телезритель вряд ли подозревает.

По странствиям Семена Стругачева, более известного как Лева Соловейчик из «Национальных особенностей» Александра Рогожкина, можно изучать географию. Родившийся в Биробиджане актер окончил театральный институт во Владивостоке, за пять лет переиграл пятнадцать ролей в драматическом театре Нижнего Новгорода, перекочевал оттуда в Самару и, наконец, осел в Санкт-Петербурге в театре имени Ленсовета. Покойный режиссер Игорь Владимиров, известный своей любовью к музыкальным спектаклям, активно использовал вокал Стругачева и его универсальный талант, занимая артиста в самых разнообразных спектаклях от «Трубадура и его друзей», «Собачьего сердца» и «Мнимого больного» до главной роли в спектакле «Западня» по произведению Кафки.
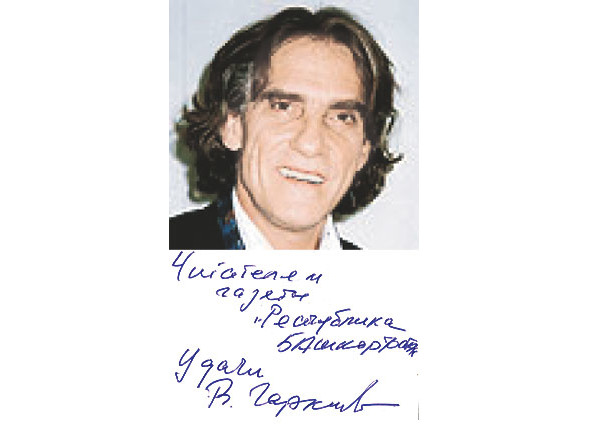
Валерий Гаркалин — это, конечно, «Ширли-мырли». Режиссер Владимир Меньшов занял в кинокартине целую плеяду замечательных и знаменитых артистов, но Гаркалин никоим образом не стушевался на их фоне. А ведь зритель, радостно глядя на размножившихся Кроликовых, и не подозревает, какие «университеты» выпали на долю, казалось бы, легко и непринужденно, даже грациозно, играющего свою роль артиста. Его долго не принимали ни в один театральный вуз, а одна известная преподавательница из Щукинского училища душевно посоветовала: «Если увидите, что где-нибудь написано „театральный институт“ — бегите мимо. А еще лучше на пушечный выстрел не подходите к этому зданию…» Посему дальше была армия, работа на заводе полупроводниковых приборов во Фрязино, учеба на факультете режиссеров эстрады и массовых представлений РАТИ и восемь лет поездок по стране с кемеровским ансамблем «Люди и куклы». И ни тени сомнения в своем предназначении. Иначе театральная Москва не увидела бы гаркалинских Моцарта и Гамлета, Хлестакова и Петруччо.
Не сразу принял театральный мир и Ольгу Прокофьеву — язвительную, самовлюбленную и обаятельную Жанну Аркадьевну из сериала «Моя прекрасная няня». Провалившись на экзаменах в театральный вуз, Ольга устроилась бухгалтером на телевидение и через год была зачислена в студентки РАТИ на режиссерский факультет, в итоге получив красный диплом и блестяще сыграв в выпускном спектакле «Завтра была война». Как верная ученица Андрея Гончарова Ольга проявляет завидное постоянство, что можно, наверное, объяснить еще и востребованностью, и уже двадцатый сезон играет в театре имени Маяковского. В ее репертуаре — пьесы Островского и Горина, современных авторов, пишущих в самых разных жанрах и стилях.
В общении актеры так же обаятельны, как и на экране, и не жалеют времени, отвечая на многочисленные вопросы журналистов.
— Что для вас является определяющим при выборе роли, особенно в антрепризном спектакле? Ведь не секрет, что именно антреприза вызывает особые сомнения в качестве предлагаемого материала?
В. Г. — Легко отвечу за всех. Результат нашей работы, в общем-то, довольно непредсказуем: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», поэтому к антрепризе отношение у меня выработалось несуетное, непредвзятое, и вопросы возникали только такие: какова литературная основа и с кем буду играть.
— Ольга Евгеньевна, в одном из интервью вы сказали, что комедийные роли — самые трудные. Почему?
О. П. — Смешить публику грамотно, не используя при этом, простите, упавшие штаны или слово, которое обычно вслух не произносят, на самом деле трудно. Я имею в виду высокий класс юмора, когда актер умеет найти драматургию в исполняемой роли, правильно расставить нужные акценты, которые, может быть, не видны изначально. Для меня это сложнее, чем сыграть какую-либо драматическую роль. Юмор многогранен. Один из критиков сделал мне лучший комплимент из всех, что я слышала за свою жизнь: «Когда Прокофьева стоит спиной — уже смешно».
— Театральная публика знает вас по серьезным ролям, вы участвуете в пьесах по произведениям Шекспира, Кафки, Островского, кинозритель больше знаком с вашими комедийными ролями. Как вы считаете, важно ли актеру иметь амплуа или он должен быть универсалом?
О. П. — Есть замечательные комедийные роли, есть желанные драматургические, а актер всю жизнь стремится играть в широком диапазоне: удивлять публику в шекспировской роли, в то же время сыграть что-то легкое, даже незатейливое. А то, что зрители знают меня как актрису комедийную, ну, так что ж — ничего страшного. У актера появляется своего рода визитная карточка, запомнившаяся роль. Когда на ум приходила Гундарева, говорили: «Сладкая женщина», Симонова ассоциировалась с «Афоней», но это, конечно, сначала. Не вижу трагедии в том, что меня называют Жанной Аркадьевной. Раз смотрят сериал «Моя прекрасная няня», глядишь, посмотрят что-нибудь еще.
С. С. — Когда я пришел работать в театр имени Ленсовета, Игорь Владимиров представил меня коллегам так: «Вот к нам пришел артист. У него амплуа — простак-иностранец». Их я и играл. Но в театр пригласили ставить Кафку режиссера-поляка, дали ему актера на главную роль, а поляк вдруг углядел меня и категорично так сказал: «В „Западне“ будет играть этот артист». Владимиров возразил: «Вы что, он у нас простак-иностранец», на что ему невозмутимо ответили: «Это у вас он простак-иностранец, а у меня будет играть Кафку».
Если серьезно, артист, безусловно, должен быть универсальным. Это большое несчастье, когда всю жизнь он — Шурик. Мне посчастливилось играть в одном фильме с Александром Демьяненко, и просто чувствовалось, как он страдает от того, что всю жизнь его ассоциировали с Шуриком, а ведь он — глубокий, замечательный артист. Сам я Рогожкину уже неоднократно говорил: «Ты меня породил, ты меня и убей». Но Лева у меня получился такой вот живучий. Я не обижаюсь, когда мне кричат: «Привет, Лева!». Зачем поправлять? Кино дало мне известность, и я ему за это благодарен.
— А что приносит больше радости: работа в театре или кино?
С. С. — Думаю, большее удовольствие получаешь от игры в театре. Съемка в кино — это какой-то необъяснимо длинный и тяжелый процесс. Вот в театре: пришел, сыграл, ушел, а на съемочной площадке сидишь чуть не весь день, ждешь, когда ты выйдешь, к тому времени перегоришь весь. И потом, в кино уже ничего не изменишь: снялся и все! А в театре — что сегодня не доиграл — завтра исправлю, что-то сделаю по-другому.
О. П. — Я актриса, прежде всего, театральная и, смею надеяться, востребованная. Но разделяю мнение Михаила Жарова. Когда его спросили, что он больше любит: театр или кино, Жаров ответил: «Это все равно, что спросить, кого вы больше любите: маму или папу».
— Валерий Борисович, бытует довольно распространенное мнение, что для актера сыграть Гамлета — значит достичь вершин актерского мастерства. Эта роль есть в вашем репертуаре. Расскажите о своем Гамлете.
В. Г. — К сожалению, спектакль этот сейчас не играется, потому что умер исполнитель роли Клавдия и старшего Гамлета — Николай Волков, а его роль и ее исполнитель были чрезвычайно важны для целостного восприятия спектакля. Заменить его практически некем, он играл блестяще.
Я же безоговорочно пошел на поводу у своих актерских амбиций по ряду причин: во-первых, прекрасный перевод. Многие классические авторы и, может быть, особенно Шекспир, нуждаются в современном переводе, хотя наша культура перевода — высочайшая, ведь она связана с именами Пастернака, Лозинского, Щепкиной-Куперник. Наш перевод сделал Андрюша Чернов, петербургский поэт под явным влиянием Бродского, хотя почему бы и не быть под влиянием великого человека. Перевод получился мало того замечательный, он еще и сделан со староанглийского подстрочника. Это, пожалуй, уникальный случай, ведь при уже существующих вариантах пьесы даже сюжетная линия построена немного по-другому. Мы же играли пьесу так, как она была написана.
Второе — ставил спектакль Дима Крымов, сын замечательного режиссера Анатолия Эфроса и Натальи Крымовой. На спектаклях Эфроса я воспитывался, и, по-моему, это режиссер не до конца оцененный. Я не мог не отдаться этому счастливому стечению обстоятельств: великий автор, прекрасный перевод и мой друг Дима Крымов в качестве режиссера. Он так хорошо все придумал, решил, партнеры замечательные: Ольга Яковлева, Николай Волков.
Кстати, еще до войны «Гамлет» был одним из самых посещаемых спектаклей в театре Берковского (был тогда такой театр), и во время представления у одной из высокопоставленных дам украли норковую шубу, чуть ли не единственную во всем Советском Союзе. Украли примерно так же, как в знаменитом эпизоде фильма «Место встречи изменить нельзя». Театр оцепили, но шубу в отличие от фильма так и не нашли. После спектакля Сергей Владимирович Михалков позвонил этой даме и очень ехидно спросил: «Ну, что, Галя, теперь ты знаешь, что „Гамлет“ — это трагедия?»
— Читаете ли вы рецензии на ваши спектакли и как к ним относитесь, как на них реагируете?
В. Г. — Я только что упомянул Наталью Крымову — блестящего театрального критика. В свое время она написала статью о спектакле «Укрощение строптивой», где я играл роль Петруччо в театре Сатиры. Помню, каждый раз, идя в театр, я открывал эту статью и перечитывал. Это была настоящая критическая разработка, а нынешние статьи о том, что я играю и что делаю, перед выходом на сцену, не раскрываю. Вот и вся разница. То, что обо мне сейчас пишут — это в большинстве случаев оскорбительно и никакого отношения к тому, что я делаю, не имеет.
С. С. — В Санкт-Петербурге, где сейчас работаю, есть некая условность: приехал я из провинции, значит, занял чье-то место, и все — нет в рецензиях Стругачева. Спектакли идут, зритель валит, зал битком, я выхожу на сцену в главной роли, всех упоминают в статье — меня нет. Я прекрасно знаю пишущих журналистов, они меня любят, но у них установка — Стругачева не замечать. Поэтому газет я даже не открываю.
О. П. — В общем-то, критика в мой адрес почти всегда была благожелательна, но иногда кажется, что журналисты-искусствоведы пишут, сами не понимая смысла и реакции на написанное. Например, недавно в театре Маяковского вышел спектакль «Шаткое равновесие» по пьесе Олби, и один критик написал, что Прокофьеву в этом спектакле выпускают для разогрева, как медийное лицо. Возможно, он хотел как-то польстить, но вышло так, что он оскорбил театр, постановщика, ведь спектакль получился на самом деле замечательный. Мое участие в спектакле не означает, что зритель придет в театр посмеяться, потому что запомнил меня как актрису комедийную.
Хотя, похоже, сейчас театр — место развлечения, но, думаю, это не так уж плохо. Публику можно уподобить беременной женщине, которую тянет то на кислое, то на соленое, то на известку со стены. Зрителя перекормили негативом в жизни: ну, что говорить, если под Новый год показывают казнь. Поэтому не зря один журналист рецензию на спектакль выпустил под заголовком «Банка сметаны», отметив тем самым его позитивное влияние на зрителя.
С. С. — Это прекрасно, что люди идут в театр за эмоциями, которых им не хватает в жизни. У меня есть такая роль: фокусник из Люблина. Публика идет на Леву Соловейчика, весь первый акт зал умирает со смеху, а вот второй акт все переворачивает эмоционально. На одном из представлений был полный зал народу, а на последнем ряду рыдал молодой человек с девочкой, да так, что его просто вынесли из зала — вот это для меня высший класс театральной условности.
— Ольга Евгеньевна, работая над сериалом «Моя прекрасная няня», ориентировались ли вы на американский аналог?
О. П. — Я видела отрывки сериала, и мне очень не понравилась та героиня, которую должна была играть я. Это мало того, что очень невзрачная личность, она вообще не соперница Вике. Ходит какая-то битая жизнью неудачница, все время ест чего-то, все над ней смеются — жалкое зрелище. Я очень хотела быть равной, иначе это не борьба за мужчину, это побоище. Жанна Аркадьевна у меня сильная, красивая, и знаю, что примерно половина зрителей сочувствовала именно ей.
— Семен Михайлович, с последней да и с прошлыми экранизациями «Мастера и Маргариты» связано много мистических слухов. Можете припомнить что-нибудь, касающееся лично вас?
С. С. — Да, многие артисты отказывались сниматься в последней экранизации именно из-за этой мистики, связанной с романом, но у меня была роль Левия Матфея, роль, которой нечего бояться, наоборот, я переосмыслил для себя какие-то моменты, важные для меня и как для актера, и как для человека. Да и режиссер Бортко — личность рациональная, реальная и может снимать все, что угодно. Он крепко стоит на ногах и смотрит вперед, а не назад, кстати, считаю, из-за этих моментов картина не очень получилась. Вообще-то, думаю, сериал из Булгакова делать просто нельзя.
— Валерий Борисович, а где сложнее играть: в обычном драматическом театре или в кукольном, где актер отделен от зрителя ширмой, да и вообще специфика иная?
В. Г. — Театр кукол — самый древний вид театрального искусства, и я жалею, что мало играл у Образцова и в Кемерово. Что касается сложности, то вот был я недавно в Нью-Йорке. Этот город немыслим без Бродвея и мюзиклов. На представлении одного из них я видел, как два мальчика и девочка играют свои роли, ведут по сцене каждый свою куклу, а еще танцуют и поют, причем у людей — своя драматическая роль, у кукол — своя, совершенно отдельная. Если хотя бы трое моих студентов доросли до такого уровня, я считал бы себя состоявшимся педагогом. Театр кукол как раз и дает актеру возможность быть человеком универсальным. Моя дорога в драматический театр — через кукол, дорога Семена — из Биробиджана, Владивостока на подмостки Санкт-Петербурга, путь Ольги — через острые характерные роли. Все это тот неоценимый жизненный опыт, без которого немыслимо настоящее искусство.
Алексей Котеночкин: «Когда твой персонаж начинает жить отдельной жизнью — это чудо, и потому я никогда не уйду в дизайнеры»
2007 год
Забавная фамилия Котеночкин вызывает у нас в памяти не образ ласкового, пушистого создания, неуклюже играющего с бабушкиным клубком, а давно знакомую и любимую уже не одним поколением детей (да и родителей) неразлучную парочку: смышленого зайца и растяпу Волка, с завидным упорством гоняющегося за ушастым шустриком.
По сериям мультфильма можно было проследить и даже как-то изучить историю тех сорока лет, что пронеслись со дня выхода первого мультфильма. Взрослели, становились родителям дети, которые с упоением ждали забавных короткометражек. В них обязательно в дураках оставался распущенный Волк, похожий на хулиганов, прорабатываемых на Совете отряда, а Заяц, примерный пионер и чистенький отличник, всегда выпутывался из самых немыслимых ситуаций. Широкие клеши Волка символизировали зарвавшегося стилягу и вызывали всеобщее осуждение.
Менялись времена, менялся имидж. Волк обзавелся мотоциклом, стал загорать на море под задорный голос Игоря Скляра. Как молоды мы были, какие пели песни, что носили… Конечно, у режиссера «Ну, погоди!» было множество и других мультфильмов, вовсе не плохих, но именно эта парочка отличается таким завидным долгожительством и не собирается сходить с экранов. Фамилия у режиссера новых серий осталась та же, а вот имя сменилось: сюжеты снимает сын Котеночкина — Алексей Вячеславович, высокий, учтивый, элегантный, доброжелательный, а угрюмым и сварливым, наверное, и не может быть режиссер детского кино.

— Алексей Вячеславович, ваш папа как-то очень неожиданно шагнул из артиллерийского училища в мультипликацию. А вы каким путем пришли туда? Или это не основное ваше занятие?
— Да нет, это занятие со мной с детства. Сначала были мультстудии, например, в кинотеатре «Баррикада», который специализировался на показе мультфильмов. Мы делали там кукол, пытались снимать фильмы. Подобная студия была и при «Союзмультфильме». Затем я поступил в Стргановское училище и окончил его по специальности «дизайнер». Но с такой профессией в советской стране жить было тяжело. Поэтому я занимался тем, что писал социалистические обязательства в НИИ. Тогда отец предложил поработать с ним над фильмом «Старая пластинка» по песням Леонида Утесова. Каждая песня — отдельный сюжет. Папина задумка заключалась в том, чтобы разные сюжеты делали разные художники. Но в итоге фильм заканчивал один. Работа мне понравилась, и я решил продолжать. Так с 1982 года, с перерывами, конечно, этим делом и занимаюсь.
— Фамилию Котеночкин, все равно папа это или сын связывают, прежде всего, с мультсериалом «Ну погоди». А еще какие работы на вашем счету?
— Мы с отцом делали мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова». Я был художником-постановщиком. Этому котенку в Воронеже на улице Лизюкова поставлен памятник, так что считаю фильм нашей удачей.
В годовщину установки памятника меня туда приглашают. С этим памятником у горожан связаны разные легенды. Люди приезжают, гладят котенка то ли по спине, то ли по животу — на счастье.
Как режиссер я делал несколько сюжетов для «Веселой карусели» (мультипликационное подобие «Ералаша» для самых маленьких), для тележурнала «Фитиль». К сожалению, когда ощутил тягу к режиссуре, все в стране стало потихонечку разваливаться. Студия практически перестала выпускать фильмы, а сотрудников вежливо попросили искать себе работу. Я переквалифицировался в иллюстратора детских книжек. Несколько лет занимался тем, что рисовал картинки к стихам Агнии Барто и других детских писателей. Потом предложили продолжить сериал «Ну, погоди!». Мы с Александром Курляндским, одним из авторов сценария, посовещались, посомневались, но все же взялись за работу, и результаты я привез в Уфу.
— А не было у вас желания вновь заняться дизайном, ведь это сейчас довольно востребованная профессия?
— Кино, анимация — это волшебное занятие. Возникающие ощущения не передать словами: созданный тобой персонаж начинает жить отдельной от тебя жизнью. Каждый раз испытываешь какое-то необъяснимое чувство восторга. Чудо, которое происходит на каждом фильме, затягивает.
— У большинства зрителей Волк из «Ну, погоди!», конечно, ассоциируется с голосом Анатолия Папанова, а Заяц — с Кларой Румяновой. Как вы обошлись без них?
— Тут я могу привести пример с нашим американским другом Микки Маусом. Первые серии выходили в конце 20-х годов, за Микки говорил сам Уолт Дисней. Потом, когда у него образовалась огромная студия, и он стал очень большим руководителем, пищать тонким голосом было уже не к лицу, за Микки Мауса говорили профессиональные актеры. В сороковые годы актеры опять сменились, и так далее. Фильмы с Микки выходят до сих пор, и актеры все время меняются. Люди смертны, а персонажи нет.
Конечно, заменить Папанова и Румянову невозможно, у персонажа должен оставаться голос, напоминающий хотя бы тот, по которому его узнают зрители. Мы приняли решение не пытаться что-то вытащить из старых серий, а пригласить новых актеров и поставить перед ними задачу: не пародировать прежних артистов, а играть роль Волка и Зайца. Игорь Христенко, озвучивший Волка, смолоду работал в Театре сатиры и хорошо был знаком с Папановым. И потому, когда мы ему позвонили, он сразу сказал: «Ну, Волк же — это я!». На мой вкус, актер с задачей справился замечательно. Вместо Клары Румяновой звучит голос Ольги Зверевой.
— А вообще, насколько изменились авторский коллектив, стилистика старого мультика?
— Сценаристы остались те же самые: Феликс Камов, Александр Курляндский. В остальном команда собирается под один проект, он завершается, и команда перекочевывает на другое место, где есть работа. Проблемы возникают не с актерами, а, например, с музыкой. В старых сериях использовались обрывки популярных шлягеров, своих и зарубежных. Тогда это было легко. Сейчас за все надо платить. Постоянно возникают проблемы с авторскими правами, поэтому мы решили использовать несколько хитов российского производства, а всю музыку писать специально. Для этого пригласили Андрея Державина, в прошлом солиста, а теперь клавишника группы «Машина времени». Он большой специалист по компьютерным технологиям, но в мультфильме звучит живая, записанная им и его друзьями музыка.
— А вы используете в своей работе компьютерную графику?
— Создавая новые серии «Ну, погоди!», мы ставили перед собой задачу: чтобы они смотрелись как продолжение. Идея была такой: ребенок двух-трех лет, который знать не знает, что этому сериалу уже скоро 40 лет, садится смотреть мультсериал и разницу между новыми и старыми сериями не чувствует. Поэтому вся работа была ручная, на бумаге, а вот уже готовые рисунки заносились в компьютер, раскрашивались, то есть последняя техническая стадия была компьютерной.
По большому счету для производства авторского кино сегодня вообще не нужно студии. Если у вас есть компьютер, вы идете в подземный переход, покупаете там пиратскую программу и, сидя дома, практически бесплатно делаете довольно профессиональный фильм, если, конечно, у вас есть способности и желание. А вот с производством большого кино — проблемы. Если раньше была крупная студия «Союзмультфильм» и там на курсах готовили профессионалов по выпуску мультфильмов, то теперь никто и нигде этому не учит. В Москве, насколько я знаю, в запуске несколько серьезных проектов, а людей не хватает, и одни и те же профессионалы кочуют из одного фильма в другой. Когда мы делали «Ну, погоди!» объявили срочный набор специалистов для какого-то дорогостоящего проекта. Мои люди встали, бросили карандаши и ластики, и я остался один. Потом, конечно, все вернулись.
— А как вы относитесь к снятым в России фильмам «Алеша Попович», «Князь Владимир»? Вам не кажется, что они очень напоминают голливудские проекты, что, кроме имен, в них не осталось ни русской задушевности, ни даже достоверного сюжета.
— Я посмотрел эти фильмы и знаю, какие проблемы приходилось решать людям для того, чтобы это сделать. Был скромный бюджет, сжатые сроки. Считаю, что студия «Мельница» в Питере делает фильмы все лучше и лучше. Поэтому я — благодарный зритель, а большинство, не задумываясь о проблемах, которые приходилось решать режиссеру, начинают где-то в интернете разводить критику. Мне всегда хочется сказать: «Ребята, а сами-то вы в своей области, не в анимации, сделали что-то лучше тех же самых американцев? Критиковать вы, конечно, умеете».
— И все-таки, особенностью русских мультфильмов всегда считали доброту, задушевность, они учили детей не пасовать перед трудностями, помогать другу, попавшему в беду. Сохранилась ли такая концепция у наших мультиков?
— В области короткометражек есть очень симпатичные, есть примитивные работы, есть философские притчи. И, в общем-то, это фильмы не для детей, а для фестивалей. То, что считается детским фильмом в понимании фестивальном не всегда интересно детям. Они, как правило, интересны авторам, критикам, которые о них потом будут писать. Ребенок, попавший на такой просмотр, просто встанет и уйдет с половины фильма. А что касается старых мультфильмов советских времен, то у взрослых остался некий образ: мы смотрели эти фильмы, и у нас о них хорошие воспоминания.
Если реально подойти к вопросу, то я провел эксперимент: купил несколько сборников союзмультфильмовских работ и посадил своего внука смотреть их. Ему пять лет. Не стал он их смотреть, и я его понимаю. Кукольный мультик конца 60-х годов — это довольно тяжелое зрелище. «Чебурашка», «38 попугаев» — счастливые исключения. Меняются ритмы, технологии. Сейчас растут дети с клиповым сознанием. Информацию они воспринимают совершенно с другой скоростью. Для них замечательный фильм «Кто сказал «мяу»? — это набор статических фотографий. Каноны творчества сегодня должны быть совершенно другими.
Вячеслав Зайцев: «Счастье — это когда принадлежишь не себе, а людям»
2007 год
В детстве его называли «солнечным зайчиком»: он был светлым, с раскосыми глазами, все время улыбался, и, кстати, до сих пор в Корее, Китае или Японии его принимают за своего. Со второго класса он занимался во Дворце пионеров, пел вместе с мамой в хоре, танцевал, декламировал и мечтал стать артистом оперетты. Но жизнь сложилась так, как сложилась.

Отец во время войны попал в плен, а потом был «плен» в России. Для «солнечного» мальчика оказались закрытыми все вузы. Единственный техникум, куда его приняли, был Ивановский химико-технологический, факультет прикладного искусства. Он окончил его блестяще и попал в те пять процентов выпускников, которых направляли учиться дальше в Москву. Общежитие ему не дали, и он пошел в прислуги к знакомым: помогал по дому, смотрел за детьми, а когда приходили гости — танцевал с хозяйкой. После Иваново Москва показалась ему трудным городом, но он старался этого не замечать, просто жил.
Сейчас он кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак Почета», народный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ, почетный гражданин Парижа. В его нарядах блистали Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и многие другие. Это — Вячеслав Михайлович Зайцев.
А будущий взлет ему предсказала цыганка. В Венгрии снимался фильм «Держись за облака», он делал к нему костюмы. В перерыве между съемками к ним подошла цыганка и сказала: «Передайте этому молодому человеку, что до пятидесяти лет он будет жить в нищете. Но в пятьдесят лет произойдет событие, которое сделает его всемирно известным. Он будет очень богат, но у него никогда не будет денег, потому что он всегда будет отдавать их другим». Вячеслав поверил ей, но не ждал этих пятидесяти лет. Он жил и работал. И когда в 1988 году его пригласили в Париж, и он представил там свою коллекцию, произошел тот самый перелом. Именно в пятьдесят лет. Это был первый огромный успех, после чего Зайцев получил золотую медаль «Почетный гражданин Парижа», а через год был признан человеком года моды мира.
Самая восхитительная женщина в мире для человека, делающего женщин красавицами, — это до сих пор его мама. Она была скромна, проста, очень гармонична. Она научила его не бояться никакой работы. И сейчас уборку, стирку — все делает сам, и это доставляет удовольствие. Она научила его замечать красоту природы, любить. В ее честь внучку назвали Марией.
— Что для вас означают слова «человек, хорошо одетый»?
— Это, прежде всего, человек, внутреннее состояние которого совпадает с внешним видом. Кроссовки и джинсы упрощают отношение к самому человеку. Это замечательный вид рабочей одежды — но не повседневной. И то, что они стали предметами, необходимыми каждому, — это ужасно. Люди просто ограничили возможность для проявления своей индивидуальности. Практически в любом городе мира вы встретите людей, одетых в одно и то же. Гардероб сильно обеднел.
— Какую женщину вы посчитаете элегантной?
— Даму в черной юбке или черных брюках и белой сорочке. Это беспроигрышный вариант: он может быть как деловым, так и вечерним романтичным нарядом. Представьте себе открытый воротник, красивый шелковый шейный платок, особую прическу, макияж, короткую юбку, черные туфли на высоких каблуках. По-прежнему не сдает позиций и маленькое черное платье, гениальное изобретение Коко Шанель. Название остается одинаковым вот уже несколько десятков лет, а его формы могут быть самыми разнообразными. Мои студенты в лаборатории моды придумывают совершенно новые по стилю образцы, придают ему другое звучание.
Пожалуй, самым современным и незаменимым на сегодняшний день я считаю трикотаж — это лучшее, что пока изобретено человечеством. В этом материале чувствуется какое-то благородство, тепло, он незаменим для ручного творчества, а значит, возможности пофантазировать. Как ни забавно, но еще в 60-е годы меня спросили, какие ткани будут пользоваться наибольшей популярностью в будущем. Я сказал: «трикотаж» — и не ошибся.
— А вообще, ошибались?
— Это было опять-таки в 60-е годы, когда одежда была серая, унылая, какая-то бесконфликтная. И я сказал, что где-то к 2000 году человечество поумнеет и возьмет самое лучшее, что есть в культуре народов в сфере одежды. Я работал тогда в театре, и мир казался мне таким же театром. Тогда сохраняли свою самобытность Япония, Китай, вообще восточные страны. Вот тут-то я и ошибся. Сейчас мир — сплошная Америка. У меня в последние годы стерлось представление о стиле в одежде той или иной страны. Мода стала безумно интернациональна, потому что информационный поток настолько активен, что любую новинку можно видеть сегодня в любом конце земного шара.
А я, наверное, остался одним из последних романтиков. Я люблю, чтобы женщина волновала воображение мужчины. Чтобы мужчине хотелось прикоснуться к ее совершенному миру. Женщина — это гармоническое существо. Но в последнее время она стала доминировать в современном обществе, теряя свою загадочную привлекательность и всемогущую слабость. К сожалению, мало кто это понимает.
Выделить кого-то стало трудно. Стилисты, визажисты, модельеры работают очень профессионально и… очень похоже. Людмила Гурченко — очень стильная женщина, Лайма Вайкуле отличается отменным вкусом, хотя чувствуется Прибалтика, Понаровская в свое время была очень хороша. А вообще, для меня интересна любая женщина. Но была у меня клиентка и 76-го размера. Я, когда ее увидел, подумал, что никогда в жизни не смогу ее одеть. Одел, однако, она была счастлива.
Думаю, это мне Бог помогает. Когда приходит заказчик, первым делом мне приходит на ум нужная ткань, в которой человек будет смотреться хорошо. Из ткани рождается форма. Могу нескромно похвастаться, что за мои 28 лет каждодневной работы с клиентами в Доме моды, ни один из них не ушел недовольным. Причем возраст у них самый разный: от 40 до 95 лет. Недавно делал два платья в подарок Людмиле Касаткиной к 85-летию: потрясающая женщина, очень живая, энергичная, изящная. Одно платье я делал для нее в стиле Марлен Дитрих. Такие женщины когда-то составляли славу отечественного кинематографа, мне хочется, чтобы они остались в памяти роскошными людьми.
— Как рождаются ваши неповторимые коллекции?
— Для меня, прежде всего, интересен человек. Импульс творчества возникает ниоткуда. Я начинаю рисовать и чувствую, что вот этот человек вызывает желание попробовать какой-то особый стиль, световую гамму. Я рисую и не могу понять, почему я рисую именно так.
Женщина имеет в этой области неоспоримое превосходство, пользуясь самыми разнообразными средствами. В отличие от мужчин, стесненных брюками.
— Можете ли вы назвать имена российских мастеров, которые делают у нас в стране моду?
— Государственные предприятия не могут составить конкуренцию западным брендам и ведущим модельерам страны. Чтобы исправить положение, нужно либо усилить роль государства в развитии индустрии моды, либо отдать предприятия в частные руки. Именно так поступили во Франции и Италии — странах, которые, как известно, являются законодателями мировой моды.
У нас выживают единицы — Юдашкин, Чепурин, а молодые, не менее талантливые люди так и пропадают в безвестности.
Я воспитываю лидеров. Для этого специально открыл в своем Доме лабораторию моды, куда приглашаю профессиональных художников или тех, кто уже состоялся, но не имеет полного образования по моделированию, конструированию, рисунку. И вот результат: за полтора года работы мои воспитанники завоевали Гран-при и первые места на разных конкурсах.
— В последнее время вы всерьез увлеклись живописью: для собственного удовольствия или в помощь своей профессии?
— Сейчас я увлекся больше фотоживописью. Я изучал рисование в юности и быстро понял, что ни Микеланджело, ни Леонардо из меня не получится. Зато я смогу достичь каких-то, скажем, высот в фотографии. Сейчас у меня огромная коллекция фоторабот, успешно прошла выставка в Академии художеств. Я создаю абстрактные композиции из живых фигур, одетых в мои же модели, и, играя светом, добиваюсь нужной картинки.
Мне кажется, возможностям человека вообще нет предела. Все ограничивается только пределами его фантазии. Я постоянно живу в мире, насыщенном самыми разными образами, иногда приходящими во сне. Названия и темы коллекций тоже приходят ко мне во сне. Жизнь безумно интересна.
— Можно сказать, что вы полностью счастливый человек?
— Очень счастливый. Я никогда не думал, что добьюсь чего-то большого, работал всю жизнь как в бесконечном полете. У меня сын, любимая внучка, моя радость, тем более что она у меня уже модель, и в ней чувствуется толковая будущая хозяйка Дома моделей. Когда не принадлежишь себе, а принадлежишь людям — это самое большое счастье.
— Сейчас издается много журналов, выходят передачи на тему, как помочь человеку найти свой стиль, индивидуальность. Можно ли, по-вашему, это сделать самому?
— Сложно. Раньше, когда не было стилистов, существовало совершенно жуткое разнопрочтение сочетания модных тенденций с желаниями самого человека. Ныне, к счастью, существуют стилисты. Наша передача «Модный приговор» достаточно убедительно доказывает, что каждый человек может найти свой стиль, но с помощью профессионала. Я по себе могу судить, вспоминая, как приехал в Москву мальчишкой в зеленой вельветовой куртке, зеленых штанах. Потом начал пробовать себя через русский стиль. Сшил себе оранжевую рубаху с аппликациями, ходил как чучело, народ плевался, но мне было приятно: меня заметили! Потом со мной стал бороться мой любимый педагог, Раиса Захаржевская, благодаря которой я состоялся как художник. Она преподавала историю костюма. Чтобы добиться ее расположения, я стал изучать предмет.
Поэтому я могу и мне хочется сегодня работать в любой теме. Например, ориентируясь на Кандинского, которого я открыл, будучи первый раз в Париже с показом мод. Прошел скучных, серых абстракционистов, и сердце у меня вдруг запульсировало — я взглядом уперся прямо в его картины. Это необыкновенный человек, который понял что-то за гранью сознания. Ему дано видеть другой мир. Сам я перекопировал художников всех времен.
— Можно назвать имена нескольких модельеров-женщин, добившихся успеха: прежде всего, конечно, это несравненная Коко Шанель, Сони Рикель, Вивьен Вествуд. Но, в основном, модельеры — мужчины. Почему?
— А мужчины более абстрагированно относятся к женщинам. Женщины все примеряют, прежде всего, на себя. Чтобы стать успешным модельером, надо быть женщиной с мужским характером, как Шанель. Мужчина более объективен, он ничего не меряет на себя. Он создает для женщины, по-разному к ним относясь: есть Карл Лагерфельд, который делает ее романтичной, есть Гальяно, который делает ее вообще сумасшедшей.
— Стихи — просто ваше увлечение или способ самовыражения?
— У меня был трагический период жизни в 1978 году, когда я ушел из официальной моды, и у меня умерла мама. Я оказался в полном одиночестве. Это было самое трудное время в моей жизни, но Бог помог мне, восстановил гармоничное равновесие моей души. Сейчас я пишу редко, только когда плохо на душе. Стихи — как очищение души.
«Бегу от одиночества. Бегу бросаясь, голову сломя. Где мне найти пристанище? Где обрести покой? Хотя б на время, совсем чуть-чуть, чтобы, в тепле и доброте купаясь, мог сил я накопить».
— Можно ли сказать, что вы полностью реализовавший себя человек?
— Я чувствую в себе большой творческий потенциал, не реализовав себя как художник по мебели, по интерьеру, как скульптор. У меня масса идей, но, к сожалению, рядом нет человека, который помог бы мне эти идеи воплотить в жизнь. И всегда появляется рядом кто-нибудь, кто пользуется моей работой для собственной выгоды, но не для дела. Вот в этом мне не повезло.
Валентин Смирнитский: «Я не против всю жизнь проходить Портосом»
2008 год
Иногда беседа с актером, всеми любимым и всенародно известным, приводит к недоуменному выводу: да мы его совсем не знаем! Валентин Смирнитский для многих зрителей — прежде всего добродушный толстяк Портос с его легким гастрономическим отношением к жизни, вальяжный, обаятельный и галантный. Кстати, как раз во время съемок фильма о мушкетерах актер был строен и подтянут, чем впоследствии поражал приглашающих его на характерные роли режиссеров — ведь они ожидали увидеть упитанного добряка, довольного жизнью и собой, а видели красивого, стройного молодого человека. Есть на счету актера и другие, совсем неплохие фильмы: «Щит и меч», «Адъютант его превосходительства», «Отцы и деды», «Визит дамы», «Прохиндиада, или Бег на месте».
Театралы же Москвы знают совсем другого Смирнитского: юный Треплев в «Чайке», повелитель женских сердец Дон Жуан в пьесе Мольера, Кассио в «Отелло», неистовый Меркуцио в «Ромео и Джульетте»…
А начиналось все с успешно сыгранной в самодеятельной студии роли Хлестакова, где юный Смирнитский занимался вместе с Сергеем Шакуровым и Василием Бочкаревым. Именно после «Ревизора» в неизмученную поисками ответа на вопрос, кем быть, голову дебютанта и закралась шальная мысль: а не податься ли в актеры.
И подался, легко поступив в Щукинское училище и насмешив приемную комиссию своеобразным исполнением «Облака в штанах». Первая же роль в кино в фильме режиссера Михаила Богина «Двое» сразу возвела обаятельного новичка и его партнершу — Викторию Федорову — в ранг звезд отечественного кинематографа. Фильм был обласкан критиками, отмечен Золотым призом Московского международного фестиваля в разделе короткометражных фильмов, призом ФИПРЕССИ — и положил начало успешному киномарафону молодого актера, в творческой биографии которого вряд ли найдется хотя бы год без съемок.
Но для большинства зрителей Смирнитский был, есть и останется Портосом — преданным другом, добродушным и обаятельным, к чему, кстати, сам артист относится философски: «Борис Иванович Бабочкин всю жизнь проходил Чапаевым, так что я не против образа Портоса, его вальяжности и благородства».
— Валентин Георгиевич, сейчас многие увлеклись составлением своих родословных, что, в общем-то, неплохо: мы слишком долго были безликой массой, без роду, без племени. Изучение генеалогического древа вошло, можно сказать, в моду. Слышала, что ваши предки дворянского происхождения. Не расскажете об этом?

— На эту тему я как раз разговаривать не люблю, и именно потому, что это модно. Часто ведь это делается не из интереса, не из желания узнать свои корни. А просто люди начинают себя с этой точки зрения позиционировать, и поэтому появляется много таких Лжедмитриев. Дворянское собрание в Москве — это просто смешно: они там собираются — все эти неизвестно откуда взявшиеся Голицыны, просто карикатура. Кровей во мне много намешано, в том числе польская, немецкая, еврейская — в общем, была нормальная советская, совсем неактерская семья. Отец, правда, некоторое отношение к творческому процессу имеет: работал главным редактором Московской центральной студии документальных фильмов, да и мама работала в киносети.
— После окончания Щукинского училища вас пригласили сразу в три московских театра и к Игорю Владимирову в «Ленсовет». Вы выбрали «Ленком» и Анатолия Эфроса, который был там тогда режиссером. Почему?
— Это была эпоха ренессанса советского театра. И, начиная с первого курса, мы, студенты, носились по всем театрам: нам все было интересно. Поэтому уже к окончанию училища я твердо знал, какие театры мне по душе. Я пересмотрел все спектакли молодого «Современника», на моих глазах возродился театр на Таганке с приходом Юрия Любимова, мы специально ездили в Ленинград на последние студенческие копейки, чтобы побывать на спектаклях БДТ и посмотреть новые постановки Георгия Товстоногова. А про Эфроса я могу сказать просто — это гениальный режиссер XX века. Мне повезло в том, что он меня сразу взял, и не просто взял — моя первая роль: Треплев в «Чайке». Не каждому почти еще студенту выпадает такое счастье — это был колоссальный толчок в моей творческой жизни. И вообще, я считаю, что именно Эфрос научил меня театральному искусству, точнее, профессионализму в искусстве.
— А ваши педагоги?
— Замечательные были люди и актеры. Цецилия Мансурова, Борис Плотников, молодой Любимов, Владимир Этуш — это классики актерского мастерства, которое они с любовью и терпением передавали нам, своим студентам.
— Слышала, что «Чайку», в которой вы дебютировали, называли скандальным спектаклем, а «Три сестры», где вам досталась роль Прозорова, вообще запретили. Чем уж так не угодили театральному начальству эти спектакли действительно гениального Эфроса?
— «Чайка», хоть и вызывала возмущение непонятливого чиновничества, но «погибла» своей смертью. Через два года, после того как я пришел к Эфросу, режиссер был вынужден уйти, и мы, группа его актеров, ушли вместе с ним в театр на Малой Бронной. Там и были поставлены «Три сестры», которые попали в опалу «за искажение русской классики». Тогда же влетело и Марку Захарову за замечательный спектакль «Доходное место», в котором, по-моему, лучшую свою театральную роль сыграл Андрюша Миронов. Играл он там потрясающе: это была его первая серьезная драматическая роль, которую никто уже, к сожалению, не увидит. У Андрея был такой пунктик: его задевало причисление к артистам легкого жанра, он всегда мечтал о серьезной драматической роли. Вот там он ее и сыграл. В нашу опальную компанию угодил и молодой Петя Фоменко со «Смертью Тарелкина».
«Три сестры» игрались всего тридцать раз, но прогремели не то что на всю Москву, но, можно сказать, и на весь мир. Я вам расскажу один только факт. У нас тогда были очень плохие отношения с Китаем, вплоть до того, что ждали войны. Скандал вокруг «Трех сестер» достиг такого апогея, что однажды на спектакль в полном составе явилось все китайское посольство. Китайцам стало интересно, что же это за антисоветчину такую в театре учинили? Они скупили четыре ряда. Мы вышли играть и оторопели, увидев такое количество «хунвейбинов» в театре.
— Когда я читала вашу биографию, у меня сложился образ везунчика, которому все удается, во всяком случае, в профессии, причем с первого раза: вы легко поступили в «Щуку», где конкурс тогда был чуть не тысяча человек на место. После ее окончания целых четыре весьма уважаемых театра были рады видеть вас в своей труппе. Вы много играли и в кино, и в театре и востребованы сейчас. Так ли все гладко на самом деле?
— Конечно, нет. У меня были очень серьезные проблемы. Это как в анкете: родился там-то, окончил то-то, там-то работал, а за этим стоит живой человек со своими проблемами. У меня, считаю, до сих пор не сложилась дружба с кино. Да, снимался я много, если подсчитать, кому охота, где-то в сотне фильмов, но по-настоящему серьезных хороших ролей очень мало. Количество, к сожалению, не переросло в качество. В театре повезло больше: я играл самых разнообразных персонажей. Были и провалы в работе, взять хотя бы те самые печальные 90-е годы. Я, например, остался в профессии, потому что смог зарабатывать очень неплохие по тем временам деньги на озвучивании иностранных фильмов.
— Такая работа была вам по душе?
— Это очень тяжелая работа — я на ней три единицы зрения потерял. Попадание в артикуляцию ненашей речи — сейчас дело нехитрое: работают инженеры на компьютерах, и даже напряжение голосовых связок — не проблема для профессионала. А вот стояние по 8 — 12 часов у монитора очень плохо влияет на глаза. Несколько лет я этим занимался, переозвучил немереное количество мультфильмов, сериалов, начиная с «Рабыни Изауры», намаялся с Депардье: у него голос совсем не похож на мой — гораздо ниже. Зато я выжил как актер в то время, когда многие мои коллеги канули в безвестность: кино тогда практически не было, из театра я ушел, антреприза только-только начиналась. Так что жизнь моя гладкая — это только по анкете.
— Я слышала о том, что режиссер Юнгвальд-Хилькевич снял продолжение «Трех мушкетеров». У старых фильмов, несмотря на все их достоинства и недостатки, замечательная литературная первооснова. Не думаю, что написавшему сценарий совместно с режиссером одесскому сценаристу Юрию Бликову удастся переплюнуть Александра Дюма. Уже одно то, что мушкетеры возвращаются с небес, чтобы помочь детям, и стремление съемочной группы утереть нос создателям «Матрицы» вызывает некоторые сомнения в качестве фильма. Что вы скажете об этой своей работе?
— Не могу сказать ничего плохого и ничего хорошего. Единственный из нашей четверки, кто решился посмотреть весь материал, был Боярский — но он дотошный. Он мне позвонил и испортил настроение, потому что радостно сказал, что большей пакости он еще не видел. Я ему мрачно так: «Что ж ты мне звонишь?», а он мне, мол, охота поделиться! Вообще, по своему кинематографическому опыту хочу сказать, что рабочий сырой материал смотреть не стоит — это почти всегда производит негативное впечатление. А хорошее во всем этом то, что Максим Дунаевский написал новую музыку.
Инвестор, крупный бизнесмен, вложивший в фильм очень большие деньги, нашу четверку посчитал за некий бренд. Он в детстве посмотрел всех этих мушкетеров. Ему, видимо, понравилось, и человек решил осуществить детскую мечту, но поставил свое условие: вот есть эти четыре персонажа плюс ко всему Алиса Фрейндлих, Равикович, Володя Балон — они должны присутствовать в фильме. Я думаю, Хилькевич с удовольствием снял бы картину и без нас: мы его раздражаем своей критикой, тем, что уже старые, ворчливые, нам все не нравится. Но тут деваться было некуда, и он нас прицеплял, куда и как только мог. А вот детей по фильму мушкетерам нашел хороших: моих играет Ирина Пегова и Дима Нагиев. Сына Арамиса — Антон Макарский, он не только хорошо поет, но и замечательно двигается. Там много компьютерной графики, как в любом современном кино.
— Вы сменили много театров, играете в антрепризе, одно время местом вашей службы был Театр Луны. В одном из интервью вы сказали, что по эстетике он сильно отличается от тех театров, в которых вы играли раньше. Что имели в виду и как вписались в эту эстетику?
— Вписался-то я довольно легко, а стиль игры в Театре Луны напоминал молодого Романа Виктюка. Это постановки, основанные на пластике, максимальном использовании музыки как средстве самовыражения актера, на зрелищности. Сергей Проханов, наш руководитель, работал у Виктюка как актер и вообще находился под большим его влиянием. И он в каких-то спектаклях эту эстетику хорошо угадал, на что я, собственно, и купился. Мне очень нравилось еще, что это был молодой театр — из моего поколения работал только Толя Ромашин, который меня туда и пригласил. Для актера, я считаю, важно поработать именно с молодыми своими коллегами: в кино это удается, в театре происходит реже. Как они живут, что им интересно? Замкнувшись в круге знакомых и друзей своего возраста, ты просто окостенеешь, станешь реликтом. Мы же люди, которые живут сегодня, а потом о нас уже живет некая память. И, чтобы существовать сегодня, надо знать, чем живет мир вокруг тебя. Я встречаю таких людей-памятников, они выглядят смешно, неадекватно.
Так вот, в Театре Луны я сыграл, считаю, одну из лучших и интересных ролей — Николая I в сценической версии романа Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов», которая была представлена на Государственную премию. Спектакль был очень необычный. Правда, у Окуджавы на первый план выходит тема декабристов, а в основе постановки — несчастная любовь князя Мятлева. Кроме того, в романе присутствие Николая I практически не ощущается, а в спектакле он был введен как очень активно действующее лицо, как человек, от которого зависят судьбы героев романа. Николай I остался в памяти многих лишь как палач декабристов. Нам хотелось, чтобы зритель увидел его другим, более человечным. Сергей Проханов поставил спектакль в жанре психологической драмы в сочетании с музыкально-пластическими элементами и комедийными сценами, но заканчивающийся трагедией. К сожалению, сейчас театральные изыски и интересные находки Театра Луны подрастерялись — театр уже не тот.
Но я рад, что есть возможность играть в разных местах, в том числе и в Уфе. Это мобилизует, дает возможность поддерживать артистическую форму. А в стационарном театре застаиваешься, как лягушка в болоте.
Вероника Долина: «Тонкие люди держатся за сердце и стоят на краю перрона»
2008 год
Сначала был полудетский, немного потерянный голос на старой виниловой пластинке. Было время увлечения бардовскими песнями, и даже те, кто лес видел из окна электрички, а огонь разжигал, лишь подогревая чайник на газовой плите, самозабвенно распевали: «Милая моя, солнышко лесное!» Долина стояла несколько особняком, не стремилась «ехать за туманом и за запахом тайги». Ее радости и скорби лежали в иной плоскости — простые и понятные всем, особенно женщинам:

«О, женщина, глядящая тоскливо,
Мужчина нехорош, дитя сопливо…»
В эпоху отсутствия страстных бразильских сериалов или дамских романов с черноокими красавцами на обложках сказки Виктории Токаревой или песни Долиной нежно и успокаивающе звучали в унисон женским переживаниям, обещая райские поля сразу за порогом дома или крепкую мужскую руку, так надежно обнимающую плечи, нагруженные авоськами, с дефицитной курицей.
«Пусть в комнате твоей сегодня душно,
Запомни: ты прекрасна, ты воздушна…»
И, пожалуй, никто так, как она, не умел увязывать простую и обыденную человеческую суету с некоей магией, присущей каждой из нас — стоит только замереть в тишине, и за спиной с нежнейшим звуком падающего снега услышишь шуршанье разворачивающихся крыл. Может быть, месяц рождения — январь — неслучаен, как неслучайны французская спецшкола в Москве, последующее преподавание языка, на котором объяснялись в любви пылающие от страсти трубадуры. Как неслучайно название гитары, с которой Долина не расстается уже двадцать лет: «Люитера» — что-то среднее между гитарой и лютней. И четверо детей в ее «Летающем доме»: старший сын Антон — журналист и кинокритик, Олег — актер и музыкант, дочь Ася — журналист и музыкант, младший сын Матвей — школьник.
— Вероника Аркадьевна, все ваши дети так или иначе связаны с творчеством. Что это — гены, ваше воспитание или просто ваш пример?
— Мне легко давались дети, их кое-какие проблемы в школе. Мне было с ними хорошо, интересно на всех этапах. И я ничего не могу сказать про материнские подвиги. Тут я не специалист.
Семья — очень хитрая штука. Очень нужная. Может приносить радость, и довольно большую. Но мы неуклюжие. Мы очень плохо обеспечены. Физиологически мало здоровы. А так, если организм по имени «семья» поместить в симпатичные условия и дать всласть выспаться, всласть поработать, всласть отдохнуть, то все будет замечательно. На мою работу дети смотрят чуть отстраненно: что-то им нравится, что-то не очень. Я стараюсь не самообманываться и их остерегаю от этого. Хотя иллюзии, фантазии, миражи очень поощряю в себе и в окружающих. Но это не самообман — свойство глупого сердца и неразвитого ума. Такое тяжело наказуется судьбой.
Я не учу детей чтить город, государство, систему, старших. Я тихо учу: человек не выше человека. Никто не старше, не умнее, не интереснее. Просто человек человеку, по моему внутреннему убеждению, должен идти навстречу. И откликаться всей душой на проблемы и заботы друг друга.
— Любимая вами Марина Цветаева писала: «Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт…» А когда вы почувствовали, поняли, что вы — поэт?
— Не было ничего особенного. Хоть нарочно придумывай историю! Не было… Середина детства нашептывала мне что-то, дедушка мой, талантливый, яркий человек, сообщил что-то изначальное о связи музыки и слова. В четырнадцать-пятнадцать лет у меня стали складываться песенки, это быстро расшевелилось. Я не священнодействовала, не задыхалась, все было легко. Пела родным, подругам. Очень прислушивалась к своему старшему брату, ему было двадцать лет, он лучше меня знал поэзию. У меня появились кумиры. Ведь тогда в большой серии «Библиотеки поэта» вышли Мандельштам и Цветаева.
Я вся немного вопреки. Но, конечно, было и много чего — благодаря. Родители меня обучили музыке, показали, как стройно книжки стоят на полке. Я была девочкой, обитающей в прохладной комнате — не тепличная. Присутствовали небольшой слух и музыкальность, училась сотрудничать с зеркалом, с косметикой, с мужеским полом. И все приносило плоды. Лет в 30 уже что-то обрела, мне сделалось видно, что я что-то имею, кроме мужа и детей.
— Кем для вас был Булат Окуджава, по крайней мере, в начале сочинительства?
— Я так помню этот день, уже утонувший во тьме, когда впервые услышала, как Булат Шалвович поет: «В склянке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела гордо и неторопливо…» И так я помню это свое «Ах…» во всю грудную клетку! Ничего такого уже повторить не удается. И воздух не удается набрать в грудь — все другое…
«Пускай судьба, таинственный биограф,
Оставит мне единственный автограф.
Пускай блуждает в предрассветной мгле
Любовь моя — тень Ваша на Земле».
Но, откровенно говоря, я не присоединяюсь к общему хору вспоминающих о нем, наоборот, стою в сторонке, подперев подбородок кулаком. Мне очень трудно с общими голосами слиться. Это и во всех-то вопросах непросто, а в вопросе каких-то сиропных воспоминаний тем более. Ведь мои отношения с ним были суровыми, но он для меня всегда был и остается другом, учителем и в большой степени светочем. Окуджавы давно нет, а я совсем другое имя и другую фамилию ношу. В нас, конечно, есть схожее, есть близкое. Многим тонким и не очень тонким людям это бывает видно и слышно, но я думаю, мы все-таки разные.
— В одном из интервью вы говорили о том, что больше всего вас угнетает в нынешней жизни хамство. С этим можно как-то бороться или оно непобедимо? Что вас тревожит еще?
— Мне живется бурно. Большая семья, подросшие дети — все это движется, работает, дышит, причем очень интенсивно, и я во всем этом на своем месте. К политике отношусь как к театру. А утешаюсь литературой. Правда, боюсь, что современная русская литература утратила свою речь в мировом пространстве. В прозе Европа нас по всем статьям обставила. Впрочем, уже и двадцать пять лет назад романы Макса Фриша для меня значили больше, чем что-либо из современных произведений, что же говорить о нынешнем положении? Я прочитала Пелевина и Сорокина, даже не без некоторого интереса, но можно ли это сравнить с тем, как Кундера разорвал, а потом снова сшил мне сердце? Чувство брезгливости вызывает попсовая культура: она липкая, ее слишком много, и можно ненароком запачкать рукав. Я говорю себе: да, есть и такое кино, и такая музыка, и, вероятно, это кому-нибудь нужно, но всего этого очень много, и я стараюсь держаться поодаль.
Я по природе созидатель, любая разрушительная деятельность не для меня. Я за то, чтобы каждый делал что-то свое, а не боролся с кем-то. В созидании и будет, если угодно, заключаться противостояние пошлости, которая абсолютно видна в нашем практическо-физическо-будничном мире. Если небожительствовать, случается это с людьми моего года рождения, то можно не замечать неслыханного огрубения охранников, попытаться не заметить невероятной простоты нравов гардеробщиков (я имею в виду людей не хрупкого старческого возраста, а здоровеннейших мужчин). Каждый окрик сделался из деревянного каменным. Всякий работающий в лакейской должности (как это испокон веков называлось) разговаривает с неслыханной интонацией. И это достижение последних лет. Происходит невероятное исчезновение сколь-нибудь интеллектуальных людей под несметным саранчеподобным числом людей серых. Причем в гамме от светло-дымчатого до близкого к темному антрациту.
Но вообще я научилась виртуозно избегать этого хамства, чувствовать его издалека. Иногда попадаю в ситуации нестандартные. Вывожу как-то машину с парковки, так вот огромный красивый парень, охранник, чего-то там руками машет, пытается меня куда-то носом ткнуть. Я не выдержала и спрашиваю: «Ну что, что ты тут делаешь? Жизнь ли это для такого, как ты?» А он мне: «А куда меня возьмут после Чечни?» Подняла я свое стекло и поехала, облившись горячим потом стыда, на этот раз за собственное хамство.
— Вы говорили как-то, что у вас абсолютно устоявшаяся жизнь — и в плохом, и в хорошем смысле. Поменять что-то в ней, найти себе место в жизни там, где вам будет хорошо, не хватает сил, способности или желания?
— Возможно, мы острее других переживаем экстренное прощание с иллюзиями. От этого болезненность сегодняшнего состояния. Мы в очередной раз оказались к чему-то не готовы. Мы были весьма молоды, когда разворачивалась перестройка, были все еще молоды, когда наступила кульминация этих экзотических времен. У нас перрон, где поезд просвистал только что. Мы же очень человеческая, мягкая и разнежившаяся часть населения. По нашим беззащитным лицам нанесен очень крепкий удар. Я знаю многих ударенных лично. У нас, безусловно, есть триумфаторы — актеры, писатели, кинодеятели. У них все хорошо, и я очень за них рада. Но тонкие люди держатся за сердце и стоят на краю перрона. Я же могу только растерянно раскинуть руки. Как же? Вот тут я живу. Выходит, что тут. Могла быть еще где-нибудь, но не смогла. Есть небольшое безразличие к вопросу, где жить, и полное небезразличие к вопросам, как именно жить.
— Кому, как не вам, знать состояние нынешней авторской песни. Кто-то воспринимает «Грушинку» уже как сборище случайных любителей потусоваться, кто-то восторгается проектом «Песни ХХ века», видя в том возрождение бардовской культуры.
— Я всегда была не слишком крупным специалистом в этой области. Хотя когда-то был намек на большое братство, сильно отдающее панибратством. Но по молодости вполне можно было сливаться в экстазе, в дальнейшем это становилось все затруднительнее. А сейчас стало трудно совсем, и ни с кем я не сливаюсь, ни с кем рук не переплетаю и не воздеваю их совместно. Всегда было и останется очень большое отличие профессионала от любителя. Общее снижение творческого уровня налицо. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы разглядеть, что стихи в авторской песне до неприличия разбавлены водой. Концентрация этого волшебного вещества, этой волшебной субстанции поэзии ужасно низкая.
Конечно, пишется мне самой, и у меня есть друзья, профессиональные поэты, которые и сейчас занимаются тем, чем занимались прежде. Но, видите ли, чья-то даже очень интересная, высокого накала подборка стихов в литературном журнале сегодня уже не может стать событием социальной жизни. Это сейчас абсолютно исключено. У нас очень большие усекновения происходят. Уход Окуджавы. Почти забытый Галич… А новой традиции нет. И нет никакой культурной оппозиции. Тишь да благодать. При этом никого не видать. Никто не занимается культурой так, как ею надо заниматься. Для подлинно бардовских вещей нужно сочетание многого со многим. Нужны поэтическое чутье, большая независимость мышления, кое-какие умения.
— Вы часто употребляете слово «волшебство». Что оно для вас и в чем вы его находите?
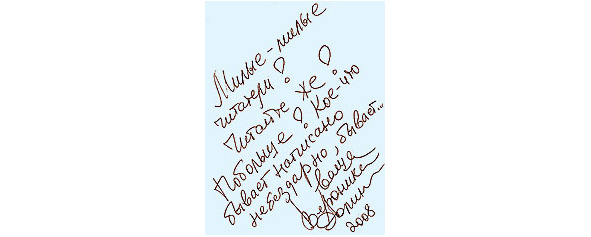
— Вот вышел диск «Железная Дева». Я сама еще в нем не разобралась. Он странный, состоит из песен, которые я написала с 15 до 18 лет. Отчасти это предмет моей гордости — это такой документ, который можно метнуть перед своей шестнадцатилетней дочкой и сказать: вот какая я была в твои годы. Читала про Тристана и Изольду, Жанну д’Арк. Это был уход от глупостей пионерства, комсомольства. Это было увлекательно. Сегодня я записала диск о том, куда деваться в состоянии угрозы, что делать, если некие тучи сгущаются. Я ведь ничего другого не придумала, кроме того, чтобы читать и писать, читать и писать. Книжечкой укрепился — стишками воодушевился. Я, понимаете, персонаж, который видит не просто так, а видит во всем достаточно необыкновенные вещи. В будничный день стараюсь разгонять перед собой эту волшебную мглу, но все равно ее много. Важное значение придаю тому, где родилась, у кого родилась, кто родил моих родителей, как звучит мое имя, как звучат имена моих детей — все это было и остается для меня первостепенным.
— И все же есть ли на земле место, где вы способны отдохнуть душой, успокоиться, перевести дух?
— Я сделаю страшное признание: таких мест нет. Но есть концерт. Концерт — это полтора часа отдыха, исцеления, планирования будущего. Это гиперреальность! Это я, но высокой, повышенной очистки! Ничего лучше в моей жизни нет. А если говорить о географии, то есть дача под Москвой, построенная руками моего папы, пару месяцев летом я там перевожу дух. И есть маленький домик во Франции, где несколько раз в году я отдыхаю, питаясь другим воздухом, слушая другую музыку, говорю на другом языке. Там тоже я, но просто другая.
Любовь Казарновская: слетевшая с пушкинских страниц
2008 год
Восточная мудрость гласит: «Человек, первый назвавший женщину розой, был поэт, повторивший это, — пошляк». Рискуя заслужить нелестный эпитет, я все-таки отнеслась бы к Любови Казарновской как к звезде. Не той звездочке-однодневке, что мелькнет тусклым огоньком на заманчивых подмостках эстрады, а к той, о которой писал Иннокентий Анненский: «…Я у нее одной прошу ответа, /Не потому, что от нее светло, /А потому что с ней не надо света».

Любовь Казарновская очаровывает зрителя своим чувственным, волшебно звучащим во всех регистрах сопрано. Ее голос глубок и обаятельно вкрадчив. Ее называют лучшей исполнительницей партий Верди.
Обольстительная певица обладает самыми разнообразными талантами. В марте 2005 года на фестивале «Литература и кино» в Гатчине фильм Евгения Гинзбурга «Анна» по мотивам комедии Александра Островского «Без вины виноватые» завоевал Гран-при, а Казарновская — приз за лучшее исполнение женской роли и приз зрительских симпатий.
Началось же все двадцать с лишним лет назад. Еще будучи студенткой училища имени Гнесиных, Любовь Казарновская стала солисткой Музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, дебютировав в роли Татьяны в «Евгении Онегине» Петра Чайковского. Впоследствии эта роль поистине стала ее визитной карточкой. Нашумевшее выступление Казарновской в Зальцбурге стало началом ее головокружительной карьеры.
В репертуаре Любови Казарновской более 50 оперных партий и огромное количество произведений камерной музыки.
В Уфе у оперной знаменитости «своя» публика, которая приходит «на исполнителя». Певица подчеркнула: с такими слушателями ей очень легко общаться.
— Насколько я знаю, вы — единственная русская певица, исполняющая партию Саломеи в опере Рихарда Штрауса. Трудно ли было вам петь ее после блестящего исполнения Терезы Стратас, прославившейся в партии Виолетты у Франко Дзефирелли?
— Наоборот, именно она-то меня и вдохновила! Я боялась роли Саломеи. До этого я слышала пение Биргит Нильсен, а это громадный голос. После Терезы Стратас поняла суть образа: Оскар Уайльд и Рихард Штраус имели в виду пятнадцатилетнее существо с вокальными характеристиками ребенка. Их не может выразить певица, у которой голос «крупнопомольный», как морская соль. Я пришла в Метрополитен-опера заниматься с ныне, к сожалению, покойным Ван Таузеком, концертмейстером Рихарда Штрауса. В то время ему было уже 94 года. И вот этот древний старикашечка в очках сидит за пианино и, строго на меня глядя, спрашивает: «Камерного Штрауса пели?» — «Пела». — «Тогда я с вами буду работать, а вот если вы камерного Штрауса не пели и собираетесь мне тут Саломею вопить, я с вами заниматься не буду».
А там партитура — одна чернота, задействовано много, много, много инструментов, и рукой композитора написано: «Прозрачно». Только тогда слышна красота этой музыки. Если начинает громыхать оркестр, да еще орет певица, получается такая какафония — кошмарный набор звуков. А Саломея… Это как будто смотришь в горное озеро, чистота такая, что каждый камушек видно, и при этом глубина огромная. Этот секрет Ван Таузек мне открыл, я год с ним занималась. И когда я спела Саломею в Германии, на родине Штрауса, за кулисы зашел внук композитора и сказал: «Спасибо вам. Вот такую Саломею, наверное, имел в виду мой дед». Это был для меня высший комплимент, у меня слезы брызнули из глаз. Я влюблена в эту музыку и считаю: это опера опер.
— Любовь Юрьевна, сохранилась и всему миру известна русская балетная школа. Сохранилась ли школа оперная?
— К сожалению, нет. Серьезно изучая этот вопрос, должна вам сказать: до середины 80-х годов прошлого века мы хранили секрет настоящей итальянской школы, которую в самой Италии уже потеряли. Ведь многие итальянские педагоги уезжали в Японию, в Америку на заработки. Пресловутый железный занавес сыграл в данном случае положительную роль. Например, завкафедрой Московской консерватории был Умберто Мазетти, профессор Венецианской и Миланской консерватории. Нежданова, Обухова, Собинов — его ученики, у него консультировался в свое время Шаляпин. Вокальная кафедра Санкт-Петербургской консерватории начиналась с тенора Никколо Рубини, там же была ученица брата Полины Виардо, Мануэля Гарсия, Ниссен-Саломан. А мама Владимира Атлантова, Мария Елизарова, как раз у нее же и училась. То есть у нас в России была настоящая итальянская школа.
— А ваш педагог Надежда Виноградова-Малышева?
— Это та же школа. Она была ассистентом-педагогом в классе Умберто Мазетти. И вообще легендарным человеком: аккомпанировала Шаляпину, работала педагогом-концертмейстером в оперной студии Станиславского, игре на рояле училась у самого Константина Игумнова — большого друга Рахманинова. Рассказывала о том, как в аудиторию заходил Мазетти и спрашивал: «Ну, кто там у тебя, Костя, талантливый ученик? Давай-ка мне их на стажировку, я их буду учить концертмейстерскому мастерству — маэстри». Так Виноградова попала к Мазетти и оставила бесценные записи — 104 постулата музыканта, касающихся искусства пения.
У меня случилось в жизни просто счастье. Надежда Матвеевна очень редко брала учеников. Ирина Архипова была ее первой ученицей, а я — последней. Поэтому с полной уверенностью могу сказать: в России была настоящая русская оперная школа, основанная на итальянской манере пения, соединенная с драматизмом русского исполнительства: от Шаляпина, Станиславского. Итальянцы пели очень красиво, но это русское из души «Ах!» несравнимо ни с чем.
Когда Шаляпин приехал петь Мефистофеля в Ла Скала, на всех углах повторяли: «Ну, что нам русский рядом с Карузо!» Но когда он запел, запел, как и надо было, да плюс его русский темперамент, вышел с голым торсом, в таких черных слаксах, худой, красивый человек и с издевкой сказал: «Аве, синьоре…», галерка замерла, а потом взорвалась: «Браво, Шаляпино!»
В свое время итальянское искусство в сочетании с русским исполнением надо было просто консервировать. Сейчас мы утратили все. Сегодняшние молодые певцы, выходящие на сцену, что Баха, что Оффенбаха поют в одной и той же манере, взяв на вооружение попсовость. А попсовость — это пирожок ни с чем, но завернутый в якобы гениальную бумажку и завязанный еще розовым бантиком — звезда! Через пять лет этой звезды не будет. Она просто надоест публике, потому что нет в ней личности, начинки — король-то голый! Сегодня всех волнуют футбол, нефть, кризисы, но не душа человеческая, которая никому не нужна и которую никто не понимает. Меняется даже публика. Какие женщины приходили к нам в Большой зал Консерватории: интеллигентные, камеи у ворота! Слушатели, конечно, должны омолаживаться, но нет стиля. Люди уже не знают, что хорошо, что плохо, их заморочили масскультурой на всех уровнях жизни, я уж не говорю о музыке.
Надо бы как-то счистить эту накипь, как с кастрюли ржавчину, и сказать: «Ребята, а мы-то про другое! А у нас-то был Шаляпин, который дал миру такой прорыв в исполнительском искусстве, что никто не может встать в ряд с ним». Вот Запад гордится Марией Каллас. Она гениальная певица и гениальная актриса, фантастическая личность на сцене. Но как поставить ее рядом с Федором Ивановичем, у которого каждое слово, каждая нота окрашены невероятно глубоким чувством, когда душу буквально выворачивает? Не продолжать эту музыкальную традицию — преступление. Растет поколение, которое ничего этого не знает, и это больно. Вы еще в провинции, славу Богу, храните в сердцах свежесть восприятия. В Москве, Питере мозги у людей забиты метровыми гвоздями. Люди ходят на концерты только тусоваться и поздороваться за ручку с каким-нибудь Иваном Ивановичем. Хуго Босс — вот это ах!
Один мой знакомый говорил: «Знаешь, Любочка, я через тебя перекидываю мост из века XIX в век XXI. Храни это в себе. Это твоя миссия».
И так во всем мире, оттуда все и пошло — этот немыслимый пиар. Как говорил Познер: «Если каждый день пиарить зад лошади, то люди будут думать, что это самое большое совершенство в мире».
Пиара в классике не должно существовать.
— Ваша дебютная роль — Татьяна в «Евгении Онегине». Расскажите о работе над этой ролью.
— Это любимая моя партия. И дебютировала я в этой роли практически во всех мировых театрах. Ее сделала со мной Надежда Матвеевна по клавиру, где рукой Станиславского были написаны все замечания: «Сказать Мельцер (которая пела тогда), чтобы она не вешала колбасой косу. Барышни из аристократических семей закручивали бараночку. Сказать Гольдиной Ольге, что на ларинском балу плохой поворот головы, когда она сидит с гостями» и так далее. Надежда Матвеевна мне рассказывала о том, что Станиславский сидел за сценой в оперной студии в Леонтьевском переулке с веревками в руках — открывать и закрывать занавес — и все время ей шептал: «Матвевна, пора?», потому что он не знал точно моменты музыкальной партии. Или стонал: «Матвевна, поддержи в полонезе! Все девки на раз приседают, а надо на три».
И когда я репетировала Татьяну в Метрополитен-опера со знаменитым дирижером Джеймсом Ливайном (а режиссером был Френсис Коппола), то услышала крик из-за дирижерского пульта: «Френсис, оставь ее в покое, она так органично существует на сцене». Я знаю «Онегина» наизусть, каждую партию. «Нью-Йоркс таймс» написала, что «такой дебют — событие и что редко от певцов мы видим и слышим такую редкую адекватность поведения на сцене. Казарновская будто слетела с пушкинских страниц».
Есть вещи, которые воспринимаются как моя вторая кожа. Недавно я закончила запись всех 103 романсов Петра Чайковского, за что получила приз критики журнала «Граммофон», считающего, что это лучшее исполнение романсов Чайковского, которое до сих пор было.
— Расскажите о работе в спектакле «Маленький принц».
— Я была музыкальным олицетворением женского начала: Мать-земля и Мать-космос. Маленький Принц все время к ней обращался. Мне необычайно близка эта роль, в которой выражена главная идея спектакля: миром правит божественная любовь. Кто-то очень хорошо сказал: нельзя дать задушить в себе Моцарта. Как, впрочем, и в окружающих. По-своему талантлив каждый человек. Надо только разбудить, поддержать в нем его душевные силы. Об этом — наш спектакль. Об этом — все, что я стараюсь делать.
— Вы снимались в фильме «Анна». Ваши впечатления, и собираетесь ли вы продолжать свою кинематографическую карьеру?
— Это совсем другая энергетика, нежели та, что идет из зрительного зала, но мне понравилось. Затем снялась в фильме «Темный инстинкт» с Александром Домогаровым, а сейчас — фильм-опера «Пиковая дама» режиссера Павла Лунгина. Работа на камеру — это особая вещь. Первое время на съемках «Анны» Гинзбург все время кричал мне: «Любочка, много, много, много!» Камера — это все равно что попасть под увеличительное стекло. Конечно, Метрополитен-опера — почти четыре тысячи мест, а Арена ди Верона — вообще 16 тысяч. Поэтому опера — не кино, там размах мазка совсем другой: все резче, крупнее, объемнее.
— И все-таки как вокал победил в вас любовь к иностранным языкам?
— А это победила мама. Она просто сказала мне: «Как хочешь, но я всегда чувствовала в тебе артистическую бациллу». Мы шли тогда по улице Поварской и увидели: идет второй тур в училище Гнесиных (а направлялись-то в МГУ подавать документы на инфак). Она мне сказала: «Ну, что? Попробуем?» И не заметила, как мама втолкнула меня в дверь, я оказалась в середине зала и меня уже спрашивают: «Девочка, тебе чего?» «Да я сама не знаю», — сказала в ответ. Была в юбочке такой модной, коротенькой, фигура хорошая. «Спеть можешь?» Я говорю: «Да, могу». Спела и тут меня огорошили: приходи, говорят, на третий тур. Я и пришла. Так и осталась.
Станислав Куняев: «Аксаков очень близко подошёл к загадкам русской души»
2008 год
Станислав Куняев имеет славу лидера современной патриотической литературы. Он неординарный поэт и человек, вызывающий самые противоречивые мнения. Отстаивая свои убеждения, умеет наживать врагов. Имеет при этом преданных до последнего вздоха друзей.
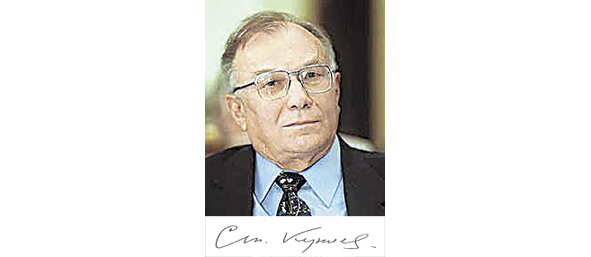
Его поэтический и публицистический дар — потребность богатого воображения. Мать калужского мечтателя — врач. Отец — преподаватель истории, погиб в Ленинградскую блокаду. Дед — выдающийся профессор медицины.
Одно время критика причисляла Куняева к «тихим» лирикам. Но он доказал, что это не так: именно ему принадлежит известная строка «Добро должно быть с кулаками». В 1989 году поэт стал главным редактором журнала «Наш современник», где успешно работает и по сей день.
С таким, можно сказать, легендарным человеком посчастливилось пообщаться во время Аксаковских дней в Башкортостане. Московский гость стал одним из главных героев нынешнего праздника, получив Всероссийскую литературную премию имени Сергея Аксакова.
— Что значит, по-вашему, имя Аксакова в масштабах России?
— Все крупные литераторы всегда старались решать глобальные, мессианские задачи, связанные с ролью России в мире, с загадками русской истории — это Толстой, Достоевский, Пушкин, Тютчев. Все они стремились быть пророками. А Сергей Тимофеевич был попроще и поэтому, может быть, понятнее и ближе своим читателям. Похвастаюсь: я страстный охотник и рыбак со стажем. Тридцать лет езжу на реку Мегру на севере Архангельской области. И всегда беру два томика Аксакова: «Записки об ужении рыбы» и «Записки ружейного охотника». По ним изучал птиц, которые пролетали надо мною: вальдшнепов, куличков, кроншнепов. «Записки об ужении рыбы» — вообще инструкция для любителя рыбалки. Но это, так сказать, прикладное значение Аксакова.
Касаясь же его литературных произведений, скажу: Сергей Тимофеевич стал основоположником целого жанра, в котором затем творили Тургенев, Бунин, Толстой. Получилось, что описывая домашние патриархальные устои, Аксаков очень близко подошел к загадкам русской души. В его произведениях — та простая надежда на счастье и согласие, которых нам сейчас не хватает. Дар простодушия — особый, он не дается кому попало. У Аксакова он был. Мир так усложняется, и того, чем обладал Сергей Тимофеевич, нам сегодня явно недостает. Ничего хорошего не получается, если люди теряют прямой, непосредственный взгляд на вещи, на самих себя.
— Что для вас является главным злом современного общества?
— Общество вообще теряет созидательное начало, не только у нас, но и на Западе. Это выражается в упрощении жизни, в ее материализации. Причем происходит это в пользу немногочисленной элиты: массы не должны ни о чем задумываться! Я был в Америке и видел, насколько там упрощены люди — будто сделаны по одной колодке. У США в XX веке был хороший шанс стать одной из ведущих стран мира во всех отношениях — в культурном, политическом, экономическом плане. Но именно тогда в Америке началось опрощение мыслительных процессов путем развития масскультуры. Миллионы были брошены на организацию ярких, затмевающих разум и зрение шоу. Популярные телеведущие стали гораздо более значимыми фигурами, чем такие американские писатели-гиганты, как Стейнбек, Драйзер. В Америке нас принимали чиновники от культуры, и, чтобы не ударить в грязь лицом, я перечитал Фолкнера, Вульфа, других писателей. Но оказалось, что чиновники их не знают!
В России, думаю, такое невозможно. Есть в наших людях какая-то закваска, не дающая пасть так низко. Помню, приехал на родину в дни перестройки, разрухи. Пришел на базар. Тогда уже бомжи появились. На одного я обратил внимание: он пел за подаяние. Сначала старинную народную затянул, затем романс «Гори, гори, моя звезда», потом «Катюшу». В душе у этого бомжа — вся русская история — целых три эпохи вместились. Даже он, казалось бы, опустившийся человек, не скатился до упрощения.
Думаю, противоречия современного мира — это не просто борьба цивилизаций. Это борьба мировоззрений. Россия играет исторически сложившуюся роль посредника между двумя мирами — у нее есть тысячелетний опыт того, что называют существованием Российской империи. По сути же, это попытка ужиться в мире со всеми народами, не разрушая их бытия. А западному менталитету как раз-таки свойственно разрушать.
Вспомнить хотя бы завоевание Британской империей Индии и невосстановимый ущерб, нанесенный древнейшей цивилизации этой страны. Россия никогда не посягала на внутреннюю свободу иностранцев. Выражалось это в разных формах: русские монархи приближали ко двору знать разных национальностей, награждали особыми орденами, отмечали заслуги.
— Одна из недавно вышедших ваших книг «Мои печальные победы» как бы завершает многотомный труд «Поэзия. Судьба. Россия». В ней вы горячо и аргументированно защищаете героизм и аскетизм советской эпохи. Что это — ностальгия по тем временам?
— Эти свойства человеческого характера, воспитанные в нашей стране, не дали прерваться ее истории. Все остальное можно как-то приобрести, но означенные качества потерять нельзя. Они сложились не в советское даже время. Вся тысячелетняя история России — это история долга, а не история права. И все наши войны велись под знаком именно долга. Вспомните, как Петр I вышел перед Полтавским сражением к войскам и произнес: «Ни трон не дорог, ни жизнь не дорога, дорога только судьба России». Думаю, ни один полководец, как бы велик он ни был, не мог сказать ничего подобного. Не от хорошей жизни все эти западные державы стремились к завоеваниям колоний, какой неизбежно стала бы и Россия, не будь у нее этого ощущения долга, свойственного всем — от последнего смерда до великого князя. Что и спасло наше государство. Хотя жертвы, положенные при этом на алтарь истории, были громадны. Недаром Пушкин говорил о том, что мы спасли Европу, но задержались в развитии. Европа тем временем продвигалась в науках, оттачивала культуру…
— Три очень емких многозначных понятия — поэзия, судьба, Россия. Как связаны они для вас между собой?
— Поэзия стоит у меня на первом месте — она определила мою судьбу. Будучи в эвакуации в 1942 году, я, как один из лучших учеников, был удостоен чести произнести речь на вечере в церкви, превращенной в клуб. Я был городской мальчик, попав в деревню, учился на одни «пятерки». Уже баловался рифмами — писал стихи в стенгазету. Тогда в церкви прочитал свое первое стихотворение, что-то типа «Чаша народного гнева полна!». Так и потянуло к поэзии. Стал ходить в библиотеку. Там работала девушка Алина, она была красавица. Я влюбился в нее. Читать стал, можно сказать, ради прекрасной библиотекарши. Даже «Наполеона» Тарле осилил в свои десять лет. В какой-то момент понял, что живу в огромной стране, что жизнь не замыкается на личных интересах — вокруг интересные люди, происходят значительные события. Меня увлек русский язык, пословицы, поговорки. Я стал много путешествовать, писать — и это уже была судьба, которая слилась с судьбой страны, в которой я имею счастье жить. А несчастье в том, что свои главные книги я написал сейчас, когда народ перестает читать. Надолго ли это, не знаю. У людей исчезает желание познавать.
— Сейчас у нашей молодежи гораздо больше возможностей путешествовать по свету, и это прекрасно. Стираются грани между странами, государствами. Но как научить при этом ценить и любить свою родину — то место, куда надо возвращаться, хотя бы мысленно?
— Недавно я встречался с одним ваххабитом, с которым был знаком с молодых лет. Он учился в Литературном институте, был прекрасным поэтом. И так повернулась жизнь, что примкнул к чеченским боевикам. Когда их разбили, пришлось убежать в Турцию. Сейчас вернулся, его простили, но живет как изгой. Спросил его об одном: «Какие чувства заставили тебя уйти и какие — вернуться?». Вспомнилась тогда легенда из «Русских летописей» о том, как расстались два брата. Один все звал другого на родину. А тот не ехал, пока не послал ему брат пучок степной полыни.
Порывами управляют чувства, иногда они бывают разрушительными, иногда спасительными. Думаю, нагуляется наша молодежь по свету и все равно затоскует. Не зря сказал русский богослов Сергей Булгаков: «Каждый народ — это отдельная Божья мысль». Надо, чтобы каждая мысль эта воплотилась в свое действие, реализовалась в земном пространстве. А ведь где родился, как говорится, там и пригодился! Да и менталитет наш назад дубинкой погонит. Гостил у меня один немецкий профессор. Сидим, разговариваем, потом запели. Послушал гость мой песню «По диким степям Забайкалья» — нахмурился. В чем дело, спрашиваю. А он серьезно так: «О чем это вы с таким восторгом поете? Подходит ваш бродяга к Байкалу, рыбацкую лодку берет. А лодка-то чужая. Матушка его встречает: брат, мол, тоже в кандалах в Сибири — сплошной криминал!». А ведь немец этот творчеством Гете занимался, образование хорошее получил. Но поэзию, душу народной песни помешала ему понять и почувствовать запрограммированная установками голова. Как найти нам общий язык с такими людьми?
— В книге «Мои печальные победы» вы назвали свой журнал преемником пушкинского «Современника». Что вы имели в виду?
— Ни в одной стране мира литературные журналы не имеют такого влияния на самую культурную часть общества, как в России. Начиная с первого журнала, издававшегося Пушкиным в 1836 году, его редакторами в разные времена были крупнейшие писатели и поэты: Жуковский, Некрасов, Достоевский, Фадеев, Симонов, Твардовский, Катаев и другие. По сложившейся традиции наш журнал публикует таких авторов, как Распутин, Белов, Бондарев. Все они находят больший отклик в душах людей. Наша идеология патриотизма близка многим российским читателям.
— А вы готовы признать талантливым произведение человека, идеологически вам чуждого?
— Сейчас многие пишут как бы для своего кружка, потеряв представление о широком читателе. Увлекаются ничем не оправданным экспериментаторством и даже произведения свои называют — «наши тексты». Есть среди таких литераторов талантливые люди, но все их достижения — в прошлом. Авторы нашего журнала пытаются осмыслить нынешнее время. Например, Юрий Богомолов, написавший роман «В августе 44-го» уже перед смертью распорядился отдать нам на публикацию неоконченную, но, видимо, выстраданную книгу, действие которой происходит в Германии в 1945 году. Свои последние, уже практически перестроечные вещи несли в редакцию «Современника» Борис Можаев, Владимир Солоухин. Их искренне волновало то, что происходило с нашим государством, с нашими людьми. А так называемые «демократы» даже не являются нашими оппонентами — у нас просто нет общих точек пересечения.
— В книге «Мои печальные победы» вы пишете: война идет не между Бушем и Бен Ладеном, а между Божьими и сатанинскими силами. Как удалось вам в безбожное время стать верующим человеком?
— Семья у нас была интеллигентная, из врачей. Деду в Нижнем Новгороде даже установили мемориальные доски на двух больницах. Но революция сделала свое дело — подарил, например, моей бабке — своей молодой жене — дед «Капитал» Карла Маркса. На моем мировоззрении сказалось то, что жил я в Калуге. А раньше, отмечая какое-либо торжество, говаривали: «Колокольный звон стоит как в Калуге». Там было сорок церквей на пятьдесят тысяч жителей. Сейчас, правда, осталось около пятнадцати. Я жил в этом романтическом мире церковной архитектуры, лазил по колокольням, рассматривал росписи на куполах.
В 1944 году, будучи в эвакуации, сразу пошел в церковь, правда, по другому поводу. Стыдно вспоминать, но попал я в плохую компанию. Мы ходили в церковь шарить по карманам бедных старушек. Добыча была, конечно, небольшая — какие-то мелкие денежки на помин души, на подаяние. Однажды наш вожак высмотрел бабушку с сумкой, как казалось, набитой деньгами. И велел мне сумку эту выхватить и кинуть ему через забор. Я, как солдат уголовного мира, пристраиваюсь к бабуле, делаю, что положено, бегу к забору и вдруг слышу: «Мальчик, милый, отдай, пожалуйста, сумку, там мой паспорт». Вернул тогда украденное, не раздумывая. И, может быть, это был первый шажок на пути к покаянию, к истинной вере, которая пришла уже много позже.
— Станислав Юрьевич, в русской поэзии выделяют Золотой век, Серебряный век. Вы же принадлежите по времени к поэтам-шестидесятникам. Что, по-вашему, должно было сделать в поэзии ваше поколение?
— Тут нужно говорить не только о поэзии, но и о всей простонародной литературе, о прозе Белова, Распутина и многих других. Была у нас как бы интеллектуально-столичная литература, а была литература для простых людей. Мы сделали все, чтобы привлечь к ней внимание, поставили ее в ряд с самыми значительными произведениями искусства, заявили во весь голос о русском понимании мира, о том самом простодушном менталитете русского народа. Я думаю, мы свою миссию выполнили. И то, что сегодня наше творчество востребовано, говорит само за себя.
Александр Пашутин: «МХАТ — это братская могила для начинающих»
2008 год
Народный артист России Александр Пашутин, возможно, и не обладает брутальной внешностью Александра Домогарова, ярко выраженной мужественностью Сергея Шакурова или уверенно притягивающим к себе внимание зрителей всех полов и возрастов гипнотическим обаянием Олега Меньшикова. Но, дебютировав в кино в 1970 году в фильме не абы каком, а в «Городском романсе» Петра Тодоровского, с тех пор, по самым скромным подсчетам, снялся где-то в ста фильмах и сериалах. И, надо сказать, что, хотя и не все они запомнились и полюбились зрителям и были обласканы критиками, артиста охотно и много приглашают известные режиссеры российского кинематографа.
Возможно, секрет тут и в безукоризненном перевоплощении актера в своего персонажа, в чем сказывается безупречное классическое образование, полученное Александром Пашутиным. И его не часто встречающееся умение не только талантливо и выпукло обозначить характер героя, но и, не выпячивая себя, подыграть партнерам, составляя вместе с ними слаженный коллектив, от чего выигрывает и спектакль, и зритель.
Об этих его качествах помнят режиссеры, с завидным постоянством приглашая актера в свои фильмы, антрепризы и сериалы, чему свидетельством одна из его последних работ — начальник лагеря в «Утомленных солнцем-2» Никиты Михалкова.
Что касается непосредственного общения, впечатление складывается такое, что Александр Сергеевич меняется только на сцене, а в жизни всегда подтянут, улыбчив, легок в разговоре и приятно удивляет своими галантными манерами в чем можно было убедиться на встрече с уфимскими журналистами. А чего ждать от человека, образцом подражания для которого всегда был элегантный и корректный Павел Массальский.
— Александр Сергеевич, вы выглядите очень подтянутым и стройным, и военная форма любой эпохи в любом фильме вам к лицу. Что, собственно, неудивительно, поскольку слышала, что вы поступали в военное училище. Искусство приобрело прекрасного актера, а как армия потеряла такого солдата?

— Папа вернулся с войны инвалидом, и все трудности послевоенной жизни легли на мамины плечи. Она справлялась, как могла. Мы жили в центре Москвы, и я каждый день ездил на самокате через весь город к бабушке, «на подкормку», — она поваром работала. Как-то с другом посмотрели фильм про суворовцев — понравился. Мы с ним, недолго думая, прошли медкомиссию и поступили в Воронежское училище. Хотя я его так и не окончил. Но, думаю, та мужская основательность, которая должна быть в каждом мужчине, воспитана во мне именно там. Мы не гуляли и не ухаживали за девочками, не могли, когда хотели, сбегать в кино, погулять — жизнь суворовцев проходит за забором. Зато нас обучали не только наукам, а, например, слесарному, столярному, переплетному делу, резьбе по дереву. Мне и сегодня дайте любой материал — смастерю что угодно. Правда, случился со мной тогда небольшой конфуз: пришла в училище знакомая девочка. Иду с ней по коридору — а вдоль него висят работы курсантов: полочки, стеллажи. И тут она читает вслух: «Ящичек для туалетной бумаги. Работа суворовца А. Пашутина». После недолгой паузы девочка окинула меня насмешливым взглядом и ехидно спросила: «Саш, а это все, что вы можете?». Я, конечно, заорал: «Не-е-ет!», но впечатление было испорчено.
Кстати, в 11 лет, когда я поступил в училище, силенок во мне было маловато. Но увлекся боксом и в 1959 году даже выиграл соревнование между Воронежским и Киевским суворовскими училищами. Нас тренировали постепенно, как бы малыми порциями, но нагрузки были мощными. По сравнению с суворовскими училищами армия — она для маленьких. Все, что я получил, учась в Воронеже, мне в жизни здорово пригодилось. Особенно, когда денег не было. Например, мебель для дома не покупал. Если было дерево и инструменты, делал все сам. Форму спортивную соблюдаю: могу, конечно, выпить шампанского, бокал хорошего красного вина, но не водку, виски или коньяк. Спортом тоже занимаюсь до сих пор серьезно: каждый день по два часа обязательно провожу на теннисном корте. Несколько раз в неделю качаюсь в клубе, затем парная, бассейн… Все оттуда — из детства.
— Почему же вы так и не стали офицером?
— В училище был драмкружок, я там занимался, и это меня захватило очень. В результате через пять лет так и ушел из училища. Подал рапорт и ушел. У курсанта, в отличие от выпускника, есть право на добровольный уход, хотя особого восторга у начальства это и не вызывает.
В училище нас было пятеро закадычных друзей-москвичей, и мы решили уйти вместе. Подали рапорты, выслушали все, что о нас думает руководство, и навсегда покинули Воронеж. С тех пор с ребятами не разлучаемся, нашей дружбе уже 50 лет. Правда, из пятерых в живых осталось трое. Я, когда в военных фильмах снимаюсь, обязательно каждому из них своеобразный привет передаю — фамилии называю. В картине «Смерть шпионам» неоднократно Рукова и Пименова в разных ситуациях упоминал: то в управление приглашал, то часы свои у них искал.
— У вас прекрасная классическая театральная подготовка: студия при театре имени Станиславского, Школа-студия МХАТ. За плечами работа в театре имени Гоголя, театре имени Ермоловой. Говорили, что Олег Ефремов обещал взять вас в «Современник». Сами не пошли или что-то переменилось в творческой судьбе?
— Никогда не пожалею, что 13 лет прослужил в театре имени Гоголя — прекрасный театр. А сам Ефремов вскоре ушел во МХАТ, это для начинающих актеров — братская могила. В труппе 150 человек. Естественно, главные роли играют старейшины, молодые — на подхвате. У многих талантливых актеров вся жизнь прошла в массовке. Некоторые не выдерживали — ломались, начинали пить. Вот когда Валера Фокин пригласил меня в театр Ермоловой, туда пришли Татьяна Догилева, Олег Меньшиков, Александр Балуев, Витя Павлов — представляете, какой коллектив? Да плюс сам Фокин.
— Иногда счастливый дебют в кино определяет удачливую судьбу актера. Вы снимались у Эльдара Рязанова, Вадима Абдрашитова, Александра Митты, Петра Тодоровского. Именно в его известном фильме «Городской романс» состоялся ваш дебют в кино. Как же получилось, что Тодоровский пригласил в свой фильм никому не известного актера практически сразу же после окончания Школы-студии МХАТ?
— Тут сыграли роль дружба и опять-таки курьезный случай. В «Городском романсе» главную роль играл мой приятель Женя Киндинов, который учился курсом старше. А я всю жизнь обожал читать в метро и постоянно терял варежки. И вот пришили мне во избежание дальнейших потерь к ним резинку, которая перекидывается через шею, как у детей. Оказалось — удобно, я больно-то не стеснялся, и варежки всегда были при мне. И вот в таком дивном виде попался на глаза Тодоровскому: взрослый мужик с детсадовской резинкой, болтающий с Женей Киндиновым. Женя режиссера успокоил, сказал, что, несмотря на резинку, человек я нормальный и актер хороший. Так и подписал первый в жизни договор, который храню до сих пор.
— 90-е годы оказались тяжелыми для нашего кинематографа и гибельными в прямом смысле слова для многих актеров. Вы же снимались практически без перерыва. Что это — ваша удачливость, старые связи?
— Думаю, удачливость, конечно, сыграла здесь не последнюю роль. Правда, несмотря на то, что я не отказывался сниматься, но и фильмов, за которые мне было бы стыдно, тоже на своем счету не имею. Кроме того, я — трудоголик. Балерины, пианисты, скрипачи каждый день не менее четырех часов проводят у станка, у инструмента, иначе свою жизнь даже не представляют. А артисты — народ ленивый. «У меня сегодня ни спектакля, ни репетиции, ни съемок нет. Значит, поваляюсь на диванчике, вечером выпью с друзьями водочки». Но если ты хочешь быть востребованным, если не хочешь в 50 лет оказаться за бортом, а желаешь стать в искусстве таким долгожителем, как Владимир Михайлович Зельдин, нужно постоянно трудиться.
— Нынешний телеэфир забит шоу, на которых наши теле- и кинозвезды дрессируют собачек, конкурируют с фигуристами и попсой — то ли синдром боязни остаться без работы, то ли им необходим такой дешевый пиар. Если не ошибаюсь, одним из первых таких шоу был «Последний герой», на котором милые, душевные, всеми любимые и узнаваемые люди со слезой в голосе вышибали друг друга из передачи в борьбе за заветный миллион. А что за причина сподвигла вас на участие в «Герое»?
— Отвечу предельно честно: раньше я эту передачу не смотрел и ничего о ней не знал. Но когда предложили поучаствовать и назвали сумму, особо не раздумывал. Организаторы отлично платили участникам, и это разумно, поскольку «герои» — люди известные, востребованные. Они на полтора месяца полностью выбивались из гастролей и репетиционных графиков, а значит, теряли приличный заработок. А в Театре Моссовета я таких денег не заработал бы и за пять лет. К тому же съемки проходили в Доминиканской Республике. Когда там еще побываешь? Ну, и очень хотелось проверить, насколько я еще силен физически, морально, смогу ли выжить в экстремальных условиях.
А «убрали» меня в определенный день — я сам договорился, в какой. Сейчас, думаю, об этом можно говорить. В спектакле заменить меня было некем. Отпустив на игру, главный режиссер пошел навстречу, но с одним условием: я должен быть в Москве к «Вишневому саду». Подвести коллектив Театра Моссовета я не мог. Зато в день «вылета» выиграл конкурс на лучшую фотографию.
Вообще, забавных моментов на игре было много, и сейчас они вспоминаются с удовольствием: научился виртуозно выпрашивать, например, сигареты для курящих собратьев. Мы снимались в строго определенном месте, а чуть дальше расслаблялись отдыхающие. Это экзотические острова. Туда съезжаются туристы со всего мира. Представьте огромный пляж, на котором к мирно загорающим далеко не бедным господам подбегает старый небритый пень в плавках и бандане и начинает, словно Киса Воробьянинов, канючить на ломаном английском: «Гив ми, плиз, уан сигарет фо май вумен». Люди пугались, но сигареты давали. И долго провожали сочувствующими взглядами.
Выпрашивал и цивильную еду. Там дураков нет — аборигены за просто так, за «сэнкью», и крошки не дадут, а у меня ничего, кроме трусов да майки. Выменивал «паек» на бандану. Вы бы видели этот ресторан: зачуханный сарай, жуткая антисанитария, на столе — гора живой рыбы. А тут я со своей банданой на пальцах объясняю: «Хочешь — возьми платочек, а мне дай рыбку жареную». Черный повар понятливо кивал, выдавал два здоровенных куска. Я их тут же воровато прятал за пазуху, а еще незаметно уводил со стола две луковицы. И вприпрыжку, счастливый — к своим. Негр долго еще слышал в зарослях мои восторженные крики: «Май фрэнд — зэ бэст! Ура!».
— Похоже, вам свойственны некий авантюризм, любовь к риску?
— Я ведь и нынешнюю свою жену увел из семьи как авантюрист. Жена и теща у меня золотые. Они — киевлянки, всю жизнь прожили на Подоле. Сейчас теща перебралась на Ветряные Горы. Это у меня третий брак. После первых двух неудачных попыток я 13 лет проходил в холостяках. А когда Любу встретил, все легкомыслие словно бритвой отрезало. Она идеальная женщина. Верите — у меня даже мобильного телефона нет, потому что Люба все знает и все решает. Звоню из театра: «Буду через 15 минут». Приезжаю — на столе белоснежная скатерть. Пять салатов, представляете? Слева цветочек, справа салфеточка. Все красиво, аккуратненько. И когда она все это успевает — не пойму.
Любые вопросы мы решаем только вместе. С Любой мы познакомились в Театре Ермоловой. Она пришла работать администратором и сразу мне очень понравилась. Я ей, кстати, тоже. Случилась любовь с первого взгляда. Но вот ведь незадача — Любушка моя оказалась замужней дамой, а супруг не кто-нибудь — настоящий полковник. А тут я объявился со своей любовью. Словом, оставила она мужа-военного и вышла за меня. Произошло все как-то очень быстро. Муж с пистолетом за мной гонялся: «Пристрелю гада! — кричал. — Убью!». Его понять можно — такую девочку да в чужие руки! Ну, сейчас мы уже 18 лет вместе, у него давно своя семья. У нас с Любой две дочери — Оля от ее первого брака, Маша от моего второго. А еще у нас две внучки и два внучка. Я ненормальный отец, а дед и вовсе сумасшедший.
— Вы всегда со вкусом одеты, а вашим манерам поучиться бы молодому поколению. У вас врожденный вкус или все от воспитания?
— Мне повезло. Я был обычным московским мальчишкой. Первые уроки хороших манер получил в Суворовском училище. Например, за столом у нас были накрахмаленные салфетки в серебряных кольцах. В каких семьях в 1955 году так накрывали стол? Потом я поступил в Школу-студию МХАТ, где хорошие манеры преподавала княгиня Волконская. Она привила нам замечательно красивые навыки, скажем, целовать руки дамам. Знаете, я после ее уроков всю жизнь просто физически не могу сидеть, если женщина стоит. Моментально вскакиваю — рефлекс срабатывает.
На первое место ставлю умение правильно говорить, точно формулируя свои мысли. Потом — манеры, костюм. Важная составляющая хорошего вкуса — доброжелательность. Что касается мужчин, то определяю их вкус по тому, как они ведут себя в присутствии женщин. У женщин не люблю вульгарности и сигареты во рту, но это, может быть, от того, что сам никогда не курил.
Да и у своих друзей старался все хорошее перенять. Так, мой друг Дима научил дарить цветы. Раньше я, как, впрочем, и многие мужчины, шел на свидание с тремя-пятью гвоздичками. А он дарил дорогие букеты хороших роз. Не все имеют деньги на это, но деньги можно заменить фантазией, однако это — уже другая тема.
Елена Камбурова: «Сундук со знаниями» меня не услышит»

2008 год
«Мальчишки и девчонки, а также их родители!» — этот звонкий задорный мальчишеский голос в заставке всенародно любимого журнала «Ералаш» принадлежит поразительной женщине. Этот голос способен бесхитростно удивляться: «До чего дошел прогресс!» в кинофильме «Приключения Электроника», трепетно и нежно взывать из глубины веков в картине «Ярославна — королева Франции», отчаянно и дерзко бунтовать в телефильме «Дульсинея Тобосская». Этот голос вызывает щемящую ностальгию и тоску в кинофильме «Раба любви».
А есть еще концертные программы Елены Камбуровой, отличающиеся разнообразием и безупречным подбором репертуара, неизменного в смысле вкуса в течение вот уже нескольких десятилетий, концерты, позволяющие отдохнуть душой людям, уставшим от четырех нот и трех слов, заполонивших экраны телевизоров и радиоэфир. Есть московский Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой, объединяющий близких ей по мировоззрению певцов и артистов. «Наш театр сегодня — это появление в России традиции петь и слушать песни, в основе которых стихи, окрыленные музыкой, их актерское проживание и душевное напряжение зрительного зала», — говорит певица.
Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ, художественный руководитель Театра музыки и поэзии Елена Антоновна Камбурова в Уфе.
— Елена Антоновна, вы рады вашему приезду в наш город?
В самом начале своей сценической жизни я часто ездила в Уфу. А потом связь как-то прервалась, и перерыв этот был довольно большой — 19 лет. В 2006-м году я приехала как в новый город.
— А вы помните уфимского зрителя тех, прошлых лет?
— Всегда есть ожидание, что сохранилась та, пусть небольшая, часть слушателей, которые помнят меня по старым концертам. Тогда мы выступали, давая по три-четыре концерта на одной сценической площадке, причем программа их была разнообразной. И еще надеюсь на то, что не все сошли с ума и не перевелись зрители, способные слушать нормальные песни.
— Вы исполняли цикл песен на стихи поэтов Серебряного века. Включаете ли сейчас их в свой репертуар?
— Эти песни есть, они никуда не ушли, просто при исполнении я варьирую их, возвращаюсь к ним снова, и они будто только что написаны. Для меня все относительно, если применяется к слову «песня». Представить старым человека я могу, песню — нет. Она рождается каждый раз заново.
— Есть ли современные авторы, чьи стихи вы можете включить в свой репертуар?
— Сегодня я слушаю огромное количество песен, но как-то не получается у меня признать их своими, мне подходящими. Это ведь не значит, что нет талантливых поэтов, просто у меня как-то не получается исполнять их произведения.
— Как вы относитесь к современной эстраде?
— На этот вопрос я фактически отвечаю своим концертом. Современная эстрада и мои концерты — это совершенно взаимоисключающие друг друга вещи.
— Театр музыки и поэзии, художественным руководителем которого вы являетесь, записи, съемки и еще концерты отнимают много времени. Как вам удается все это совмещать?
— Что касается театра, я не решаюсь стать режиссером спектаклей, которые у нас идут. Начинали с того, что это были просто песенные вечера, но за три последних года мы выросли в музыкально-драматический театр. Спектакли рождаются и идут с успехом. Зал наш, правда, маленький, камерный, и попасть к нам, поверьте, довольно трудно. Так вот, ношу режиссера я на себя не взваливаю, для этого работают очень интересные люди, в первую очередь Иван Поповский, ученик Петра Наумовича Фоменко, сам он — серб, учился в ГИТИСе. Его сестра поставила у нас очень интересный спектакль по пушкинским «Цыганам». Тяжесть подготовки представлений ложится на плечи режиссеров, а я только отслеживаю, чтобы не прошло что-то уж совсем не по мне. Правда, шла работа и конкретно со мной, работа над спектаклем по древнегреческой трагедии «Антигона» Софокла. Только представьте себе, все это было написано около трех тысяч лет тому назад, а проблемы удивительно современны.
— Как вы считаете, вернутся ли знаменитые литературные вечера «золотых» 60-х, когда Евгений Евтушенко собирал полные залы, публика слушала стоя…
— Трудно сказать, колесо так называемой «фабрики» звезд действует очень сильно, вкладываются огромные деньги, и кажется, что все это неостановимо, такое впечатление, что враги оккупировали территорию культуры. Что касается вечеров, то в нашем театре выступают барды, ставятся интересные спектакли. Происходящее вокруг, конечно, непостижимо, но, видимо, пришла та самая «фельетонная эпоха», о которой писал Курт Воннегут.
— Раньше ваш голос часто звучал за кадром. Есть ли у вас новые работы в этой области?
— Кинорежиссер Владимир Мотыль снимает многосерийный фильм, там я пою французскую песню.
— Ваш талант не лишен дара некоего пародирования, многие даже не подозревают, что заставку к «Ералашу» исполняете именно вы. Как это у вас получается, ведь даже Илья Ильф и Евгений Петров писали: «Единственное, что не меняется у женщины, — это голос»?
— Ну что вы, голос женщины меняется, и очень сильно. Щебечущий девичий может смениться басом. А тот мой голос — голос подростка, он никуда не ушел, я и сегодня могу так спеть.
— Как-то просочилась информация о том, что вы выступали в посольстве в Гааге. Вы часто участвуете в таких правительственных вечеринках, мероприятиях?
— В такой роли я была первый раз и поражаюсь смелости нашего русского посла. Думаю, на него повлияла его жена, Марина Неелова. Знаете, как это бывает, в посольстве устраивали прием, чтобы продемонстрировать голландцам, как русские встречают старый Новый год, голландцы-то его не празднуют. Обычно в посольстве визитная карточка «рашен культуры» — это русский фольклор, ну и какая-то эстрада. Но в данном случае мое приглашение себя оправдало — мы выступили с большим успехом.
— А что вы пели?
— И Окуджаву, и песни на английском, на французском языках. Принято считать, что люди в дипломатических кругах далеки от культуры, но дальнейшее мое общение с фрейлиной королевы, с министром иностранных дел показало: все эти люди — всесторонне образованные, в том числе и весьма сведущи в делах культуры. Для меня лакмусовая бумажка — песни Жака Бреля, и то, что эти люди прекрасно знают его и любят, было приятным открытием.
— Ну и как, научили европейцев справлять старый Новый год?
— Во всяком случае, впечатлений, кроме нашего выступления, у них было много: им устроили роскошный хлебосольный стол, невероятный фейерверк. Правда, наша традиция праздника была несколько нарушена: елку украсили орхидеями.
— Вы часто бываете за рубежом?
— У меня не случилось карьеры, случился Путь, слава богу, чему я больше рада. За меня трижды брались импресарио: один — поляк, один — немец, третий — англичанин, и все как-то соскальзывало. Может быть, надо было браться за это раньше по времени. Я же не буду меняться ради того, чтобы иметь более широкий, скажем, спектр деятельности. Ведь даже во Франции драматическая поэтическая песня утратила свою роль сегодня, к величайшему сожалению.
Я езжу за рубеж, но в основном меня слушают наши соотечественники. Конечно, приходят и иностранцы, но случайно, ведь даже вся реклама о моих выступлениях идет в наших русскоязычных газетах. Хотя те 15—20 моих выступлений перед иностранной аудиторией доставили мне большое удовольствие. Огромное счастье понимать, что люди воспринимают мои песни эмоционально. С моей точки зрения, репертуар у меня совершенно несложный, но так уж публика воспитана, что простая песня — размышление о жизни — воспринимается как пессимистическая.
— А как вы отдыхаете?
— Уезжаю в деревню, в Рязанскую область, 430 километров от Москвы.
— Могли бы вы рассказать о самых памятных событиях вашей жизни, о каких-то переломных моментах?
— Памятных событий огромное количество. Практически вся наша жизнь состоит из станций и переломов. Я жила на Украине, приехала в Киев, поступила в институт; когда ты учишься — ты уже совершенно другой человечек. Конечно, если говорить о творчестве, мы учимся у наших впечатлений. Переломом все-таки является то, что ты прочитал в книгах, то, что тебя потрясло. Ход мыслей совершенно переменился. Я долго не представляла, в какой стране живу. В школе учили про войну, героев, и то, что погибло множество людей в ГУЛАГе, тайно прочитанный тогда Солженицын стали для меня сильнейшим потрясением в жизни. И этот шок все продолжается, потому что открываются все новые и новые кровавые страницы нашей истории.
— Свое первое выступление вы часто вспоминаете? И какое оно было?
— Если мое первое сценическое выступление снять в кино, люди не поверят. Оно прошло в этаком жанре трагикомедии: для меня это было очень трагично, а со стороны безумно смешно. Я не представляла себе, что такое сценическое публичное одиночество, и, оказывается, была к нему совершенно не готова. Я вышла, решила спеть а капелла несколько песен, и это кончилось полным провалом.
Абсолютно переломным стал для меня вечер в Москве, в театре эстрады, когда я послушала Жака Бреля. Я тогда как раз окончила училище циркового и эстрадного искусства, еще не представляла себе, что буду делать, и тут увидела, на что способна песня: поэтическая роскошь плюс феноменальные способности автора, который написал и стихи, и музыку, плюс потрясающие аранжировки, плюс потрясающая отдача исполнителя, темперамент, подобного которому я уже не встречала. Позднее узнала много людей, которые на меня повлияли: это и Цецилия Львовна Мансурова, уникальная актриса, первая Турандот вахтанговского театра, Леонид Енгибаров — гениальный клоун, Фаина Георгиевна Раневская, Ролан Быков. Счастьем была дружба с моими авторами — Давидом Самойловым, Юрием Левитанским.
— А что это за случай с Роланом Быковым, который так сильно повлиял на ваше творчество?
— К сожалению, нашим совместным планам не дано было осуществиться. Когда первую мою сольную программу закрыли, та маленькая оттепель, которая была до меня, уже кончилась. Я попала в полосу, когда песни, подобные моим, уже считались антисоветскими, антинародными, и тут впервые услышала от Ролана Быкова слово «мюзикл». Мы договорились, что Микаэл Таривердиев напишет музыку на поэму Беллы Ахмадулиной «Сказка о дожде», Ролан это все поставит, я буду играть. Ничего из этого не получилось. Но вот в ходе работы Ролан первый мне подсказал, что микрофон — это тоже музыкальный инструмент, которым нужно пользоваться очень умело, и служит он не только для усиления звука, но и для проявления невероятного множества тонких красок человеческого голоса.
— Вы знакомы с Юрием Шевчуком, нашим земляком, бывали на его концертах. Ваши впечатления от его творчества и от зрителей, которые приходят на его выступления?
— В один из моих приездов собралось несколько бардов, и среди них был Шевчук. До него пели и другие, и, честно говоря, я уже не знала, куда деваться от скуки. Он был последним, и я моментально проснулась. Даже пыталась помочь ему, он выслал мне свои записи, я отнесла их на радиостанцию «Юность», но там думали слишком долго… Я была только на двух его выступлениях и, если бы меня пригласил не Юра Шевчук, ушла бы после второй или третьей песни, потому что атмосфера в этом зале абсолютно мне чужда — это было какое-то физиологическое, биологическое потребление песни. У Юры в текстах много интересных вещей, но в таком восприятии все нюансы его песен проходят мимо.
— Скажите, кто ваша аудитория?
— Практически все мои друзья сегодня — это выходцы из моих залов. Я всегда надеюсь, что слушать меня будут люди, которые хотя бы приблизительно любят и чувствуют этот мир и мыслят так же, как я. Какие-то основополагающие понятия должны быть одинаковы. Я часто говорю: «Его Величество Зритель», потому что в зале могут сидеть просто фантастические люди, гораздо более тонко чувствующие, чем я. Они больше понимают, судя по письмам, которые я получаю. Есть ведь люди, которые многого не читали, многого не знают, но обладают тонкой душевной вибрацией, а есть такие «сундуки со знаниями»: все читали, все видели — ничего не чувствуют! Как стена.
— Какое понятие вы вкладываете в определение «трудный зритель»?
— Последние лет десять у меня уже не бывает тех залов, какие собирались когда-то. Как ни уговаривали меня друзья, я никогда не меняла свою программу и не могла понять: почему то, что я пою, считается сложным? Было тяжело оттого, что случался слишком большой перепад: сегодня прекрасно проходит концерт в филармонии, а завтра нас бросают на солдатскую аудиторию. Были и неприятности. Как-то повезли нас выступать перед шахтерами, и, увидев полупьяный зал, я произнесла речь. Сказала, что песни — это живые существа, они нежны и похожи на цветы, и если их воткнуть в песок — они вянут. И пошел донос на то, что я оскорбляю рабочий класс, хотя у меня самой два брата — шахтеры, и я с большим уважением отношусь к труду. К восприятию этих песен эти люди просто были не готовы.
— Ваша родословная восходит к грекам Приазовья. Чувствуете ли вы духовное, культурное родство со своими предками?
— Конечно, я пою греческие песни. Мне очень нравится и их сегодняшнее песенное творчество, в частности, то, что они не подлаживаются под общий стиль. Как пели свои песни, так и поют. Собираются в гостях и поют очень какие-то жизнерадостные песни, хотя жизнь и история их далеко не веселы.
— Вы начали свою песенную деятельность, записав цикл песен Новеллы Матвеевой, затем песни Булата Окуджавы. Обычно авторы ревниво относятся к исполнению своих произведений, особенно если сами поют. Как было в вашем случае?
— Совершенно по-разному. Насколько Булат Окуджава отнесся тепло и нежно к моим опытам, настолько же строго реагировала Новелла Матвеева. И ей, и ее мужу Ивану Киуру казалось тогда, что не надо ничего своего, надо петь точно так же, как автор. Более того, я тогда и привыкнуть-то не могла, как поет сама Новелла Матвеева, очень трогательно и мило, но считаю, что раз пою я, то должна искать свои краски.
— Трудно в двух словах определить жанр, в котором вы выступаете, — это синтез поэзии, музыки, актерского мастерства, импровизации. Кто, кроме вас, еще выступает в жанре «Елены Камбуровой»? Есть ли у вас ученики?
— В этом направлении поет свои песни Елена Фролова, она выступает и в нашем театре, и без нас прекрасно существует. И за рубежом у нее все прекрасно складывается, появляются все новые города, в которых ее ждут. Татьяна Алешина, Андрей Крамаренко, Александр Лущик — все это люди, за творчеством которых надо бы следить, но тут нам не помогает даже канал «Культура»
Пётр Марченко: «Самая большая тюрьма находится у человека в голове»
2008 год
Профессия телеведущего, несомненно, имеет много общего с профессией актера не только внешне — узнаваемы, любимы, артистичны, — но и по сути. Если одни силой воображения путешествуют по странам, городам, эпохам, тасуют как карты судьбы и характеры, преображаясь из душевного интеллигента в отпетого негодяя, то и телеведущие не менее свободно могут поинтересоваться ценой картины Айвазовского на торгах аукциона Сотбис. Поприсутствовать на дне рождения далай-ламы, поаплодировать премии «Грэмми» или порадоваться вместе со спасателями вытащенному из какой-нибудь щели грязному взъерошенному котенку.

Правда, многие зрители переносят свою горячую любовь и преданность на того или иного персонажа и, в зависимости от изображаемой артистом вредности, готовы или облить серной кислотой, или на руках донести до края света. К телевизионщикам же относятся все-таки спокойнее.
Хотя популярному телеведущему Петру Марченко, соединившему суровую мужественность и интеллигентность эрудированного человека, что неудивительно для выпускника факультета журналистики знаменитого МГУ имени Михаила Ломоносова, тоже всякого от поклонников пришлось повидать.
Петр Валентинович недавно был гостем столицы, принимая участие в конкурсе «ТЭФИ-Регион-2008», дал мастер-класс и любезно ответил на несколько вопросов.
— Петр Валентинович, наверное, профессия телеведущего сейчас не менее популярна, чем, например, актера, фотомодели — всегда на виду, подтянут, артистичен, обаятелен. Поэтому не удивлюсь, если скажете, что мечтали стать телеведущим с детства.
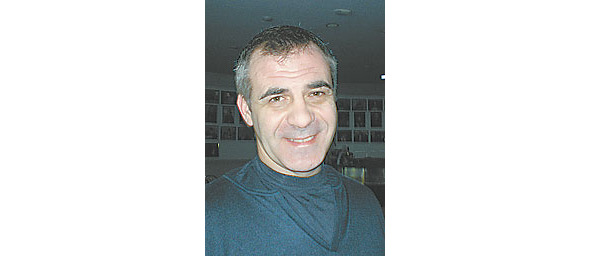
— Представьте, я был романтичным подростком, но собирался стать не актером, а намеревался летать. Но в детстве сломал позвоночник, и с небом пришлось расстаться. Ближе всего оказалось кино, телевидение. Дело в том, что отец мой был редактором документального объединения «Экран» и главным редактором телевизионного объединения «Мосфильм». Поэтому, в общем-то, я с детства хорошо знал все плюсы и минусы этого дела, слушал разговоры, видел, насколько люди, причастные к этому миру, могут быть неискренними, фальшивыми. И не обольщался. Но занимался собой сам: такой сам себе ведущий — сначала, кстати, радиоведущий. Еще в 1992 году мои родители случайно услышали, что радиостанция «Эхо Москвы» набирает на работу ведущих, и мне об этом сказали. Радиостанция ассоциировалась у меня с профессией ди-джея, а я очень любил музыку, вот и решил рискнуть.
А, оказалось, набирали-то информационщиков. Пошел все равно, и меня взяли, хотя я был человеком с улицы. Но уже в середине 90-х опять-таки на улице встретил Евгения Киселева и сказал ему: я — ведущий «Эха Москвы», а работать хотел бы на НТВ. Евгений Алексеевич оставил визитку, и, когда я пришел, мне почти сразу сказали: я подхожу. Тогда случился кризис на НТВ, люди уходили. Некого было ставить в эфир.
— Радиоведущий и телеведущий — между ними все-таки большая разница, наверное, как между театром и кино: в первом случае на тебя смотрят люди из зала, реагируют, переживают, в кино их мнение о вас видно, только если сами приходите в кинозал. Что для вас на телевидении оказалось труднее всего?
— Тяжелее всего «держать» лицо. Когда сидишь на радио с микрофоном, то в нестандартных ситуациях лицом можешь показать что угодно. А на экране нельзя себе такого позволить. Если говорить еще о различиях, то радио более всеохватывающе с точки зрения новостей. На телевидении ты привязан к картинке — человеку надо обязательно показать, что произошло. Бывает, и сюжет хороший, а картинка тусклая, неинтересная. Вообще работе на радио я очень благодарен: именно на «Эхе Москвы» нашли самый удачный вариант с точки зрения подачи новостей, который потом применили на НТВ, а сейчас — везде: рассказывать о событиях доступным, а не сухим языком. Когда работаю с текстом, то стараюсь сделать его таким, как если бы что-то рассказывал друзьям.
— Было ли вам стыдно когда-либо за то, что вы говорили? Я слышала такое расхожее в среде тележурналистов мнение, будто самая лучшая новость — это плохая новость, а в мире, в том числе и на телевидении, и без того много «чернухи».
— Бывало, что и не соглашался с тем, что говорил. Но, во-первых, мнение человека субъективно, а стыдно мне не было никогда — не говорил я такого, после чего не мог людям в глаза смотреть. А новости… Самая лучшая — самая интересная, яркая новость, о которой потом можно долго вспоминать. Я, например, своим звездным эфиром считаю выпуск о мультфильме «Ежик в тумане», который признан лучшим мультфильмом всех времен и народов.
А, в общем, главная задача ведущего — так подать факты, чтобы было интересно самому, тогда заразишь и зрителя.
Новости должны быть разными, хотя существуют, конечно, для того, чтобы рассказывать обо всем происходящем, потому хватает и «чернухи». Хотя, работая на телевидении, я старался доносить до зрителя гораздо больше позитива, внушать, что безвыходных положений не бывает. Мой любимый афоризм: «Самая большая тюрьма находится у человека в голове». В то же время телевидение становится более развлекательным, и, думаю, это нормально. Не стоит переоценивать его значение как четвертой власти в стране.
— Какими качествами, по-вашему, должен обладать телеведущий?
— Не терплю безответственности на работе. Ведь ведущий — это вершина огромного айсберга, и если он ошибается, то ставит под удар всю команду. Моя вина, если в эфир вышел плохо сделанный сюжет — недосмотрел. Должен был настоять, чтобы материал переделали. Еще стараюсь, чтобы личные качества работе не мешали. В жизни я совершенно другой человек. Если дома могу вспылить так, что мало не покажется, причем и отхожу достаточно тяжело, то с коллегами такого себе не позволяю.
— Сменив в свое время канал, вы сменили и амплуа, если можно так выразиться, — из ведущего новостных каналов стали ведущим канала «Доброе утро». Как это сказалось на образе жизни и стиле работы?
— «Доброе утро» — это, конечно, совсем другая история, но тоже любопытная. По крайней мере, в этой программе я не чувствую себя застегнутым на все пуговицы, как было раньше, я стал более свободным и раскованным. И теперь в достаточно свободной форме беседую с гостями о том, что мне самому кажется интересным. А что касается образа жизни, так я сова, в свое время, еще на НТВ, готовил утренние новости и по себе знаю, как это тяжело — работать ночами, днем ложиться спать, а вечером, с трудом продирая глаза, первым делом выяснять, что же произошло за день. Впрочем, когда тебе нравится работа, все остальное уже не так важно.
— Чем, по-вашему, региональное телевидение отличается от федерального?
— Вообще, я считаю, что местные новости в каком-то смысле важнее для зрителя, чем федеральные. Ведь каждому интереснее узнать, что произошло на соседней улице, а не в соседнем государстве.
Естественно, различия между общероссийским и местным телевидением существуют, но они скорее связаны с материальным потенциалом провинциальных каналов. Все же федеральное телевидение обладает намного большими финансовыми и техническими возможностями. А современные новости — итог этих самых возможностей.
— Как и на любом рабочем месте, наверное, у вас происходили какие-то курьезные случаи?
— К счастью, ничего серьезного припомнить не могу. Какие-то серьезные истории — это, на мой взгляд, признак непрофессионализма.
— Может быть, поэтому из-за некоторой нехватки адреналина на работе вы и участвовали в передачах «Русский экстрим» и «Империя».
— Это адреналин другого свойства. Все-таки работа вошла в своего рода привычку, а тут я столкнулся с совершенно необычными ощущениями, с реальным риском. Мне было очень интересно узнать, смогу ли я ужиться в достаточно экзотических условиях вместе с людьми, с которыми прежде не был знаком и видел их разве что где-то на экране.
— А «Русский экстрим»?
— Это, прежде всего, психологический тренинг, испытание себя в чрезвычайных ситуациях. В «Русском экстриме», например, мы спускались в аквалангах по стенкам рифов в Тихом океане, сталкивались с акулами. И хотя это были не самые большие акулы, обитающие в том регионе, все равно они меня заворожили. А вот по природе своей я неагрессивный человек и не люблю драться. Это мое достоинство и мой недостаток.
Святослав Бэлза: «Я не звезда, я — звездочёт»
2009 год
Меломанам сложно представить себе передачи «Шедевры мирового музыкального театра» на телеканале «Культура» без неизменного ведущего Святослава Игоревича Бэлзы: аристократизм манер, проявляющийся вследствие аристократизма души, безупречное знание темы, ненавязчивая манера общения с именитыми гостями… Кажется, Святослав Игоревич всю жизнь проводит, окруженный божественными созвучиями классической музыки. Между тем, в дипломе Бэлзы значится: «филолог», «литературовед», по должности он — старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН, в его научном багаже — свыше 300 литературоведческих и литературно-критических публикаций. Он принимает участие в жюри различных, в том числе и кинематографических, фестивалей, ведет аукционы. Часть его работ переведена на английский, итальянский, польский, чешский, венгерский и другие языки.
Столь многочисленные таланты по заслугам отмечены разнообразными наградами и званиями: Святослав Игоревич — действительный член Академии российского искусства, член Академии российского телевидения, Союза журналистов России и Союза театральных деятелей. Награжден Офицерским крестом Ордена Заслуги Республики Польша, орденом святого Николая Чудотворца «За преумножение добра на Земле».
Последний, но не первый его визит в Уфу был отмечен участием Бэлзы в XV Международном фестивале имени Рудольфа Нуреева, поэтому и беседа наша, естественно, началась с разговора о знаменитом земляке.

Служитель красоты
Многие любители театрального искусства знают меня как телеведущего. На деле же не только я веду передачи, но и как бы их тематика, суть приводят меня к знакомству со многими выдающимися людьми. Повезло мне неоднократно встречаться и с Рудольфом Нуреевым.
Люди, даже далекие от балетного искусства и не знавшие, с кем общаются, попадали под его невероятное обаяние. Обладая отменным вкусом, он создал себе неповторимый имидж, отражавший утонченность его натуры. Любитель парадоксов Оскар Уайльд когда-то сказал: «Я видел только одного скрипача, похожего на настоящего скрипача, — это был Альберт Эйнштейн». Рудольф действительно и был и выглядел как служитель высокого искусства: так шли ему его шали, береты. И вместе с тем он никогда не проявлял ни малейшего высокомерия.
То, что ваш театр связан с именами Шаляпина, Нуреева, накладывает на людей, причастных к опере, балету, высокие обязательства. Балет XXI века, думается, перешел на новую качественную ступень, но крепкий его фундамент заложили величайшие мастера XIX — XX веков, и среди них — имя того, кто покоится на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под роскошным мозаичным ковром. Он любил роскошь, поскольку был служителем красоты во всех проявлениях.
Ван Клайберн — выпускник Московской консерватории
Русское классическое исполнительское искусство всегда считалось эталоном во всем мире. Что касается нынешнего времени, вместо того чтобы анализировать положение вещей, я вам приведу только один факт. Когда, спустя много лет после победы на конкурсе Чайковского в 1958 году, в Россию приехал Ван Клайберн, это совпало с его 55-летием. Чтобы проявить свое уважение к выдающемуся пианисту, было решено присвоить ему звание почетного профессора Московской консерватории. И вдруг, вогнав всех в шоковое состояние, Ван Клайберн от этого знака внимания отказывается и просит оказать ему честь, вручив диплом выпускника Московской консерватории, потому что считает себя ее внуком. Время было еще советское, но уже почти перестроечное. И бедному ректору консерватории Борису Куликову пришлось оббить немало порогов, чтобы выполнить необычную просьбу. Но в результате — такой единственный в мире диплом существует. Он был вручен в Рахманиновском зале консерватории, студенты, как водится, пели «Многая лета», 90-летнюю маму выпускника в состоянии полной эйфории внесли на кресле. Правда, с датами получился некоторый конфуз: время поступления — 1958 год, окончания консерватории — 1988-й. Я думаю, приведенный факт как нельзя лучше характеризует рейтинг русской исполнительской школы в мире.
Солнечный Паваротти
На телевидении я уже около 30 лет, и, конечно, за это время практически все ведущие артисты, композиторы, дирижеры в той или иной передаче у меня перебывали. Горжусь тем, что они были не только гостями, многие стали моими друзьями: это и Галина Уланова, и Евгений Светланов, и Иван Козловский. Если говорить о гостях зарубежных, которых тоже у меня было немало, самыми своими большими удачами считаю общение с писателем Грэмом Грином и Лучано Паваротти в смысле длительности и если не дружбы, то какой-то теплоты отношений, возникшей между нами.
Не открою Америку, но, встречаясь с ними, лишний раз убеждался: чем крупнее мастер, личность, тем меньше в нем заносчивости, больше доброжелательности к людям, демократизма. С Паваротти мы познакомились после трагического землетрясения в Армении, когда он давал благотворительный концерт в пользу пострадавших. Именно тогда на всю страну в интервью он сказал: «Я чувствую, что в прошлой жизни был русским». И пояснил: «Года в четыре я в первый раз услышал „Картинки с выставки“ Мусоргского и понял, что знал эту музыку гораздо раньше».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
