
Бесплатный фрагмент - Было бы сердце
Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.
To XX.
It’s dark now, and I am very tired. I love you, always. Time is nothing.
Москва, 2017
—
Я хочу рассказать о том, что случилось с нами на самом деле. Я думала, что ты давно счастлив — и это делало меня счастливой тоже, хотя еще шесть лет в моей голове оформлялась моя правда. И я не могу не поделиться ею с тобой — хотя твоя правда оказалась совершенно иной. Просто я узнала об этом уже после того, как это было написано.
Я писала о тебе больше, чем о любом другом человеке: и все время с тобой, и все время после — и иногда мне кажется, даже до тебя — я уже писала о тебе. Перечитывая старые записи, я находила твои следы то тут, то там — пока тексты, наконец, не превращались со временем в бесконечный поток писем тебе, которые я тебе, разумеется, так и не отправила.
Теперь прошло достаточно времени для того, чтобы я смогла, наконец, объяснить себе самой те два года — и настало время, когда эта история уже не сможет никому причинить никакой боли. По крайней мере, я надеюсь, что срок годности той боли давно вышел.
Я знаю, что в этом мире, где все насквозь пропитано цинизмом и все забыли о том, что иногда случаются чудеса и люди могут любить искренне, без желания все выложить в интернет, а потом осмеять и превратить в хайп, очередную шутку, историю, которая через пару дней сменяется следующей, этот рассказ прозвучит слишком наивно — но мне хотелось бы верить в то, что даже если этот мир идет к концу, такие вещи все еще случаются.
Столько лет прошло, и Москва долго обтесывала меня наждачкой по коже со всех сторон, пока я, наконец, не начала помещаться в привычные рамки без затруднений и пока я не перестала задевать головой потолки в чужих домах. Этот город перемалывает людей в кашу из абсолютно одинаковых крупиц: ты был таким и был другим, а через пару лет жизни, в которой город швыряет тебя из улицы в улицу и загоняет в углы и рамки, ты уже ничем не отличаешься от таких же манекенов: ты живешь в такой же каменной коже и носишь такую же нелепую модную одежду, так же пьешь каждые выходные такое же безвкусное вино и ни с кем не желаешь считаться, оправдывая себя бесконечными проблемами на работе и головной болью по утрам. По утрам в Москве больше всего на свете хочется выпить аспирина и пролететь эту ужасную пробку на Севастопольском — а любить уже не хочется, это слишком обременительно.
Похоже, этому миру действительно хочется одинаковости: похоже, у него одни проблемы от чувств через край — и ему достаточно полутонов: и мне понадобилось довольно много времени, чтобы это принять, потому как я до последнего больше всего в людях любила глубину и считала, что глубина невозможна без полной амплитуды крайних состояний. Все оказалось гораздо проще: в этом мире стыдно признавать, что ты любил — и совершил ошибку: стыдно признавать, что ее совершил именно ты — и принято считать вторую сторону вселенским злом и сваливать всю вину на нее, а потом благородно прощать. Стыдно быть искренним — и хранить эту искренность в себе годами: все гонятся за сиюминутной фиксацией своего состояния и своих чувств, и иногда мне кажется, что люди почти забыли о том, каково это — хранить свои мысли и чувства в себе годами, превращая их в собственную историю, которая не помещается в 2 тысячи разрешенных символов поста в инстаграме.
2018. Москва
— До
Сколько я помню себя — мне всегда хотелось уехать из Калининграда, хотя я очень любила этот город и нежно люблю до сих пор. И, наверное, никогда не перестану любить, как не перестают вспоминать с нежностью первую любовь. Но мне всегда хотелось покинуть его: еще во втором классе я написала сочинение, в котором решила стать великой писательницей и уехать в Америку. Смешно, что до 17 лет я все еще была уверена в том, что все так и произойдет.
В этом городе я осознала едва ли не самые главные вещи: здесь мне пришлось признать, что я никогда не буду самой красивой девочкой в классе, так что я научилась работать на износ и надеяться только на свой ум.
Это было непросто, ведь в детстве мне казалось, что жизнь дана для того, чтобы стать лучше всех: неважно, что сейчас тебе 10, ты гадкий утенок и еще не знаешь, кем хочешь стать. Главное, что ты точно уверен: ты должен стать самым красивым и самым умным, и роли второго плана не для тебя.
Если бы в детстве мне кто-то сказал, что я никогда не стану похожей на Анджелину Джоли и никогда не буду идеальной женой, я бы подумала, что жить в таком случае незачем.
Ты понимаешь, как много в нас остается с детства? Взрослея, приходится мириться, а иногда и бороться с тем, что так долго росло в тебе и было частью тебя. Приходится бороться с упрощенными категориями «хорошо» и «плохо» и признаваться себе в том, что все оказалось не так просто — и в жизни есть миллион сценариев, при которых ты можешь быть счастливым, даже если в 26 лет ты обнаруживаешь себя совершенно потерянным и разбитым в холодной Москве, которая за 8 тысяч километров от моих любимых Штатов.
В Калининграде у меня почти не было друзей — они появились позже, в Москве, когда я научилась нравиться людям и говорить то, что они хотят услышать. Но в юности я была колючкой и с радостью упивалась своим одиночеством: с упорством, достойным лучшего применения я презирала своих одноклассников, проводящих выходные в клубе или с пивом на школьном дворе, и поглощала все книги, которые попадались мне в руки, и никогда не переставала писать. В книгах и своих мыслях я находила прибежище, которое спасало меня от реального мира.
Лиза всегда была со мной — единственный человек, который выдерживал мой дурной нрав и постоянное желание сбежать в себя. Она была рядом этой ужасной ноябрьской ночью, когда мой друг разбился в Лондоне — наверное, это была моя первая влюбленность. Ему было всего 19, хотя в то время казалось, что уже — и я была влюблена в него своей детской любовью до беспамятства. Гораздо позже я поняла, что он употреблял какие-то вещества и погряз в деньгах отца, которые совершенно не приносили счастья. Я помню, как два дня после аварии не ходила в школу, пытаясь прийти в себя, и в какой-то момент у меня, как мне показалось, разболелось сердце, и я легла на кровать, позвонила маме, сообщила, что со мной что-то не то — и приготовилась умирать (здесь ты должен посмеяться, как смеюсь сейчас я). Приехавшая скорая тоже посмеялась надо мной и посоветовала меньше нервничать, дала успокоительное и уехала. Мама всю ночь подходила ко мне и проверяла, все ли в порядке — а я после успокоительного уснула мертвым сном часов на 10 и проснулась в другом мире. Мире, в котором все отношения конечны — и в котором ты никогда не знаешь, увидишь ли ты снова близкого человека. Логично было бы сделать вывод о том, что любимых нужно беречь и ценить, и нужно говорить им все, что ты думаешь и чувствуешь сразу, не откладывая на потом: потом может и не случиться. Но я исказила эту мысль до нельзя: раз все уходят, я решила больше никого не любить и ни к кому не привязываться — так боль никогда тебя не достанет.
После аварии желание покинуть поскорее Калининград лишь усилилось: все в этом небольшом городке напоминало мне о Леше: я пыталась выстраивать новые маршруты через другие улицы к школе, нашему любимому кафе и дому — но все было напрасно. Все дороги вели к памяти о нем.
Хотя, конечно, я все еще любила Калининград: больше всего осенью. Скользкий немецкий булыжник, черные витые перила парка — витые как паучьи лапы, змеиные лестницы вверх. Я любила верхнее и нижнее озера с растворенными листьями клена в воде, два моста — с одной стороны на другую. Северный вокзал и поезда, уходящие к морю — пустой вагон, поля в тумане за окном, конечную станцию, где на меня садились капли дождя.
Я любила утопленные в лужах знаки зодиака на солнечных часах Светлогорска, капризные волны без летней пены, чаек над ледяной водой, светлую полоску горизонта между тучами и морем, пустой приморский город с оранжевыми зажженными фонарями на променаде, перегоревшей луной и выбитыми звездами.
Потом, когда мои родители окончательно перебрались в Бельгию, эта любовь перекинулась на Северное море в Остенде — но тогда, в 11 классе в 16 лет, в последний год, проведенный в Калининграде, я бесконечно любила это Балтийское море и приезжала к нему иногда вместо уроков, особенно после ужасного ноября. Море казалось таким родным и бездонным, и на берегу можно было стоять целую бесконечность, и никого не любить, кроме этого моря.
Я помню последние месяцы школы в 2009: совершенно спокойно, на автомате я выиграла всероссийскую олимпиаду по литературе и поступила в МГУ без экзаменов. Казалось, что иначе быть и не может — все идет по плану.
Последним летом в Калининграде, когда капризная погода выпускала из-за туч солнце, целыми днями в одиночестве я пропадала на море в Светлогорске. Я прыгала в автобус — и дорога к морю на протяжении 20 минут вела через поля с кукушкиными слезами, а на обочине в заброшенных немецких башнях встречались лохматые гнезда аистов. Я помню, как лежала на горячем песке, и солнце впитывалось в кожу, как будто крем, а потом по ночам простыни холодили спину, впитавшую чуть больше лучей, чем нужно. Это было очень славное время — почти все тревоги, кроме вечных, отпустили меня тогда, А потом началась Москва.
— Москва.
Люди говорят, что все города очень разные — а для меня в то время города без людей были примерно одни, одинаковы — и на самом деле их делали люди.
Я почти не помню первый курс до тех пор, пока не встретила Сашу. Факультет пугал меня — мне казалось, что заходя в это прекрасное здание на Моховой, я превращаюсь в тень.
Кажется, Женя была первой, кто меня заметил. Эта девочка ворвалась в мою жизнь, как мне до сих пор кажется, по ошибке — как люди случайно забегают на лекцию не в ту аудиторию. Она несла в себе столько любви и искренности — больше я видела только позже в тебе. хотя и страшно ошиблась потом в тебе — так что было невозможно не сдаться — так что я сдалась.
Она окутывала меня заботой — и вскоре я стала целыми днями пропадать у нее дома. Я полюбила ее семью как родную: мне казалось, именно такой должна быть идеальная семья.
В первом семестре на журфаке распределялись социальные статусы. Сейчас смешно это вспоминать, но тогда у нас действительно было понятие «элиты», куда я, наверное, входила только благодаря Жене. Она была очень яркой и безумно открытой, дружелюбной девочкой и притягивала к себе внимание всех, а я просто была рядом, и ты можешь мне не верить, но мне нравилась эта роль наблюдателя. Я чаще молчала и присматривалась к людям, изучая их повадки, манеру говорить и курить, походку, выражение лица в момент раздражения, беглый взгляд на девочку, которая нравится. Со стороны, должно быть, я казалась странной. Меня сторонились ребята — но я не расстраивалась: мне хватало Жени.
Когда ее не было — я упивалась журфаком в одиночестве. Просто сидела на первом этаже, слушала музыку, читала миржур или что-нибудь в этом духе.
Я вспоминаю это время с безумной радостью: как мы сидели с ней у главной лестницы, ели хлеб и яблоки и составляли план на выходные.
Таким навсегда остался вкус первого курса — зеленые яблоки с бесплатным черным хлебом из столовой факультета и халявное обезжиренное молоко в Старбаксе, щедро сдобренное корицей.
Я помню самую большую ссору с ней: я перестала есть, до сих пор не пойму причины, наверное, мне просто нравилось мое отражение в зеркале без лишних килограммов — и Женя всеми силами пыталась меня вытащить.
Я помню запись в своем дневнике:
«Женя сказала, что не будет со мной разговаривать, если я завтра не поем.
Но я не могу есть.
Меня тошнит от еды.
Меня тошнит от таблеток.
Тошнит от чая.
И от кофе тоже тошнит».
Я помню, как она ругалась на меня и заставляла есть — мне было приятно это внимание и эта забота. И в какой-то момент мне показалось, что если я начну есть, она перестанет заботиться обо мне и разлюбит. Как глупо, ты разве не думаешь, что это глупо? Как здорово было бы объяснить своей дочери, что никто не может разлюбить тебя из-за такой глупости. Я надеюсь, у меня получится.
Это было время, когда мы были из пластилина — и из нас лепили подходящих для того времени фигурок. Так на втором курсе совершенно случайно я попала на отделение деловой журналистики, которую никогда не любила — но меня убедили, что это очень здорово, и надо обязательно идти туда.
Я равнодушно шла туда, куда меня вели: я старалась ни к кому и ни к чему не привязываться, Женя была не в счет.
Я боялась, что как только я удержусь за эту жизнь покрепче — случится что-нибудь непоправимое, страшное, даже смерть — и тогда мне будет гораздо тяжелее уходить, потому что будет, от чего отказываться.
А потом появился ты.
— Ты.
Была в том довольно безжалостная ирония: мое горло заходилось иголками, словно я проглотила ежа, и оттого не выходило сказать ни слова, а мне нужно было сказать тебе целых четыре. Мне написала твоя жена.
Мы были на юге Португалии в совершенно пустой гостинице, и если бы я могла говорить, я бы даже сошла на крик — мне написала твоя жена — и никто бы меня не услышал. Для нас одних открыли ресторан на завтрак, и мы сидели в огромном зале в одиночестве, ты читал вчерашнюю USA Today и пил американо, а я старалась не смотреть на тебя и когда моргала, задерживала воспаленные простудой глаза закрытыми чуть дольше, чем того требовали приличия. Мне написала твоя жена.
Голос, намотанный на легкие тонкой ниткой, раз за разом рвался, когда подходил к горлу. Я проглатывала эти четыре слова вместе с безвкусным чаем, от этого мне становилось нехорошо — до тошноты. Я продолжала пить чай и молчать — и делала это так сосредоточенно, словно это было делом моей жизни. Но тошноту было никак не сдержать, и наконец я едва слышным шепотом сказала, отвернувшись к окну.
— Мне написала твоя жена.
Ты кинул на меня беглый взгляд и ответил просто:
— Я знаю.
Я улыбнулась — не тебе — в сторону, не спеша допила уже остывший чай, аккуратно встала из-за стола и направилась в номер. Я старалась улыбаться, идти спокойно, держать спину ровно и не создавать лишнего шума. Не делать больших шагов и резких движений. Я опасалась притрагиваться к поверхностям дверей и стен, резко посторонилась вынырнувшего из-за угла официанта, спешившего к нашему столику — будто он был прокаженным: я несла в себе свое горе и боялась, что случайное прикосновение холодного и равнодушного мира переполнит меня, и я сорвусь.
Лишь закрыв дверь в номер, я сложилась пополам и разрыдалась так, словно у меня кто-то умер. Хотя все было гораздо проще: за завтраком умерла я.
Ты пришел, когда я курила на балконе. Наверное, если бы ты не оставил документы и ключи от машины в номере, ты уехал бы на встречу сразу — ты всегда бежал от моих слез. Плакать с тобой было непозволительной роскошью — и видит бог, все два года я держалась как могла.
Накинув пиджак, ты вышел на балкон и подошел ко мне — ты мог бы обнять меня, но даже не дотронулся. Это разрывало меня на части.
— Я вернусь к обеду — пообедаешь со мной?
Каждый раз забирая меня в Европу, ты притворялся, будто у меня могут быть здесь — в Вене, Люксембурге, Инсбруке, Париже, Мюнхене, Франкфурте, Цюрихе, Лиссабоне — какие-то свои дела и встречи: и эти вопросы — увидимся? пообедаем? какие планы на вечер? — прежде казались мне милыми, но в то утро этот вопрос звучал так неуместно, что я рассмеялась тебе в лицо и дрожащими пальцами достала из кожаного портсигара еще одну сигарету. Ты потоптался на месте еще пару секунд. Должно быть, мой смех тебя удивил.
Дверь захлопнулась. Ты уехал смотреть дом: тот дом, в который ты потом привезешь своих детей. Я обещала помочь тебе посмотреть виллы — потому что ты ненавидел выбирать дома, равно как и одежду, обувь, мебель — но тебе не хватило сил взять меня с собой. Вероятно, ты решил, что нам нужна передышка.
Я курила остатки московского кофейного ричмонда, забивая больное горло рваным дымом. Огромные чайки садились на перила балкона и, наклоняя голову в бок, равнодушно рассматривали меня, а затем одна за другой улетали. Все происходящее казалось абсурдным — мир развалился на части и превратился в груду бесполезных материй.
В маленьком аэропорту Фару я купила билет до Лиссабона.
Самолет отправлялся через три часа, и я попыталась занять себя мелкими делами.
Я зашла в туалет, убрала волосы, умылась.
Выкурила пару сигарет в пустой курилке.
Выпила кофе, ответила на пару электронных писем по работе.
За это время у меня накопились 3 не отвеченных сообщения.
Во всем этом была такая странная, коварная ирония: через 10 минут после последнего сообщения ты позвонил мне — позвонил, когда я стояла в очереди на посадку.
Я знала, что стоит мне услышать твой голос — и я побегу обратно, как щенок, лишь бы снова уснуть с тобой. Хотя бы еще одну ночь.
— Ты где?
Я помолчала, уступив слово громкому и приятному голосу, объявлявшему рейс в Мадрид.
— Ты где? — повторил ты с легким раздражением.
Даже тогда, уже в очереди на посадку я не могла признаться тебе, что сбегаю. А ты — ты, конечно, слышал шум аэропорта, но предпочел притвориться, будто понятия не имеешь, что я готова улететь от тебя и никогда больше не видеться с тобой.
— Я жду тебя в гостинице. Ты придешь? Я жду тебя.
Внутри меня, как воздушный шарик, лопнуло сердце.
Через полчаса я была в гостинице.
В Лиссабон мы уехали лишь через пару дней — вместе с тобой, а оттуда улетели в Москву — уже разными рейсами.
Я была так слепа и так беспомощна в те апрельские дни: мне нужно было остаться с тобой еще хотя бы на пару минут. Еще пару минут видеть тебя и слышать твой голос — еще пару минут. Я любила тебя в каких-то нечеловеческих, кошмарных масштабах: ты стал моей жизнью от начала до конца, и я едва помнила, что было до тебя и совсем не думала о том, что будет после. Мысли о будущем внушали мне такой дикий страх, что я начинала в панике задыхаться, как только вспоминала о такой категории времени, как завтра.
— Апрель, Лиссабон
Когда я вернулась из аэропорта, мы поехали обедать на побережье.
Я едва помню, о чем мы говорили: я выпила графин сангрии со льдом почти целиком, пока ты говорил по телефону у входа в ресторан около получаса — я не могла тебя слышать — и даже не притронулась к лососю в сливочном соусе. Я знала, что тебе звонила жена — и эти полчаса душили меня непониманием, обидой и злостью, и если бы не сангрия, я бы не смогла пережить этот одинокий обед.
Когда ты вернулся, дождь уже вовсю поливал навес над нашим столом, а в пепельнице развернулся веер из десятка сигарет. Ты сел напротив меня и несколько раз пытался объясниться или начинал обсуждать план на ближайший месяц — но я демонстративно прерывала тебя и меняла тему. Я была не готова услышать все, что ты должен был сказать — а ты с плохо скрываемым облегчением поддавался мне.
После обеда ты заказал кофе, и мне снова до смерти захотелось курить, хотя от температуры, алкоголя и сигарет начинало тошнить. Я вышла из ресторана к маленькому магазинчику на побережье и купила отвратительный Vogue за 5 евро. Ментоловая сигарета жгла горло. Каждый шаг раздавался в моем больном теле мучительной болью. Глаза слезились от ветра с мелкой водяной пылью. В затуманенном рассудке билась одна мысль: прямо сейчас я могу сбежать и никогда тебя больше не видеть, и ты никогда больше не причинишь мне подобной боли — никогда. На парковке у ресторана я выкинула сигарету в мутную лужу, села в мокрое такси и поехала в номер, где выпила снотворного и забылась тяжелым сном. Сон был единственным спасением.
Когда я проснулась, твоя рубашка и брюки висели на кресле. Из ванной слышался шум воды. Ты вышел, уткнувшись в телефон. Я притворилась спящей. Мне хотелось посмотреть на тебя тогда, когда ты думал, что я тебя не вижу. Я прислушивалась к твоим шагам по номеру, к быстрому, нервному стуку пальцев по клавиатуре, к звукам приходящей на твой блэкберри почты.
Мне хотелось, чтобы ты бросил свою работу хотя бы на пять минут и обнял меня: но я знала, что это пустая надежда. Поэтому через двадцать минут я открыла глаза и поднялась.

Ты шутливо спросил, почему я убежала из ресторана.
Я заставила себя улыбнуться и зевнула: мне не хотелось отвечать.
Ночь мы провели в гостинице на побережье, а утром заехали в дом, который ты купил — чтобы оставить вещи. До того утра в пустынном ресторане гостиницы мы планировали вернуться в сюда в начале июня. Я должна была остаться жить в Португалии на лето, и если бы мне понравилось — до конца декабря, когда пора было ехать сдавать финальные экзамены в университете. По умолчанию мы соблюдали план, хотя было очевидно, что все разрушено и уже никогда не будет так, как было запланировано.
Я молча оставила свой чемодан на втором этаже и безропотно развесила твои рубашки в шкаф.
У меня не было сил сопротивляться и задавать вопросы.
Мы ехали из Фару в Лиссабон по мокрой трассе: дождь хлестал по стеклу как проклятый — добродушный седой португалец на заправке сказал нам, что побережье давно не видело такой холодной весны. Надвигается шторм, — сказал он, отдавая сдачу.
Мы молча сели в машину и не произносили ни слова: даже когда я впервые начала плакать при тебе — уже не от тоски, а от усталости, от болезни и температуры — ты лишь молча протянул мне пачку бумажных платков.
В Лиссабоне к вечеру вышло солнце.
Позже я вспоминала, что город был невероятно красив: старая брусчатка блестела под косыми весенними лучами и вокруг витало ощущение приближающегося лета. Люди были беззаботны и радостны, кафе пестрели лицами и галдели громкими голосами на разных языках. И в этом красивом, радостном мире я чувствовала себя до того некрасивой и несчастной, что все окружающее казалось мне какими-то неверно выстроенными декорациями. Я жила в драме, а снимать собрались мелодраму со счастливым концом.
Мы ужинали в ресторане на одной из центральных улочек. Ты пытался шутить и был очень осторожен в разговоре — ты брал меня за руку, подливал мне красного вина в красивый бокал с позолоченным окаймлением и откладывал разрывавшийся телефон в сторону чаще, чем обычно. Но моя температура вскрыла все внутренние раны, и я не могла притворяться, что все идет как прежде. Во всем мире вокруг и в нас чувствовался надрыв.
В гостинице перед номером я упала в обморок. Звук медленно вытек из ушей, словно кто-то плавно убрал громкость, а в глазах заплясали черные узоры. Никогда прежде это состояние не было таким приятным. Ты испуганно уложил меня на кровать. Я повторяла, придя в себя, что пошутила, но ты не верил. Ты позвонил на рецепшен и попросил позвать доктора — тот принес мне жаропонижающие таблетки и чай с медом. Так прошел наш последний вечер: ты пил виски и смотрел футбол, а я лежала рядом, положив голову тебе на плечо, и незаметно для себя провалилась в сон. На следующее утро ты улетел.
Оставшись одна, я закрыла все шторы, захлопнула за собой одеяло, как дверь, и заснула. Иногда я просыпалась — в бреду температуры меня будили шаги из коридора, походившие на твою походку, сообщения, приходящие на телефон, мой кашель и звонки в номер от портье: он спрашивал, не нужны ли еще таблетки и чай.
Я не вставала с кровати почти 30 часов.
В день отлета я проснулась, приняла душ, собрала вещи, заказала такси и спустившись вниз, взяла кофе в старбаксе напротив гостиницы. Размякший после теплого дождя город вывалил на улицы запахи сырого асфальта, чужих духов, соленой рыбы и марихуаны, которую многие прохожие курили вместо табака.
По улицам все так же ходили беспечные, счастливые люди — и я никогда еще не была так очевидно далека от них, как те дни в Лиссабоне.
Рядом с гостиницей была огромная, средневековая церковь, и я, поддавшись невнятному порыву, решила зайти внутрь. Старое здание проглотило меня целиком, со всей моей, казалось бы, бесконечной тоской.
Я не знала, что меня ждет в Москве и не знала, сколько мне предстоит ждать тебя — и не знала, как пережить это время.
— Апрель, Москва
Я ехала из аэропорта по утопающей в вечернем солнце Москве. Пока меня не было — пока меня не стало за завтраком в ветреной южной Португалии — в Москву пришла весна. Было почти спокойно — как в затишье перед бурей.
Полночи я не могла уснуть: я чувствовала, что с моим организмом что-то не в порядке, но никак не могла понять, что именно меня беспокоит. Я знала, что за последние дни я нарыдалась вволю и налетала порядочно миль, и хотя температура ушла еще в Лиссабоне, я все же не вылечилась до конца. Но было что-то еще, какая-то темная тайна: проваливаясь под утро в сон, я чувствовала, будто что-то внутри меня набухает и вот-вот лопнет.
Я не видела выхода.
Мне было 19 лет, я была совсем одна той ночью и казалась себе таким ребенком. Всю ночь я рыдала при одной мысли о том, что мне предстоит сделать, но не видела другого выхода.
Через два дня я, ничего никому не рассказав, сделала аборт.
С того дня изо всех сил я старалась не делать из этого трагедии.
Я гнала от себя самые страшные мысли на свете: я очень боялась, что буду носить в себе всю жизнь нашего не родившегося ребенка.
Я старалась не делать никакой драмы — но на самом деле внутри меня той весной развернулась черная дыра, и я падала сама в себя, даже не пытаясь удержаться за мир снаружи.
Раз за разом во сне мне приходилось переживать одно и то же — как судорога внутри складывала гармошкой, как обезболивающее превратилось в леденцы на несколько бесконечных часов, и как я глотала эти леденцы вместе с болью не пережевывая — лишь бы все скорее кончилось и можно было снова дышать.
Я просыпалась по ночам, брела в ванную и умывалась холодной водой, стараясь держать глаза закрытыми: я перестала смотреться в зеркало, чтобы не давать себе никаких оценок.
В том не было никакой трагедии — в этом я очень настойчиво убеждала себя каждый день. Спустя пару месяцев я научилась не думать о том, что это мог быть мальчик. Похожий на тебя.
Позже я поняла, что это отчаянное желание не думать спасло мне тогда жизнь: той весной я стояла у самой черты, и только какой-то внутренний инстинкт самосохранения уберег меня от конца.
Так появилась единственная вещь, которую я не смогла тебе простить.
— Февраль, Вена
Мне было 18, я была на 3 курсе, и меня охватило безумное желание что-то делать. Я хваталась за любые предложения. Я могла не спать ночами, делая переводы с английского для Rolling Stones и расшифровки интервью для экономического журнала, я могла работать все выходные без отдыха и не отвечать на звонки друзей, я старалась извлечь пользу из каждой минуты жизни — но все это не помогало мне найти себя.
А потом появился ты: мы встречались в университете, а после несколько раз по работе — в дорогих ресторанах, где я всегда чувствовала себя ужасно неловко. Мы общались на «вы», но очень добро — я чувствовала, что ты очень хороший человек. Возможно, самый лучший из всех, кого я когда-либо встречала. Даже спустя 7 лет я все еще думала именно так. Очень жаль, что я ошиблась.
На третью встречу ты влетел в зал взъерошенный, с доброй улыбкой.
— Слушайте, дико опоздал, простите. Зато быстро вас нашел тут: попросил найти мне одинокую девушку — и официантка нашла, представляете?
Эти слова почему-то врезались мне в память. Вероятно, именно такое впечатление я произвела на тебя: одинокая.
На той встрече ты предложил мне заняться одним из своих европейских проектов: такие предложения редко делают студентам. И, откровенно говоря, ты явно переоценил мои возможности: я была недостаточно хороша для этой работы. Но тогда я не хотела думать об этом: я была так рада, что была уверена — все получится, я справлюсь.
Через три дня мы улетели в Вену: и в первую ночь прилета в гостинице в самом центре города все перевернулось.
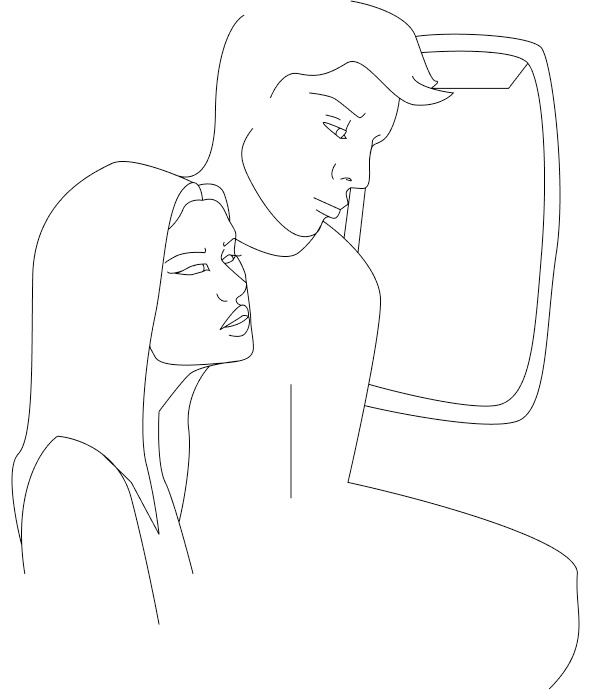
Сразу из аэропорта мы поехали на встречу с венским коллекционером: тогда я обнаружила, что ни слова не понимаю из того, что мы обсуждали на встрече. Было ли дело в том, что у большинства был сильный немецкий акцент, или в том, что у меня давно не было практики английского — но я сидела в жутком стрессе, стараясь не делать лишних движений и не привлекать к себе внимания — лишь бы не произносить ни слова и не отвечать ни на один вопрос. Я так и не смогла избавиться от этого страха: уже гораздо позже, на других встречах, когда я уже привыкла к английской речи и акцентам любых языков, я все еще старалась не говорить — я стеснялась разговаривать при тебе на английском. Мне всегда казалось, что я скажу что-нибудь глупое или не найду нужных слов для достойного ответа.
После встречи мы поехали в гостиницу и разошлись по своим номерам, договорившись встретиться через час в холле и прогуляться до ресторана.
На улице стоял дикий холод: я помню, что потратила почти час на душ и горячий чай, а потом, опомнившись, пыталась одновременно высушить голову и накраситься. Ты ждал меня внизу в баре. Все было ново и незнакомо: оттого одновременно пугало и манило.
Мы отправились ужинать в твой любимый итальянский ресторан: я ела салат из зеленых листьев и авокадо, мы пили вино и постепенно перешли на «ты».
Когда мы вернулись в гостиницу, ты спросил у меня:
— Что будешь делать?
Я ответила, что не знаю, но спать пока не хочу.
В наших номерах была сквозная дверь — какая ирония: всю ночь она оставалась открытой. Мы заснули у меня в номере: у нас ничего не было, я даже не снимала пижаму — но именно эта ночь определила все на ближайшие два года. Утром я проснулась со странным ощущением: теперь я кому-то принадлежала.
Ты был единственным человеком, которого я безоговорочно выбрала.
У меня никогда не было сомнений в том, что я сделала правильный выбор — даже если я рыдала по ночам и думала, что нужно уходить — на самом деле уход от тебя был подобен смерти. Венская ночь поздней зимой снесла меня с ног — а после на утро я так уверенно встала рядом с тобой — и пожалуй, эта уверенность порой походила на осознанное отчаянье.
С того момента я училась молчать — так, чтобы зубы скрипели. Училась правильно здороваться и правильно разговаривать с тобой при незнакомых на «вы» — когда внутри мы были на «ты». Я училась признаваться себе, которая привыкла жить по идеальным правилам — что может быть одновременно и неправильно, и плохо, и невыносимо — но хорошо — до ужаса хорошо, одновременно.
Мы редко виделись: оттого я делала из каждой встречи событие, даже если это была общая встреча с коллегами, деловой ужин или пятиминутный разговор в офисе.
Довольно быстро я поняла, что принадлежать кому-то — значит перестать принадлежать себе: и это чувство, поразившее меня в Вене, стало мучительным.
Я начала бороться с ним.
Два месяца той весной я пыталась перебороть эту болезненную привязанность, сумасшедшее желание видеть человека каждую минуту — я пыталась отстоять себя, сохранить себя целой. Я сбегала из Москвы — но география ничего не решала: везде и всегда я чувствовала, что больше себе не принадлежу.
Я даже пыталась уйти, все закончить, прекратить это: но это было скорее смешно, чем серьезно. Казалось, той весной я тысячу раз порывалась уйти — и ты делал вид, будто отпустил меня, но я ту же тысячу и еще один чертов раз возвращалась, как полоумная, и ты делал вид, будто и не отпускал меня никуда. Очевидно, очень скоро ты понял, что на самом деле меньше всего на свете я хотела уйти от тебя — и привык.
Я изводила себя мыслями и подсела на бессонные ночи: я помню, как шла по вечернему Невскому и говорила себе что больше не выдержать — и город вторил мне так бойко приветливыми людьми, их вопросами, улыбками, шагами, барами — вторил мне той жизнью, от которой я отказывалась. Я говорила себе, что больше не выдержать этой чечетки на своей гордости, не выдержать мысли о том, что я недостаточно хороша, не выдержать ада, в который медленно оборачивается моя жизнь как в плащ. Тем вечером я почти смирилась с уходом от тебя: и больше всего я боялась проснуться наутро и понять, что на самом деле еще могу выдержать все это — лишь бы не потерять тебя. И так случилось — я проснулась и поняла, что готова выдержать еще миллион этих надрывов, миллион слез, миллион — лишь бы не сопротивляться больше тому, что я так отчаянно люблю.
События завязывались на мне мертвым узлом, и чем больше я пыталась разобраться в себе и освободиться, тем крепче становился узел — и после бессмысленных попыток отвоевать себя у тебя я сдалась.
В этой игре из нас двоих я изначально была пораженцем, но в конце концов я поняла: поражение расстраивало меня куда меньше, чем необходимость соревнования. До этого момента я не задумывалась об этом, однако наконец поняла: больше всего на свете я ненавидела соревноваться.
— Лето, Москва
Когда я смирилась с жизнью, которую выбрала, то перестала винить во всем себя — я убедила себя, что любовь снимает с нас всю вину и все обязательства перед другими людьми. Я повторяла себе каждый день — только двое людей понимают, что происходит между ними, и никто не в праве их осуждать. Но я ловила все больше осуждающих взглядов на нас и слышала все больше едких замечаний — иногда в лицо, но чаще за спиной. Так уж случилось: нас связывал университет, где ты читал моей группе лекции — и так уж случилось, что слухи поползли еще до первой Вены. Людей всегда очень забавляет атмосфера судебного разбирательства: и больше всего их раздражает то, что сильнее их — то, что им никогда не понять.
Но я ничего не боялась. Я зверела на глазах: я так безрассудно накидывалась на всех, кто смел проявить свое неудовольствие в нашу сторону, и была готова разбить лицо каждому из них. Я выстроила стену между внешним миром и нашим миром: и это отталкивало от меня многих друзей. Я потеряла почти всех: но одиночество никогда не пугало меня. Я вполне комфортно существовала в себе. Единственный человек, который был мне важен, был со мной — и ради него я без сомнений прощалась со всем, что прежде было дорого.
Ты сильно влиял на меня: любое твое замечание по поводу одежды или поведения я воспринимала как аксиому. Ты не любил яркие помады, считал чулки самой вульгарной вещью на свете и ненавидел шубы. Ты любил простые, естественные и женственные вещи. Я почти перестала краситься, покупала платья и начала отращивать волосы. Единственная вещь, которую я долго отстаивала, было сыроедство: я никак не могла смириться с тем, что мы часто ужинаем в стейк-ресторанах и «Скандинавии». И к осени я сдалась: когда мы улетели в Майами в октябре, я уже заказывала на ужин морепродукты.
Я сходила с сыроедства очень тяжело: в конце лета я поправилась на несколько килограмм и пришла в отчаянье. Тогда я начала курить — тогда же у меня началась булимия. Никто из близких так и не узнал об этом. Когда мы жили в отеле Вене или Люксембурге, по утрам ты убегал на встречи — и я завтракала в одиночестве. Это было самое ужасное: именно тогда меня нельзя было оставлять одну. Я ела сэндвичи с сыром и семгой, а через полчаса меня начинало тошнить — и я проводила ужасные минуты в ванной, ненавидя себя. Я не могла смотреть на себя в зеркало — мои пальцы опухали, сдавленные кольцами, которые прежде болтались и едва не падали, горло саднило, а чувство голода не покидало. Это был мой первый секрет от тебя — он заключался в том, что для себя я была ужасным человеком, а ты считал меня маленьким божеством. Я так любила тебя, что боялась показывать настоящую себя: к тому же, настоящей меня к тому времени уже не было. И я играла с тобой в себя идеальную: была сильной, легкой и понимающей. Это отбирало все мои силы, поэтому когда мы расставались, я была обесточена и слаба.
Странно, что ты так и не заметил во мне перемен: ни посеревшей кожи, ни перепадов настроения, ни пожелтевших зубов. Ты не заметил, что я почти перестала есть с тобой — зато без тебя срывалась на все подряд и все больше и больше прибавляла в весе.
Я хорошо помню момент, когда я, наконец, справилась с булимией: я прилетела на собрание компании в Вену из Нью-Йорка, где мы провели с тобой несколько дней. Вена встречала меня мягким сентябрьским солнцем и ласковыми улицами с начищенной брусчаткой. Но мне все было чуждо: единственное, что я чувствовала — это ужасную тоску оттого, что я увижу тебя лишь через несколько недель, оттого, что мы будем жить в разных гостиницах и оттого, что чувство ненужности захлестнуло меня как никогда прежде.
Наша венская команда была мне чужой: я не любила бывать в офисе, не любила говорить с людьми и предпочитала работать из номера или кафе. Казалось, весь мой офис понимал, что внутри меня нет места ни для кого, кроме тебя — и они мирились с этим.
В тот вечер, когда ты, наконец, прилетел, тебя разрывали на части встречи и совещания, наш директор, его партнеры, коллекционеры, галеристы и пресса. Разумеется, не было и речи о том, чтобы увидеть тебя: и я весь день притворялась, что все понимаю. Вечером, в номере гостиницы после командного ужина, когда меня снова выворачивало наизнанку, я, наконец, посмотрела в зеркало: я была жалкой и потерянной.
Я ужаснулась: мне не было оправдания.
Я написала тебе, что больше не могу быть в Вене и должна улететь в Москву — кажется, я оправдалась экзаменами в университете. Ты отправил за мной водителя той же ночью: я привела себя в порядок — как могла, и приехала в твой королевский номер в Рице. Мы выпили вина и быстро уснули: утром я проснулась без тебя. Первым делом я купила билет на ближайший рейс в Москву: затем попросила принести мне в номер сигарет и кофе. Выкурив пол пачки Мальборо и написав себе план на Москву, я приняла ванну и уехала в аэропорт.
Я больше никогда не позволяла себе быть такой слабой: я избавилась от булимии и снова перешла на сыроедство.
Ты так и не узнал о том, что я была больна: впрочем, позже между нами появился другой секрет посерьезнее.
— Май, Москва
После аборта, с середины апреля до середины мая я жила как в тумане: я на автомате ела, на автомате встречалась в друзьями и на автомате пила вино. Мы не виделись с тобой с Лиссабона, ты ни разу не написал мне и не позвонил, а я писала тебе каждый день по письму и не отправляла. Они оставались в черновиках.
Город наматывал на меня колючие солнечные лучи, скользкие струйки дождя, взгляды людей, превращая меня в разношерстный моток для рукоделия, а затем город шил мною целые дни, будто я иголка, и стежок за стежком, строчка за строчкой сшивал мной предметы и людей в мои и в чьи-то еще дни — запускал меня в метро а затем вытаскивал, запускал в офис и вытаскивал, запускал. Я выныривала наружу из этих городских тканей и лоскутков и снова кидалась туда: я знала, что если остановлюсь — больше ничего не сошью.
Я очень хотела тогда, чтобы ты знал — как я любила тебя больше жизни и еще сильнее, и я бы очень хотела, чтобы ты знал — как я рыдала каждый день и как сердце каждый день разрывалось на части, и как готова была сорваться, приехать, прилететь, уйти, отказаться ото всех и ото всего, лишь бы знать, что я все еще нужна тебе — и как под вечер смертельно уставала от этих мыслей и хотела лишь, чтобы это все поскорее закончилось. Только бы не чувствовать больше этой боли. Но я лишь обнулялась и уходила в минус — а тебя все не было.
Женя однажды сказала мне, что терпеть можно, только если любишь — и я взяла это за аксиому, потому что я любила так, как не дай Бог еще кому-то любить, ведь любить кого-то больше жизни страшно: а я вела себя так, будто у меня было 10 жизней, и я любила тебя больше всех этих жизней.
Ты молчал так, словно умер, очевидно понимая, что за два года научил меня брать себя в руки и справляться с внутриличностной войной без посторонней помощи и лишних разговоров. Таковы были правила игры.
— Май, Португалия
В начале мая мы собирались с Женей в Португалию — ничего страшнее нельзя было придумать. Войти в этот дом, пропитанный неразговором, ходить по этим узким португальским улочкам, где мы сначала были счастливы, а потом провалились в небытие, в хаос, в неопределенность — и даже то счастье, которое было у нас, казалось теперь каким-то ущербным и неправильным, половинчатым, искусственным — и я начинала думать, уж не придумала ли я себе его, не надумала ли я это счастье и правда ли все было так, как мне казалось прежде. И эти мысли резали меня на ремни, изводили до предела, выжимали. Но мы так долго планировали с Женей эту поездку и мечтали о ней, что у меня не хватило духа отменить ее. У меня не было сил сопротивляться течению жизни.
В ночь перед вылетом я говорила себе — с меня хватит и с меня довольно, говорила себе — все пройдет и все получится, но в 4 утра обнаружила себя на балконе исходящийся в дрожи от холода с пятой подряд сигаретой.
Я не хотела расстраивать Женю — и наконец было странно себе признаваться, но — мне до смерти хотелось зайти в этот дом, подняться на второй этаж в спальню и открыть шкаф, в котором висели твои рубашки, которые я развешивала в тот дождливый апрельский день. И вдохнуть твой запах. Наверное, я была сумасшедшей.
Мы с Женей прилетели к вечеру. Горячий воздух заполнял легкие, пахло терпкими цветами и океаном. Мы вышли из уютного южного аэропорта, сели в старенькое такси и поехали к вилле, и я так устала от переживаний, слез и бессонницы, что перестала себя мучить.
Дом был тем же — холодным, не обжитым, но залитым солнцем и как будто родным. Первым делом я побежала на второй этаж. Одежда в гардеробе спальни все еще хранила твой запах. Я села на пол и улыбнулась.
Португалия встретила нас теплым майским солнцем, спокойным океаном, безумно вкусной едой и приветливыми людьми. Мы взяли в аренду велосипеды сразу после прилета: каждое утро мы завтракали в местном кафе, доезжали на велосипедах до океана, проводили время до полудня на пляже, заказывали на обед графин холодной сангрии и потрясающе вкусные морепродукты, курили на парковке — затем ехали домой, принимали душ, читали книги, смотрели кино, чуть позже готовили на ужин ризотто, пасту или рыбу — а к вечеру возвращались на велосипедах на набережную, где в единственном открытом в еще не сезон клубе пили вино, танцевали под смешную музыку и ближе к утру возвращались на виллу спать.
В этом клубе в один из первых дней я встретила Олли.
Мы с Женей как обычно поужинали дома в саду, накинули свитера и поехали к пляжу. Женя отправилась в бар за вином — я осталась сидеть на веранде. В то время мне было еще неловко оставаться в людных местах в одиночестве: я старалась не смотреть по сторонам и утыкалась в телефон.
За соседним столом сидели британцы: их речь с характерным акцентом долетала до меня обрывками — я старалась не вслушиваться в их разговор.
Женя вернулась через пару минут, заметив, что красивый подлец за соседним столиком строит ей глазки.
Мы вместе с ней посмеялись над этим — затем британцы подошли к нам и спросили, не против ли мы, если они присоединятся к нам. Мы были не против.
Через пару часов Женя обнаружила меня внутри клуба: мы с Олли целовались под the Killers. Вино ударило мне в голову, и самой большой проблемой в эту минуту казалась моя красная помада, которая размазывалась по всему лицу. О том, что я предаю любимого человека, я не подумала даже наутро, когда мы всей компанией встретили рассвет на пляже. В то же утро — какая ирония — по дороге домой я получила от тебя сообщение. Мы съезжали на велосипедах с пригорка, когда я услышала звук оповещения на телефоне. Недолго думая я отпустила руль и потянулась за телефоном, и за пару секунд до падения успела прочитать сообщение. «Я очень жду тебя в Москве».
Когда Женя обернулась, я сидела на дороге с разбитыми в кровь коленями и пересматривала сообщение раз за разом, словно боялась, что оно сейчас исчезнет и все окажется нелепой галлюцинацией. Я не чувствовала боли — только теплая кровь щекотала ноги, сползая каплями к лодыжкам. Я наконец знала, что мы увидимся, и с того дня ждала возвращения в Москву, не радуясь больше океану, солнцу и неспешной жизни.
— Москва
После того, как мы увиделись с тобой в Москве после нашей с Женей поездки, жизнь почти вернулась в старое русло. Почти — потому что каждый из нас по отдельности пережил то, о чем мы никогда не говорили друг другу. Для меня так и осталось тайной, что происходило в твоей жизни все это время, а ты не спрашивал, что нового случилось у меня. Я была рада, что ты не задавал этот вопрос. Случилось слишком много — и ничего, что я могла бы тебе рассказать.
Ты сказал мне, что я повзрослела за то время — и я сначала обрадовалась, возгордилась этой переменой, этой взрослостью, но позже поняла, что этих слов мне было недостаточно и это вовсе не то, что я хотела услышать от тебя в первую после разрыва встречу.
Мы снова стали проводить вечера вместе — но я больше не верила тебе так безоговорочно, как прежде. Ты больше не был моим богом — и оттого я не любила тебя меньше, просто любила по-другому, и эта новая любовь уже не была такой чистой. Мне больше нечем было защитить нас перед внешним миром: я знала, что ты способен обидеть меня и причинить мне зло, и потому наш мир начал рушиться. Медленно, понемногу мы приходили в упадок.
Я помнила, что когда-то любила себя и когда-то была счастлива в себе, а той весной я бежала из себя как из разрушенного дома куда-нибудь подальше, поскорее к людям, чтобы сидеть с ними и забывать, что нужно возвращаться, ведь к себе всегда нужно возвращаться, в себя всегда нужно возвращаться.
Я вела себя с тобой так, будто ты прочел три десятка не отправленных писем, и вела себя так подразумевая, что ты понял или хотя бы осведомлен о том, что в них.
О том что я всегда буду ждать, лишь бы ты не отпустил, и о том, как была готова на все, до тех пор, пока ты не начал душить меня стеной молчания, неразговором, вакуумом, о том, что не могла простить тебе этого, о том как трескалась внутри от щиколоток до макушки и как продолжала ждать, даже когда ты сказал «не жди». Как каждую ночь задавалась вопросом — знаешь ли ты, что такое не ждать? Что такое — никому и ничему не принадлежать, быть чужаком людям и самой себе?
Какой непростительной глупостью то была с моей стороны — для тебя я всего лишь повзрослела, а внутри меня тем временем была гражданская война и не осталось живого места, кроме этой больной любви к тебе.
Иногда по ночам, когда я просыпалась от очередного кошмара, я думала о том, что мне стоит обратиться к врачу: я была совсем больна тобой и измучена этими жуткими снами, в которых моя мама говорит тебе «вам стоит уйти прямо сейчас», в которых твоя жена дает мне пощечину, в которых ты умираешь раз за разом.
Я чувствовала, что наш мир рушится, но у меня не хватало сил признаться себе в этом. Поэтому я продолжала собирать вещи в Португалию и планировать отъезд.
Мне нужно было то, что ты уже пережил много лет назад, и, возможно, не раз. Но в силу молодости и максимализма я не понимала, что не буду с тобой счастлива. Я была уверена, что это только сейчас тяжко — но где-то дальше будет легче, и все как-нибудь решится, и мы станем самыми счастливыми. Я и ты — и больше никто. Не навсегда, конечно. Скорее, конечно, не навсегда.
Я вцепилась в тебя, как в спасательный круг, поскольку только ты имел смысл в этой хаотичной жизни, и мне было совершенно не жаль отказываться от всего и всех ради того только, чтобы ждать тебя вечерами — даже если ты не приходил, и я рыдала потом всю ночь, как маленький ребёнок, испугавшийся до слез темноты.
Все начало стремительно рушиться уже по дороге в Ф: правда, я поняла это многим позже, а тогда — тогда мне казалось, что мы можем все исправить, что все наладится, что мы справимся и будем счастливы, пускай даже не вечно. Скорее даже — конечно, не вечно.
Но мы были обречены.
Я больше не была с тобой счастлива — напротив, каждым жестом и словом ты делал меня несчастной, а несчастье делало меня некрасивой. Наверное, уже тогда ты все для себя решил — решил, как будет правильно и как будет лучше для всех — и уже тогда не особенно заботился о том, как сильно ранит меня твоя отстраненность.
Мне казалось, что все наши 2 года я мысленно готовила себя к финишу — но вполне логично оказалось, что к тому невозможно быть готовой так же, как человек в 20 лет не может быть готов к смерти.
— Португалия
Я проснулась в темном доме, в холодной кровати, и твоя одежда все еще лежала на полу, но тебя не было.
Я искала тебя по всему дому, но ты уехал: оставил меня спящей и не попрощался.
Я не знала, когда смогу увидеть тебя в следующий раз, и это стало ударом для меня. Я знала, что ты уедешь, но как обычно, не была к этому готова. Я вышла из дома на улицу, села в твою машину, включила Evanescence на всю округу, закурила и расплакалась.
Люди часто говорят, что они чувствуют любовь и как она переполняет их — и всегда умалчивают о том, что нелюбовь тоже чувствуется, но переполняет не тебя, а пространство вокруг: накануне вечером твоя нелюбовь заполняла ужин от края до края, почти не оставляя места мне — как будто в сад завели огромного слона, о котором нельзя говорить: я знала, я чувствовала, что ты больше не любишь меня, но никак не могла признаться себе в этом. Я надеялась, что мне показалось, хотя на следующее утро было очевидно, что сад истоптан огромным слоном — его следы были везде. Я часто видела, как люди сидят в дорогих ресторанах друг напротив друга — и у каждого стола топчутся огромные, печальные слоны. Десятки слонов. Я никогда не думала, что однажды один из этих слонов окажется моим. Я не могла ненавидеть этого слона — вообще-то, я очень люблю их, просто было бы здорово, если бы он бегал где-нибудь на свободе в Африке, а не мучился с нами.
Я всегда была недовольна собой, особенно недовольство возникало, когда я была слаба и каким-то образом эта слабость проявлялась в моем общении с людьми.
Следующую за твоим отъездом неделю я старалась не выходить из дома: я все больше спала и питалась одним шоколадом, потому что у меня не было сил идти до магазина, а твоя машина, которую ты оставил под окнами, была на механической коробке передач. Я никогда прежде не ездила одна и уж, конечно, не умела водить автомобиль на механике.
В один из этих дней, когда я так ждала твоего звонка, мне вновь написала твоя жена.
Я помню, как курила, лежа на веранде, и на экране телефона высветилось сообщение. Я прочитала, отложила телефон и замерла на несколько минут. Затем прошла на кухню, налила себе бокал вина и закурила последнюю сигарету из пачки. Взяла ключи от твоей машины со стола в гостиной и села за руль твоего прекрасного белого мерседеса с откидной крышей. Один Бог знает, как я завела его и смогла выехать в центр. Тебе совсем не обязательно было говорить мне о том, что никому не надо отвечать. Я и сама это прекрасно понимала, знаешь ли.
Мир, от которого я неделю отказывалась, показался ужасно шумным. Время приближалось к вечеру, и жители городка спешили на ужин в местные ресторанчики на побережье. Я никуда не спешила. Я включила музыку погромче — кажется, это был Linkin Park Numb, и резко переключая передачи, ехала за машиной впереди меня. Я навсегда запомнила этот бампер: ярко-красная феррари с люксембургскими, как и у меня, номерами. За рулем сидел седовласый старичок — он пару раз улыбнулся мне в зеркало.
Когда он доехал до парковки, я припарковалась рядом с ним, зашла в пляжный магазин и вернулась обратно с сигаретами и бутылкой виски, который прежде никогда даже не пробовала.
Мой телефон должен был вот-вот разрядиться. Я была не против: мне больше не хотелось читать сообщений от твоей жены. Меня разрывало чувство вины перед ней, но я ничего не могла с этим сделать.
Я сделала несколько глотков из бутылки, закурила и написала тебе, что больше так не могу.
Я не знала, было ли правдой то, что она написала мне: но та грязь, в которой я оказалась, внезапно поразила меня. Я ждала, что ты долго не будешь отвечать мне, ждала, что ты, может, перезвонишь. Через два часа или через два дня. Но ты написал мне через 10 минут. Ты написал, что тебе очень жаль. Я увидела эти 3 слова, и уткнувшись в колени, беззвучно разрыдалась. Мне тоже было очень жаль — оттого, что эта боль расхлестнулась океаном от Лиссабона до Москвы, и ничего нельзя было сделать. Совершенно ничего.
Еще часа два я просидела в машине — я совершенно не знала, что теперь делать, куда ехать и как продолжать дышать.
Алкоголь не действовал на меня.
Ближе к полуночи, когда людей на дорогах стало меньше, я завела твой идеальный спортивный автомобиль и поехала домой. По дороге я заблудилась — и, какая ирония — впервые за все это время пошел дождь. Я была в незнакомом районе, вокруг не было ни души и я не знала, как поднять крышу и как включить дворники.
Я переждала дождь, вымокнув до нитки и докурив вторую пачку сигарет, и резко развернувшись, поехала в обратном направлении. Выезжая на дорогу, я задела правым крылом забор. По двери прошла огромная царапина — но мне было совершенно не жаль.
Я могла бы разбить эту машину, утопить ее в океане или отдать первому встречному — и ты бы простил меня. Ты бы простил меня? Тогда я почему-то была уверена, что ты бы простил меня — потому что разбил мое гребаное сердце, и тому не было никаких оправданий. Вспоминая все это, я безумно злюсь на себя: какой же я была маленькой, глупой, беспечной эгоисткой — и я до сих пор благодарю своего ангела-хранителя за то, что в тот вечер я без происшествий добралась до дома.
—
Я смотрю назад и задаюсь вопросом — были ли я с тобой счастлива? Кажется, в этих страницах одни страдания и сплошная боль от первой до последней буквы, так была ли я счастлива с тобой? Боже, конечно же да, тысячу раз да.
Помнишь, как я писала тебе эти детские смешные рассказы про сбежавшую дорогу, улицу-пуговицу и Бог знает что еще — я до сих пор иногда перечитываю их и смеюсь над собой: какой я была маленькой и наивной. Я помню, как счастье накрывало меня с головой, когда я получала твои письма по почте: вперемешку с письмами по работе мы обменивались штуками и признаниями в любви.
Все счастливые воспоминания собираются маленькими бусинками, как на нитку: как мы ужинали в уснувшем пригороде Люксембурга в июле, а потом пили вино на веранде, и я была в этой смешной соломенной шляпе, которая тебе почему-то так нравилась.
Как мы прилетели в Майами, и ты остался работать в номере, а я пошла к океану и плавала на рассвете, и когда вернулась в номер, ты уже спал, как ребенок.
Помнишь, как мы ехали на Ки-Уэст и обедали где-то по дороге, и чайки пытались схватить на лету хлеб со стола — и как мы не доехали до финальной точки, потому что я получила солнечный удар в машине с открытой крышей?
Помнишь, как мы ужинали в Вене в бразильском ресторане поздним зимним вечером, и там почти не было еды для меня, зато для тебя — очень много, и повар все приносил и приносил тебе мясо, и как я выпила слишком много вина и почти не поела — и не помнила ничего на утро?
Как мы ужинали с тобой в Уильямсе на Патриках перед новым годом, как ходили в кино на какой-то дурацкий фильм в «Октябрь», и как ты прилетел в Москву на один день, когда я попала под машину?
Почему люди считают, что для счастья нужны огромные дома, дорогие машины и счета с бесконечными нулями на конце? Я помню, как была счастлива почти каждый день просто оттого, что знала — ты есть, ты где-то сейчас просыпаешься и идешь завтракать, а потом снова куда-то улетаешь своими ежедневными самолетами.
Странно, что амплитуда счастья всегда меньше, чем амплитуда тоски, и боль запоминается гораздо лучше, чем радость — и как было бы здорово, если бы люди научились навсегда сохранять в себе счастье, а не последующие за ним отчаянье и пустоту.
—
Это было самое странное расставание в мире. Мы договаривались позавтракать через пару дней после нашей последней переписки — утром, когда ты прилетишь. Но ты написал мне накануне вечером, что будешь рад встретиться у себя в гостинице, и я вылетела из португальской виллы, прыгнула в машину и полетела к тебе сразу, как только получила сообщение.
Я знала, что все закончится сегодня, что сегодня будет финальная точка; и я знала, что шла на гильотину — но все это меркло перед фактом, что я увижу тебя снова. Еще один, и должно быть последний раз, но я снова увижу тебя, увижу, как ты улыбаешься и хмуришься, как куришь свою сигару и роешься в блэкберри.
Я забыла про дикую боль, которая жила во мне с тех пор, как твоя жена написала мне.
Я не обратила внимания на то, что прежде ты собирался остановиться на вилле у своего друга — так ты мне написал — и неслась в эту чертову гостиницу как чертова влюбленная дура.
Сначала я язвила, пыталась ударить тебе побольнее — помнишь? Кидала тебе в лицо что-то резкое; мои демоны вырвались наружу, и я не могла их обуздать — я плевалась злостью, обидой, непониманием, бешенством, но потом я сломалась — я вдруг сникла как увядший цветок, и все демоны запряглись в колесницу. И я перестала говорить «любила» вместо «люблю».
Я сломалась, потому что вдруг поняла — все неважно: неважно что я люблю тебя больше жизни и ты знаешь об этом, неважно. Ты погряз в своей лжи и сидел напротив, рассыпаясь в неискренних извинениях и не подозревая даже, что я простила тебя уже тысячу раз за этот вечер.
Ты говорил, что готов купить индульгенцию — как обычно твои дурацкие шутки, которые я так любила — готов сделать все, что я попрошу, а я знала, что мне нужно было только одно — чтобы ты не уходил, но я также знала, что этого быть не может — и потому я спросила, могу ли остаться с тобой сегодня ночью и просто уснуть рядом — как в Вене, почти два года назад, когда все начиналось. И ты сказал, что будет счастлив.
Я держалась до конца и не плакала, улыбалась, силилась смеяться, пыталась шутить и все сделать легче. Но когда я спросила, почему ты остановился в гостинице, а не у друга на вилле, и ты ответил, что нет никакого друга и что ты соврал сам не зная зачем, мое сердце вдруг лопнуло и я разрыдалась в твою белую рубашку — я только тогда поняла, насколько ты одинок.
Я пыталась убедить — уже себя — что когда-нибудь я буду тебе благодарна за этот шаг, но демоны во мне вновь и вновь просыпались и не хотели верить этому. Мне казалось, что кожа вот-вот зайдется трещинами от моей внутриличностной потасовки.
Мне было двадцать лет, и две зимы, две весны, два лета и одну осень я носила в себе любовь к тебе как жертвенность и упивалась ею — а тем августом в Португалии упиваться вдруг стало нечем.
Я должна была идти дальше без тебя.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
