
Бесплатный фрагмент - Бунтующий Яппи
От автора
Моя одержимость коллекционированием текстов началась осенью две тысячи седьмого года, когда я, коротая рабочее время за просмотром дневников пользователей живого журнала, наткнулся на персонажа, действовавшего под ником «Rebellious Yappy».
Собирание текстов увлекло меня настолько, что я даже забросил на продолжительное время работу. C поста от 10 октября 2007 года началось моё почти детективное расследование заговора бунтующих яппи, уведшее меня в 2004-й, а оттуда в 1999-й и дальше до самого начала 80-х. В своих записях «Rebellious Yappy» оставлял многочисленные ссылки на другие тексты, размещённые не только в Livejournal, но и на известных литературных и новостных сайтах, таких как Lib.ru и Novosti.ru.
Сначала всё шло гладко. Читая дневник «Rebellious Yappy», я очень быстро взял след и установил круг действующих лиц. Несмотря на то, что в разных текстах им давались разные имена, определённое сходство черт характера позволяло понять, в каком случае о ком из них идёт речь. Стремительно развивающиеся социальные сети «Odnoklassniki.ru» и «Vkontakte.ru» дали информацию о подлинных именах, отчествах и фамилиях, месте учёбы и работы каждого из героев.
Четыре мужских персонажа:

Андрей Гриневич

Глеб Замшин

Илья Рожнев

Александр Белугин
Два женских:

Таня Вязникова

Катя Кисиль
Каждый из них вёл собственный блог в живом журнале, а некоторые публиковались и в разделе «Самиздат» на Lib.ru. Первоначально я принимал всё, написанное ими за чистую монету, особенно в связи с тем, что многие сведения из дневников и самиздатовских текстов совпадали с новостями на Novosti.ru, куда я время от времени заглядывал по ссылкам «Rebellious Yappy». Вскоре, однако, мне удалось выяснить, что эти новости — полнейший вымысел. Никакого Уральского Завода Бурового Оборудования в действительности не существовало, и ни один из микрорайонов Екатеринбурга не носил названия «Бурмаш». Следовательно, не было и заговора, о котором с таким упоением писал «Rebellious Yappy», целенаправленно вводя в заблуждение возможного читателя своих дневников. Данное обстоятельство дало мне повод поставить под сомнение достоверность сведений, сообщаемых им о себе. Кроме того, в связи с тем, что выход на других персонажей я также получил благодаря ключам и подсказкам, оставленным «Rebellious Yappy», информация, содержащаяся в их дневниках, была подвергнута мной тщательной проверке. Ни один из фактов, включая данные о датах рождений, месте работы, именах и фамилиях не подтвердился! Страницы, зарегистрированные на «Odnoklassniki.ru» и «Vkontakte.ru» оказались фиктивными.
Я понял, что имею дело с художественным вымыслом, а не с документальным описанием событий, и, воодушевлённый своим открытием, с удвоенным рвением пустился на поиски. Реальность перестала быть их основанием, я уже не гонялся за соответствиями между сведениями и фактами; теперь моя цель состояла в том, чтобы выследить и поймать за хвост определённую историю, канву, намёки на которую присутствовали во многих, на первый взгляд, разрозненных фрагментах. И мне это удалось.
Знакомясь с дневниками заинтересовавших меня пользователей, я обратил внимание на следующее занятное обстоятельство: любая ЖЖ-история открывается перед нами с конца. Мы встречаем персонажа в той точке, которая для него самого на момент встречи является финальной, и дальнейшее наше узнавание его движется не только вперёд, но и назад в глубину его прошлого. Если герой вызвал нашу симпатию, то мы непременно стремимся заглянуть в его архив, покопаться в избранном, отмотать ленту до самого начала, чтобы прочитать ту самую первую запись, с которой началась в ЖЖ чья-то новая жизнь.
Однако же я взял на себя труд расположить собранные мной тексты в ином порядке, чем тот, согласно которому происходило моё знакомство с ними, исключительно для того, чтобы подогреть интерес публики к сюжету.
Эпилог истории, события которого относятся к 2007г. вполне мог бы стать и Прологом. В конечном итоге, выбор отправной точки остаётся за вами. Если вы, как и я, любите читать книги с конца, то вам следует непременно узнать финал, а уж после решить, стоит ли тратить время на остальное.
Не берусь утверждать, что выбранная мною последовательность является единственно правильной и соответствует замыслу самих авторов. Вполне можно предположить наличие двух вариантов их отношения к собственным текстам. Согласно первому, один человек, а, вероятнее всего, группа людей впервые в истории Интернета предприняла попытку опубликовать роман в Сети, замаскировав его под блоги различных пользователей. В соответствии со вторым, каждый из авторов писал собственное произведение, а я лишь впоследствии сложил разрозненные куски, навязав истории сюжетные линии и смыслы. Обе версии имеют равные права на существование, и я не стал бы отдавать предпочтение ни одной.
Поэтому-то перед вами не роман, не повесть, не сборник рассказов, а то, что точнее всего определяется словом коллекция. Я соответственно не столько автор произведения, сколько всего лишь скромный коллекционер чужих текстов.
2012
Пролог

Subject: Париж
18:05 10 октября 2007г.
Считается почему-то, что прожигание жизни есть дело лёгкое и вовсе не требующее труда. По мне, так, напротив, получение наслаждения всегда становится результатом изощрённых усилий, ведь вкус притупляется скорее, чем лопается пузырёк в бокале с моей несравненной «Вдовой Клико».
Отнюдь не каждому дано так безнаказанно и виртуозно служить собственному Эго, как это делаю я — счастливый обладатель синекуры с неопределённым кругом обязанностей в некой транснациональной корпорации.
Я прекрасно устроился, размазав себя между мировыми столицами: сегодня Лондон, завтра Москва, потом Нью-Йорк, Рим, Токио. Но дольше всего я предпочитаю оставаться в Париже. Он в точности соответствует мне, он моё Альтер Эго, мой брат-близнец. Такой же со вкусом одетый нахал и гордец, живущий исключительно в своё удовольствие. Утром в будние дни меня можно застать за столиком одного из кафе в районе Больших Бульваров. Открыв ноутбук, я просматриваю новости в Интернете и пью кофе с горячим круассаном. Днём меня ожидает обед, состоящий из шести перемен блюд и занимающий не менее двух часов, с непременной тарелкой сыров между горячим и десертом, сопровождаемый бутылкой вина. После обеда я обычно отправляюсь спать, а ближе к полуночи спускаюсь в кафе на углу, чтобы пропустить рюмку двенадцатилетнего кальвадоса. Изредка ко мне присоединяется гражданин Евросоюза русского происхождения состоятельный бизнесмен месье Блинофф. Большую часть времени он проводит на Лазурном берегу, но, случается, заглядывает и в Париж. Вся семья Блиновых (супруга и двое детей) довольна переездом заграницу: дети ходят во французскую школу, супруга держит салон красоты и иногда устраивает скандалы, освещаемые в местной прессе. Месье Блинофф не испытывает ни малейшего желания возвращаться в Россию, тем более, что, согласно официальным сведениям, он числится погибшим от рук наёмного убийцы.
Единственные, по кому я скучаю во время своих длительных зарубежных вояжей — это русские шлюхи! Иностранные жрицы любви мне совершенно обрыдли. Холодные циничные твари — в каждом глазу только евро. Они совсем не такие, как наши домашние, милые и тёплые, будто только из печки сдобные булочки, украинки и молдаванки, приехавшие в Москву в поисках лучшей доли. С нашими можно весело поболтать, потереться щекой об их плечики, узнать секрет приготовления борща или вареников. Зарубежные шлюхи глядят на тебя, как таможенники, и молчат, словно рыбы. Ничем не отличаются от резиновых баб! Никакой ласки во взгляде. А я с недавних пор полюбил женскую ласку. Может быть, это частые перелёты так на меня действуют? Провоцируют на поиски согревающего женского тела?
Иногда мать прилетает ко мне в Париж, и тогда мы отправляемся в «Максим» или другой ресторан, отмеченный мишленовскими звёздами, где подают нежный, как суфле, красно-розовый тартар. Моя мать без ума от него. Иногда мне кажется, что её мозг отключается ровно в тот момент, когда фарш, намазанный на тонкий ломтик чёрного хлеба, исчезает у неё во рту. Я вынужден был обратиться к ней за помощью, когда три года назад над моей головой нависла угроза. Обладая серьёзными связями, она вытащила меня из такой передряги, откуда я вряд ли мог бы самостоятельно выбраться.
Обидно, что вынужденный бежать, я так и не пожал результаты своих трудов. Золотые яблочки, как всегда, достались Иванушке-дурачку, оказавшемуся в нужное время и в нужном месте. Теперь он спокойно почивает на лаврах, обласканный властью. Выигрывает, к сожалению, не волк-одиночка, а самый низкий и подлый из членов стаи, готовый служить вожаку.
Всем желающим узнать финал моей истории, рекомендую сегодня перейти по ссылке на страничку novosti.ru. Забавно следить за тем, как журналисты поджаривают факты в панировке политических установок. Сами по себе запутанные причинно-следственные связи никому не интересны, если не привязаны к глыбам идеологий.
Однако, чтобы иметь подлинное представление о произошедших событиях, требуется глубокое погружение на иррациональный микроскопический уровень конкретных человеческих личностей, где существенную роль играют такие мелочи, как «носик Клеопатры». Говоря о личностях, я имею в виду себя и своих компаньонов — участников заговора, который ничего общего не имел с войной власти и олигархов, но закрутил ураган событий, интерпретируемых СМИ исключительно в терминах этой самой войны.
НОВОСТИ.РУ
10 октября 2007 года
ПРИЗРАК ГОСКАПИТАЛИЗМА
В начале октября этого года завершилась процедура внешнего управления ОАО «УЗБО», в ходе которой последовательно были реализованы мероприятия, приведшие к существенным изменениям в структуре управления обществом. Контроль над активами перешёл к государственной корпорации «Газинвест», а «бурмашевская» преступная группировка, ранее владевшая заводом, лишилась существенного куска собственности.
С одной стороны, надо бы порадоваться тому, что государство постепенно расправляется с криминальными хищниками, а с другой — стоит задуматься, не станет ли оно само таким же хищником, только более крупным и агрессивным? Вообще так называемое «дело о возврате УЗБО» достаточно дурно пахнет: слишком уж много вокруг него трупов.
Напомним, что в ноябре 2004 года в собственном автомобиле взорвался депутат Городской Думы Виктор Кокоша, имевший отношение к конфликту акционеров на заводе. С ним погибли и двое его телохранителей.
Почти немедленно после этого события по подозрению в совершении незначительного преступления был арестован лидер «бурмашевской» преступной группировки Анатолий Гурдюмов. Согласно неофициальной версии правоохранительные органы планировали в дальнейшем предъявить ему обвинение в убийстве Виктора Кокоши, однако заключённый скончался в СИЗО №1 при невыясненных обстоятельствах. Судебно-медицинская экспертиза констатировала смерть в результате сердечного приступа. Вместе с тем люди, близко знавшие умершего, утверждают, что на самом деле он был убит. Мотивом убийства послужила несговорчивость лидера «бурмашевцев» в вопросе о выводе активов ОАО «УЗБО». Сразу вскоре после загадочной смерти Гурдюмова в арбитражный суд был представлен документ за его подписью, подтверждавший, что главный акционер «УЗБО» якобы не имел возражений против продажи завода в рамках внешнего управления.
Наконец не так давно cкончался старый директор «УЗБО» Иван Вязников, руководивший предприятием ещё в советское время и снятый с должности в результате захвата завода «бурмашевцами» в 1999 году.
Нападение на директора произошло в конце лета этого года. Неизвестные подкараулили его в подъезде собственного дома и нанесли несколько ударов тупым предметом по голове. По данному факту возбуждено уголовное дело. Одна из версий, отрабатываемых следствием, состоит в том, что преступление совершено уцелевшими членами «бурмашевской» группировки, у которых имелся мотив. Ведь кандидатура Вязникова рассматривалась в качестве одной из наиболее вероятных на пост исполнительного директора завода после того, как контроль над предприятием перешёл к «Газинвесту». У «бурмашевцев» имелись веские основания полагать, что старый директор, желая вернуться на УЗБО в любом качестве, предоставил заинтересованным лицам информацию о кредиторской задолженности завода. Именно указанная информация дала возможность в последующем реализовать схему «банкротства» в отношении одного из самых крупных предприятий России.
Часть 1
I
Предчувствие
Я тотчас выбрасываю руку из кармана, вешаю её на спинку стула. Теперь я чувствую её тяжесть в запястье. Она слегка тянет, чуть-чуть, мягко, дрябло, она существует. Я сдаюсь — куда бы я её ни положил, она будет продолжать существовать, а я буду продолжать чувствовать, что она существует; я не могу от неё избавиться, как не могу избавиться от остального моего тела, от влажного жара, который грязнит мою рубаху, от тёплого сала, которое лениво переливается, словно его помешивают ложкой, от всех ощущений, которые гуляют внутри, приходят, уходят, поднимаются от боков к подмышке или тихонько прозябают с утра до вечера в своих привычных уголках.
Ж. П. Сартр «Тошнота»

…длинные волосы ласковые голубые глаза колышется нежная камышовость шуршат гибкие и пружинистые стебли выгоревшие и высушенные солнцем волосы светлые пряди и тёмные а в просветах небо мягко плывёт растекается мутнеет воздух наполненный запахом сухостоя и смолы цело-мудренные сосны стройные тонкие тонко-ноги то-о-он-н-нко-ноги гра-ци-оз-ны издают такой безбрежный
монототон-н-ный звон-н-н
поцелуем снимаю мёд и молоко с лакомых губ и мармеладный язык утопает в тающей сладости где-то там на дне
где-то там на дне глюкозном
в полусне метаморфозном
твой язык свернулся нежный
словно эмбрион-н-н
бессмысленно улыбае бла велит бами гу взлетает милая которую крепко держу за руку паря глядит сверху большими стрекозиными глазами кружится кружится над головой из расплавленного солн-ца
ветер вытянул щип-ца-ми
золотые во-ло-кон-ца
волочусь за тобою
падаю наступая на собственную раскрытую ладонь из груди у меня растёт уродливая кряжистая ветка-рука стиснутая между колен пышное великоглебие расцветает алым соцветием лопается разрываясь на сотню маленьких головоглебов которые проворно подёргивая хвостиками хищно щёлкают зубами и преследуют друг друга в застоявшейся мутной Глебности внезапно эта обширная туманная Глебность глеборукость глебоногость глебоголовость приходит в себя переливается-переваливается в голую неуклюжесть и волглую тяжесть горячей плоти, продавившей кровать. От трения шершавой простыни о кожу, как искра от чирканья спички, рождается скованное сном тело: кончики пальцев ног; угол коленок; онемевшая рука, неловкой оглоблей зажатая между ними; голова. Огромное тёмное веко, мохнатое по краю, лениво ползёт вверх, качается-мелькает алое пополам с чёрным, застревает, и свет тускло сочится сквозь сплетения ресниц. Утро уже. День какой? Вставать или рано? Вдалеке за ватной стеной скрежещет ключ в замочной скважине. Мама ушла.
Вздрагивает озлобленно и задирается веко — что за писк ужасный?! Уммм. Будильник! Ум-м-мри, гнида! — давлю рукой, выпростав её из-под одеяла. Цепкий холодок бежит по коже. Вставать, воскресать, выбираться из плюшевых складок одеяла, пятками прилипать к полу. Собираться на работу. Нет, не хочу. Ещё чуточку полежать, понежиться. Кровать раскисает, расползается, как овсяный кисель, на лоскутья, между которыми чернеет пустота. Проваливаюсь в неё, тщетно пытаясь ухватиться за вязкие края, проскальзывающие между пальцами. Тушат свет. Ух! Выныриваю. Опоздал?! Чёрная изящная стрелка, похожая на паучью лапку, подбирается к цифре семь, а вторая замерла в нескольких шажках от цифры двенадцать. Можно валяться. Снилась женщина. Осторожно ниточка за ниточкой вытягиваю воспоминания: длинные волосы, ласковые голубые глаза. Постой, как там было? Мёд и молоко? Сладко. И не пытайся воскресить её снова, та была настоящая, а эта всего лишь кукла, наскоро созданная по образу и подобию. Моя несовершенная память сохраняет след женщины из сна так же, как углубление постели, бывает, хранит тепло и очертания живого тела. Время идёт, и женщина, наполнившая сладостью мой сон, удаляется от меня, погружаясь в тёмную пучину. Я помню, как её кожа прикасалась к моей так, что терялось ощущение её кожи, моей кожи и вообще какой бы то ни было кожи, покрова, отделяющего одно от другого.
Она удаляется, но до сих пор у меня сладко зудит в районе грудины, только слабее и слабее с каждой минутой. Я счастлив оттого, что между нами не было липкого грязного соития, агрессивного проникновения одного в другое, а было лишь мягкое постижение друг друга всей поверхностью тела через каждую клеточку кожи. Приоткрываю глаз: минута ещё не прошла. Благословенная минута. Время увязает в голове, медленно просачивается куда-то капля за каплей и падает твёрдыми свинцовыми горошинами на дно памяти. Динь-динь-динь. Из уголка губы на подушку сползает нитка слюны…
Петька и Чапаев
Однажды давным-давно, в старое доброе время, шла по дороге коровушка Му-му, шла и шла и встретила на дороге хорошенького-прехорошенького мальчика, а звали его Бу-бу…
Дж. Джойс «Портрет художника в юности»
Я живу в траве. Такой я маленький. Я потёр пальцами очки. На стёклах остались жирные лоснящиеся следы с радужными краями. У меня косоглазие, а врач сказала: «Нужно носить очки». Лопухи огромные! Под одним я сижу. Сочный хрустящий стебель ветвится на множество прожилок, пронизывающих мясистый, дрябловатый, в морщинах лист, обгрызенный по краям и продырявленный в середине. Я смотрю в дырочку! Вижу небо и край облака. Снизу листа на ворсистой поверхности пасутся целые стада черной тли. Тля липкая! Её доят муравьи, как мы — коров! Бежит беспокойный муравей. Я преследую его маленьким светлым пятнышком от увеличительного стекла. Раздаётся еле уловимый сухой треск, вьётся летучий дымок — муравья корчит, и он остаётся лежать на месте, поджав опалённые лапы. Я опасливо задираю голову: вдруг и меня кто-нибудь сожжёт или раздавит? Есть же кто-то Большой, Кто Смотрит. Какой-нибудь великан, который держит нас в специальном аквариуме! Может, это Волосатый. Хотя Волосатый живёт под крыльцом, и он не такой огромный, как тот, кто за нами всё время наблюдает. Солнце играет, переливаясь зелёным ободком и выжигая слепое пятно в глазу. После яркого света кажется, что под лопухом наступили сумерки. В глазу плавает зелёное пятно: оно всегда плывёт туда, куда я смотрю. Если долго смотреть на солнце, то потом можно увидеть Зелёное Пятно. Оно живое. Вот оно растаяло, оставив после себя едва заметный ободок. На конце покачивающейся травинки, прямо перед моим носом, один жук-пожарник в блестящей оранжевой каске и долгополом плаще вскарабкивается на другого, и оба замирают в непонятном томлении, только мягкое оранжевое брюшко у одного чуть-чуть подрагивает, выставляясь из-под панцирных крылышек, похожих на скорлупки от семечек. Если их напугать, то они не смогут расцепиться, и каждый будет тянуть в свою сторону. Презабавнейшее зрелище! Интересно, кто перетянет? Я толкаю травинку — оба камнем падают вниз. На земле катаются, сцепившись, один пытается взлететь, выпуская прозрачные крылья. Нельзя мучить пожарников, а то, когда случится пожар, некому будет тушить. Меня терзают угрызения совести.
Я поднимаюсь. Стою, возвышаясь над лопухами, как Гулливер. Но всё равно по сравнению со взрослыми я гораздо ближе к земле. Взрослые живут высоко, там, где их головы. Головы встречаются вверху и бубнят что-то, и этот гул, искажаясь, спускается до моих ушей. В новостях говорят: «Встреча в верхах» — это про взрослых! Передо мной из травы встаёт почернелый деревянный дом с шершавыми стенами, будто покрытыми отслоившимися кусками коры. У корневища наросли хрупкие гребни серого лишайника. Водосточная труба спускает ржавый рукав к железному баку, полному тины и вонючей застоявшейся жижи, в которой проворно снуют личинки комаров.
Этот дом — наш барак, в котором мы живём с мамой. И много кто ещё тут живёт с нами. Например, мой друг Русля. И Любка-дура, и Страшная девочка, и Катя Цветкова. Много разных людей. И все мы ждём не дождёмся, когда наш барак снесут к чёртовой матери и всем дадут квартиры в новых домах от завода. А завод называется «УральскийзаводбуровогооборудованияимениЛенина» — так учили запоминать в садике. А район называется «Бурмаш». А город — Свердловск. В честь Якова Свердлова. Все, кто живёт в нашем бараке, работают на заводе. А моя мама работает в заводской больнице. Она врач-педиатр. Скоро-скоро приедут экскаваторы и бульдозеры и снесут барак. Наши яблони, наверное, тоже срубят. А мне их жаль.
Вокруг барака растут старые яблони. Полно старых яблонь. Они смыкают свои кроны с крышей. Я задираю голову, считая колена трубы, пока позвонки не начинают хрустеть. Интересно, насколько можно так прогнуться? Акробаты гнутся почти до земли! По небу плывёт облако. Дом со скрипом кренится и падает в мою сторону. В глазах разбегаются золотые круги. Я поспешно опускаю голову вниз. Сандалии двоятся. Если он падает, то как встаёт обратно, пока я не смотрю? А если долго смотреть, то он упадёт, и всё разрушится. Я опять задираю голову. Дом падает. Смотрю под ноги. Он чуть не рухнул! Сегодня больше не буду, а то там внутри мама спит. Надо будет попробовать всё порушить, когда она уйдёт в магазин.
По двору идёт девочка. У неё круглое лицо в веснушках и выпуклые глаза, как у неваляшки. Какие смешные неживые глаза! Выставляются, будто стеклянные пуговицы. Она что-то назойливо повторяет себе под нос, убеждая кого-то, кого я не вижу. Меня она не замечает, потому что я прячусь в лопухи и оттуда напряжённо слежу за ней. Что за баба? Может, из новеньких? Раньше её не видел. Она идёт за дом, и я не могу побороть себя и не последовать за ней. Все девочки ходят за дом за ЭТИМ. Я проворно ложусь на землю и осторожно высовываю голову из-за угла. Она продолжает разговаривать с кем-то, наивно оглядывается по сторонам, по-прежнему не замечая меня, и, почувствовав себя в безопасности, приседает на корточки. Капелька пота сползает сверху по стеклу очков: всё растекается и мутнеет. Кровь бросается в голову. Я поспешно отползаю. Я снова убедился: бабы делают ЭТО совсем не так. Наверное, очень неудобно. Я поднимаюсь на крыльцо и вхожу в дом, скрипнув дверью. Длинный коридор. Жирное марево под закопчённым потолком и тучи уснувших мух. Изредка одна из них с сердитым жужжаньем перелетает на новое место. Они тоже ссорятся между собой. Люди все спят. Одна дверь приоткрыта. Видно угол кровати, жёлтый и мозолистый большой палец ноги. Мозоль похожа на гриб-чагу, наросшую на древесный ствол. Я вижу живот с чёрной ямкой пупка, вокруг которой на розовой земле растёт жёсткой курчавой травой волос. Это Руслин папа дрыхнет. Я задрал на себе рубашку. У меня совсем другой пуп — пуговкой. А у Руслика пуп — ямкой. Хр-р-рап. Брюхо вздымается. Где-то там спит мой друг Русля, которого загнали после обеда, но его не видно. Делаю несколько шагов в сторону — открывается другой угол комнаты. Красивая полная женщина сидит, склонив голову, так, что длинная прядь волос вяло свесилась вниз. К белой студенистой груди с фиолетовым соском присосался маленький красный червяк с лицом, сморщенным в кулачок. Лялька. Она вылезла у тёти из живота. У меня в животе тоже сидит ребёнок. Пока он маленький. Лежит себе, свернувшись червячком. Когда он вырастет, меня разрежут, а его вытащат наружу. Интересно, я тогда умру? Нет, наверное. Мама же не умерла, когда меня вытаскивали. Чем же я буду его кормить? Может, у меня к тому времени уже отрастут титьки.
Скучно, когда все спят, а мне совсем не хочется спать. Я отхожу от двери и сажусь на маленький стульчик перед нашей комнатой. Когда хочется пить, слюни липкие.
* * *
…торопливо подбираю слюну, но маленькая бисерная капля, успев скатиться по подбородку, падает, оставляя тёмное влажное пятно на ткани.
Рывком сажусь на кровати. Холод скребёт оголённую спину. Кожа собирается в твёрдые мурашки. Всё, — хмуро решаю, — пора вставать. Взгляд на будильник: пять минут восьмого. Маршрут известен. Деревянные ноги несут меня в ванную. Глаза щурятся, будто в них тычут сухой соломой. Ясно: не выспался.
Досадливо морщусь.
Стою над раковиной унитаза, раскачиваясь на непослушных ногах. Ну! Дважды-два — четыре, четырежды-два — восемь, восемь на два — шестнадцать, шестнадцать на два — тридцать два, тридцать два на два — … угнетает то что можно с очень большой степенью вероятности предсказать сегодняшний день конечно с точки зрения экономии нервов хорошо если жизнь входит в колею в хорошо выдолбленную колею не один десяток по которой до меня прокатился не один десяток поколений скука с другой стороны скука бессмысленность бытия со-бытия события повторяются с завидным постоянством бессмысленность обозначается резко повторяемость — стабильность цикличность — в природе движение по кругу — бесконечность Сансары ложь бесконечность должна быть линией цепочкой неповторяющихся разных событий одно событие следом другое не похожее на первое третье тоже уникально но как выбрать модель поведения на что опереться опыт тогда не имеет смысла опыт не нужен он бес-по-ле-зен демиург единственный за рамками круга змея кусающая свой хвост — уловка древних круг — уловка Демиурга весьма изощрённое надувательство очень похожее на заключение круг — тюрьма…
Прокручиваю в голове эти размышления, нависая над круглым унитазом, в котором блестит и улыбается лужица канализационной водицы. Писать. Немедленно писать! Он обмякает в руках. Ну! Усилием воли направляю жидкость из мочевого пузыря в мочеиспускательный каналец. Каналья, давай же! Одна капля выкатывается вслед за другой, как маленькие горошины, сзади их нагоняет мощный поток, несущийся где-то внутри меня по слизистому тоннелю. Пссс-сссть. Сильная струя разбила зеркальце на дне унитаза. Да!
Смываю. Рука привычным движением откручивает краны. К девяти должен быть уже на работе. Кран мелко подрагивает, выплёвывает воду толчками. Вода разбрызгивается между стенок девственно-белой холодной ванны. Мгновенно жгутом сворачивается воронка. Что изменится, если приеду, скажем, к десяти? Или вообще не приеду? Отвернул средний кран. Душ сопит. Ванна наполняется клубами пара. Через минуту стены исчезают, комната как бы раздвигается, и всё уже плавает в пару: зеркальца, бритвенные приборы, зубные щётки, тазики, полотенца. Осторожно, чтобы не обжечься, пробую ногой воду. Кипяток! Чуть холоднее. Явственно представляю себе офис. Солнце медленно нагревает пыль на лакированных столах. Угол. Целое нагромождение углов. Правильные геометрические формы. Моё рабочее место в одной из комнат Термитника. На столе — чёрная подставка с канцелярскими принадлежностями: циркуль, скрепки, ножницы, степлер, дырокол.
Аккуратные квадраты бумаги формата А-4 разложены на столе. Некоторые чистые, другие испещрены чёрными буквами. Буквы-буковки-буквицы — букашки, сожжённые увеличительным стеклом и скрюченные в агонии. Я сижу — жалкий длиннорукий горбун перед голубоватым глазом монитора. Стучу. Мелькают исковые заявления, договоры, доверенности, бесконечные базы данных. Кто бы сказал мне в детстве, что придётся пускать себя в расход из-за такого… Тело, розовое, неуклюжее, вскарабкивается на край ванны, подбирает непослушные конечности, выгибает спину дугой, выставляя перламутровые гребни позвонков, и с глухим стуком переваливается вовнутрь. Ай! Визгнули нервы ошпаренной кожи. Горячо! Та-а-ак. Теперь хорошо. Теперь отлично. Душ-ш-ш-ш-ш…
* * *
— Сколько в городе душ?
— Ни души.
Так надо отвечать. А то если скажешь: «Три души», — душить будут ровно три раза. Пить хочется, а вокруг ни души — все спят. Сейчас бы минералки, или кислого квасу из бочки, или воды «Буратино», а то горло ссохлось, и нёбо растрескалось, как земля в пустыне. Я сижу на стульчике. И Руслика тоже загнали спать после обеда. «Через часик», — так они сказали. Руслан выйдет через часик. Интересно, это долго? Когда ждёшь чего-нибудь, то всегда долго. Часик, наверно, меньше, чем час. Кто придумывает имена? Вот Руслик — тот Руслик, костлявый, с худыми лягушечьими руками и яйцеобразной головой, стриженной бобриком. А меня зовут Глеб. Глеб, ну и имечко! Слово — обрубок, слово — кирпич, слово — хлебная корка! Глеб, Бгле, Гелб, Глбе, Лбег — крошатся буквы. Не может быть, чтоб я был Глеб.
— Здорово, Миха!!! — гаркнул Руслик. Он не зовёт меня Глебом. Говорит: имя корявое. Почему-то для него я — Миха.
Руслик — мой закадычный друг. Что такое «закадычный», я не знаю. Но так говорят. Я потрогал себя за кадык. А у баб нет кадыка. Руслик ковылял по коридору, приволакивая ногу. Значит, опять ранили. У него папа — военный. Он подарил Руслику ремень. Настоящий. Солдатский. Из кожи. А на пряжке — звезда! Раз Руслю пороли этим ремнём. Он говорит: на мягком месте остались отпечатки звёзд. Больно, наверное, но здорово, когда на заднице — звёзды, а на каждой — серп и молот!
И я сказал:
— Шла Матрёна с тестом,
Упала мягким местом.
Чем думаешь?
А Руслик засмеялся и сказал:
— Жопой!
— Ты жопой думаешь!
А Руслик не понял:
— Почему?
— Потому что сам сказал. Я спросил: чем думаешь, а ты — жопой!
Руслик хихикнул
— Глеб-гле-бгле-бгле, — говорю. — Что я только что сказал?
— Глеб.
— А если быстро, то выходит — Бгле.
— Скажи лучше быстро «катить», — осклабился Руслик.
— Катить-катить-катить, — затараторил я. — Титька!
— Титька! — радостно подтвердил Руслик.
Титька — хорошее слово или плохое? У мамки они есть. А у коров называется вымя.
— Ранили меня, браток, — озабоченно пожаловался Руслик.
Он опустил тяжёлую руку мне на плечо. А я его поддержал. Он чуть с ног не падал от потери крови. А рука у него в царапинах. Кожа на пальцах сухая, скукоженная, как у курицы. Под ногтями грязь.
И я спросил:
— Куда?
А он:
— В ногу. Хочешь позырить?.. — Когда он говорит, то губа у него задирается.
Интересно, он нарочно так делает? А изо рта пахнет ириской.
— Давай!
Я помог ему добраться до стула. Он сел и стал медленно разматывать бинты. Все в зелёнке.
— Уже Серому сегодня показывал, — важно сказал Руслик и поморщился, отдирая присохший бинт от коленки.
Вспухшая рана открылась во всём великолепии. Она ещё не успела зажить и обильно выделяла клейкий жёлтый гной. Рваные почерневшие края были обожжены изумрудной зелёнкой. Торчало бело-розовое мясо.
— Сколько гноища… — Руслик не скрывал отвращения и гордости.
А я завидую:
— Баско! Аж до мяса!
— Кого там — до кости! — сказал Руслик, ревниво пряча рану под наслоениями бинтов. — Сейчас уж всё почти заросло. В голову целился контр-р-ра, а попал вот… ещё б чуть-чуть…
Мы вышли на крыльцо. Жарко. А Руслик-то и говорит:
— Собирай народ в войнушку играть.
А как это, собирать-то? Я выставил вперёд руку с отогнутым большим пальцем и загорланил:
— Собирайся народ, кто в войнушку идёт, собирайся народ, кто в войнушку идёт, собирайся народ… Руслик, нет никого.
А Руслик сказал мне:
— Пускай. Я, чур, Чапаев!
И спорить тут бесполезно. Он и рубашку носит, не продевая руки в рукава, чтоб больше было похоже на Чапаева. А ещё у него — сабля. Волочится следом, стукаясь о ступеньки крыльца и выписывая загогулины. Чапаев был с усами. Я приставил к Русликовой задравшейся верхней губе лихие закрученные усы. Руслик подбоченился и сверкал голубыми глазами. А саблю вытащил и занёс над головой. Чапаев! Может, завтра я буду Чапаевым. И Руслик сказал, что может быть. Но потом я подумал и говорю:
— Чур, я Ленин. Ленин главнее Чапаева.
Про Ленина рассказывали в садике. Он щурился и любил детей.
— Ты не можешь быть Ленином, — серьёзно возразил Руслик, — в Ленина играть нельзя.
— Кто сказал?
— Папа.
— Почему?
— Потому что Ленин — наш вождь, а настоящая фамилия у него — Ульянов, — объяснил Руслик.
— Вожди только у индейцев бывают и у первобытных людей.
— И Ленин был вождь, — уверенно возразил Руслик. — Он ГЕНИЙ, а ты простой человек, поэтому ты не можешь быть Ленином.
Может, я тоже ГЕНИЙ? Надо будет проверить. Потому что, если я ГЕНИЙ, то я могу быть Ленином, который главнее Чапаева. И я спросил:
— А кем мне быть?
Пока я точно не узнал, гений я или нет.
— Ну, можешь быть Щорсом или Котовским, — свеликодушничал Руслик, — или Петькой. Точно, ты будешь Петькой!
И тут же я представил себя Петькой. В тельняшке и бескозырке, а из-под неё лез лихой чуб. Эх, яблочко, да на тарелочке!
— Петька не был матрос, — пояснил Руслик.
— А кто?
— Орден… ординарец.
— Пусть я буду ординарец и немножко морячок. С Авроры. Эх, яблочко, да куды котишьси-и-и! К чёрту в лапы попадёшь да не воротишьси-и-и.
Руслик нехотя согласился. А я сказал:
— А про Котовского я анекдот знаю.
— Какой?
— Матершинный.
— Тогда рассказывай.
Я рассказал, и Руслик залился тоненьким ржаньем, как жеребёнок.
Мы пошли вдоль стены. Чапаев — впереди, а Петька следом. Стена старая. Деревянная. На ней написано «Любка — свинья», а ещё «Маша + Валик = любовь и дети». А Чапаев-то и говорит: «Осторожно, Петька, белые близко». Я не видел беляков живьём, а только в кино. Один раз мне показалось, будто я видел беляка, хотя я не уверен. Он был в сером костюме. Усики у него щёточкой. В глазу злое стёклышко. Я подумал: «Беляк! Надо бы вызвать милицию». Но он уж ушёл. А если узнают, что я видел Беляка и упустил, то скажут: «Товарищ, вы провалили задание». Вот бы его поймать! Тогда, может, дадут звезду героя. А если дадут две звезды, то на родине поставят бюст. Всего-то две звезды надо получить. А бюст — это памятник, только по грудь. Летят самолёты — салют Мальчишу! Плывут пароходы — салют Мальчишу! Идут пионеры…
— Ложись! — Чапаев растянулся на земле и меня повалил рядом. Я уткнулся носом в перегнившие листья. Сырость!
— Беляк! — горячо шепчет в ухо Чапаев. Пахнет ириской. А когда проснёшься, то изо рта пахнет противно.
— Где?
— Ну, вон-вон… — Чапаев высовывает голову из-за угла и тут же прячется.
— Я тоже хочу позырить.
— Тебе нельзя, — говорит и ещё сильнее прижимает моё лицо к земле, — тебя засекут.
— А тебя?
— Меня — нет… — Он снова выглядывает.
— Там он?
— Ага.
Мне кажется, я тоже видел Беляка краем глаза, пока Чапаев не отпихнул меня от угла. Он там прогуливается за домом. Помахивает белой перчаткой. Топорщатся усики. Круглое злое стёклышко в глазу блестит. Пан подпоручик! Я лежу, вжавшись в мягкие чёрные листья. А Чапаев следит за Беляком. Вдруг говорит:
— Петька.
— Чё?
— Я думаю, это не Беляк.
— А кто тогда?
— Басмач.
— Если Басмача поймать, то звезду дадут?
— Сразу две! Басмачи, они, знаешь, какие злые…
Если Басмач — то в полосатом ватном халате и с саблей, а на голове намотано полотенце, как у женщин после ванны. Ходит усмехается. Рожа чёрная. Потная. Зубы сверкают. Бородка клинышком. А зовут Абдулла.
— Василь Иваныч, чё там он делает?
— Стоит.
— И всё?
— Не-е-е, щас саблю достал.
— Дай мне-то позырить!
— Тихо! Я сказал, не лезь! Восток — дело тонкое.
Понятно, Руслик сам хочет его поймать. А может, врёт.
— Всё, — сипит мне в ухо, — за мной!
Мы, как два червя, выползаем из-за угла. По траве босиком идёт Любка. Она старше нас на девять лет. Щека её розовеет, как свежее сало на срезе. Рот полуоткрыт, а глаза тупые и сонные. Толстая коса свешивается на здоровую спину. Подол простого сарафана колышется, путаясь вокруг крепких белых икр. Любка — дура.
— Басмач где?
— Ушёл уже. Она его спугнула.
А я и говорю Русле:
— Давай тогда Любку обзывать, а она будет за нами гоняться.
А он:
— Поймает…
— Не ссы, — говорю, — не поймает. Спорнём, что я её саблей огрею между лопаток?
И тогда я беру его саблю, подбегаю к Любке сзади и с размаху — тресь по толстой дородной спине! Она вздрагивает, как кобыла, когда её укусит слепень, и оборачивается. А я загорланил, и что-то звонко лопалось у меня в груди, и слюни клокотали в горле, а потом слетали с губ пузыриками:
— Любка-Любка — колбаса,
На верёвочке — оса,
А оса шевелится,
Любка скоро женится!
Она-то и говорит:
— Д-д-дурак. Я н-не-е-е женюсь, а з-з-замуж выйду.
Голос у неё подвывающий. А когда говорит, то на шее натягиваются сухожилия.
— Сама дура.
Любка сорвала сочный стебель крапивы и сделала несколько тяжёлых шагов в мою сторону. Я отбежал.
— Жиромясокомбинатпромсосискалимонад! — орал Русля, и оба мы кружили вокруг неё.
Но Любка не погналась за нами, а злобно прошипела:
— П-п-пусть вас Бог п-п-покарает!
Страшно стало. Внутри что-то ёкнуло, и я облился холодным потом.
Бога нет. А всё равно страшно. Конечно, нет. Где он тогда? Если на небе сидит, то почему Гагарин его не видел?
— А Бога н-нет.
— Есть, — пугает Любка.
— Ну и где?
— На небе.
— Ха… Почему тогда Гагарин его не видел?
Тут-то она меня и поймала.
— Пусти, дура! Очки сломаешь.
Больно же крапивой по голым ногам! Как кипятком ошпаривает ляжки. Пусти. Упираюсь кулаками ей в грудь. Утыкаюсь носом в шершавую ткань сарафана. Кусаюсь. Сладковатый запах немытых подмышек. Жарко и обидно до слёз. А не хочется, чтоб отпустила.
— Двинь ей, Миха! — где-то за тридевять земель кричит Руслик.
Я пнул Любку в мягкий живот и отбежал к Руслику. Горячий солёный пот течёт. Вихры дыбом. Мутно всё. Очки остались лежать в траве. На ногах водянистые волдыри. Но я доволен.
— Любка ду-у-ра! — издевательски кричу ей вслед.
Мягкое у ней под сарафаном.
Я и говорю:
— У ней там такие дойки жирные.
Руслику было немного завидно, что это меня Любка отстегала крапивой, и он крикнул:
— А у Любки дойки отросли! Дойная коро-о-ова, коро-о-ова!
Любка степенно удалялась, лишая нас удовольствия отравлять ей жизнь.
Она ушла, и стало скучно. Я подобрал очки, и мы пошли дальше играть в Чапаева.
— Вон, мамка твоя в хлебный пошла, — сказал Руслик.
Я узнал маму. Её платье в горошек. Спина удалялась.
— Бегом, прячемся! — говорю.
Мы прижимаемся к дому, и он скрывает нас своей тенью.
— Меня могут загнать, — говорю я Русле.
— А-а-а… — Он понимающе кивает.
Мама ушла.
А Руслик нашёл пустую бутылку.
Давай, — говорит, — балдеть.
— Балдеть — это плохое слово. Мама говорит: только коровы балдеют, когда им быка приводят.
— Зачем?
— Не знаю зачем… — Я пожал плечами.
— Не-е-е… — Руслик махнул рукой. — Балдеть — эт-то не то.
— А что?
Руслик поднял с земли растоптанный окурок и сделал вид, что затягивается. Сам глаза прижмурил. Лицо светится счастливой улыбкой. Он раздумчиво вздохнул. Помолчал. Да и пропел:
— Давай закурим, товарищ фронтовой, давай закурим, товарищ мой.
Он сделал вид, что отхлебнул из горлышка. Крякнул и протянул мне бутылку.
— На, много не пей, а то будешь рыгать.
— Чего-о-о?
— Рыгать, говорю, будешь.
— Стошнит, что ли?
— Но.
Не люблю, когда тошнит. Коленки тогда слабые. Меня тошнит в автобусе, когда пахнет бензином. А ещё говорят: рвёт.
— У нас в деревне есть Колька-дурачок, — говорит Руслик, — он сено ест.
— И чё?
— Ну, нажрётся сена и рыгает.
— А-а-а.
— Ты пей-пей. Если немного, то можно прибалдеть.
Я осторожно ощупываю губами горлышко бутылки. Противный вкус. Не то бензин, не то резина.
А Руслик меня обнял и уткнулся носом в плечо. Слюни потекли по подбородку. Неожиданно он отскочил и пошёл вприсядку, потом вытянулся на цыпочки и козлячьим голоском запел:
Захожу я в ресторан,
Там сидит мадам,
Поднимает юбочку,
Что я вижу там?
Посредине дырочка,
По краям пушок —
Это называется
женский петушок!
Я лопнул от смеха, упал на землю и покатился. А Руслик смешной. Он повалился на бок и громко захрапел.
— Русля…
Он лягнул меня ногой.
— Не мешай спать, а-а-ау, завтра ещё беляков громить. Спи лучше, Петька.
А я упал рядом с ним на землю и тоже захрапел. На земле сыро, а у Русли позвоночник твёрдый. Поспали. Потом Чапаев встал, и Петька тоже, и они пошли в парк. Парк за домом. Мама говорит, чтоб мы не ходили, но мы всё равно ходим. Там есть берёза, у которой на стволе вздулся огромный чёрный шар. Это болезнь. А бабы говорят, что ночью в парке между берёзок ходят покойники. Я не знаю, кто такие покойники, но их надо бояться. Может, это преступники.
— Хэндэ хох! — крикнули сзади и воткнули в спину дуло автомата. И я повернулся. Это был мальчик. Он целился в нас с Руслей. А Русля бы ему двинул, потому что он сильный, но почему-то не стал. А я не умею драться. Зато я умный и хитрый. А хитрый всегда в драке сильного победит. Мальчик был черномазый. Я подумал, что он цыган. Глаза, как косточки от слив, большие выпуклые, а зрачки черные с синим. У него в носу, в углублении, уютно свернулась зелёная козявка, похожая на жирную гусеницу. Продолжая держать нас на мушке, он засунул в нос грязный палец с чёрным обломанным ногтем, вытащил козявку и съел. По телевизору показывали, как туземцы едят гусениц. Я тоже иногда ем сопли, но когда никто не видит. На вкус они солёные. А гусеницу я бы не смог съесть. Хотя на спор за сто миллионов рублей, может, и съел бы.
— Шнеля, шнеля! — покрикивал цыган, подталкивая нас с Руслей дулом автомата. Мне стало страшно. Цыгане детей воруют. Почему Русля ему не двинет?
А Русля сказал:
— Миха, нас взяли в плен. Притворяйся, что мы с ними заодно.
А я сказал:
— Хорошо. — И подумал: — За какое одно?
Цыган привёл нас вглубь парка, где у костра на корточках сидело ещё несколько таких же черномазых. От костра вверх тянулась липкая чёрная струйка дыма. Воняло палёной резиной. Один мальчик держал над огнём палку, обмотанную целлофаном, с которой вниз срывались капли шипящего пламени.
— Чувачки, вы чьих будете? — нас спросили.
— Мы оттуда… — Русля неопределённо махнул рукой в сторону нашего дома.
— Как зовут?
— Я Русля.
— Я Миха.
— У нас здесь банда, — ответили нам. — Здесь наш штаб, — пояснили нам далее. — Если кому-нибудь расскажете, мы вас убьём.
— Бухенвальдские, они в прошлом году одного пацана повесили, — шепчет мне Русля. Бухенвальд — это общежитие. Там живут стройбаты и цыгане.
Мама! Надо бежать, но у меня подкашиваются ноги. И я тогда шёпотом спросил у Русли:
— Василь Иваныч, когда тикать будем?
— Подожди, рано ещё.
А у нас в доме живёт мальчик, который вместо «тикать» говорит: «ласты клеить». Смешно!
— Надо ещё картошки напиздить, — сурово говорит один мальчик и метко сплёвывает мне на ботинок. Плюёт он совершенно особенным образом. Накопив много слюны и как следует взболтав её щеками, он складывает губы трубочкой, и стремительная белая змейка с шипеньем вылетает между передних щербатых зубов. Я сделал вид, что не заметил, будто он на меня плюнул.
— Гончий, загадай чувакам загадку, — говорят мальчику, который плавит целлофан. Он оживился, ощерил жёлтые зубы (в одном — дупло) и спел:
Отгадай загадку, ответь на вопрос:
Сколько у цыганки на пизде волос?
Я представил себе огромную чёрную крикливую цыганку с золотыми зубами, золотыми кольцами в ушах и в расшитом цветном платке. А что это за слово на букву «П» — не знал. Наверное, матерное. Я растерянно поглядел на Руслю. А бандиты захохотали.
Сколько в море капелек, сколько в небе звёзд,
Столько у цыганки на пизде волос! — довольно закончил Гончий.
А тут они захохотали ещё громче, и мы с Руслей тоже робко засмеялись. Громче всех гоготал Гончий. Он широко открыл рот, вывалив красный язык, упал на землю и завертелся волчком: и-и-ихи-хи-хи-хи-ха-уха-ах-ха-ха.
Потом нам сказали, что если мы хотим быть в банде, то надо пройти испытание. А Руслик сказал:
— Да запростяк!
Руслика тут же окружили. Схватили его руку и растянули в стороны большой и указательный пальцы так, что между ними натянулась розовая перепонка. А лица Руслика я не видел. Его распяленная, стиснутая грязными пальцами рука дрожала. Черномазый порылся в карманах и выудил чуть отсыревший коробок спичек. А «спички — детям не игрушка!» — так написано в садике. Он потряс его возле уха. А потом достал спичку. Серная головка с сухим шуршанием прошлась вдоль коробка и вспыхнула. Цыган быстро подошёл к Русле и потушил спичку о нежную розовую перепонку между пальцами. Измученная рука судорожно вздрогнула. С-с-с-с-с. Они разошлись, и я увидел бледное, светившееся довольством Руслино лицо.
— Зырь… — Он показал мне вспухший красный ожог величиной с булавочную головку. Он гордился.
И они сказали:
— Теперь ты.
А я не хотел. Мне было страшно. Тогда они сказали:
— Ссыкун. Катись отсюда.
А я стоял. Тогда один из них разбежался и пнул меня под зад. Больно. А ещё говорят: сало бьют. И я заревел. А он сбил мои очки на траву. Всё расплылось. Размазалось небо, и деревья в парке, и мальчики. А иногда я видел чётко сквозь слезу, как сквозь кристалл. За что? Он толкнул меня. Я шагнул назад, но там уже стоял на четвереньках другой бандит. Я перекувыркнулся через него и упал на землю.
— Катись, баба. Ты не настоящий чувак. Ты ссыкун.
— Катись, очконавт!
— Очкодром!
— У кого четыре глаза, тот похож на водолаза!
Черномазый хотел пнуть меня ещё раз, но я поднял очки, повернулся и побежал. Бежать было тяжело, и в боку кололо. А Руслик вместе с ними кричал мне вслед, что я баба. Предатель. Я прибежал к дому, сел возле стенки и стал смотреть на небо. По небу летело несколько птиц, наверное, стрижей, и я стал повторять про себя:
Гори, гори ясно, чтобы не погасло,
Глянь на небо — птички летят,
Колокольчики звенят.
И снова:
Гори, гори ясно…
Какой же я горемыка. Смешное слово, но так говорят. Горемыка. Ну ничего, я ещё наколдую так, что они все пожалеют и в первую очередь Руслик. Проклятый предатель. По небушку красным колёсиком катилось солнце, преследуя стайку птиц, а он, — Тот, Кто Смотрит, — видел меня и знал, как мне было плохо. И тогда я шёпотом пожелал, чтобы Черномазый умер! А Русля пусть живёт, только чтобы его никогда не взяли в армию! Так он и не будет десантником! А меня чтобы взяли:
Хочется мальчишкам в армии служить,
Хочется мальчишкам подвиг совершить…
И когда я приду из армии с орденами, Руслик будет сидеть на скамеечке вместе с бабами и лузгать семечки. Стыдно даже будет со мной поздороваться! Я тогда женюсь на евоной Кате с третьего этажа! Ха! Вот так-то Руслечный!
* * *
Время проходит сквозь нас, как сквозь сито, оставляя на нём кристаллические отложения. Я направил душ себе в лицо и смотрю, как жалящие горячие струйки бьют из множества дырочек. Медленно прихожу в себя. Опять сделалось холодно. Рука вытягивается и слепо шарит в пустоте. Крутит кран. Горячее. М-м-м. Не забыть ещё раз просмотреть еженедельник «Бизнес. Работа. Досуг». ДИСТРИБЬЮТОРЫ! Для вас школы по новым уникальным биологическим добавкам в фитомикросферах. Женщина молодая ищет работу. Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую… Да, вот сюда. Ай! Горячо! Теплее. Млею. Поливаю спину. Шею. Да, на острый выступающий позвонок. Хорошо. Сладкие мурашки расползаются по телу. Сверкающие кольца удовольствия бегут по загривку. Ну что, мой друг, — нужно и тебя помыть. Висит поникший белый червь, оплетённый чёрным кустом шевелящихся водорослей. На работе недоделанные договоры. Надо что-то менять. Встряхнуться. От прикосновения мыльных ладоней он шевельнулся и стал набухать кровью. Одной рукой держу душ над головой. Горячий поток — прямо в темечко.
Может так: офисная дива Инна Казанова стоит, нагнувшись вперёд и положив локти на стол, а я трахаю её сзади прямо в офисе. Нет. Лучше с утра не мас-тур-би-ро-вать. Чувствовать себя разбитым. Да и времени. К девяти на работу. Ну, в последний раз. Обливаюсь. А то опоздаю. Всё-всё, уже иду. Вечером с Ильёй. Пропустить по пивку. Купить пельменей. Точка. Выключаю душ. Вылезаю из ванны. Холодно. Волоски встают дыбом. Ощетиниваюсь, как кактус.
Вытираю махровым полотенцем себя и его. Не нахожу своё тело прекрасным. Худое, синеватое на рёбрах, фиолетовое подмышками и жёлтое на брюхе. Отовсюду выпирают кости. Бугристые колени. Я набираю полную грудь воздуха — будто жаберные щели проступают, рёбра чуть не рвут тонкую кожу.
* * *
Я встал и пошёл вдоль стены. Огибая угол дома, увидел несколько девок, сбившихся в кучку. С ними стояла огромная Любка, вяло отвесив нижнюю губу и густо пустив слюни по подбородку. В её тупых сонных глазах плавал мутный страх, и она, как всегда, тихонечко подвывала. Бабы опять кого-то хоронили. Когда человек умирает, его тоже хоронят. Бывает, что уснёт, а все подумают: умер — и хоронят. Бывает и так. Но я не умру, потому что изобрету лекарство от смерти. Мама тоже не умрёт. А ещё надо оживить Ленина, чтобы всё было хорошо, как при нём. За это звезду дадут, а может, и две! Я робко приблизился. Хоронили птицу. Маленький растерзанный труп, казавшийся каким-то сплющенным, лежал на траве; из-под выломанного крыла торчал белый пух, колеблемый ветром. Сладковатый запах протухшей рыбы щекотал ноздри. Я потянул воздух. Противно и одновременно хочется нюхать. Они рыли могилку совками. Больше всех старалась дородная Любка. Заправляла у них Страшная Девочка со второго этажа из седьмой квартиры. У неё хмурое и грязное лицо. А вокруг носа засохшей корочкой блестят сопли. Она всё время что-то варит из кореньев и цветов «куриной слепоты» и бормочет. Наверное, хочет отравить кого-то. А ещё может навести порчу или натравить покойников. Её все боятся и делают, как она скажет. А от «куриной слепоты» можно и ослепнуть, если попадёт в глаза. Это Страшная Девочка так сказала. У неё в деревне есть бабка, колдунья. Давно надо было бабку-то расстрелять! При советской власти не нужны колдуны!
Однажды — давным-давно это было — Страшная Девочка схватила меня за руку и повлекла за собой. А я испугался, но всё равно пошёл. Лучше её слушаться, а то проклянёт! Проклятого уже никто не спасёт, даже Ленин! Она тянула меня, больно впиваясь грязными ногтями в запястье. Мы спрятались в углу между открытой дверью дома и стеной. Она мрачно смотрела на меня исподлобья. Я хотел убежать, но ноги стали ватные. Казалось, сейчас она что-нибудь сделает со мной, одновременно стыдное и сладкое. Тут раздался топот, и красномордый дядька, закатив белки глаз, выбежал на прямых негнущихся ногах. «Ах ты, УР-Р-РЮК!» — прохрипел он другому дядьке, и его кулак с сочным хрустом вдвинулся тому в морду. Звук был такой, будто лопнула стеклянная банка. И они стали драться, неуклюже раскидывая руки, как деревянные куклы. Поднялась суматоха. Женщины враз заголосили и побежали во двор, опрокидывая тазы с бельём. Густая белая пена разлилась на гнилых ступеньках крыльца. Воспользовавшись моментом, я улизнул…
Страшная Девочка сказала: «Несите травы и цветов, чтобы ей было мягко». Мы принесли и аккуратно выложили дно могилки травой, а сверху украсили поникшими розоватыми венчиками клевера и белыми головками кашки. А клевер можно есть. Если долго его сосать, то на вкус он немного сладкий. Его больше всего любят коровы. Когда корова ест клевер, молоко сладкое. Потом мы взяли птицу совками и опустили на дно могилки. Так ей будет хорошо. Страшная Девочка сказала, что надо ещё принести печенья или семечек и положить с птицей, чтобы ей было, что кушать. А я спросил:
— Зачем?
А Девочка сказала:
— Если нет, то птица захочет есть, придёт к тебе домой и тебя сожрёт!
Я содрогнулся. Принесли печенья и покрошили в могилу. Я порылся в карманах и вытащил растаявшую от влаги и жары сосательную конфету «Дюшес». Подумав, отдал её птице. Потом стали закапывать. Первый комочек сухой земли бросила Страшная Девочка. Он упал птице на растерзанную грудь, и она вздрогнула.
— Мама!
Все разбежались от могилы, а некоторые, самые трусливые, спрятались за дом. Затем вернулись и продолжали закапывать. Птица, пожалуйста, не приходи ко мне. Я же тебе конфету дал. Когда над могилкой вырос холмик земли, Страшная Девочка воткнула в него палочку. Она обвела нас тяжёлым взглядом и еле слышно прошептала:
— Кто про эту птицу кому-нибудь расскажет, тот умрёт! Клянитесь, что не расскажете!
— Клянусь!
— Клянусь!
И страшная тайна расплавленным сургучом слепила нам губы. Мне очень тяжело и страшно. Зачем я хоронил с ними? А вдруг я как-нибудь забуду и случайно расскажу маме? Она так и не поймёт, с чего я помер-то. Я чуть не заплакал с горя. А Страшная Девочка сказала, что птица уже в Загробном Мире. Этот мир где-то далеко под землёй. Я представил себе плоскую серую равнину и пасмурное небо. По равнине бредут скучающие покойники в цепях, а над ними летит птица. Всё там не так, потому что у них нет глаз. В Загробном Мире ни у кого нет глаз. Я тоже туда попаду, если умру, но я никогда-никогда не умру! Я поглядел вокруг на траву и деревья. Всё было разноцветное и пахло чудесно, а я ещё раз подумал, что не хочу в Загробный Мир. Потом девки все куда-то пошли. А я хотел с ними, но меня не взяли. Сказали:
— Тебе нельзя, ты ещё маленький.
А ещё сказали:
— Ты ещё мальчик.
И засмеялись, будто знали что-то такое, чего не знал я. И я подумал: может, я когда-нибудь стану девочкой? Может, мальчики растут и вырастают в девочек, а девочки, наоборот, в мальчиков?
— Не ходи за нами, а то будешь проклят, — пригрозила Страшная Девочка и добавила: — Навеки.
И я остался. Каждый день девки зачем-то вместе ходят в парк. Страшная Девочка собирает их и ведёт туда. Она тоже, как и Любка, как и все вообще бабы, в Бога верит. Может, он и взаправду есть. Страшная Девочка говорила, что однажды у них в деревне была ужасная гроза, а её бабка пошла в старую церковь, помолилась, и гроза перестала. Вот так. Если Бог есть, то его надо бояться. Ему ничего не стоит тебя убить молнией! Поэтому лучше всё делать так, как он велит. Ленин добрее Бога, он детей любил и играл с ними во всякие игры. Ленин бы молнией убивать не стал. «Лучше я буду верить в Ленина», — подумал я и успокоился. А потом решил: если Бога нет, то никто меня и не проклянёт, если я пойду следить за бабами!
Я осторожно двинулся в парк, зная только направление, в котором ходят бабы. Земля на тропинке была сухая, и на ней не оставалось следов. Вокруг колыхалась зелень и пятна солнечного света. Найти баб здесь было практически невозможно. И я стал играть в разведчика. Пригнувшись, короткими перебежками побежал от ствола к стволу, упал на живот, перевернулся через себя несколько раз, пополз, обдирая локти и коленки, скатился в овражек и отдышался. Вспотел. В меня стреляли. Где-то в лесу сидел немецкий снайпер. Но я был горд собой, я всё сделал по правилам, и в меня не попали. Сейчас надо разведать, где их штаб, а потом донести. Скажут: «Молодец, рядовой Замшин! Вот Вам орден!» А я скажу: «Служу Советскому Союзу!» Тут справа закачались кусты, и я затаил дыхание. Мимо крался Цыган в пилотке и с автоматом Калашникова. Повернув голову, он потянул ноздрями воздух и неожиданно наткнулся взглядом на меня.
— Катись отсюда, ссыкун, — зашипел он и замахнулся автоматом. Я вскочил на ноги и побежал.
— Тра-та-та-та, — строчил вслед автомат.
— Чуваки, вот он! Чуваки, сюда, я фрица нашёл! — орал Цыган.
У меня за спиной шелестели листья, и тяжело топали ноги преследователей. Снизу от самой земли в содрогнувшийся воздух поднималось вначале низкое, гудящее, а затем высокое, звонкое и певучее «Ур-р-ра-а-а-а-а». «Ур-р-а-а-а», — кто-то растягивал звуки. Под ноги попадались гнилые сучья. Я падал, летел кувырком, резиновым мячом отскакивал от земли и мчался дальше, как перепуганный заяц. Прижимая руки к груди, сведёнными рыданием губами укоризненно шептал:
— Ну что же вы делаете, братцы, я же свой. Я свой. Я пленного немца раздел. Я разведчик. А вот у меня звезда советская. Я «Интернационал» знаю…
Бежал долго, петляя и путая следы, потом тяжело свалился в яму. Рёбра хрустнули. Каменный корень врезался в бок. Бо-о-ольно. Уши горели. В тишине шуршали кроны тополей. Никто за мной больше не гнался. Я лежал на сырой земле и плакал. Потом встал и побрёл к дому, размазывая землю и слёзы по щекам.
— Отойдите все, — сказал голос Страшной Девочки.
Я замер, прислушиваясь. Неясно было, с какой стороны ветер доносил звуки. Всё качалось и двигалось вокруг, будто я стоял внутри катившегося куда-то огромного зелёного шара, пронизанного солнцем. Затем тихий звук пришёл сбоку, и я крадучись двинулся туда. Густые кусты сирени, а за ними никого. Я вернулся на прежнее место. Опять еле слышное бормотанье. Внезапно чей-то возглас прозвучал совершенно отчётливо из зарослей акации, увешанной стручками. Из них можно делать свистульки. Я лёг на землю и пополз, стараясь не шуметь. За кустами была поляна. На ней полукругом стояли девки. Страшная Девочка присела на корточки в середине. Перед ней на траве лежала Любка. Мне было плохо видно, на что они все смотрят, поэтому я вылез из кустов и заполз немного с другой стороны. Колышимые ветерком листочки акации дробили картинку и мешали толком рассмотреть происходящее. Я осторожно раздвинул ветки пошире. Огромное белое Любкино тело, как квашня, растеклось в траве. Голая! Она лежала, запрокинув голову назад, закатив мутные глаза, и будто тихонечко хныкала. На подрагивавшей студенистой груди виднелся коричневый сморщенный глазок. Толстые Любкины ляжки были широко раскинуты, и между ними сидела Страшная Девочка. Она украшала Любкин живот и пухлый холмик под ним розовым клевером. Вокруг Любки ковром лежали цветы, а на её волосах покоился целый венок из травы, «куриной слепоты», чистотела, клевера и кашки. Остальные девки робко сбились в кучку и молчали. Мне вдруг сделалось жарко. Кровь прилила к лицу от стыда, и одежда нестерпимо заколола тело. Я шевельнулся. Страшная Девочка подняла глаза, увидела меня и страшно зашипела. Ма-а-ама! Я вынырнул из кустов акации и понёсся домой, гигантскими прыжками перемахивая через заросли репья и крапивы. В виске стучала жилка. Я теперь проклят. «Навеки», — с ужасом подумал я и, размахивая руками, хватающими пустоту, с разбегу упал в подол маминого платья, уткнувшись лицом ей в колени.
* * *
Взгляд падает в зеркало. Сегодня продолжает медленно перетекать в меня, как ртутная капля. Изучаю себя: на голове полотенце, из-под которого торчит ёршик волос. Капли воды сползают меж редких, будто выщипанных, бровей. Мой взгляд возвращает мне настороженный и угрюмый парень. Ему 24 года. Это я? Мелкие черты лица, нервные усики. Он — это я? Лучший способ выйти из себя — посмотреть в зеркало. Он — это я. Я — это он. Истина, как мячик, отскакивает от стенки к стенке. Вот сейчас я думаю и не вижу отблеска своей мысли в его напряжённых сосредоточенных глазах. Мы, Он и Я, аксолотли Хулио Кортасара. Вам никогда не казалась дикой мысль, что человек, который смотрит на Вас из зеркала, — это вы и есть? Глеб. Г-Л-Е-Б. Повторяю своё имя несколько раз. Своё имя? У меня нет имени. Я — это просто Я. Чем чаще я скороговоркой произношу слово Глеб, тем больше из него вылущивается всякий смысл, и оно становится пустой скорлупкой, не имеющей ко мне никакого отношения. А что же Я? Едва успев подумать Я, я упускаю это Я в прошлое. Оно утекает прочь. Оно отслаивается, как луковая шелуха, и я могу смотреть на него как бы со стороны. Но Я смотрю на своё прошлое Я со стороны, а потом через мгновение уже смотрю глазами нового Я на Я, смотрящее на своё прошлое Я со стороны. Таким образом, моё Я непрерывно расслаивается и отчуждает само себя. Не-пре-рыв-ность! Вот нужное слово! Непрерывный процесс расслоения: старые оболочки, мертвея, отпадают, рождается новое Я, но мгновенно происходит реакция, и омертвевшее Я отваливается вслед за старым. Ну что же — ничего новенького: Мартин Хайдеггер, помноженный на Жана Поля Сартра. И охота с утра забивать себе башку такой дребеденью.
* * *
— У, какой грязнущий, — спустился сверху гулкий мамин голос. — Ты посмотри на себя.
Она достала носовой платок и, поплевав на него, принялась утирать меня. Резко запахло слюной и помадой. Я уворачивался с упрямой настойчивостью и прятал лицо, перепачканное землёй и сажей. Мне было стыдно, и казалось, что она сейчас узнает о том, что я видел в парке.
— Ну, на кого же ты похож!.. — Мама одергивала на мне рубаху и подтягивала штаны.
— На кого?
— На беспризорника.
Беспризорников показывали в кино. Их было много после войны.
— Опять костры жгли?.. — Мама подозрительно принюхалась.
— Не-е, это дворники на помойке жгли мусор, а мы с Русланом шли мимо…
— Ну-ка смотри мне в глаза.
Я посмотрел, и глаза у меня были честные. Лишь бы не узнала про то, что я видел голую Любку. А мамино лицо сделалось подозрительным.
— А почему у тебя в глазах огромный костёр?
Я вздохнул с облегчением и раскрыл глаза пошире, сделав их ещё немного честнее. Интересно, она, правда, видит костёр или притворяется? Наверное, притворяется. Потому что, если бы она видела костёр, то она бы знала и про Любку.
— Пошли быстро мыться. — Мамина ладонь поймала мою ускользающую руку, и мы пошли в дом. Взяли полотенца, мыло, шампунь и мочалку, а потом направились в ванную. А ванная у нас общая, одна на всех жильцов, и там, как всегда, было занято. Мы встали в полутёмном коридоре напротив двери, закрытой на шпингалет. Мама молчала. Из ванной раздавался плеск воды, звуки энергичного растирания и глубокий женский голос, который пел:
— Орлёнок, Орлёнок
Лети выше солнца…
Мама вздохнула и сказала что-то про то, что мыться надо всем, а песни распевать можно и дома. А я тоже люблю петь в ванной, в основном, что-нибудь про Родину. Я ещё гимн знаю: Союз нерушимый… Когда его поют, надо вставать. А мужчины должны снимать шляпы. Обычно его поют рано утром по радио, когда все ещё спят. Но я не сплю. Я тихонько встаю с кровати, чтобы не разбудить маму, и слушаю стоя. Один только я стою во всём доме. Когда-нибудь узнают, что только я вставал, когда играли гимн, и дадут мне медаль, а может, и орден. Лучше орден.
— Ма, а за что звезду дают?
— За подвиг.
— А я бабушку через дорогу переведу — это подвиг?
Она тихо смеётся в темноте.
— Нет.
Ну конечно, нет. Тогда бы всем надо было ставить памятники по грудь. А если я изобрету лекарство от смерти и оживлю Ленина — это подвиг?
— Подвиг совершил Александр Матросов.
— И что он сделал?
— Упал грудью на амбразуру.
Я вдруг ясно увидел страшную колючую Амбразуру, имевшую отдалённое сходство с Дикобразом, на которую голой грудью упал человек в разорванной тельняшке и бескозырке с надписью «Черноморец».
— Амбразура — это окошко, из которого торчит пулемёт. Вот Матросов и упал на этот пулемёт, чтобы наши солдаты смогли пройти.
— Он же умер.
— Конечно.
— Значит, сразу после подвига умирают.
— Необязательно, но в большинстве случаев — да.
Если и не умирают, то получают тяжёлое ранение. Я, когда совершу подвиг, то не умру. Меня просто тяжело ранят в голову. А в госпитале. Больница для солдат называется госпиталь. Там меня выходит красивая девушка с красным крестом на рукаве. Я выпишусь и женюсь на ней. Как раз к этому времени мне поставят памятник. Внезапно я вспомнил, что проклят, и зябко поёжился.
— Ма, а Бог есть?
Она задумалась.
— Нет. Ну, то есть он есть для бабушек, которые в деревнях. А так — нет. Нету Бога.
А я обрадовался. Значит, меня никто не покарает. Любка — дура. И Страшная Девочка — дура.
— Бога нет, а есть природа, — сказал из темноты и откуда-то сверху мамин голос. Я её почти не видел, только ощущал тёплое присутствие. Вначале жила-была маленькая-маленькая клеточка. Она жила в мировом океане, который покрывал всю землю. Клеточка росла-росла и постепенно превратилась в рыбу.
— Как в сказке.
— Ну не в один день, а за много миллионов лет. Потом появилась суша. У рыбы отросли лапы…
— Ого!
— И она вышла на сушу, покрылась шерстью и залезла на дерево. Так появилась обезьяна.
— Из рыбы?
— Почти. Обезьяна вначале лазила по деревьям, а потом через много миллионов лет слезла на землю. У неё отпал хвост, и она стала ходить на двух ногах. Так произошёл человек.
— Как?
— Из обезьяны.
Ну, врёт. Уж больно как в сказке. Наверное, я ещё маленький, и мне нельзя знать, как появился человек, поэтому мама всё придумывает. А потом, когда вырасту, расскажет, как было на самом деле. Я-то знаю, как я появился: вылез у мамы из живота. Но про это тоже детям знать нельзя. А я случайно узнал.
Шум воды стих. Через несколько секунд дверь ванной распахнулась, и оттуда выкатились клубы душистого пара. На пороге возникла толстая тётка. На голове у неё была наверчена высокая башня из махрового полотенца. Красная распаренная голова, похожая на разваренную свёклу, треснула сочной румяногубой улыбкой.
— С лёгким паром, — с едва скрываемым раздражением сказала мамина голова наверху.
— Спасибо, — прогудела свекольная голова и спустилась пониже. Багровая ручища дотянулась до моей нежной щеки и ухватила её двумя толстыми пальцами.
— У-ти, какой мальчишечка.
Щека болела. Надо было укусить тётку за палец. Свекольная голова поднялась наверх и поплыла прочь. Под ней колыхалось огромное тело. По коридорам коммуналки гулко раскатилось:
Там вдали за рекой зажигались огни,
В небе ярко заря догорала.
Сотня юных бойцов из будёновских войск
На разведку в поля поскакала.
А мы зашли в ванную и закрылись на шпингалет. Там всё ещё пахло тёткиным мылом и шампунем. Мама ошпарила ванну кипятком. Я проворно разделся и залез внутрь.
— Ма, я сам мыться буду.
— Хорошо. Я только спину тебе потру.
Через несколько минут я стоял, опустив голову на грудь, и пускал длинные нити слюней на живот. Они дотекали до пупа и смешивались с мылом. Мама энергично шоркала мне спину. А ладошки у неё сухие и жёсткие.
— Ма, ну сильно трёшь.
— Ничего, ты же настоящий мужчина, вон сколько на тебе грязи.
Мама строгая. Она всегда повторяет, что я должен быть мужчиной. Таким, как Мересьев. Храбрым, сильным и выносливым. И должен уважать женщину. Это она так часто говорит. Главное, чтобы мужчина уважал женщину. Спина уже покраснела.
— Ма, ну хватит.
— Не хнычь.
Я кругом виноват перед ней. У меня столько грехов. Горячей волной накатило раскаяние, смешанное с жалостью к самому себе, и к слюням примешались солоноватые слёзы. Нюни. Опять нюни распустил. Это она так говорит. Я врал ей. Меня, как того дядьку из книги про греков, должны подвесить на том свете за язык. Интересно, где тот свет? Не врать я не мог. Что будет, если она узнает, какую порочную жизнь ведём мы с Русликом. Я подглядывал за девочками, матерился, взрывал гильзы с порохом, поджигал пух в парке, лазил по гаражам и курил понарошку. Список грехов был бесконечным.
— Ма, давай я сегодня мусор вынесу.
— С чего вдруг такое желание?
— Просто.
— Натворил чего?
— Не-е-ет.
— А что вы с девочками сегодня во дворе делали?
— Когда?
— Когда я из хлебного шла.
— Мы птицу…
Страх заморозил спину. Я больно прикусил язык.
— В считалки играли.
— В какие?
— Вышел немец из тумана
Вынул ножик из кармана…
Она повернула меня к себе лицом и внимательно посмотрела мне в глаза.
— Ты что-то от меня скрываешь.
Лицо у неё серьёзное. У меня не такая красивая мама, как у Руслика. На Русликовой маме я бы женился. У моей мамы лицо сухое и коричневое от загара, а у корней волос — белое. Волосы аккуратно зачёсаны назад, прядка к прядке, как тоненькие чёрные проволочки, и собраны в пучок. На лбу морщинки, и кожа лоснисто блестит. Нос тонкий медный с маленькой горбинкой, как у индейца. Бесцветные губы поджаты.
— Ничего не скрываешь от меня? — спросил индеец Виннету, очень похожий на мою маму.
— Нет, — я стал горячо оправдываться.
— Ну хорошо, давай вытираться.
Она вытерла меня насухо махровым полотенцем и аккуратно расчесала мои волосы на ровный белый пробор. Я погляделся в запотевший осколок позеленевшего по краям зеркала. Чистенький, умытый мальчик. Это был не Миха.
— Глеб, пойдём на кухню, — сказала мама, стоя в дверях.
Клянусь, что всегда буду хорошим примерным мальчиком. Хочу, чтобы меня приняли в пионеры, а потом в коммунисты. А в коммунисты берут только самых лучших, тех, кто не матерится и не подглядывает за девочками. Так я поклялся, торжественно глядя в зеркало на умытого мальчика.
На кухне, как всегда, пахло пригорелым молоком и дихлофосом. У плинтусов золотистой подсолнечной шелухой лежали трупики тараканов. В углу на полу стояла маленькая электроплитка, заляпанная липкими коричневыми пятнами. На ней мама варила сладкую рисовую кашу на ужин. А я люблю рисовую кашу. А ещё я люблю макароны, а мясо не люблю. Но мама говорит, что надо его есть, потому что от него растут мускулы, а от макарон растут только живот и уши. Прикрученное под потолком радио хрипело: «Сегодня товарищ Черненко…» Внезапно диктора прерывал бравурный военный марш. На кухню, шаркая тапками, приковыляла женщина со страдальческим лицом, открыла кран и стала жадно пить воду. Скоро пришла Русликова мама и привела Руслика. Он тоже был вымытый, и волосы у него, как и у меня, были расчёсаны на ровный пробор. У Русликовой мамы полное красивое лицо, как у Василисы Прекрасной. Она ласково посмотрела на меня, а я ей улыбнулся и поздоровался. Хотелось, чтобы она меня обняла и прижала к своей пышной груди. А с Русликом, подлым предателем, я здороваться не стал. Он вскарабкался на табуретку рядом со мной и пихнул меня в бок. А я сказал:
— Предатель.
Он хихикнул:
— Ты чё, поверил? Я же притворялся. Я же тебе сказал: Миха, притворяйся, что мы с ними заодно. Здравствуйте, Елена Андреевна. — Руслик с фальшивой вежливостью поздоровался с моей мамой.
— Здравствуй, Руслан. Чего-то тебя сегодня с Глебом было не видно.
— А он не захотел с нами играть. Миха, — зашипел он мне на ухо, — я же тебя никогда не предам. Мы ведь закадычные друзья. Точно?
— Точно.
— Они тоже поверили, что я с ними. Если б я не притворился, мы бы провалили задание. А так я у них карту спиздил. Вот.
Он развернул.
— Не матерись, мама услышит.
— Мы теперь герои. Чапаеву дали орден, а Петьке — медаль.
— А какой?
— Орден славы и медаль за отвагу. Завтра последний бой с беляками. Будешь драться?
— Буду, конечно. Мне недавно новый пистик купили.
— Баско. Вытаскивай завтра на улицу.
Я размешивал кашу ложкой. Наши мамы разговаривали в углу кухни. А баско Руслик притворился, что он за них. Даже я поверил. Думал, всё уж — предал он меня, а оказывается, нет.
Сегодня нам разрешили спать на улице. Мы с Русликом вытащили старые скрипучие раскладушки и поставили рядом под нашими окнами. У Руслика одеяло оранжевое в клетку, а у меня синее в ромбик.
— Спокойной ночи, — сказала мама.
— Спокойной ночи.
Она ушла. Скрипнула дверь. А я залез под тёплое одеяло и сделал себе нору. На улице становилось свежо, а в норе было тепло и уютно. Я представил, что я хомяк. А Руслик сел на скрипнувшей раскладушке и завернулся в оранжевое одеяло, высунув нос наружу. Получился вигвам.
— Я часовым буду, — сказал.
Небо быстро наливалось синевой и спускалось вниз. Стрижи с пронзительным криком чертили круги. Я знаю — это к грозе. Деревья притихли. Я поворочался под клетчатым одеялом. Сумерки стремительно густели, и на соседней кровати виднелся только задумчивый силуэт индейской хижины.
— Я сейчас крикну: Катя, я тебя люблю, — сказал из темноты Руслин голос.
— Не надо, дурак.
— А я всё равно крикну.
— Ну и валяй.
Катины окна были над нами на втором этаже. Красивая девочка Катя Цветкова.
— Катька, я тебя люблю, — шёпотом сказал Руслик.
— Громче.
— Я тебя люблю, — вполголоса говорит он.
— Ещё громче.
Вигвам вздохнул и упал. Визгнула раскладушка. Мне вдруг захотелось пооткровенничать:
— Руслик, а ты письку видел?
— Свою, что ль?
— Свою я и сам видел. У баб.
— Да сто миллионов раз! Мамка каждый раз там Юльке кремом мажет. Я и подглядел.
— И как?
— У, — Руслик заходится от восторга, — знаешь, как там всё интересно устроено: одна пещерка, а в ней другая.
— А у парней не так интересно, — разочарованно протянул я.
— Чё это, банан какой-то, — соглашается Руслик и хихикает: — Большой Бен. Это башня есть такая в Англии.
— И имя ещё такое.
— Ты бы хотел, чтобы тебя звали Бен?
— Не-е-е-а.
— Большой Бен!
— Сам Большой Бен.
Мы придушенно хохочем, чтобы мама не услышала.
— А у Кати хотел бы письку посмотреть?
— Хотел бы.
— А я тоже видел, — говорю.
— У кого?
— У Любки.
Я рассказал Руслику. Он завистливо присвистнул. Потом мы ещё долго говорили. И Руслик сказал, что надо построить шалаш и заманить туда Катьку — как бы поиграть.
— А потом?
— А потом пускай показывает.
Когда я засыпал, было уже совсем темно. На небе высыпали звёзды. Тёмная тень скрывала их одну за другой. Это в вышине летел Волосатый и ветер шевелил все его волоски А может это была тень гигантской мёртвой птицы Я беспокойно заёрзал. Луна сверкнула на кривой сабле и мимо дома прокрался на цыпочках Абдулла в полосатом ватном халате За ним колыхала жирными складками фиолетовая цыганка Она нависла над нами с Русликом и склонила голову набок как галка А лицо у ней с мельничный жёрнов Золото мерцало и брякало в темноте В её глазах рассыпанные сияли звёзды «Цыгане детей воруют» сказал кто-то Это Страшная Девочка Был яркий солнечный день и мы стояли вокруг колодца Меня толкнули Я лечу в беззвучной бездонной пустоте хватая ртом воздух как рыба Резко дёрнула вверх привязанная к ногам верёвка и я повис раскачиваясь вниз головой Из темноты пришёл демонический хохот Маленькая злая зелёная маска. Ма-а-а… А-а-а. Вата в горле. Проснулся в холодном поту. Вокруг глубокая ночь. Прохладно. Руслик повернулся спиной и спит, задрав кверху локоть. Луна просвечивает его тонкую лягушечью руку с синими прожилками вен. Я поёрзал. Спать было страшно. Что, если я усну летаргическим сном? Подумают, что умер, и похоронят. На глаза сами собой навернулись слёзы. Я вылез из-под одеяла и на ощупь пошёл в дом. Ничего не видно, только скрипит и прогибается под ногами гнилая половица. Глаза привыкли, и я различил несколько серых дверей вдоль стен. На минуту остановился перед Руслиной дверью. Одинокий, потерянный, ловлю звуки: сонное дыхание людей в комнатах. Я, как солдат из сказки, попал в мир шелестящих хороводящих теней. Оборачиваться нельзя! По спине мучительно медленно ползёт мурашковый холод. А за дверью, перед которой я стою на часах, спит прекрасная королевна Марья Моревна, Марья-царевна. Что если зайду? Она пустит меня к себе в постель? Она, наверное, тёплая и мягкая, как тесто. Но тут я вспомнил розовое брюхо, поросшее курчавым жёстким волосом, и мозолистый жёлтый палец ноги. Раздался густой мужской храп. Нет, там стражники. И я пошёл к себе. Нерешительно попереминался с ноги на ногу на пороге, потом толкнул дверь. Изнутри дохнуло безопасностью. Быстро юркнул туда.
— Чего не спится тебе? — прошептал сердитый голос. Щёлкнул выключатель. Мама присела на кровати, щуря красноватые глаза. На щеке у неё отпечаталась багровая складка простыни.
— Ну… — Она повела руками, будто убирая паутину. — И не стыдно тебе, такой большой мальчик.
Я стоял, низко опустив голову. Она выключила свет и отвернулась к стенке. Я залез к ней под одеяло. Жарко. Пахнет детским кремом и слюнями. А спина у неё твёрдая, как каменная плита. Я заплакал от злости на себя, что я такой бояка. Бояка — дохлая собака. От злости на неё за то, что она меня не любит. Почувствовав к себе приступ острой жалости, я захотел умереть. Пусть найдёт меня мёртвым, вот тогда сама и наплачется, да поздно уж будет-то…
* * *
Глеб идёт на кухню, по пути ковыряясь в ухе. Прыгает на одной ножке, вытряхивая воду. Вода с писком выходит. Где сейчас я? Я в принципе не могу находиться где-нибудь в пространстве. Спроси самого себя, где я? Я в ванной? Я на кухне? Обыватель уверенно ответит: «Я там, где моя голова». Привязка Я к мозгу не оправдана. Мозг — лишь инструмент, а не вместилище.
Глеб любит жарить яйца. Масло неторопливо растекается по чёрному матовому дну сковородки, и вот оно уже блестит, отражая заспанное лицо, кухню, город за окном, небо и неяркое осеннее солнце. Глеб зажигает газ. Голубоватый цветок мгновенно распускается вокруг конфорки. Ленивое масло приходит в движение, возмущается, лопается маленькими пузырьками. Глеб разбивает в него два яйца. Слышится сердитое шипение. Белая масса густеет причудливой кляксой, судорожно шлёпает краями по раскалённой поверхности. Забыл поставить чайник! Не люблю, когда яичница уже готова, а чайник ещё не закипел. Люблю, когда всё одновременно. Глеб выключает газ.
Когда яичница утихла, он поддел её безвольное медузистое тело вилкой и бросил на тарелку. Чайник нежно засвистел. Глеб выключил вторую конфорку.
Густая пахучая заварка маслянистой струйкой тянется из фарфорового носика. Коричневатое нефтяное пятно растекается на дне кружки. Плеснул в него клокочущего кипятку. Кухня наполнилась терпким ароматом, щекочущим ноздри и вяжущим нёбо.
Действия, которые мы совершаем утром, просты и доведены до автоматизма многолетней привычкой. Они неизгладимыми следами въелись в память тела. Включить газ. Вскипятить чайник. Налить чай в чашку. Насыпать сахар. Налить в чашку кипяток. Я при этом свободно и может вообразить себя где угодно. Значит, оно висит где-то вне мира, в некой трансцендентной точке, откуда принципиально доступны все точки пространства. Хотя, почему Я — это точка? Может, прямая или окружность?
Глеб наливает молоко в чашку. Молоко белой струйкой вливается в чай. Вначале образуются кремовые завитки, а затем вся жидкость приобретает ровный кремовый цвет. Глеб убирает молоко в холодильник. Глеб достаёт хлеб из хлебницы. Хлеб ложится на разделочную доску. Глеб не глядя вытаскивает нож из сверкающей кучи столовых приборов. Нож легко разрезает ноздреватую мякоть. Ай! Из маленького пореза на пальце засочилась алая горячая кровь. Облизать ранку. Огромный ленивый шершавый язык слюною слепил разрезанные края. Пальчик бо-бо. Подуть скорее. Почему. У крови. Привкус. Железа? Йод, должно быть, легко найти. Вот он, маленький пузырёк. Как у Алисы в стране чудес! Ногтем подцепить крышку. Оп-па! Облил обе руки. Вот те раз. Под кран. Одежду не закапал?
А. Это. Что? У дверей холодильника растеклось иррациональное белое пятно. Секунду назад не было. Белое бросается в глаза. Иррациональное оскорбляет разум. Это сон или на самом деле? Пятно вытягивает щупальца. Клубок сцепившихся чудовищ, из которого выползают один за другим бледные водянистые медузы и осьминоги. Комок ложноножек шевелится… Молоко! Это молоко. Поставил пакет в холодильник. Пакет наклонился. Молоко вылилось. Фу, чёрт.
Лужу затёр, сижу, пью чай с бутербродами. Пробегаю объявления. «Бизнес. Работа. Досуг». Сегодня поговорить с шефом об увеличении оклада. В целом, судя по объявлениям, грошовые зарплаты юристов растут.
Работа. Требуются.
Автомеханик-водитель категорий В и С это не то водитель главный бухгалтермужчины требуются на работу в качестве охранников а где юристы? девушек танцовщиц в танцевальное шоу Испания Австрия Швейцария Португалия Япония США интим исключён хм а для постоянных клиентов? нет это не про нас а вот вчера подчеркнул красной ручкой требуется начальник юридического отдела опыт работы оклад 30 000 рублей плюс премии вот! а у меня 25 000 смело можно просить у шефа накинуть хотя бы 5 000 предприятию нужен юрисконсульт з/пл от 15 000 руб это не показатель где-то тут было ещё… так… требуется кто-о-о-о? поющий баянист?! так, наверное, по ошибке подчеркнул.
Ну всё — побежали. Трусы. Рубашка. Брюки. Галстук. Пиджак. Носки в последнюю очередь. Мама обычно смеётся. Весь при полном параде и без носков! Носки в последнюю очередь. Железное правило. Отчего так? Пальцы проворно шнуруют ботинки. Дипломат. Всё взял? Документы? Двери. Лестница. Скатываюсь вниз. Не опоздать. А двери закрыл? Вроде. Вернуться? Нога неуверенно замирает. Ай, ч-чёрт с ними. А газ? Чайник кипятил. Газ выключил? В чайнике выкипает вода. Днище чернеет и коробится. А если огонь потухнет? Газ будет выходить. Беспечный сосед чиркает спичкой. Мощный взрыв выносит стёкла. Люди, милиция, скорая, пожарники.
Скорее. Ноги меряют асфальт. К остановке подходит трамвай. Погромыхивает суставами. Встал. Закованное в красный хитин членистоногое!
Красный трамвай
Скрежещет железом,
Зубом
Стальным
Вгрызается в рельс!
Он в сделку вступил
С электрическим бесом,
И веселится
Электробес!
Прыгаю внутрь. «Осторожно, двери закрываются». Трамвай со скрежетом волочит ржавое брюхо по рельсам. Качаемся в такт, как рабы на галерах. Мелькают полосы света и тени. Скрипят уключины. Скоро на одной из остановок набитая пассажирами стальная утроба выплюнет человеческий сгусток, от которого быстро отделится глянцевая фигурка конторского служащего. Я смотрю на него со стороны растерянным взглядом и снова задаю себе нелёгкий вопрос: «Разве Он — это Я?»
НОВОСТИ.РУ
03 ноября 2004 г.
РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ!
«Реорганизации „УЗБО“ не будет!» — заявил журналистам депутат Екатеринбургской Городской Думы Виктор Кокоша, в округе которого проживает значительная часть миноритарных акционеров завода. Последние были крайне возмущены, когда узнали о том, что руководство предприятия пошло на беспрецедентные шаги и собирается осуществить реорганизацию, не взирая на их протесты. Юридический механизм запущен, о чём свидетельствует публикация в прессе. Однако по заявлению миноритариев, они своего согласия не давали.
«Мы думаем, что речь может идти о массовой подделке подписей в бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров, — высказался от имени своих избирателей Виктор Кокоша. — Соответствующие запросы с требованием провести проверку уже направлены нами в Областную прокуратуру, Прокуратуру УрФО и Генеральную Прокуратуру России». Кроме того, 05 ноября в приёмной депутата состоится собрание обманутых акционеров завода, на котором планируется подписать коллективное обращение к Президенту РФ Владимиру Путину».
II
Великий органайзер
Органайзер (Меню 7)
Примечание. Для того чтобы использовать функции из меню Органайзер, телефон должен быть включён. Не включайте телефон, если его использование запрещено, может вызвать помехи или создавать угрозу безопасности.
Руководство по эксплуатации телефона NOKIA
МЕНЮ
ОРГАНАЙЗЕР
Календарь: Нояб. 2004 — нед. 45 пт. 05
Дать заметку: Встреча
Тема: Собрание избирателей
Место: Приёмная депутата В. Кокоши
Время начала: 15:00
Время окончания: 16:30
Со звуком. ОК. В другое время. ОК. Дата: 04.11.2004 ОК. Задать время: 20:00. ОК. Заметка сохранена.

Никто не умеет произносить слово «блядь» с такой отчётливой угрозой, как мой босс — депутат Городской Думы Виктор Кокоша. «Блядь» тихо расходится в воздухе. Растворяется, будто «Эффералган Упса» в стакане с водой. «Блядь» имеет в виду ту же фатальную окончательность, завершённость, точку, тупик, что и «пиздец», но в отличие от «пиздеца», который топором падает на голову слепой беспомощной жертвы, «блядь» скрипит зубами и готово дать последний отпор. «Блядь» по сути своей отчаянно и бесповоротно. «Блядь» смыкает Кокошины зубы в жестокой бульдожьей хватке.
Времени 14:50. Я сижу у Кокоши в кабинете. Со мной адвокат. Кокоша просил меня найти адвоката. Я нашёл. Кокошино «блядь», произнесённое сквозь зубы в настежь открытое окно, ёмко описывает ЧП, свалившееся на Кокошин избирательный округ; крайне мутный комментарий адвоката по поводу сложившейся ситуации и перспективы грядущей предвыборной кампании в городскую думу. Холёный розовощёкий адвокат с обманчивой улыбкой младенца очень долго разъясняет Кокоше возможные процессуальные препоны. Кокошино лицо, как всегда, хранит неподвижность, будто замороженное местным наркозом. Очень медленно шевелится только нижняя губа: «Блядь». Победа по очкам, которую предлагает адвокат, его явно не устраивает. Нужен нокаут. На стенах кокошиного кабинета красочные фотографии изображают, как депутат в кимоно с ноги заряжает противнику в голову, или сам расшибает лбом пылающие кирпичи, или с гордой улыбкой держит над собой кубок чемпионата по кикбоксингу. Много фотографий, фиксирующих момент поражения кокошиных противников. «Блядь, вот бы его на ринг вызвать!» — шевелит нижней губой Виктор Кокоша. Адвокат разводит руками: дескать, не тот случай.
— Виктор Владимирович, там уже граждане собираются, — осторожно докладывает похожая на Рембрандтову Данаю круглозадая Ира, секретарша, которую Кокоша втайне от жены по пятницам равнодушно трахает в сауне гостиничного комплекса «Эрмитаж».
— Чё, много их там? — раздражённо бросает Кокоша, закрывая окно.
— Да человек десять-пятнадцать, — презрительно отвечает она, стараясь попасть в тон начальнику.
— Ну пусть ещё подождут, — говорит депутат. Каждое слово он роняет медленно, будто тщательно обдумывая. — Как наберётся человек тридцать, будем запускать.
— Хорошо, — улыбается Ира. — Надеюсь, они не все притащатся.
— Я тоже на это надеюсь, — деревянно ухмыляется Кокоша. — А ты чё, блядь, не сказала им, чтоб присылали только делегатов, не больше одного человека от подъезда? — слова тяжело падают, как камни, складываясь в неприступную крепость, ворота которой крепко закрываются так же, как и Кокошин рот.
— Сказала, Виктор Владимирович, но они же, как бараны, — сетует секретарша.
— Блядь, — размыкает губы депутат, — в натуре, как стадо баранов. Могут и все припереться. Хули тогда с ними делать? Они же все сюда не влезут. — Он, будто Терминатор, сканирует глазами свой кабинет.
— Может, я тогда не буду всех пускать? — бесстрашно предлагает Ира.
Я молчу. Адвокат улыбается, как младенец. Кокоша бесстрастен.
— Точно. Пускай только делегатов от подъездов. Остальных на хуй. На улице подождут, — обрубает он.
— Есть! — Ира берёт под козырёк и исчезает из кабинета.
Кокоша скользит взглядом по стульям, расставленным для делегатов.
— Короче, порядок такой, — говорит он нам. — Сейчас они зайдут, и я вас представлю. Тебя, Андрей, как моего помощника, а Вас как адвоката, специалиста по таким искам. Потом мы их внимательно послушаем. Так надо. Хотя я вам уже всё в принципе рассказал. Всё равно. Пусть языками почешут. Потом вы по очереди встанете и скажете, что мы все вместе собираемся делать. Только надо будет им очки втереть как следует, бля. Про защиту их конституционных прав и прочую хуйню. Чтоб они думали, что у нас всё под контролем.
— Виктор Владимирович! — взмолилась секретарша, отворяя дверь кабинета. — Они мне уже всю душу вымотали!
— Что? — недовольно спросил Кокоша, прерывая инструктаж.
— Хотят войти… — Она выразительно указала взглядом за дверь.
— Ну, пусть заходят уже, — равнодушно махнул рукой депутат.
В ту же минуту в кабинет под полупрезрительным взглядом секретарши цепочкой потянулись оробевшие граждане, возглавляемые невысокого роста полной женщиной лет пятидесяти-пятидесяти пяти, с криво накрашенными губами цвета «баклажан».
— Я же знала, что Вы нас уже давно ждёте, Виктор Владимирович! — бодро объявила женщина и испепелила взглядом секретаршу. — А вот Ваши, с позволения сказать, сотрудники!
Она остановилась, и её съехавший набок огромный малиновый шиньон задиристо встопорщился. Секретарша изобразила полную отстранённость.
— Виктор Владимирович, да Вы же поймите, Вы наша единственная надежда! — Женщина бросилась к Кокоше, и я решил, что она сейчас рухнет ему в ноги.
— Здравствуйте, Вера Семёновна, — поморщившись, улыбнулся Кокоша.
— Значит, Виктор Владимирович, что я Вам сейчас скажу. А они пускай пока рассаживаются… — Она деловито взяла его за локоть и отвела в сторону. В эту минуту её переполняла гордость оттого, что ей целиком удалось завладеть вниманием депутата. Она стояла рядом с ним, живым воплощением власти, и каждый её суетливый жест, каждый взгляд, каждое взахлёб произнесённое слово приобретали вдруг особенное значение.
— Вы только посмотрите на неё… — Меня мягко потрогали за запястье. Очень благовоспитанная дама присела слева от меня.
— Я присяду рядом с Вами? Позволите, молодой человек? — спросила она.
— Конечно. Пожалуйста, — пожал я плечами.
— Меня зовут Ирина Фёдоровна, — представилась дама.
— Очень приятно. Андрей.
— Вы, верно, адвокат?
— Нет, адвокат вот. — Я указал взглядом на сидящего справа адвоката, который чуть поклонился и подарил даме чарующую детскую улыбку.
— Михаил Аркадьевич Русальский, адвокат, — сказал он, одновременно протягивая ей визитку.
— Очень приятно, — отвечала дама. — А Вы, наверное, помощник депутата? — спросила она у меня.
— Да, — ответил я.
— Я всегда сажусь здесь, — продолжала Ирина Фёдоровна, — не с остальными. — Она кивнула на располагавшихся против нас граждан. — Мне можно. Я тоже помощник Виктора Владимировича в некотором роде. Без меня ему пришлось бы невероятно тяжело. Вы себе не представляете, что это за люди! Вот с виду все более-менее приличные, у всех сейчас одна и та же проблема, которую надо решать сообща, но внутри, Боже мой, каждый хочет выгадать свой корыстный интерес. Как их организовать? Как элементарно заставить их выбрать делегатов и направить в одно место? Видите эту женщину? — Она осторожно кивнула в сторону Веры Семёновны, которая всё ещё цепко держала депутата. — С виду такая активистка! Борется за общее дело! А на самом деле, — Ирина Фёдоровна понизила голос, — я-то знаю, что ей предложили 10 000 рублей за её акции, и сейчас она думает, как бы ещё подороже их продать!
Я делал вид, что наблюдаю за всё прибывавшими гражданами, которым уже не хватало стульев, и они становились вдоль стен депутатского кабинета, а на самом деле внимательно слушал Ирину Фёдоровну.
— Я Вам больше скажу, Андрей… — Она снова доверительно коснулась моего запястья. — Сейчас эта особа рассказывает Кокоше то же самое про меня, будто бы это я согласилась променять совесть на деньги! Но Виктор-то Владимирович не дурак. Он не может поверить всей этой грязи. Я единственный преданный ему человек. Я даже знаю, кто из здесь присутствующих ещё продался. Вон видите, видите, — она снова перешла на шёпот, — вон ту мадам в идиотской зелёной шляпе. Она тоже себе на уме, хотя и громче всех возмущается. А остальные? Остальные — простые безграмотные люди, которые понимают, что их надули, обвели вокруг пальца, но толком не знают, как это произошло, — с грустью завершила Ирина Фёдоровна.
— Ну что? Начнём? — громко сказал Кокоша, освобождаясь наконец от Веры Семёновны, которая отошла от него и заняла место на правом фланге с самого края, так чтобы ей видны были и граждане, и мы, расположившиеся напротив.
— Начнём, начнём. Чего тянуть-то? — прокатилось по толпе.
— Здесь у нас сегодня адвокат Михаил Аркадьевич Русальский, большой специалист по защите прав акционеров. — Кокоша рукой указал на адвоката, который привстал и обезоруживающе улыбнулся. — И мой помощник Андрей Александрович Гриневич. — Я встал и снова сел, уловив едва заметный старческий ропот: «Какой молодой».
— Ну, кто скажет? — Кокоша обвёл собравшихся взглядом. Граждане заёрзали, некоторые неловко отвели глаза.
— Так кто? — вполголоса спросили из толпы.
— Кузьмович, может?
— Ну.
— Как старший.
— Ну.
— Пётр Кузьмович, скажи хоть ты! — крикнула Вера Семёновна. — Тебя ж первого обмишулили.
Из рядов поднялся худосочный глазастый, как лунь, старик и, испуганно озираясь по сторонам, засипел:
— Ну, это как. По порядку, начить, надо рассказывать. Начить, я дома был, когда они постучали. Вечер был уже. Часов семь или шесть ли? Не помню. Валька у меня в магазин ушла за хлебом. И я один сидел. Ну, я открыл. Они мне говорят, здравствуйте, дедушка, говорят, мы, говорят, из обществ… общественной какой-то организации. Вроде как пионэры, начить, раньше были.
— Да кто они-то, Кузьмович? Что за пионэры? Ты людям-то скажи, а то не поймут.
— Они-то. Ну. — Кузьмович развёл руками. — Они. Парни какие-то. И девка с ними. Молодые. Вы, спрашивают, хотите, чтобы у Вас во дворе ещё один дом стоял? Так я говорю, чёрт, говорю, знает, какой ещё дом? Они, мол, тут фирмачи московские землю купили, будут скоро дом строить, представляете, мол, шум, грязь у Вас под окнами. Я говорю: это, конечно, не дело. А они: мы, мол, подписи собираем на запрет строительства. Если в Вашем доме половина людей против будет, так, дескать, запретят. Хотите, спрашивают, чтоб запретили? Ну, я говорю: хочу, начить. Они, мол, хотите — распишитесь. Вот так. Я и расписался.
— А где ты расписался? — вмешалась Вера Семёновна. — Скажи.
— Ну где? Листочек, начить, там у них был такой обычный в клеточку.
— А на листочке-то что? Что было?
— Да ничего не было. Просто белый листочек. Пустой. Ну, я же не знал, не подумал то есть.
— Так, можно я скажу, — нервно поднялась женщина в зелёной шляпе. — Кузьмович, садись.
— Истеричка, — шепнула мне на ухо Ирина Фёдоровна. — Сейчас даст всем прикурить.
— Так, это до каких же пор над нами будут издеваться?! — Глаза женщины сухо и лихорадочно сверкнули из-под полей зелёной шляпы. — Давно пора уже пойти и разгромить всё заводоуправление к чёртовой матери! Где вы, настоящие мужчины? Ну, где вы? Где вы? — Она огляделась. — Вот Вы, — обратилась она к Кокоше, — Вы, мужчина Вы или нет?! Я мать двоих детей. У меня нет мужа. Разве я могу с ними одна бороться? Разве я могу? Но я пойду туда прямо сейчас, я клянусь, я найду этого подлеца Гурдюмова и скажу ему: «Гурдюмов, Вы подлец!», а потом я плюну ему в рожу вот так. — И женщина приготовилась харкнуть.
— Татьяна! — повысила голос Вера Семёновна. — Это лишнее.
— Я не буду, Вера Семёновна, — отвечала Татьяна. — А ещё я дам ему пощёчину, настоящую женскую пощёчину, и пусть он вызывает своих битюгов, свою службу безопасности, пусть попробуют только прикоснуться ко мне, пусть. Я знаю, у них хватит наглости унизить слабую женщину. Они же теперь хозяева жизни, эти «новые русские». Но только пальцем, только пальцем. — Её длинный костлявый указательный палец поднялся вверх. — Хоть один из них прикоснётся ко мне одним только пальцем — я выдеру ему глаза. Клянусь, я выдеру ему глаза. И если есть здесь, в этом зале, хоть один настоящий мужчина, мужчина, который владеет приёмами каратэ, — Татьяна бросила красноречивый взгляд на Кокошины фотографии, — то он пойдёт вместе со мной к Гурдюмову. Он пойдёт и просто начистит ублюдку рыло! Ему и всем его прихвостням из службы безопасности.
— Ну-ну — это всё эмоции. Что я, Рэмбо, по-Вашему? — попытался успокоить её Кокоша, которому стало неловко оттого, что последняя фраза целиком была обращена к нему. — Ещё кто-нибудь желает высказаться? — Он медленно обвёл всех глазами.
— Я ещё не закончила! — возмутилась женщина в зелёной шляпе.
— Тихо, Таня, сядь. Я скажу, — властно вмешалась Вера Семёновна. — Давайте не будем отнимать время у Виктора Владимировича. Виктор Владимирович изо всех сил старается нам помочь. Он собрал нас здесь не для того, чтобы мы устраивали митинг, — так я говорю Виктор Владимирович? Мы должны сегодня рассказать товарищу адвокату, — она жестом указала на Русальского, и тот дружелюбно заулыбался, — в чём же дело. Что, собственно, с нами всеми произошло. И адвокат, я повторяю, товарищи, адвокат подскажет нам, что делать дальше. Нам не нужны никакие, собственно говоря, эксцессы. Не надо никому, товарищи, бить морду. Это же самосуд. Гурдюмов — преступник и должен понести заслуженное наказание, и он его понесёт по приговору суда. Так ведь, товарищ адвокат?
Русальский улыбнулся ещё шире и добрее и закивал головой.
— А теперь, со всеобщего позволения, так сказать, я расскажу, что случилось, — продолжала Вера Семёновна и, шагнув вперёд, набрала полную грудь воздуха. — Мы все, кто сегодня пришёл, ну и кроме нас ещё тоже, живём примерно в одном микрорайоне и когда-то работали на «УЗБО». Многие уже сейчас не работают: кто на пенсии, кто уволился, а кто-то работает, но не в этом дело. Когда завод приватизировали, нам всем давали акции. Ну как давали? Директор бывший на бумажке писал: тебе столько-то акций, тебе столько-то. А самих-то акций, так чтобы пощупать, и не было никогда. Бумажка эта у директора в сейфе хранилась. Кто-то свои акции сразу тогда продал, кто-то после. Он, директор то есть, это всё писал на бумажке, чтобы понятно было у кого сколько. И все ему верили, потому что он честнейший на свете человек, люди вон не дадут соврать.
Граждане одобрительно загудели.
— А потом как-то там получилось, что акции скупил Гурдюмов и его шайка-лейка. Они-то нашего директора и скинули. Мы, конечно, возмутились, в прокуратуру писали и везде, но нам как сказали: у кого акций больше, тот и прав, вот и весь и сказ. Прав и прав. А только Гурдюмов завод за несколько лет угробил к чёртовой бабушке. Вот тебе и прав. Но дело сейчас не в этом. Гурдюмов хоть акции и скупил, но не все. Остался у людей на руках какой-то мизер. Они и ко мне приходили, предлагали 3 000 рублей за акции, да только я им сказала: знаете что, провалитесь вы все одночасно, акции я вам не продам. Умирать буду, а не продам. Я уж давно на заводе не работаю, а всё равно сердцем чувствую, что он мой. Пусть уж акции лучше внукам достанутся, а они там как захотят. Захотят, сберегут бабкину память. А нет, так нет. И многие люди так и не продали свои акции. Ну вот мизер-то мизером, а, видать, не получается у Гурдюмова вертеть заводом без наших-то акций. В августе, значит, в начале где-то, получаем от него письмо, проводится, мол, общее собрание тогда-то в здании заводоуправления. Ну, я не пошла, у меня сыну надо помогать ремонт делать в новой квартире, некогда, в общем. Да и никто не пошёл, а кто ходил, так говорят, не было никакого собрания. А немного погодя объявляются эти, молодые люди, ходят по подъездам да лапшу-то нам на уши вешают про строительство, все сдуру и подписывают пустые листочки. И я тоже не глядя подмахнула. Вот ещё подумала, какие хорошие парни, доброе дело делают. А я-то бы и не узнала сроду, пока бы весь двор не перерыли строители эти московские. Спасибо ещё сказала им. И всё. А через месяц только узнали, что они на этих листочках написали сверху протокол собрания акционеров. И мы, получается, проголосовали за эту их, как она называется, будь она неладна.
— Реорганизация, — хмуро подсказала женщина в зелёной шляпе.
— Да. За ре-ор-га-ни-за-ци-ю, — старательно повторила, одновременно запоминая, Вера Семёновна. — Мы как это понимаем? — продолжала она. — Как ограбление простого народа. И так эта, с позволения сказать, «прихватизация» позволила кучке воров заграбастать государственное добро, так они теперь и нас ещё хотят лишить последнего! Без всякого нашего ведома за нашими спинами творится вопиющее беззаконие. Гурдюмов думает, что раз в этом деле замешаны большие деньги, то он может безнаказанно попирать ногами наше достоинство, грабить нас среди бела дня! И в этом я абсолютно согласна с Таней. До каких же пор мы будем терпеть над собой издевательство?! Давайте объединяться, давайте нанимать адвокатов, давайте сделаем всё, чтобы Гурдюмов не ходил королём по территории нашего завода, а сидел там, где ему самое и место, то есть в тюрьме, я так скажу, товарищи!
— Спасибо, Вера Семёновна. Спасибо, — сказал Кокоша, воспользовавшись паузой. По толпе покатился одобрительный ропот. Вера Семёновна, раскрасневшись и вспотев от волнения, отступила на шаг назад. Глаза её выпукло блестели. Она вынула из ридикюля носовой платок и промокнула им лицо. Кто-то из толпы трогал её за локоть и хвалил за хорошее выступление.
— Вы только посмотрите, какой оратор, — ядовито произнесла мне на ухо Ирина Фёдоровна.
— Товарищи! Товарищи! — перекрывая ропот толпы, прокричал Кокоша. — Я думаю, сейчас самое время послушать адвоката. Послушаем внимательно, товарищи. Михаил Аркадьич, прошу, Вам слово.
Русальский грузно поднялся и, добродушно улыбнувшись, несколько раз поклонился толпе. Люди благоговейно, как перед жрецом, затихли.
— Братцы, я прекрасно вас понимаю, — начал он и развёл в стороны свои большие холёные руки, — понимаю вашу боль, ваш гнев, ваше справедливое негодование. Вас обманули. Вас обманули грубо и дерзко, и теперь вы хотите защитить ваши права во что бы то ни стало. И вы даже уже кое-что сделали, чтобы защитить их самостоятельно. И это понятно. Человек всегда, прежде чем обращаться к доктору, лечится сам, и уж потом, когда самодеятельность не даёт результата, идёт к специалисту. Вы обратились ко мне за помощью через вашего избранника, уважаемого Виктора Владимировича Кокошу, и правильно сделали! Теперь я прошу от вас только одного: больше никакой самодеятельности, братцы. — Он с улыбкой обвёл глазами собравшихся. — Никаких заявлений в прокуратуру, в суд, писем Президенту и тому подобное. Идите по домам, сложите оружие и занимайтесь своими делами. Всё. Ваше дело — это теперь моё дело. Ваша боль — моя боль. Как специалист я обязан предупредить вас сразу: дело очень сложное и запутанное, и вы одним неосторожным своим действием, одним шагом можете всё безнадёжно испортить.
— Чего же тут сложного?! — выкрикнули из толпы. — Всё ясно как день! Нас ограбили!
Русальский поискал глазами выкрикивавшего и, не найдя, продолжал:
— Дело только вам представляется очевидным, но прошу вас не забывать, братцы, что мы пойдём в суд, и в суде каждый даже самый очевидный факт придётся доказывать. Учтите, что противник за большие деньги наймёт лучших адвокатов, которые будут всё отрицать.
— А кто платить будет нашему адвокату, товарищи? — обеспокоенно спросил кто-то, и толпа, почувствовав угрозу для своих кошельков, немедленно подхватила: — Да! Кто платить будет?! Дорогое удовольствие! Да! Это ж сколько?! Гляди, цену набивает! Дело, мол, сложное!
Адвокат покровительственно улыбнулся.
— Товарищи! Товарищи! — встал рядом с ним Кокоша. — Успокойтесь. Финансовая сторона вопроса ложится полностью на меня, товарищи. — Он вытянул вперёд руки в успокаивающем жесте. — Не надо ни с кого собирать никаких денег. За всё плачу я. Вам не о чем беспокоиться. Всё, — и, заметив, что в толпе зреет недовольство холёным адвокатом, который предлагает всем сложить оружие и сидеть дома, дожидаясь результатов, депутат продолжал:
— Да, противник наймёт адвокатов, и они будут лгать. Садитесь, «братец», — язвительно шепнул он адвокату и, положив руку ему на плечо, мягко, но властно усадил в кресло. Но, — снова громко произнёс он, — мы не позволим, чтобы судья схавал эту ложь! Мы встанем плечом к плечу. И если понадобится, мы всех соберём на митинг возле суда.
Кокоша говорил очень долго, часто рубил ладонью воздух и опускал тяжёлый кулак в раскрытую ладонь. В его речи не было конкретных предложений, но были слова: «Мы не позволим!», «Мы не дадим!», «Правда на нашей стороне!», «Мы боремся за правое дело!» И эти слова сплачивали толпу, вызывали в ней одобрение и подчиняли вождю. И только добившись полного контроля над людьми, Кокоша завершил свою речь приказом всем разойтись по домам и самостоятельно не совершать никаких действий.
— Депутат дело говорит, — послышалось из толпы, градус агрессивности которой заметно упал. Граждане зашуршали, поднимаясь со стульев, и стали покидать кабинет, по пути обсуждая предстоящую борьбу. Ирина Фёдоровна, оставив меня с адвокатом, походкой светской дамы направилась к Кокоше. В этот момент к нам приблизилась Вера Семёновна и, улыбнувшись, сказала адвокату:
— Мне очень-очень приятно, Михаил Аркадьевич, что вы согласились заниматься нашим делом.
— Для меня это тоже большое удовольствие, — ответил Русальский, протягивая ей визитную карточку.
— Давно практикуете? — спросила Вера Семёновна, пряча визитку в ридикюль.
— Десять лет непрерывного стажа.
— Да вы что? Удивительно долго. А приходилось заниматься делами такими же, как наше?
— Приходилось.
— И как? Выигрывали?
— Всяко случалось, но чаще выигрывал.
— Чаще выигрывали, — пробубнила себе под нос Вера Семеновна. — Так. Значит, иногда проигрывали?
— Иногда, очень редко.
— И всё-таки проигрывали? — не отставала она. — А каков процент проигрыша?
— Ну, так в процентах и не скажешь, — развёл руками адвокат.
— Ну примерно сколько? Один, два раза из десяти? Или сколько?
— Один процент из ста, — улыбнулся Русальский в ответ на её настойчивость.
— Один процент из ста — очень даже неплохо, — покачала головой Вера Семёновна. — Очень неплохо! Ну, до свидания.
— До свидания, — ответили мы с адвокатом, но Вера Семёновна не ушла. Помедлив, она спросила:
— А эта женщина, которая сидела рядом с вами…
— Ирина Фёдоровна, — сказал я.
— Да. Наверняка говорила про меня всякие гадости… — Её фиолетовый дряблый рот скривился от омерзения. — Удивительно скверная особа, а производит впечатление такой порядочной дамы! Ведь это она одна сеет распрю между мной и Виктором Владимировичем. Вы ей не верьте, молодой человек, — обратилась она ко мне, — каждое её слово — ложь и грязная клевета.
— Хорошо, — пожал я плечами.
— Ну, я, пожалуй, пойду.
— До свиданья, — опять сказали мы с адвокатом.
Когда граждане разошлись, Кокоша вызвал секретаршу и сказал:
— Ира, сделай.
— Что? — спросила она.
— Ну, не минет же! — усмехнулся он. — Кофе. Три чашки.
— Хорошо, — не обиделась Ира.
— А можно мне горячий шоколад, если есть? — попросил адвокат.
— Есть, — кивнула Ира.
— Можно, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, — закивал он.
— Андрюха, — обратился ко мне Кокоша, — я уж тебе не дал слова. Видишь, как они возбудились, особенно когда ты, братец, — депутат повернулся к адвокату, — сказал им: «Сидите дома и не рыпайтесь».
— Я просто хотел объяснить, — развёл руками Русальский и улыбнулся. Его, видимо, не задело кокошино «ты».
— Разве этому быдлу можно что-нибудь объяснить? — спросил я.
— Да вот именно, — хмыкнул Кокоша, — это же натуральное стадо. Им сейчас митинги подавай и уличные бои, они крови хотят, а ты им: сидите дома, братцы. Ты тут до того мог договориться. Они б тебя разорвали к ебеням. И даже я бы тебе ни хуя не помог. Одно, блядь, не понятно, — продолжал он, — что происходит? На хуй Толику Гурдюмову эта реорганизация?
— Ну как же… — Русальский удобно откинулся в кресле. — Обычная процедура. Когда у предприятия большие долги и хозяева не хотят дожидаться банкротства, они проводят процедуру реорганизации в форме выделения: выделяют из предприятия новое юридическое лицо, которому передают все активы, а долги оставляют на старом.
— И что, закон такое допускает? — удивился Кокоша.
— Конечно, допускает! А новый закон о регистрации юридических лиц даже не даёт налоговым органам полномочий проверить, извещены ли кредиторы о предстоящей реорганизации! Впрочем, раньше, когда это проверялось, люди всё равно выкручивались. Посылали заказным письмом пустые листы бумаги или поздравительные открытки, а в регистрирующие органы приносили почтовые квитанции о том, что кредиторам, дескать, направлено уведомление.
— Ебанутые у нас законы, — констатировал Кокоша. — Сюда поставь, — приказал он секретарше, которая принесла маленький серебряный поднос с кофе и шоколадом.
— Я так думаю, Толик мне специально перед выборами устроил, блядь, козью рожу, — задумчиво проговорил он.
— Самое-то интересное, братцы, — сказал Русальский, поднося чашку ко рту с нескрываемым детским восторгом, — самое-то интересное, что граждане от этой реорганизации нисколько не пострадали, насколько я могу судить! Ведь их же как акционеров перетащили в новое общество с тем же количеством акций. Вот на что будут упирать адвокаты Гурдюмова. И я, честно сказать, этого вашего Толика прекрасно понимаю. Если хотите, морально-психологически я полностью на его стороне. Представьте: нависает банкротство, имущество предприятия надо спасать через реорганизацию, но для реорганизации нужно иметь более трёх четвертей голосов на собрании акционеров, а у Гурдюмова и его команды их чуть меньше, он знает, что недостающая часть голосов принадлежит обычным бывшим работягам с завода, которым трудно что-либо втолковать, сами только что видели, и принимает решение получить эти голоса не совсем, так сказать, законным путём.
— Вот я про что и говорю! — шевелит нижней губой Кокоша. — Нарушение всё-таки есть! Тогда почему, блядь, мы можем проиграть суд?
— Э-э-э… — Русальский поставил чашку и поднял вверх указательный палец. — Всё не так просто, братец вы мой. Есть тут свои малюсенькие процедурные тонкости.
При словах «малюсенькие процедурные тонкости» Кокоша недовольно поморщился.
— Процедурные тонкости, — продолжал адвокат, — заключаются в том, что протоколы с подлинными подписями граждан у Гурдюмова есть.
— Ну так подписи же получены мошенническим путём!
— А это ещё нужно, извините, доказать.
— И докажем, блядь. В чём проблема?! Притащим всех свидетелей в суд.
— В том-то и дело, что акционеры будут истцами, а не свидетелями, и все наши доказательства сведутся к объяснениям самих же истцов. А ещё учтите, что дело рассматривать будет арбитражный суд. Этот суд изучает только документы и редко слушает свидетелей. Вот так. Поэтому-то дело ваше дрянь.
— Возбудим против Толика уголовное дело по факту мошенничества, — не сдавался Кокоша.
— Не выйдет, — ответил адвокат, — для ментов такое дело заведомый «висяк». Чтоб его возбудить, нужны серьёзные связи в органах.
— У тебя же они есть.
— Есть-то есть. Но кто ж нынче бесплатно работает?
— Блядь, — сказал Кокоша. — Это же сколько бабла мне надо будет ввалить в эту предвыборную кампанию?!
— Кроме того, — продолжал Русальский, — Вы в курсе, что права Гурдюмова защищает юридическая группа «Ваш интерес»?
— Кто это? — поинтересовался депутат.
— Это сам Николай Николаевич Свирин, — отвечал адвокат. — Бывший… — Он понизил голос и ткнул пальцем в потолок.
— А может, Виктор Владимирович, не надо ничего делать, — вмешался я. — Может, сказать: смотрите, уважаемые граждане, ваши права не нарушены, вы как были, так и остались акционерами. Только теперь вам ещё лучше, потому что вы акционеры предприятия, у которого нет долгов. И это ведь чистая правда!
— Чистая правда, — согласился адвокат.
— Ты видел их сегодня? — спросил Кокоша. — Да если я им такое выложу, они же мне просто, блядь, не поверят! Решат, что я сговорился с Толиком и хочу их кинуть. Знаешь, какая тут пойдёт байда! Просто пиздец! И хуй мне тогда, а не депутатское кресло на следующих выборах. Нет, народ хочет крови, и он должен её получить. А иначе они нас сожрут и не подавятся. И мне не нужны вот эти все хитрые увёртки и «процедурные тонкости», — процедил он, — мне нужно — бац и всмятку, чтоб мокрого места не осталось от Толика и этого Николая Николаевича! Чтоб показательный процесс! Журналюги, все дела, блядь!
— Понял, — пробормотал адвокат и засобирался. — Извините, братцы, мне пора. У меня уже через пять минут встреча. А по Вашему вопросу я тогда обойду людей, всё, извините, разнюхаю, кому, чего и сколько, подобью бюджет, заложу в него свой скромный сиротский процентик и дней эдак через пять перед Вами отчитаюсь. Идёт?
— Договорились, — пожал ему руку Кокоша.
— Отличные фотографии, — кивнул по сторонам адвокат, надевая дорогое кашемировое пальто. — Может, к Вам в секцию записаться? — добродушно спросил он.
— Записывайся, у нас как раз «груш» не хватает, — мрачно пошутил депутат.
Русальский жизнерадостно засмеялся и откланялся, подарив на прощание комплимент секретарше и не забыв взять у неё номер телефона.
— Ты где его откопал, этого братца? — спросил меня Кокоша.
— Поспрашивал у знающих людей.
— Сиротский процентик! — скривился депутат. — Обдерёт, пожалуй, как липку, жидовская морда!
— Зато он, говорят, дело делает с гарантией девяносто девять процентов.
— Ты ещё, слушай, — сказал Кокоша, — поузнавай там везде чё-кого. Что это за «Ваш интерес»? Какие возможности у этого, как его, Свирина?
— Узнаем. Обязательно, — ответил я. — А сейчас извините, Виктор Владимирович, мне пора бежать.
— Ну, давай. Только, Дюха… — Он посмотрел мне прямо в глаза. — Я на тебя надеюсь. Пинай этого еврейского братца-кролика. И вообще держи руку на пульсе. Замазали?
— Замазали.
Я всегда каким-то непостижимым образом угадываю схему. Не зная её точных координат, всех деталей и нюансов, всех ролей, которые предстоит сыграть её участникам, я могу только с уверенностью утверждать: она есть. Ощущение схемы постепенно вызревает где-то глубоко внутри и напоминает создание мозаики без заранее заданного чертежа. Время от времени передо мной в совершенной темноте вспыхивают различные её куски, которые я вслепую передвигаю, примеряю друг к другу до тех пор, пока не придёт осознание того, что необходимое место найдено. Как только это произойдёт, кусок мозаики уже не двинется ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, — вместе с другими кусками он составит узор, от которого нити потянутся к другим таким же узорам.
Выйдя от Кокоши, я немедленно позвонил на сотовый своему бывшему однокласснику Глебу Замшину, который работал в адвокатском бюро «Ваш интерес». Слушая протяжные гудки, я всеми фибрами души ощущал созревание схемы. Я наблюдал её, как наблюдают из иллюминатора самолёта ночной город: в виде огромной золотой материнской платы, проплывающей далеко внизу на бархатно-чёрном фоне земли.
Схема созрела! — произнёс я таинственным голосом, когда одноклассник снял трубку.
III
Замша
ЗАМША, — и, ж. Выделанная мягкая и тонкая ворсовая кожа с бархатистой поверхностью.
С. И. Ожегов. Словарь русского языка.

100% успеха
На правах рекламы Фото: Вячеслав Куницын
Модель: Глеб Замша
На фото:
Глеб Замша, молодой преуспевающий стажёр
адвоката, покинув трамвай, бодрой пружинистой
походкой шагает в офис. У него пока нет своего
автомобиля, но зато на Глебе:
• Тёмно-синий костюм в полоску «U.S. PoloAss’n».
100% шерсть.
• Чёрный ремень «Бонд Нон». 100% кожа.
• Голубая сорочка Даниэль Эштер. 100% хлопок.
• Галстук цвета «аделаида» Даниэль Эштер.
100% шёлк.
• Чёрный дипломат «Петек». 100% кожа.
• Чёрные ботинки «Сан Мелдини». 100% кожа.
На поясе у Глеба:
• Мобильный телефон «Нокия» 6820 модели. Nokia
connectingpeople!
• Сумочка для телефона: «Валента». 100% кожа.
Глеб Андреевич Замша был от природы очень застенчивый человек. В действительности его фамилия звучала как Замшин, но отчего-то так повелось, что чуть ли не с самого детства все называли его просто Замша. Труднее всего Замше давалось общение с незнакомыми людьми. Дело доходило до курьёзного. Придя в продуктовый магазин, Замша стеснялся обратиться к продавцу с просьбой, так как не мог выбрать, как ему казалось, ни подходящего тона, ни правильных слов. Случалось, что он, постояв у кассы и немного помявшись, уходил без покупки. Поэтому Замша любил магазины самообслуживания.
Замша никогда не принимал решений. Он боялся задавать себе вопрос: «Чего я хочу?» — потому что давно убедил себя в неспособности реализовать собственные желания. Он не любил тех жизненных ситуаций, которые ставили его перед жёсткой необходимостью совершать выбор. Замша предоставлял другим право делать выбор вместо него, поэтому, когда в конце одиннадцатого класса мать предложила ему поступать в юридический институт, он поспешил согласиться. С такой же поспешностью он ухватился за предложенную на втором курсе работу курьера в крупной адвокатской компании «Ваш Интерес», которую нашла для него мать с помощью каких-то знакомых.
Со стороны казалось, что Замша настойчиво и целеустремлённо делает блестящую карьеру, но сам он не ощущал целеустремлённости своих действий. В 24 года он уже был правой рукой скандально известного адвоката Н. Н. Свирина, основателя и главы «Вашего Интереса», и готовился в ближайшем будущем сам держать экзамен на адвоката. До Замши звание «правой руки» принадлежало другому молодому, подающему надежды специалисту, который бок о бок со Свириным обеспечил не один успешный рейдерский захват. Однако, в конце концов, специалист почувствовал вкус к большим деньгам и предал интересы начальника, переметнувшись на сторону конкурентов. Опустевшее место «правой руки» уверенно занял наш герой — Глеб Андреевич Замша. Мягкий характер Замши, его застенчивость и скромность очень импонировали шефу. Свирин полагал, что на сей раз сделал правильный выбор — новый помощник его не подведёт.
Под руководством Глеба Андреевича теперь трудился целый отдел «Корпоративного права», состоявший сплошь из великовозрастных женщин, которые вечно ничего не делали, однако у Замши не хватало духу проявить твёрдость по отношению к ним, и он предпочитал загрузить себя работой по самую макушку, лишь бы не отдавать приказы и распоряжения. «Ты давай ими построже командуй! — говорил ему шеф. — Мужик ты или нет?!» Замша почему-то краснел и кивал головой, но ситуация не менялась.
Придя утром в офис, он не сразу входил в кабинет, как положено начальнику отдела и «правой руке», а некоторое время топтался на пороге и подглядывал за женщинами в зазор между приоткрытой дверью и косяком. Он сам себе напоминал при этом пятилетнего мальчика в матроске и бескозырке, который подсматривает за соседкой, развешивающей бельё на верёвке. В кабинете царил поздний мезозой. Среди пальм и папоротника, будто диплодоки и бронтозавры, прогуливались исполинские взрослые женщины. Подрагивая мясистыми ягодицами, они готовили себе кофе.
На правах рекламы фото: Вячеслав Куницын
На чёрно-белом фото, занимающем весь разворот,
пожилой негр с теплотой во взгляде наблюдает, как
юноша и девушка танцуют румбу.
Кофе! Кофе! Будто волшебная румба!
Обжигающий кофе склеивает утро и полдень.
Полдень и вечер.
Кофе — чёрный африканский бог.
Тягуче течёт по жилам.
Кофе — мистический обряд.
Таинство. Экстаз.
Все хотят кофе.
Кофе — магия превращений!
LAVAZZA
EspressoPoint
Выдохнув, Замша шагнул в кабинет. Женщины на секунду застыли с обращёнными к нему глупыми лицами. Потом Инна Казанова, блондинка с большой и упругой грудью, с большими и упругими бёдрами, закончила чертить помадой алую букву «О» вокруг рта, и её губы, потёршись одна о другую, сочно лопнули наружу:
— Приветик, Глеб Андреич. Кофейку жабнешь?
Замша часто заморгал, будто его вытолкали на ярко освещённую сцену, и пробормотал:
— Здрасьте. Э-э-э… Нет-нет, спасибо.
Не поднимая глаз, он осторожно, будто шёл по канату, двинулся к своему столу, на котором среди бумаг валялся первый и единственный номер журнала «Бунтующий яппи». На обложке был изображён человек в деловом костюме; верхняя и нижняя границы кадра отсекали соответственно его голову и ноги. Повязанный вокруг шеи огрызок галстука указывал на то, что издание ориентировано на протестующую часть публики. Главным редактором журнала значился Андрей Гриневич — бывший одноклассник Замши. «Бунтующий яппи» был любимым проектом Андрея, изданным большей частью на деньги энтузиастов и не преследовавшим коммерческих целей. Одну из статей для журнала написал Замша.
Добравшись до вращающегося начальственного кресла, он с облегчением рухнул в него. Он не любил стоять, потому что тогда со всех сторон был открыт посторонним взглядам, как одинокая сосна в поле бывает открыта всем ветрам. Он чувствовал комфорт лишь в том случае, если ему удавалось спрятать собственное тело в мягких объятиях кресла. Ощущение спинки кресла за своей спиной придавало ему уверенность и служило гарантией того, что сзади никто не нападёт.
Замша включил компьютер. Машина радостно зашумела. Экран озарился изнутри голубоватым сиянием. Тысячеглазый Аргус смотрел на Замшу через монитор. Глеб представил себе бескрайнее море, а на нём белые паруса маленьких яхт и решил, что давно не отдыхал. Паруса превратились в ярлычки на рабочем столе. В «аське» мигало сообщение от Ильи Рожнева (друга и одноклассника) следующего содержания: «Превед девственнег! Шлю тибе оптом сизьке и жопы». К сообщению прилагалась ссылка на эротически-юмористический сайт. Замша усмехнулся, зашёл по ссылке, пробежал взглядом картинки, ответил Илье одним словом «зачот» и выставил статус: «Работа. Занят». «Пиво пить бу?» — пришло сообщение от друга. «Бу», — выстукал Замша. — Ради пятницы постараюсь пораньше слинять». «Во скок?» — спросил Илья. «Давай часа в четыре на старом месте». «Ок».
Потом Замша твёрдо решил поработать. Однако уже через пять минут сидел, тупо уставившись на экран монитора, по которому летала и вращалась с какой-то издёвкой надпись «Вечный ОМ». Мысли о работе отпали сами собой. Вот почему:
— А я вчера вечерком горячую ванну приняла, корвалольчику напилася и вырубилась просто без задних ног! — Да ты что! — Ага. И про окрошку забыла начисто. — А ты с чем её делаешь? — Да как обычно: колбаска там, огурчик, яички, сметанка. Я это всё в кастрюльку покрошила. И забыла, блин, прикинь? — А я больше люблю с майонезиком и немного горчички туда, тогда потому что вот так остренько получается, и я больше люблю, когда остренько. Кстати, Димка твой звонил. — Когда? — Вот только что, до того, как ты пришла. — Чё хотел-то? — Да ничё. Я такая: а где мама? А он такой: на работу ушла. Я такая: ты где сейчас? А он такой, прикинь: понятно, где, — грит, — у бабушки. Понятно, где! Деловущий такой! Ты его это, чё, на пээмжэ к бабушке сплавила? — Да нет. Болеет сейчас, в садик не ходит, а оставить больше не с кем. — А я вчера ходила к косметологу на лимфадренаж. О-о-о-о!
— Кстати, девчонки! Слышьте чё! Я же вчера себе юбку отхватила. Ещё не надевала.
— А она у тебя с собой?
— Да.
— И ты молчишь?!
— Ну-ка, давай мерить!
В воздухе повисло молчание, и женщины выразительно посмотрели на Замшу. Замша оторвался от монитора и посмотрел на женщин. Потом он вздохнул, поднялся из-за стола и направился к выходу. Со всех сторон его провожали нетерпеливые взгляды. Закрыв за собой дверь, Замша скрестил на груди руки и услышал восторженный шёпот:
— Ну, как?
— О, классно, слушай!
— Классно? Только почему-то она на бёдрах висит. Это что, так и должно быть?
— А как, по-твоему?
— Ну, обычно юбки на талии. Нет, смотри, на бёдрах висит. Может, это специально?
— Цвет идёт тебе.
— Почему же на бёдрах?
— Да перестань, они все такие. Фасон такой.
— Нет, из-за этого у меня теперь ноги короткие! Ну посмотри — ноги совсем короткие! Ну как култышки! Ты смотри-ка чё, а!
На правах рекламы фото: Вячеслав Куницын
Модель: Инна Казанова
Модельное агентство «Вавилон»
На фото:
Офисная дива Инна Казанова сидит на краешке
стола. На Инне:
• атласный топ Caractere;
• шифоновая юбка, расшитая стеклярусом Caractere;
• туфли с металлическими логотипами Gucci.
Замша запрокинул голову и уставился в потолок. Сегодня ему предстояло поговорить с шефом об увеличении оклада. Вряд ли он сделал бы это по собственной инициативе. Как и в прошлый раз, инициатором выступала мать. Это она каждый день спрашивала его: «Ты говорил насчёт зарплаты? Почему нет? Завтра обязательно поговори!» Замша, в конце концов, сдавался и, хотя ему было мучительно неловко, шёл к шефу с тем, чтобы поднять щекотливый вопрос. Однако до сих пор добиться заветного увеличения оклада ему не удалось.
После того, как страсти по юбке улеглись, Замша вернулся на рабочее место и задумался о том, с чего лучше начать деликатный разговор. Была одна юридическая головоломка, которую он с успехом распутал и уже добился кое-каких результатов.
Около трёх месяцев назад Николай Николаевич вызвал Замшу к себе в кабинет. Войдя, помощник сразу почувствовал, что речь пойдёт о новом крупном проекте. Шеф сидел за письменным столом, окружённый облаком табачного дыма. Усы его были похожи на медленно тлеющую скирду. Дым выползал из них ленивыми зигзагами, и, казалось, что они вот-вот займутся весёлым оранжевым пламенем. Перед Шефом лежала раскрытая папка. Он внимательно просматривал её, время от времени затягиваясь сигаретой. Стряхнув пепел в керамическую пепельницу, шеф поднял глаза на Замшу и сказал:
— А, проходи, проходи, голубчик!
Глеб осторожно опустился на краешек стула. Шеф придвинул к нему бледно-голубую папку, которую только что листал:
— На-ка посмотри.
— Что это? — чувствуя лёгкое покалывание вдоль позвоночника, спросил Замша.
— Так, заводик один… — Шеф откинулся на спинку кресла и потянулся, хрустнув суставами.
Замша раскрыл папку и, увидев логотип на первом документе, удивлённо выдохнул:
— Так это же «УЗБО»!
— Тщщщ… — Шеф поднёс палец к губам. — Вслух лучше не произносить. Хороший заводик, правда? Гектары земли, недвижимости на миллионы долларов, станки, оборудование и прочая мелочёвка. Одна беда — долги. Старый директор, понимаешь, контрактик в своё время подмахнул на поставку бурового оборудования с какой-то там посреднической фирмёшкой, которая оборудованием этим на Север банчила. Он-то мужик толковый был, коммунистической ещё закваски: предоплату получил и давай контракт выполнять, а тут мы Гурдюмова на завод завели. Ты-то тогда у нас не работал?
— Нет, ещё. Я позже пришёл.
— Ну вот мы когда пердуна этого старого скидывали, там полная неразбериха творилась. Короче, оборудование это по факту никто не сделал, и бабки по-хорошему надо возвращать, но уж очень не хочется. Речь об одном миллионе. Долларов. Усекаешь?
— Так давность, поди, прошла! Это когда было-то?! В девяносто девятом году!
— В том-то и дело, что не прошла. Там срок изготовления стоял — конец две тысячи второго.
— А кредитор что? — спросил Замша.
— Кредитор пока молчит, но, как сам понимаешь, в любой момент может объявиться и потребовать назад свои бабки.
— А чего эти хотят, новые собственники завода?.. — В глазах у Замши мелькнул азарт шахматиста.
— Бабки не платить и имущество увести через реорганизацию на нормальное предприятие, а оболочку с долгами кинуть.
— Как с хладокомбинатом мы уже делали.
— Именно так.
— Это можно, — уверенно произнёс Замша.
— А я и не сомневался. Ты же у нас талант! — Шеф хлопнул его по плечу и добавил: — Я тебе в помощники дам ещё людей из отдела ценных бумаг и из отдела недвижимости. Вот и действуй.
Хорошо. — Замша радостно подхватил папку под мышку и направился к выходу.
Однако воплотить идею оказалось не так-то просто. Миноритарные акционеры стали возражать против реорганизации завода. Шеф был в ярости. Кредиторы могли объявиться в любой момент. Журналисты подняли в СМИ настоящую истерику. И тогда Замша нашёл простой и гениальный выход из ситуации. Он рассказал Николаю Николаевичу о своём плане, получил полное одобрение и приступил к решительным действиям.
К середине октября Замше удалось добыть протокол общего собрания акционеров, согласно которому все 100% голосов были отданы за реорганизацию ОАО «УЗБО». А сегодня утром курьер сдал документы в налоговый орган для государственной регистрации соответствующих изменений. Шеф ещё ничего не знал о случившемся, и можно было бы войти к нему в кабинет якобы для того, чтобы доложить обстановку по сложному делу, а потом ловко ввернуть про прибавку, но Замша не чувствовал в себе решимости. Он больше всего боялся, что в ответственный момент начнёт мямлить и запинаться, и тогда прости прощай денежки. О деньгах нужно говорить твёрдо. Нужно иметь вид такой, что деньги ты заработал. Ни в коем случае нельзя униженно клянчить. Замша ощущал внутри себя раздвоение. Первый Замша, суровый и насмешливый, кричал, что надо встать и идти к шефу. Просто идти и всё, ничего не взвешивая и не обдумывая. Ситуация сама подскажет нужные слова и нужную интонацию. Второй Замша, какой-то вялый и беспозвоночный, аморфной биомассой продавливал кресло и разглагольствовал о необходимости как следует подготовить почву. К тому же второй Замша прекрасно знал о том, что первый — предатель. Энтузиазма первого Замши хватало лишь на то, чтобы вытолкнуть второго из кресла и довести по коридору до кабинета шефа. Стоило переступить порог этого кабинета, как Первый Замша испарялся, словно дым, оставляя вялого аморфного Замшу мямлить и заикаться. Неожиданно спор между ними разрешился сам собой.
— Где этот сукин сын? — Шеф со скоростью пушечного ядра влетел в комнату. Замша вздрогнул. Женщины встрепенулись и деловито зашуршали бумагами, стали звонить и отправлять факсы.
— Где этот сукин сын? — ещё раз спросил шеф и быстро обежал помещение по периметру, заглядывая под столы и диван. Ноздри его подозрительно раздувались, всасывая воздух. Он замер посреди комнаты — коротконогий и короткорукий с большим животом и толстой шеей — и яростно шевелил пушистыми гэбистскими усами, которые остались ещё со времён службы в органах.
— Территорию метит, гад!
— Всё-таки самец, — вступилась одна из женщин.
— Кастрирую. Поймаю, кастрирую, — заволновался шеф и выбежал в коридор.
Потрёпанный, видавший виды одноглазый котяра по кличке Кутузов квартировал у шефа в кабинете и в иные дни пользовался его особым расположением, получая паёк в виде шпротов и копчёной колбасы из начальственного холодильника. Однако временами животное, совершая обход, чувствовало непреодолимый зов природы и метило территорию, как это заведено сообразно кошачьим законам, что приводило Шефа в исступлённое состояние. Понимая наличие причинной связи между гневом хозяина и своими территориальными притязаниями, Кутузов умел вовремя ретироваться в какой-нибудь шкаф и там переждать опалу, заботливо вылизывая драгоценные гениталии, избежавшие знакомства со скальпелем ветеринара.
Когда за шефом захлопнулась дверь, аморфный Замша торжествовал, он приводил тысячи доводов суровому Замше, почему не следует идти к шефу заводить разговор о зарплате именно сейчас, когда шеф не в духе. Под огнём аргументов суровый Замша сдался и перестал тиранить своего мягкотелого собрата, предварительно взяв с него обещание, что после обеда визит к шефу всё-таки состоится.
— Работаешь, Глеб Андреевич? — У Замши за спиной остановилась Инна Казанова и наклонилась над ним так, что он шеей ощутил две больших плотных груди. Ему сделалось жарко, он повернул голову и, задрав её, увидел близко от себя два плотоядных глаза разведённой тридцатилетней женщины. На одном из белков у Инны имелся дефект — небольшое бежевое пятно неправильной формы, какие бывают на коровьих шкурах. Радужные оболочки глаз пульсировали, точно ленивые голубые медузы. Зрачки расползались, будто нефтяные пятна, на поверхности океана.
— Слушай, а у тебя тут сквозит, — сказала Инна и поёжилась. — Смотри, осторожней. А то, знаешь, мне вчера ведь, кажется, почку продуло.
У неё было две любимых темы для разговора: собственное здоровье и маньяки-убийцы. Замша вспомнил, как вчера она кокетливо сказала про врача, вырезавшего ей аппендицит: «Он, знаешь, сделал мне такой маленький косметический шовчик всего с двумя стежками!» Так одна фраза непостижимым образом соединила обе темы.
— Классный галстучек… — Инна обошла его и присела на краешек стола. — Где купил?
Замша посмотрел себе на грудь, потеребил кончик галстука и ответил:
— В «Поло». Бутик «Поло» в «Сити-Центре» знаешь?
— Знаю. Теперь надо новые часики. — Инна ироничным взглядом указала Замше на его запястье.
— Да, действительно. — Замша густо покраснел и, сняв с руки часы марки «Победа» в облезлом корпусе, быстро спрятал их в карман.
— Ты сейчас несильно занят? — Зрачки Инны маслянисто раздулись.
— Да нет, в общем-то.
— Слушай, помоги мне с компьютером. Я чё-то опять не могу скопировать.
— Ну, пошли. — Замша поднялся с кресла и последовал за ней. У Инны на столе лежали женский модный журнал и толстая книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная Комната».
— Читаешь? — небрежно поинтересовался Замша.
— Угу, — детским голоском отвечала она.
Гарри Поттер и тайная комната
(сказка)

Руслан не был обычным мальчиком, хотя и жил с самыми обычными родителями и самой обычной младшей сестрой Юлькой в самом обычном общежитии на самой обычной улице самого обычного города. Руслан был волшебником, но ему приходилось тщательно это скрывать от всех, кроме меня, потому что я был его закадычным другом. Но даже мне Руслан никогда не показывал, какие волшебные фокусы он умеет делать. Все знают, что волшебникам запрещено применять магию, когда рядом есть простые люди. Зато он часто и подолгу рассказывал мне о своём волшебстве. Больше всего я любил слушать про тайную комнату, куда вёл тайный ход, расположенный в обычной комнате, где жил Руслан и его обычные родители и обычная младшая сестра.
В углу обычной комнаты стояла двухъярусная деревянная кровать: наверху спал Руслан, а внизу Юлька. В этой девочке, повторяю, не было ничего волшебного. До трёх лет она писалась, и ей стелили под простыню зелёную клеёнку. Над кроватью висела старательно нарисованная Русланом карта земных полушарий. На правом полушарии он изобразил красное пятно, которое по форме напоминало разлитый болгарский кетчуп. Это была наша Родина. Над ней парил белый голубь мира с веточкой в клюве. Рядом с голубем парил Юрий Гагарин и приветственно махал рукой. У него на шлеме было написано «СССР». На левом полушарии помещался синий квадрат с чёрными буквами «США» и ядерная бомба, похожая на гигантскую рыбину без плавников и нацеленная в сторону голубя. Рядом с США в явном противоречии с замыслом автора зелёным фломастером было коряво выведено: «МАМА, ПАПА, ДЕДА, БАБА, ЮЛЯ». При этом буква «Я» по Юлькиной прихоти смотрела в противоположную сторону.
Ниже СССР Руслан начертил ярко-оранжевый круг. Он называл его экватором и объяснял мне, что это самое жаркое место на Земле. Вокруг экватора плескалось Индийское море. Иногда по ночам кровать Руслана превращалась в скрипучий парусный корабль и доставляла его на настоящий экватор. Днём, когда я после школы гостил у него, мы тоже плавали туда, но только понарошку. Мы кипятили воду в старой кастрюле, потом ставили кастрюлю на кровать и, накрывшись двумя одеялами, вместе потели в жарком экваториальном климате. И вот однажды, когда мы так потели, Руслан рассказал мне про тайную комнату. Вход в неё открывался в стене за картой земных полушарий. Только Руслан знал хитроумную комбинацию невидимых рычагов и кнопок, которая делала чудо возможным.
Вначале, по рассказам Руслана, в тайной комнате были только солдатики: индейцы, ковбои, рыцари и первобытные люди, которые сами сражались друг с другом, стоило только оживить их волшебной водой. Однако с каждой новой историей богатства тайной комнаты приумножались. После очередного похода туда Руслан поведал мне о том, что там есть ещё и игрушечные автоматы, пистолеты, танки, самоходки и бронетранспортёры. Он упивался собственным рассказом о том, как играл этими игрушками. Постепенно оружейный арсенал пополнился саблями, мечами, луками и арбалетами. Вскоре в комнате появились автоматы с газированной водой и игровые автоматы, холодильник с «эскимо» и банановая плантация. Последним на этой горе изобилия возник огромный цветной телевизор, по которому день и ночь показывали новые выпуски «Ну, погоди!»
Однажды, набравшись наглости, я заявил Руслану, что тоже был в тайной комнате. На секунду он задумался, а потом просто спросил: «А там темно или светло?» Я выпалил наугад: «Конечно, светло!» «Дурак! — засмеялся Руслан. — Там темно!»
Помочь Инне не составило особого труда. Она и сама могла бы всё сделать, если бы не ленилась шевелить мозгами. Замша вернулся за свой стол и сел в кресло. Ему казалось, что его голова плотно стиснута с обеих сторон огромными грудями. Он хотел было приняться за работу и щёлкнул мышкой в папку на рабочем столе, но вскоре сдался и, прикрыв глаза, расслабленно откинулся на спинку кресла.
Инна. Долгое растянутое носовое «н» в середине вызвало у Замши привкус жимолостной горечи во рту. Он видел кусты, усыпанные синими ягодами. Срывал одну, стирал пальцем бархатистую пыльцу, а из-под неё смотрела тёмная глянцевая лиловость. Лиловый коровий глаз. Инна — Небесная Египетская Корова. Тёмно-синее тело, усыпанное звёздами. Огромное тяжёлое вымя, готовое пролиться на Замшу тёплым молочным дождём. Он вдруг испугался того ненасытного слепого желания, которое пробудила в нём Инна, и чем тупее был её взгляд, тем сильнее было его желание. «Она же тебя клеит, дурачок! — сказал суровый и насмешливый Замша Замше вялому и аморфному. — Иди и пригласи её вечером куда-нибудь». Аморфный Замша активно начал протестовать. Спор окончился тем, что суровый Замша плюнул в сердцах и исчез в облаке искр и дыма.
Замша бросил взгляд на часы и понял, что был «почти обед». Отрезки времени, называвшиеся «почти обед» и «почти вечер», составляли львиную долю рабочего времени. Лёгкий укол совести заставил Замшу тяжело вздохнуть. Он так ничего и не сделал с утра. Тем меньше у него оставалось моральных оправданий для того, чтобы требовать увеличения оклада.
После обеда Замша некоторое время лениво путешествовал по страницам глянцевых журналов, разбросанных тут и там в офисе, и дремал в кресле. Он с ужасом отмечал про себя, что инертное болото лени затягивает его в свои глубины, и пытался проанализировать, как такое могло произойти. Ответом стало слово «разочарование». Замша понял, что разочарован. Разочарование копилось постепенно и достигло своей кульминации не так давно, когда ему пришлось выступать с речью перед судом одной из высших инстанций. Замша целый месяц готовился к этому процессу. Дело было не из лёгких, несколько лет оно ходило по инстанциям, подлежащие применению законы, как и мнения судей, противоречили друг другу, но, изучив горы законодательных актов и судебных прецедентов, Замша распутал клубок противоречий и создал стройную систему аргументации. Он необыкновенно гордился собой, как шахматист, выигравший партию у компьютера. Система права действительно представлялась ему чем-то сродни машине, которая при кажущемся совершенстве всё же была несовершенна и то и дело давала сбои. Разрешая какой-нибудь правовой казус, Замша тем самым доказывал машине, что он её настоящий хозяин.
В назначенный день Замша вышел в центр комнаты в зале судебного заседания, встал за кафедру и внимательно оглядел судей в мантиях. Он немного волновался, но не испытывал обычных затруднений с речью. Юридический язык был той стихией, в которой он, пожалуй, чувствовал себя комфортнее, чем в стихии разговорного языка. Он начал говорить и сам поражался ясности своей речи, лёгкости аргументирующих конструкций, изяществу, с которым разбивал доводы оппонентов.
— Остановитесь на минуту, — прервали его. Он взглянул на судей, и его язык прилип к нёбу. Двое дремали, уронив голову на грудь. Остальные с отсутствующим видом разглядывали его. Ему вдруг показалось, что перед ним не люди, а соломенные чучела. Он даже поймал себя на желании подойти к одному из них и потыкать вилами в бок.
— Есть вопросы к представителю? — спросил председательствующий.
Дремавшие чучела открыли глаза, остальные неловко заёрзали.
— Ну хорошо, тогда у меня вопрос, — обратился к нему председательствующий, и Замша приготовился к изощрённому экзамену.
— Скажите, уважаемый представитель, вы считаете, что ваши требования справедливы? — услышал он и, поражаясь бесцельности вопроса, механически ответил:
— Да.
— Спасибо. Если у вас всё, можете присесть.
— У меня всё, Ваша честь, — сказал Замша и, закрыв папку, уселся на своё место.
Дело было выиграно, но Замша не испытал никакого удовлетворения от победы. Сразу после того, как он вышел из здания суда, у него зазвонил мобильник.
— Ну как? — спросил Шеф.
— Победа, — коротко констатировал Замша.
— Уф-ф-ф, — запыхтел Шеф. — Ну, слава Богу! Уф-ф-ф. Серьёзные люди постарались. Из Москвы звонили. Уф-ф-ф. Уф-ф-ф-ф. Уф-ф-ф.
Сидя в кресле после обеда и вспоминая радостное пыхтение Шефа в телефонной трубке, Замша осознавал, что и сам был чучелом, куклой в разыгравшемся фарсе под названием правосудие, глянцевой журнальной картинкой, изображавшей молодого преуспевающего стажёра адвоката в тёмно-синем костюме и галстуке цвета «аделаида». От таких мыслей начиналась депрессия, и хотелось выпить. Жизнь представлялась чередой однообразных и бессмысленных событий, — таких же, как траектория полёта надписи «Вечный ОМ» на экране монитора.
Посидев минут двадцать, Замша решительно поднялся и отправился к Шефу требовать прибавки жалованья.
Шеф, как всегда, задумчиво курил за большим лакированным столом.
— Николай Николаевич, — с порога начал Замша, — я тут. Дело тут.
— Ух, ты, новый галстук! — Шеф вскочил из-за стола и подбежал к Замше, пыхая сигаретой. — Классный галстук. Вот это молодец! Только дай-ка. — Он подтянул ослабший узел. Замша стоял и густо краснел. Ему было неловко оттого, что шеф возится с его галстуком. Сам шеф носил костюмы и галстуки от Zegna.
— Вот… — Шеф отступил на полшага, любуясь. — Совсем другое дело!
— Николай Николаевич, помните то большое дело, которое вы мне дали?
— Конечно, помню! Что там? — с интересом спросил Шеф, тяжело погружаясь в кресло.
— Документы сданы в налоговую. Сегодня утром.
— Да ты что? Молодчина! Глеб Андреевич! Молодчина! Дай-ка я… — Шеф перегнулся через стол и принялся жать Замше руку. — Я в тебе ни минуты не сомневался!
— А, это…
Замша осторожно присел на краешек стула и отчётливо произнёс:
— Я ещё вот что, Николай Николаевич.
— Что? — Шеф покрасневшими глазами посмотрел на него сквозь дымовую завесу.
— Николай Николаевич, мне бы… — В этот момент у Замши внезапно зачесалась левая голень, и он, резко нагнувшись, принялся её скрести. — Мне бы оклад, — донёсся до Шефа снизу его охрипший голос. Шеф, затушив сигарету, медленно произнёс:
— Вот смотри.
Замша выпрямился и заинтересованно наблюдал, как волосатая рука Шефа, высунувшись из манжеты и брякая по столешнице «Роллексом», рисует на листке бумаги окружность.
— Это мы. Наша коллегия, — сказал Шеф и вонзил карандаш в центр окружности.
Замша кивнул.
— В отличие от других контор мы клиенту оказываем целую кучу услуг, — продолжал Николай Николаевич. — Тут у нас и гражданские дела, и уголовные, и недвижимость, и ценные бумаги, и готовые фирмы, и банкротство, — остро отточенный грифель стремительно делил окружность на сектора, — и исполнение решений, и ещё есть свой нотариус, если нужно, и аудиторы, которые тебе какую хочешь проверку проведут, и эксперты по транспортным происшествиям. Короче, — Шеф хитро прищурился, — если человек к нам в лапы попал с одной бедой, мы его от всех других хлопот избавим, пусть только денежки платит. Где ещё есть такие конторы, как наша?
— Нигде, — согласился Замша и добавил: — В нашем городе.
— Но!.. — Шеф поднял вверх указательный палец. — Все эти наши отделы нужно координировать!
— Да, — кивнул Замша.
— Иначе всё развалится. А ты молодой талантливый парень с высшим образованием, так?
— Ну, да, — снова согласился Замша.
— И я не хочу, чтобы ты ходил всю жизнь в исполнителях.
— Понимаю.
— А ты мыслишь мелко. Как исполнитель. Сечёшь?
— Не совсем, — виновато пробормотал Замша.
— Оклад! — передразнил его Шеф. — Ну, добавлю я тебе оклада тыщи две, что это тебя спасёт? Оклад! Оклад — это тьфу. Это крошки с чужого стола, понял?
Замша молчал, не поднимая глаза на Шефа, и сильно потел.
— Исполнителей вон полно кругом, как грязи, а светлых голов единицы. А я вижу твой потенциал. — Рука Шефа прочертила в воздухе траекторию взлетающей ракеты. — И хочу сделать из тебя толкового руководителя, понимаешь? Я для этого тебя начальником и поставил пока что на «корпоративку». Кстати, как там твои бабы работают?
— Да как, работают вроде… — Замша посмотрел на огромный, писаный маслом портрет Дзержинского, висевший у шефа за спиной. Когда-то давно этот портрет Николаю Николаевичу подарил некий музейный работник.
— Ты давай там загружай их побольше. Нечего им расслабляться.
— Так я и загружаю.
— Загружаешь?
— Загружаю.
— Никому ещё промеж ног не загрузил? — неожиданно поинтересовался шеф и гоготнул, а Дзержинский похотливо подмигнул Замше из-за его спины. — А то они все разведёнки, все без мужиков, жадные до этого дела, ух! — И шеф собрал пальцы в кулак.
Замша поперхнулся и покраснел до корней волос.
— Да ладно, шучу же с тобой, — расхохотался Николай Николаевич и ткнул Замшу карандашом в плечо. — Я только одного хочу: чтобы ты со всеми своими свежими идеями приходил ко мне, — доверительно продолжал он. — Вы же, молодые, крутитесь везде. За вами, в конце концов, будущее, а не за мной.
— Так я, вроде, и прихожу, Николай Николаевич.
— Ну я и говорю. Приходи. А уж я помогу, чем надо. Деньгами или влиянием. Я вообще вот что хочу… — Шеф придвинулся ближе и перешёл на доверительный шёпот. — Я рано или поздно хочу в Испанию уехать и жить там. От дел отойти. Надо же будет кого-то во главе коллегии оставить, все связи передать и так далее. Почему не тебя? Нет, я сейчас не загадываю, но почему не тебя? Ты подумай. Буду просто тогда платить тебе не оклад, хм, — он иронически хмыкнул, — а процент с прибыли. А? Как тебе? Лучше, чем оклад? Или нет? Или тебе оклад? Оклад или проценты? Крошки или Кусок пирога?
— Ну, было бы здорово… — Замша пожал плечами и посмотрел на кончики своих ботинок.
— Что здорово?
— Ну, кусок пирога.
— Добро, — кивнул шеф. — Добро. Я знал, что ты парень толковый. Так что иди пока, подумай.
— Я подумаю, — ответил Замша. — Но всё равно заранее спасибо, Николай Николаевич.
— Не за что, не за что. Молодым, как говорится, везде у нас дорога. — Прикуривая новую сигарету, Шеф благодушно улыбнулся, показав крупные жёлтые зубы. — Ты только это самое. Ты подумай насчёт… — Он покрутил в воздухе пальцами.
— Я подумаю, спасибо, — взявшись за ручку двери, ответил Замша.
— Подумай! — вдогонку крикнул шеф.
— Подумаю, — уже из коридора бросил Замша и, закрыв за собой дверь, понял, что снова не договорился с шефом об увеличении оклада.
Досадуя на самого себя, Глеб посмотрел на часы. Желания оставаться на работе больше не было, поэтому он вошёл к себе в кабинет, сделал вид, что собирает в дипломат деловые бумаги, а после, сославшись на несуществующий судебный процесс, покинул офис и отправился на встречу со старым школьным приятелем.
IV
Граф Толстой
И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы ещё более сблизить их, но что каждый думает только о своём, и одному до другого нет дела.
Л. Н. Толстой «Анна Каренина»
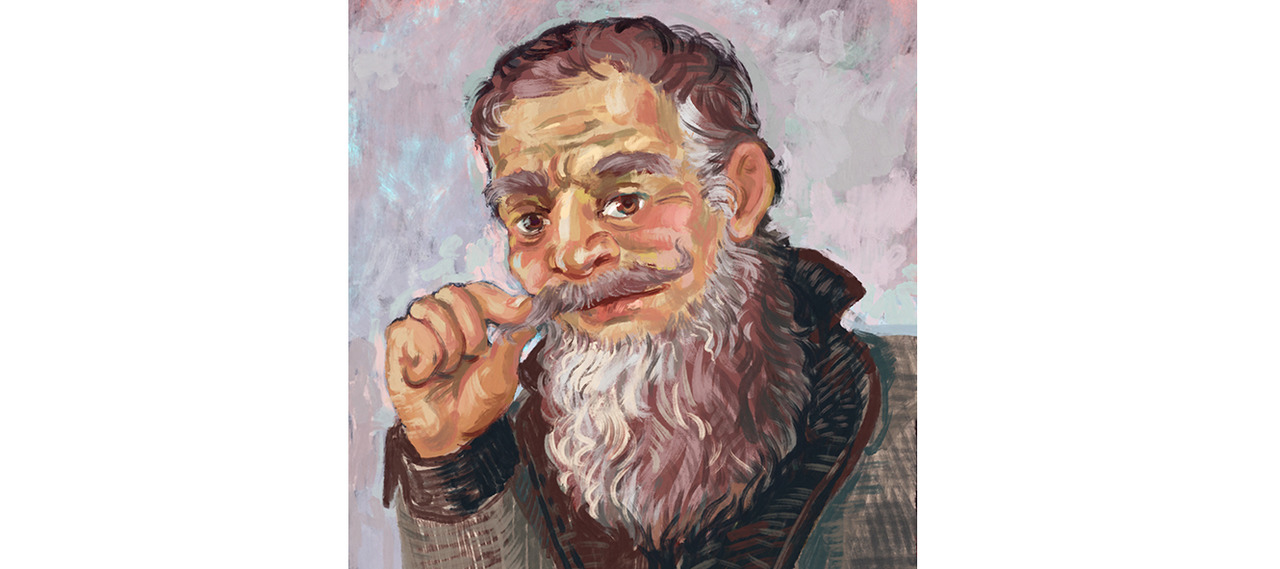
Более всего люблю я те места Торговой стороны старого Екатеринбурга, где под вывесками современных магазинов сохранился ещё нетронутым дух купеческого сословия: Покровский проспект, Купецкую слободу, Симановскую, Уктусскую и, в особенности Успенскую, улицы. Таков был когда-то русский город: низенькие особняки не заслоняли бескрайнего неба, в котором блистали только маковки церквей, размером казавшиеся с булавочную головку, и глаз человеческий чаще обращался ввысь, к горнему миру, а православная душа устремлялась к Богу. Степенно прогуливались по широким улицам пешеходы да изредка проезжали запряжённые тощими лошадёнками телеги. Суетные звуки не нарушали разлитой окрест тишины, и лишь колокольный звон плыл над крышами в строго означенные часы. А какие названия певучие были у улиц! Покровский проспект, Купецкая слобода, Успенская улица — совершенная музыка!
В последнее время я часто поджидал Замшу неподалёку от перекрёстка Симановской и Успенской улиц, там, где располагался бывший дом городского головы И. И. Симанова, весь покрытый ажурною лепниною в стиле французского рококо, и в голову мне приходили мысли о том, что хорошо было бы жить в эдаком вот доме, чтобы летом каждое утро в мягких турецких туфлях с загнутыми носами, халате и ночном колпаке, с кружкою кофию в одной руке и курительною трубкою в другой, выходить на балкон, украшенный затейливейшей чугунной решёткой (сказалась местная традиция), и, щурясь, глядеть, как лениво почёсывается сидящий на козлах ямщик, ожидающий меня у парадного, как торговый люд снуёт по Успенской улице мимо вывесок вроде: «Нитки», «Бумага», «Складъ», как оборотистые купчики открывают свои лавки, расположенные в цокольных этажах собственных усадеб. У меня и у самого было бы несколько табачных да мясных лавок где-нибудь на Торговой площади подле Мытного двора, где в то время помещалась гостиница «Рим», и я бы рассеянно улыбался, мысленно подсчитывая барыш, а дети мои, выбежав на балкон и окруживши меня, с криками: «Тятя, тятя!» — дёргали бы за кисти моего халата. Следом за ними появлялась бы моя супружница, женщина вполне кустодиевского склада, высокая, полная, с круглым белым лицом и маленькими вишнёвыми губами, и одаривала бы меня спелым и сочным поцелуем.
Замша являлся, по обыкновению, с опозданием и своим появлением развеивал мои сладкие мечтания. Он подчёркнуто высокомерно носил серое, мышиного цвета пальто с английским воротом, щеголеватый тёмно-синий строгий костюм в полоску, сшитый из тонкой шерсти, и чёрные остроносые итальянские ботинки на тонкой кожаной подошве. Пуговицы пальто были небрежно расстёгнуты, как и нижняя пуговица пиджака, а галстук цвета «аделаида» повязан был чрезвычайно крупным узлом, который с трудом умещался даже под тупоугольным итальянским воротничком. В левой руке Замша крепко сжимал кожаный дипломат. Без этого чёрного прямоугольного предмета чувствовал он себя неуверенно, но стоило его пальцам плотно сомкнуться вкруг гладкой кожаной ручки и ощутить направленную к земле тяжесть, как спина его выпрямлялась, походка становилась упругою, а во взгляде сквозил холодок. Дипломат словно был неотъемлемой частью его руки, главной деталью всего облика Замши. Привлекая внимание своей массивностью, своими правильными острыми очертаниями, своей чернотой с зеркальным отливом, холодным блеском металлических кодовых замков, Дипломат незаметно совершал подмену и сам становился Героем, а Замша превращался во второстепенное дополнение к нему. Мне горько было наблюдать, как старинный мой школьный приятель, с которым мы, случалось, обсуждали тайны мирозданья, сидя после уроков у меня на кухне, который бился в поисках смысла жизни и высказывал порой нетривиальные суждения о бытии, всё более и более обращался в пустой тёмно-синий деловой Костюм и чёрный кожаный Дипломат.
Встретившись, я и Замша приветствовали друг друга на старинный манер, и это приветствие задавало тон всей остальной беседе, которая лилась плавно и неторопливо и напоминала речь персонажей классических русских романов. Традиция эта повелась, кажется, с тех пор, когда случайно в каком-то из закоулков мы набрели на киоск, где продавалось разливное пиво. Киоск прятался под резными кленовыми кронами и видом своим напоминал не то маленький сказочный терем, не то пчелиный улей. У круглого оконца нетерпеливо жужжали потрёпанные жизнью, густо обросшие волосом господа. В руках у них, будто бы по щучьему веленью, возникали грязные пол-литровые кружки, полные вулканически пузырившегося напитка, и ноздреватая пена, вздуваясь белоснежною шапкой, тяжело опадала вниз по толстым стеклянным стенкам. Господа дули на пену, отчего её хлопья летели в разные стороны, и не спеша, с серьёзными и даже чуть хмурыми лицами утоляли жажду. Господи! Какая же вдруг при виде их резала душу меланхолия! О, где же те времена, когда мой батюшка готов был с шести утра занимать очередь за разливным «Жигулёвским»?! И я тянул Замшу к сказочному улью, к самому оконцу, в котором добрые красные руки продавщицы тотчас услужливо отвинчивали кран, и пиво пенной струёю щедро хлестало в вовремя подставленный целлофановый пакет, сначала безвольно повисавший в сильных пальцах, а затем на глазах обращавшийся в плотный золотой пузырь.
— Ого-го-го, — обернул я к Замше предовольнейшую физиономию. — Ну и дела, стало быть!
— Что же такого? — изумился он.
— А пиво-то у них, вообрази, называется «Граф Толстой»!
— «Граф Толстой»? — переспросил Замша и, хохотнув, добавил: — Во дают, черти полосатые, «Граф Толстой» — классическое!
Пиво имело своеобразный, далеко не классический вкус и ещё более необычное послевкусие, и, вероятнее всего, мы не стали бы его пить во второй раз, если бы оно не придавало какую-то витиеватость нашей речи и не делало её похожей на речь персонажей классических русских романов. Открыв необычные свойства пива «Граф Толстой», мы всякий раз наведывались сперва к волшебному киоску, а затем уж искали какой-нибудь уединённый двор, где сохранился прежний, знакомый нам с детства уклад, где были песочница и грибок, качели и футбольный корт, где сушилось на верёвках бельё и где, казалось, печально звучала одна пронзительная ностальгическая нота. В таком дворе обыкновенно скамеек не было и в помине, и мы усаживались на какую-нибудь корягу, засыпанную опавшими листьями. Замша неохотно отпускал дипломат и некоторое время изрядно переживал за своё дорогое пальто и костюм из тонкой шерсти, то и дело снимая с лацканов прилипшие веточки и листья, но, употребив первые пол-литра, принимал положение совершенно расслабленное и забывал об одежде.

— Скажи, а давно ли ты был с женщиною? — спрашивает Илья. Улыбается зверски, во весь рот. Улыбка раздвигает заросли на роже, густые, русые с огненными прорыжинами. В школе и кличка у него была Рожа! Зубы крепкие, белые, ровные, сверкают. Что хочешь жернова перемелют. Давно ли был с женщиной? Какого чёрта ему интересно? Его зубы хищно кусают пакет с пивом, крутят, рвут целлофан. Тьфу! Изжёванный кусочек целлофана на землю летит. Пенный фонтан бьёт из дыры. Он пьёт жадными крупными глотками. Пиво струится по подбородку, оседая в бороде. Несколько капель попадает на воротник. Ему не страшно. Рубашка джинсовая. А мне надо аккуратнее. Пальто. Пиджак из тонкой шерсти. Рубашка «Даниель Эштер». Чёрт!
— В каком смысле?
Зачем я переспросил? И так понятно. Чтобы время оттянуть, наверное.
Илья разулыбался ещё шире:
— В прямом.
В прямом. Когда я последний раз спал с женщиной? Никогда. Правду сказать? Раздражает его наглая напористость, с которой он лезет. Облитый пивом жирный подбородок. Жирный потный загривок. Он изменился. Обыкновенный грубый мужик. Любитель дешёвого пива.
— У меня ничего такого с женщиною ещё не было. — А почему так виновато? Чёрт! И глаза у меня почему-то бегают.
— Как же не было? — Губы его разрумянились и блестят от пива. Сверкают и глаза, маленькие, умные, из-под глыбистого тяжёлого лба. — В двадцать четыре года ты ещё, стало быть, девственник?
— Выходит, так.
— А как входит? — хохочет. Зачем я сижу с ним на этой коряге?
— В чём дело, дружище? — это он меня. И рукой по плечу. Дружище?
— Ну, не знаю. Честно признаться, не умею я с ходу раз и готово, — опять отвожу глаза. Он смотрит насмешливо. Жирные складки на подбородке. Языком ощупываю коренной зуб. С-с-с-с. Кажется, кариес. Что это? Кусочек мяса застрял. С обеда. Он следит внимательно. Всё замечает. И моё смущение тоже. Что-то надо сказать.
— Я ведь не подросток уже, у которого гормоны кипят, — поспешно объясняю и будто оправдываюсь. Чёрт! — Мне женщину надо сперва хорошенько узнать, привычки её, прихоти. В душе разобраться, в характере, а потом уж и к делу.
— И к телу! — сверкает крепкозубой белокипенной улыбкой. От пивной горечи язык будто съёживается во рту. Тело.
— Тело у всех одно и то же с небольшими, быть может, особенностями. Душа! Вот что женщину отличает одну от другой. А как сексуальные объекты все женщины одинаковы и мне абсолютно неинтересны. — Вот это я загнул!
— Позволь же не согласиться с тобою! — расправляет усы. — Тело у каждой — особенное, — с каким-то трепетом в голосе произносит. — Даже половой орган уж, казалось бы, насколько должен быть одинаков, а и то у каждой женщины имеет он свои неповторимые черты! Чего уж говорить о любви. Одна в постели рычит, другая стонет, третья мяукает, одна закрывает глаза, другая держит их открытыми — целое море различий. Как в музыке: всего семь нот, а из семи нот сколько мелодий! Надо только уметь играть. Надо уметь пальцами пробегать по струнам. — Его пальцы шевелятся, будто и вправду под ними струны. — Улавливать ритм, слышишь? Женщина — это музыкальный инструмент. Умеешь играть — услышишь музыку, не умеешь — будешь всю жизнь извлекать одну и ту же постылую гамму. — И он, довольный сравнением, отхлёбывает пиво.
Пошлое довольно сравнение. Избитое к тому же. Женщина — инструмент. Гитара? Скрипка? Виолончель? Какой бы ни был, но всё равно инструмент. Инструмент для кого? Будто у женщины нет души.
А характер, — добавляет Илья, — характер у каждой женщины одинаковый. Скверный и бабский.
Циник! Пиво льётся мне под язык. Язык развязывается. Хочется откровенничать. И я говорю не спеша, лениво ворочая тяжелеющим языком, снова пью, и на губах выступает горечь, и голова, слегка хмелея, гудит, как колокол, и душа ширится и растёт, обнимая двор, в котором мы сидим, а двор обнимает нас за плечи, а дома обступают двор, а небо висит над домами, как серенькая тряпица на верёвке, и точно такая же тряпица висит на одном из балконов одного из домов, воробьи прыгают по асфальту, подбирая крошки, я наблюдаю воробьёв, а воробьи наблюдают меня. Подбирая слова с самого дна моей души, откровенный и искренний, как никогда, я несу их Илье.

До чего же чудесен и тих глухой осенний двор, окружённый брежневскими домами! Теперь, в начале ноября, он лыс и гол, и весь подёрнут сизой старческой дымкой, висящей вкруг скрючённых чёрных стволов. А каких-то две недели тому назад здесь царила пышная золотая осень. Старые канадские клёны будто бы были погружены в дремотное солнечное облако, в просвеченной насквозь лимонной сердцевине которого темнели их стволы и прихотливые рисунки ветвей. Рядом с клёнами свежо розовели прихваченные первым морозцем, курчавые, как головы цветной капусты, яблони, соком исходили оранжевые, словно тыквы, боярышники и баклажанного цвета рябины, густо обсыпанные тёмно-красными гроздьями ягод — всё было спело и пышно и напоминало плодовые и цветочные горы, высоко наваленные на прилавки осенних базаров. А сейчас, увы, от былого великолепия осталась одна только бурая слякоть у нас под ногами и голые, жмущиеся друг к другу от холода одинокие стволы.
— Я, кажется, иначе совершенно устроен, чем ты, — с каким-то воодушевлением рассказывал слегка захмелевший Замша, и парок выходил у него изо рта. — С одной стороны, я часть всей той глупости, которая называется половыми отношениями. Потому что ведь, согласись, глупо выглядят со стороны эти жалкие механические движенья! В них же ничего нет человеческого. Туда-сюда, туда-сюда, как какой-нибудь заведённый поршень в машине. Просто реализуется заложенная программа.
Слушая его, я наблюдал за тем, как осенний двор пересекала молодая женщина в коротком бежевом пальто. Цоканье её каблуков вспугнуло воробьёв, и они взметнулись лёгкою серою стайкой. Её длинные сильные ноги, будто ножницы, энергичными взмахами резали воздух.
— Я сам принадлежу к агрессивному полу, я по эту сторону черты, в стаде задиристых самцов, — доносился до меня взволнованный голос Замши, — но при этом я не вожак, не альфа-зверь. Мне природа будто не додала агрессивности, поэтому я испытываю неприязнь к такого рода занятиям, как, скажем, спорт, секс, политика, ко всему тому, где выигрывать надо, насиловать или побеждать.
Я насмешливо поглядел на приятеля, и он, смущённый моим взглядом, отвёл глаза в сторону и языком принялся ощупывать одну за другою коронки своих коренных зубов. Пальцы его неуверенно мяли пакет с пивом. Иногда Замша напоминал мне плотно укупоренную бутылку архивного вина, которое постепенно превращается в смолу, не испытывая внешнего воздействия.
— Ну разумеется, ты иначе устроен! — воскликнул я с улыбкою. — Ты не такой как все! И не думай, пожалуйста, что ты первый дошёл до этого. Каждому человеку свойственно заблуждаться насчёт собственной индивидуальности. Между тем истина состоит как раз в том, что все мужчины одинаковы и все женщины тоже. Мужчина и Женщина только отличаются друг от друга, потому что Господь Бог так устроил. — И я отхлебнул прохладного пива.
Вереницы солнечных пузырьков, будто мальки, играли друг с другом в илистой мгле на дне пакета, всплывали и постепенно сливались в один большой пузырь. Ветер кружил по двору остатки опавших листьев.
— Но ты же вот только что говорил совершенно обратное! — удивился Замша. — О том, что нет одинаковых женщин, и каждая ведёт себя в любви по особенному!
Дверь одного из подъездов отворилась, выпуская коренастую старуху в домашнем халате и шерстяной вязаной кофте зелёного цвета. Грубое её, почти мужицкое татарское лицо ничего не выражало, а жиденькая седая косичка топорщилась сзади кисточкою. На плече у старухи, переломившись пополам, покоился свёрнутый в трубу палас с желтоватыми подтёками крепко въевшейся, очевидно, кошачьей мочи. Хмелевая горечь таяла у меня во рту.
— Я говорил о том, Глеб Андреевич, — отвечал я, — что нету на свете одинаковых женских тел, что же касается душевного устройства, то оно у всех женщин абсолютно одинаковое и у всех мужчин тоже.
Скрип и хлопанье затворившейся двери напугали охотившуюся на воробьёв кошку, которая шуршащей крапчатой тенью шмыгнула в подвал.
— Но вот же я! — горячился Замша. — Вот я — человек, абсолютно тебе противоположный, не похожий на тебя ни малейшим образом!
— Ошибаешься, братец ты мой. Мы с тобой — два сапога пара. Мы похожи с тобой, как две капли перцовки. Ты просто ещё не знаешь этого, потому что не пробовал жизни. Попробуешь и поймёшь, что такой же.
— Что же это означает, позволь спросить? Я что же, по-твоему, не живу теперь?
— Живёшь, но как-то отстранённо. Как зритель, которому очень хочется быть актёром, но который боится, что ему не хватит мастерства, и потому не выходит на сцену. А жизнь такой трусости не прощает. Жизнь любит смелых. Тех, кто испытывает себя постоянно. Их она награждает. Вот я, например, вчера был с такой потрясающей женщиной! — Я улыбнулся широко во все зубы и с вызовом поглядел Замше в глаза. Мне вспомнился вдруг вчерашний сказочный вечер. Как люлька, качалась уютная комната-келья, оплывала на блюдце свеча, и похожий на монаха плюшевый заяц таился где-то в тёмном углу на её кровати. Воспоминания детства прятались так же точно в закоулках её сознания. Напряжённо звенела тишина, она размешивала ложечкой сахар на дне кружки, а потом звон перешёл в тихий шёпот и розоватую нежность, в море зыбящихся округлостей, которое тёплой волной накрывало меня, густое и вязкое, как желе. Несколько раз я вздрагивал, качался и, наполнившись до краёв, падал опустошённый, забывался, чтобы воскреснуть с чувством выжигающего стыда.
— А как же Таня? Твоя жена? — с наивным возмущеньем спросил Замша.
— А что жена?
— Выходит, ты изменил ей, и тебе не стыдно теперь?

— Какой стыд, там такие сиськи! — бодро хохочет Илья и с удовольствием мнёт целлофановый пакет с остатками пива. Опять эти зубы и подбородок! Бородатые щёки горят, будто обсыпанные медной стружкой. Здоровая кровь прилила. Румяный свежеиспечённый калач! Рассказывает мне сейчас. Доказать хочет, что полноценный самец! Как с ним Таня? С этим животным?
— Хотя чего уж там греха таить, стыдно, конечно, — помолчав, кивает головой и тут же: — Но это глупый, какой-то ненужный совершенно стыд! И я знаю, кто в этом виноват. Всё он.
— Кто?
— Антуан де Сент-Экзюпери!
— Хм?
— Мы в ответе за тех, кого приручили. Это как болезнь. Я чувствую за Таню ответственность, хотя должен ли?
— Экзотическая французская болезнь — экзюперизм.
— Вот-вот! Экзюперизм! — радуется Илья. — Сам придумал?
— Ага, только что.
Упц! Упц! Что за хлопки? А. Старуха-татарка ковёр хлопает. Звонко и сочно лупцует. Упц! Упц!
Кто я? — Точно поезд грохочет у меня в голове. — Неполноценное животное. Неудивительно, что Таня с ним. Он-то ласкает её, маленькую, мнёт ручищами, терзает всю ночь, обдавая жаром своего дыхания, шоркая до красноты щетиной. Он растоптал её, унизил, уничтожил и снова слепил, и, рождённая вновь, утром она засыпает у него на плече, другая, преданная ему до конца, для него лишь предназначенная, благодарная.
— Отчего только все женщины так ко мне привязываются? — смотрит на меня умными ярко-голубыми в тёмно-серую крапинку глазами. Как у камышового кота. Будто сам не знает. — Ведь я же во всех отношениях сволочь! Возьмём хоть вчерашний день. Я изменил жене. И ты спрашиваешь меня: «А как же Таня?» И я вчера себя об этом же спрашивал. Ты не думай, я ведь тоже не скотина. В Бога верую и прекрасно понимаю, что такое грех. Казнился страшно. Она же, ну как назло, ластится ко мне, точно кошка! Что же я? Посуди сам: не мог же я во всём чистосердечно признаться, но и тайно виноватить себя не мог. И знаешь, что я сделал? Я как подлец поступил. Использовал какой-то незначительный предлог и Таньку довёл до того, что она разозлилась, наговорила мне грубостей разных. А мне же только того и надо. У меня повод появился на неё наорать и почувствовать себя правым во всех отношениях. Вот. Она тоже в крик, в слёзы. Истерика у неё, а я знай себя подстёгиваю. Эх, понеслась душа в рай! И я вот сейчас думаю: то ли я сделал, когда женился на ней? Разве нужен ей молодой негодяй вроде меня? Нет. Ей человек серьёзный нужен, лет на пять постарше. А я ей только жизнь порчу. Иной раз думаю: а может, была не была, разбежаться нам в разные стороны, а то потом поздно будет. Взять так и, знаешь, как топором, жахнуть со всего размаху — ухожу, мол, и точка!
Наконец-то! Наконец-то! Илья, тот самый, мой друг, проглянул сквозь зверскую личину, сквозь довольную улыбку бабника и жирный подбородок. Русская душа. Терзается. Исповедь и Самобичевание. Как у Достоевского.
— Да как же уйти? — спрашиваю его. — Ведь вы уже сколько лет женаты? Пять или шесть?
— Шесть, — отвечает, — и сегодня у нас, представь, годовщина!
— Точно! Да как же это я забыл!
— А я не забыл, — говорит и глядит куда-то в сторону. — Я сделал вид, что забыл.
— Постой! А Таня, она же помнит. Она-то, наверняка, хотела бы как-нибудь отпраздновать.
— Она-то хотела, да я не хочу. Вот в чём фикус.
Он невесело усмехнулся.
— Что ты делаешь, Илья? — спросил я серьёзно.
— Пиво пью… — Он поднял вверх мешок с пивом, иллюстрируя свой ответ.
— Ты же сам всё разрушаешь!
— Всё и так уж давно разрушено.
— Почему? — горячо удивился я.
— Потому что я не хочу свою жену. Потому что невозможно хотеть одну и ту же женщину шесть лет подряд, и моей вины в том нет. Просто всякий мужик так устроен.

— Вот видишь, вот видишь! — неожиданно торжествующе вскричал Замша, будто бы уличил меня в преступлении. — Это только лишний раз подтверждает!
— Подтверждает что? — опешив, не понял я.
Я ожидал от Замши чего угодно: сочувствия, упрёка, дружеского совета — но только не того, что слова мои будут использованы против меня же в качестве аргумента в нашем споре о женщине.
— Все твои проблемы оттого, что ты смотришь на женщину как бы сквозь мутные очки, — волнуясь, продолжал Замша. — Она для тебя всего лишь объект твоей похоти. Ты вдоль и поперёк исследовал её тело. Оно тебе наскучило, и ты бросился в погоню за новым. А душа? Душа Танина? Ты говорил с ней хоть раз по душам? Стал ты ей другом? А между тем, ведь дружба мужчины и женщины настолько тонка, настолько отличается от дружбы между мужчинами! Мужская дружба, понимаешь, вечно подозрительна, имеет привкус соревнования, борьбы, конкуренции. Даже мы с тобой соревнуемся. Друг другу что-то доказываем. Доказываем, кто из нас лучше. Пусть бессознательно. Но это так! С женщиной — наоборот. С ней можно по душам. Особенно с такой, как твоя Танька. Она человек замечательный, с тонкой душой и умная. А во время разговора сколько телесного контакта, поверь, никак не связанного с сексом! Понимаешь, женщина больше, чем словами, может сказать прикосновением простым. Берёт за руку, и это у неё, как бы объяснить, — это просто способ общения, её тепло сообщается мне, она говорит, но не словами, а этим теплом, этим размеренным током крови там, внутри, этой пульсацией живых клеток… А что у мужчин? Не дай Бог, какое прикосновение! Что ты! Начинаются разные гомосексуальные фобии! Ой, не педераст ли я?
Не выдержав, я громко расхохотался в ответ на пространное рассуждение Замши.

Чего хохочет-то? Что я смешного сказал? Даже слёзы у него на глазах выступили от смеха. Рожа блестит, как самовар.
Ну, насмешил!.. — И снова гомерический хохот. Циклоп.
Машет ручищами.
— Замша, Замша, вот и видно, что ты никогда с женщиною близко не общался! Ой, насмешил! Ну я-то абсолютно точно не педераст, и различных гомосексуальных фобий у меня тоже нет. А за то, что ты меня рассмешил, я тебя сейчас прямо здесь вот возьму и троекратно по-русски расцелую в обе щеки!
Тянет ручищи. Ко мне.
— Нет, куда ты! Стой! Не надо!
— Поздно, брат. Теперь-то чего уж? А ну-ка не извольте противиться, любезный вы мой Глеб Андреевич, сейчас я Вас лобызать стану за Ваше необыкновенное остроумие!
Целует меня. Слюнявит и колет мне морду. Отпускает. Тьфу. Отфыркиваюсь. Пиджак помял, сволочь!
— Ой, насмешил!.. — От смеха он расслабился, как после бани. Потный лоб утирает ладонью. — Фу-у-у-у. Запомни, — пристально глядит мне в глаза, — дружбы между бабой и мужиком не бывает! Это так же верно, как то, что мы с тобой здесь сидим и пьём пиво, понял?! Не бывает! Выброси эти свои мысли из башки. С такими мыслями жить нельзя. Ой, смех один. Послушай же, как можно дружить с человеком, который только и делает, что требует и требует от тебя, но при этом ничего не даёт взамен!
— Да как же так? — спрашиваю.
— Объясняю, — тоном терпеливого учителя отвечает. — Вот Таня, не имея собственных интересов, использует меня, как затычку! Ей скучно, а я должен развлекать. Человек вообще не понимает, что иногда, например, я не в настроении шутить. Это сразу воспринимается: ты что — не рад меня видеть?! Ещё с возмущением, со слезами. А того в толк не возьмёт, что я просто не могу, как идиот, как паяц, как шут гороховый с бубенчиками, всё время радоваться и приплясывать вокруг неё! Одно простое объяснение на все случаи жизни: ты меня не любишь, а иначе, если бы любил, ты бы, ну и дальше, пошёл бы со мной в театр, не стал бы приглашать меня в глупый театр, а позвал бы на крышу дома пить вино и смотреть на звёзды, купил бы мне цветов, не купил бы мне эти пошлые цветы, а купил бы котёнка, поцеловал бы меня со всею страстью, а не просто чмокнул, ну и так далее. Никогда не знаешь, чего от тебя ждут. И заметь, словами не скажут, чего же собственно нужно! Это же слишком просто, если словами. Ты тогда сделаешь, как сказано, и не за что будет обидеться! О, женская логика! Только подумай, надо, чтобы ты догадался. Сам догадался, чего же она хочет! Но самое главное, это называется не капризностью, не избалованностью, а женской непредсказуемостью, загадочностью и подаётся как величайшее достоинство! Как сокровище, которое на тебя свалилось, но которое ты по глупости не можешь оценить! Ну, и какая же, к чёрту, дружба?! — спрашиваю я тебя. Здесь дружбою даже и не пахнет. А вот у нас с тобой дружба. А знаешь, почему? У нас нет корыстной заинтересованности друг в друге. Мы друг друга не хотим использовать. Сидим и просто пьём пиво. А у бабы одна цель — зачать от тебя ребёнка, и она, даже этого не осознавая, всегда, понимаешь, всегда инстинктивно пользуется тобой как материалом для зачатия. И то, что ты говоришь, будто на тебя женщины не смотрят как на самца, — полный бред!!!
Закончив, бородач выжимает в себя остатки пузырчатого пива из мешка.

— Так что же? Женщина, выходит, самка? — спросил меня Замша, и лицо его вытянулось от удивления.
— Самка и есть, — отвечал я ему, бросая под ноги пустой мешок из-под пива и вытирая усы и бороду. — Натуральное животное, как и мужик, впрочем, но только женщина, скажу тебе по опыту, большее животное.
Мужчина в клетчатой рубашке и синих трико с поместительными пузырями на коленках, куривший у одного из подъездов, неприязненно покосился на нас с Замшею и, швырнув окурок на землю, затоптал его ногою. Я вспомнил вдруг, что в нашем подъезде на первом этаже жил когда-то дядя Коля, который тоже целыми днями стоял на улице и курил. По всей видимости, он только числился на какой-нибудь работе, но в действительности на неё не ходил, ибо во всякое время суток: и утром, и вечером, и даже позднею ночью — можно было увидеть возле подъезда его тощую фигурку в тельняшке при тёплой погоде, в курточке цвета хаки или куцей шубейке в холода. Многие обитатели подъезда, возвращаясь домой в сумерках, при полном отсутствии фонарей безошибочно находили дорогу к подъезду, ориентируясь по красноватой звёздочке дяди Колиной папироски, мерцающей в темноте. Встречая их у дверей, словно привратник, дядя Коля приветственно поднимал руку и бросал какую-нибудь ничего не значащую фразу вроде: «Ну-ну, холодно нынче». Однако дядю Колю вовсе нельзя было упрекнуть в праздности. Если кто собирался съезжать с квартиры или, напротив, заселяться в дом, он был первый помощник; деятельно засучив рукава, хватался за угол шкафа или дивана, расталкивая изумлённых грузчиков, и громко, с удовольствием кричал: «Та-а-а-ак, ребятишки, щас на попа будем ставить, на попа!» От денег, которые ему предлагали за помощь, он неизменно и твёрдо отказывался, зато на новоселья обязательно ходил. Если же у ребятишек во дворе случалось какое несчастье: ломалась ли игрушка или соскакивала цепь у велосипеда, — дядя Коля и тут приходил на помощь, подолгу возился со сломанной вещью и, наконец, починив её, отходил весь сияющий и перепачканный.
— Всё у тебя выходит как-то однобоко! — воскликнул Замша. — И от этого ты меня вовсе не так понимаешь! Секс, безусловно, хорош, и с этим никто не спорит, но есть и другая нефизическая сторона отношений. Я, если хочешь, эстет и способен наслаждаться этой нефизической близостью, поэтому любая женская компания принимает меня скоро и не как некое инородное тело. При мне они ведут себя естественно, искренне даже. Появись мужчина-самец, он немедленно всё испортит, разбудив инстинкты женщины-самки: кокетство и прочее. Мужчина-самец груб. Он нужен женщине, действительно, как ты говоришь, только для того, чтобы зачать ребёнка. Она и отдаётся ему единственно ради этой цели, но никогда не открывает души. Я же безобиден…
Не слушая Замшу, я пошарил в кармане и, вынув руку, почувствовал сладковатый клубничный запах. Немедленно вспомнилось, как вчера, остановившись у аптеки, я приказал ей: «Жди меня здесь». «Ты куда?» — спросила она, хотя по глазам было видно, что догадалась. «Сейчас зайду витаминок куплю», — пошутил я. «Я с тобой». «Не надо. Я быстро». Пока стоял в очереди за презервативами, мне виделась её смутно темнеющая сквозь стекло фигура и надпись на стекле в обратную сторону: «Аптека». Какие груди, Бог мой! Грудей таких отродясь не видывал! Презервативы были только с клубничным запахом, и я с какою-то отчаянной решимостью приобрёл три упаковки. И не пожалел вовсе. Бог мой, как она отдавалась!
— Послушай же ты опытного человека, дурья твоя башка! — перебил я Замшу. — Ты вот этим своим эстетством женщину только оскорбляешь. Ей ты в качестве друга не нужен. Она только того и ждёт, что ты возьмёшь её и будешь для неё Хозяином, понял? Строгим, но справедливым. И никакого либерализма. Либерализму и в политике-то не должно быть места, а уж в отношениях с женщиною и подавно.
— Как это возьмёшь? Что значит возьмёшь женщину? — удивился Замша.
— А так: поднимаешься к ней после свидания на чашечку кофе и в прихожей помогаешь раздеться. Снимаешь с неё пальто там или плащ. Вот так, — двумя руками я изобразил, как нужно помочь женщине, — и в этот момент наклоняешься и целуешь её сюда, в шею, можно даже укусить слегка, главное не переборщить, и всё — она твоя! В башке у неё что-то происходит, какой-то инстинкт подчинения срабатывает. Главное, потом, если отношения начнутся, ни в коем случае не упускать это твое доминирование, иначе кирдык — баба тебя верхом оседлает и уже не слезет. Вот в чём фикус!
Невдалеке маленькая плотная дворничиха катила тележку с двумя огромными закопчёнными мусорными бачками, на которых красною краскою выведены были две загадочные буквы «ЮЩ». Мужчина у подъезда приветственно махнул дворничихе рукой и сказал: «Бог в помощь».
— Ну, это уже домострой какой-то, — протянул Замша. — Ты оглянись! На улице-то двадцать первый век. Эмансипация.
— Вот и плохо! Эмансипация — это что же такое? Это когда бабы ведут себя, как мужики. А обратная сторона этого процесса? А? Мужики как бабы. Всё шиворот-навыворот. А кто же любит у нас извращать то, что Богом задумано? То-то, что дьявол. Так что вся эта Ваша, с позволения сказать, эмансипация, Глеб Андреевич, непременно от лукавого!
В этот момент тишину двора нарушила назойливая мелодия мобильного телефона.
— Это у тебя, — сказал я Замше.
Он нажал кнопку принятия вызова и произнёс:
— Алло.
Потом, прикрыв трубку рукой, посмотрел на меня и одними губами сообщил: «Андрей». Я понял, что звонил наш бывший одноклассник Андрей Гриневич.
— Где? — спрашивал Замша. — В Тинькове? Когда? Да передам, он здесь. Хорошо. Мы приедем.
Закончив разговор, он посмотрел на меня и сказал:
— Схема созрела.
Помятые закопчённые мусорные бачки ударялись друг о друга, когда тележка подпрыгивала на кочках, и, будто литавры, производили оглушительный грохот, сопровождаемый визгом и скрипеньем несмазанных осей. Потёкшая вниз распластанная красная «Ю» и такая же «Щ», как две огневушки-поскакушки, кружились под руки в бешеной свистопляске, напоминая финальное видение Венички Ерофеева. Кусок картофельной кожуры, свисавший через край бачка, вываливался всё более, пока, наконец, и вовсе не вывалился на землю, где был безжалостно растоптан резиновым сапогом дворничихи. Илья и Замша, отяжелев от пива, покидали двор, и вслед им с помойки тянуло дымком и какой-то протухшей кислятиной. Ветер принёс чёрный хрупкий и лёгкий, насквозь обугленный лист из подожжённой дворничихой мусорной кучи. Куча пыхтела, как осьминог, выпуская из-под себя чернильные клубы, оседала и съёживалась, охваченная язычками рыжего пламени. Мужчина у подъезда вновь закурил и неприязненно посмотрел в спину двум удалявшимся чужакам. Брошенная им на землю и не до конца растоптанная сигарета ожила и мерцала теперь огненным глазком, который обугливал, поедал белую бумагу, приближаясь к золотистому фильтру и испуская вверх длинную тонкую струю сизого дыма.
V
Заметки на полях меню
(эссе)

О мужском одиночестве
(ирландская кухня)
Я сидел в уютном заведении под названием «Ирландский дворик», пил «Гиннес», как всегда горький и чёрный, со вкусом дубовой коры, с нежной кремовой пенкой и, разглядывая зелёные стены, думал о мужском одиночестве, — таком же горьком, как «Гиннесс», но и таком же чертовски приятном!
На столе лежал свежий, пахнущий краской олигархический «Коммерсантъ». Краем глаза я скользил по заголовкам, но мысль о мужском одиночестве не отступала. Она зародилась давно и со всей ясностью проявилась сегодня, когда в обеденный перерыв я заглянул в парикмахерскую.
— Волосы помоем? — спросила парикмахерша и будто предложила трахнуться быстро и по-животному. Ей было лет тридцать, а руки у неё были… м-м-м-м, что за руки у неё были! Мягкие, как губка, и пахнущие шампунем! Только дурак отказался бы от этих рук. Я молча прошёл к раковине, усадил себя в кресло, запрокинул назад голову и, услышав, как парикмахерша открывает кран, следом за звуками журчащей воды провалился в тёплое блаженство женских мыльных ладоней. Мою черепную коробку осторожно вскрыли и, запустив нежные пальцы прямо между распухших извилин, бережно ласкали их дрожащую суть. О! Сидя с плотно закрытыми глазами, я испытывал чувство, близкое к оргазму, и понимал, что привык получать женскую заботу и ласку за деньги. Парикмахерши моют мне голову и стригут волосы, официантки подают пищу, уборщица чистит квартиру, стирает и гладит одежду, массажистки разминают уставшие мышцы, стриптизёрши возбуждают, а бляди удовлетворяют потребности в ебле. «О! — воскликнет иной допотопный моралист. — Поставил на одну доску честных женщин и шлюх!» А что? Услуги парикмахера так же интимны, как и услуги уличной девки. Все части моего тела абсолютно равноправны (это признает теперь любой), поэтому какая разница, получит ли женщина деньги за то, что прикоснётся к моей голове или к члену? Да здравствует разделение труда! Благодаря неоценимой помощи представительниц разных профессий, я избавлен от привыкания к одной женщине, которая, превращаясь в постоянную подругу, ведёт себя, как расчётливый наркоторговец, продавая новую дозу любви в обмен на звонкую монету мужской свободы. Не будешь платить — и вместо наслаждения получишь горький «отходняк» из мелких обид, угроз и шантажа. По мне уж лучше расстаться с деньгами, но сохранить свободу и одиночество.
Свобода и одиночество всегда идут рука об руку и вместе рождают мужчину. Если разобраться, культ мужского одиночества существовал во всех великих цивилизациях, не заражённых вирусом «романтической любви». Мужчина сначала приобретал социальную зрелость, достигал успехов на военном и политическом поприще и затем уже, когда карьера близилась к апогею, связывал себя с женщиной для совершенно конкретной цели — продолжения рода. А услуги, необходимые ему с момента полового созревания, он, как и я, получал от специально обученных жриц любви. Греки и римляне, германцы и кельты не создали бы своих цивилизаций, не совершили бы великих завоевательных походов, если бы не культивировали мужское одиночество! Все они воспринимали любовь к женщине как зло, как проклятие богов, которое сродни безумию, и лишь глазу современного человека кажется, что древние поэмы воспевают любовь. Разве любовь описана в «Илиаде»? Скорее, трагические её последствия — гибель народа, коллапс великой троянской цивилизации, павшей из-за того, что один из её представителей заразился вирусом «романтической любви». Но тогда в древнем мире любовь была исключением, куртуазная эпоха сделала её правилом, и теперь мы пожинаем плоды. Любовь сбивает современных мужчин с толку, ориентирует на достижение ложных целей и в итоге, как сказал бы Менегетти, создаёт благодатную почву для пышных, но бесплодных цветов «пустого эротизма».
О космополитизме
(японская кухня)
Комочки слипшегося риса, покрытые сырой рыбьей плотью, зелёный пластилиновый шарик васаби с отпечатком поварского пальца, «роза» маринованного имбиря и миска с соевым соусом. Произведение искусства на плоской деревянной дощечке. Вооружившись палочками, я чувствую себя японским художником.
— Как ты можешь жрать сырую рыбу?! — брезгливо морщится Илья. — Такая гадость! А маринованный имбирь?! Это же, блин, по вкусу как мыло с одеколоном!
Пощёлкав в воздухе палочками, я с аппетитом отщипываю ими кусочек от зелёного шарика васаби и бросаю в соус. Илья — консерватор и ксенофоб. Его черносотенная бородатая рожа резко диссонирует с подчёркнуто лаконичным и аккуратным интерьером суши-бара. Я прицеливаюсь в Илью кончиком палочки и мысленно рисую вокруг него грубую обстановку русского придорожного трактира, в котором расторопный половой в красной косоворотке по щелчку пальцев угадывает, что сударь желает штоф водки и блинов с сёмгой. Таковая рама, имхо, гораздо более подходит к этому румяному купеческому портрету.
— А тарелки! — продолжает кипеть Илья. — Ты посмотри, блин, на эти тарелки! Это же натуральные собачьи миски! Как же из них можно принимать пищу?!
Я не спеша отправляю в рот суши с креветкой, предварительно окунув его в соус, и внимательно смотрю на Илью. Хвост креветки остаётся торчать снаружи.
Мой прадед по отцовской линии был японцем, по материнской — евреем. Но сам я не чувствую в себе ни капли японской или еврейской крови. Если разобраться, я и русским себя не считаю и вообще национально себя не идентифицирую. Национальность как фактор расплавилась в глобальном космополитическом тигле современного мира.
— На кого ты похож! — стыдит меня Илья, показывая пальцем на торчащий у меня изо рта креветочный хвост. — Посмотри на себя!
— Это как Харуки Мураками наоборот, — замечает Замша. — У него японцы носят джинсы, жрут гамбургеры и слушают Элвиса Пресли, а мы тут суши жрем и скоро в кимоно все переоденемся вообще!
— Ну ладно, — машет рукой Илья, — выпить-то, блин, у них есть хоть что-нибудь приличное?
— Сакэ, — отвечаю я, аккуратно вынимая палочками креветочный хвост изо рта и складывая его на край дощечки.
— Это что за хрень? Китайская рисовая водка? — спрашивает он.
— Японская, дурень.
— Яп-п-понский городовой! — восклицает.
— Китайская рисовая водка называется ханжа, — замечаю я. — Культурой других стран надо мало-мальски интересоваться, между прочим.
— Нет, Грин, а зачем мне это? — возражает Илья. — Есть только одна культура, которую я обязан знать — русская!
— А вот интересно, китайское пиво тоже, наверное, как-нибудь называется? — не к месту интересуется Замша.
В кафе шумно. Официантки в пепельно-сливовых кимоно снуют с подносами. Чисто европейская суета в японском ресторане — тоже знак космополитичного бытия.
— Китайское пиво называется одним словом, — отвечает ему Илья.
— Каким? — моргает Замша.
— Гов-но.
— Почему сразу говно?! — возмущается Замша. — Почему ты не можешь по-другому сказать, если тебе что-то не нравится?
— А как надо сказать?
— Ну как-как. Сказал бы просто: «Мне не нравится китайское пиво!»
— А что я сделаю, если то, что мне не нравится, говно и есть?! — вскидывает брови Илья и широко улыбается. — Волшебница! Волшебница, можно Вас на секундочку! — кричит он проносящейся мимо со скоростью экспресса официантке. Почтительно склонившись, та замирает с плохо скрываемым раздражением, но выражение её лица резко меняется, когда она видит развалившегося на простом деревянном стуле Илью, излучающего обаяние древнерусского князя.
— Голубушка, — ласково обращается он к ней, — нам бы с товарищем водочки, ну и закуски какой-нибудь, что ли. Селёдочки там, огурчиков сообразить.
— У нас, к сожалению, такой закуски нет, — дарит ему улыбку официантка.
— Да как же так, красавица? — качает головой Илья. — Совсем ничего?
Официантка с сожалением пожимает плечами, не переставая улыбаться.
— Ай-ай-ай, — расстраивается ксенофоб. — А что ж у вас есть в таком разе?
— Да всё, — растерянно отвечает она. — Всё. Смотрите меню.
Илья придирчиво разглядывает меню:
— Та-а-ак. А вот это что же такое, позвольте полюбопытствовать?.. — Он тычет пальцем в глянцевую страницу.
— Вот. Тут же написано. Это унадзю под кисло-сладким соусом с кунжутом на подушке из риса.
— Что такое унадзю? — настороженно переспрашивает Илья.
— Унадзю — это угорь.
— Угорь, — морщится он, — не пойдёт. А это?
— Цыплёнок в соусе терияки.
Илья пыхтит и хмурит лоб.
— Цыплёнок и какие-то бяки к нему. Да-а-а-а уж, ассортиментик! Ну вот я, пожалуй, другое буду. Вот это. Это, кажется, единственная человеческая еда в Вашем дьявольском заведении.
— Пельмени со свининой? — переспрашивает с улыбкой официантка.
— Так точно, пельмени, — кивает он головой.
— Соус какой?
— В смысле?.. — Он удивлённо уставился на неё.
— Ну, обычный или облегчённый, — поясняет она, оторвавшись от записной книжки. — Облегчённый менее солёный.
— А можно мне со сметаной или с горчицей или на худой конец с хреном? — спрашивает Илья.
Официантка опускает руки и снова беспомощно улыбается.
— Нет, к сожалению.
— Ладно, — сжалился Илья, — соусу вообще не надо.
— Вообще не надо?
— Вообще не надо соусу. Принесите просто пельменей без соусу. И водки. Пятьдесят граммов. Холодной. Вот и весь и сказ. — Он захлопнул меню и вернул его официантке.
— Хорошо… — Она поклонилась и кинулась выполнять заказ.
— А меня? — слабо возмутился Замша. — А я? Ну что такое! Всегда так! — воскликнул он и расстроенно швырнул своё меню на стол.
Мы с Ильёй довольно заржали во всю глотку. Все официанты игнорируют Замшу.
— Смирись с этим, дружище, — хлопает его по плечу Илья, — сейчас девица подаст мне водки, так ты её не отпускай, лови за ноздрю и делай заказ. Господи, ну что у нас за народ? — продолжает он, наваливаясь на стол. — Падкий до всего иностранного! Сколько, блин, у нас по городу японских ресторанов? А узбекских кухонь? А итальянских? А еврейских? А чёрт его знает каких? А русский ресторан в русском городе есть? Хорошо, если есть один или два и всё! А должно быть наоборот, я так считаю.
— Так почему ты не возьмёшь и не откроешь русский ресторан? — спрашиваю я Илью.
— Это же понятно почему, — отвечает он, — денег у меня столько нет.
— Ну-ну, — понимающе усмехаюсь я, расправляясь с очередным суши.
— У русского человека страсти к стяжательству нет, — важно продолжает Илья. — Русский человек иначе совершенно устроен, ему не свойственны ни западный предпринимательский дух, ни жажда власти. В нём на генетическом уровне глубоко сидит понятие о том, что деньги — зло и власть — зло. Благодарю покорнейше, красавица! — Илья поклонился улыбчивой официантке, поставившей перед ним плоское блюдо с пельменями и рюмочку водки. — Да, и любезная, будьте так добры, обслужите, пожалуйста, сего незаметного молодого господина, — указал он на Замшу.
Официантка, рассыпаясь в извинениях, вопросительно посмотрела на Замшу. Тот, хлопая ресницами, объявил, что желает коровий язык с кунжутом и рисом и маленькую рюмочку пшеничной. Девушка тотчас умчалась выполнять заказ.
— Коровий язык! — Илью чуть не вывернуло наизнанку. — Как ты можешь жрать коровий язык?!
— А что тут такого? Ну, коровий язык и что? — не понял Замша.
— Он же был у коровы во рту!
— И что?
— Ну, представь себе вонючий коровий рот, — продолжал Илья.
— Представил. Абсолютно чистый рот.
— Чистый? А там слюни и всякая шняга.
— Ну и что, слюни? Слюни что — грязные, что ли?
— Нет, не грязные.
— Ну вот.
— А что — приятные?
— Да какая разница. Этот язык же потом моют.
— Ну и что, что моют! Корова им, прикинь, всякое говно лижет!
— Да какое говно! Она траву жрёт. Пасётся и жрёт себе чистую траву.
— Думаешь, только траву?
— А что ещё?
— Мало ли что она им себе вылизывает!
— Ну, что она вылизывает?
— Да хоть жопу.
— Как кошка, что ли?
— Ага.
— То есть ты хочешь сказать, что корова, как кошка, садится на землю и начинает языком вылизывать себе жопу?
— Хоть бы и так. А ты потом этот язык жрёшь. С удовольствием.
— Да ты придурок! — обиделся Замша.
— Почему сразу придурок? — заржал Илья, и я вместе с ним. — Ты только представь, как корова это делает.
По Замшиной физиономии было заметно, что он представил, потому что улыбка, кривившая его рот, внезапно сменилась приступом дикого хохота.
— Корова, — хохотал он, — корова сади… садится на землю, как кошка!
— Ага, — смеялся Илья, запрокинув голову, — вытягивает ногу…
— И вылизывает себе… — Замша не мог продолжать. — Вылизывает себе… Не могу. Вылизывает.
— Жопу, — закончил я.
— Жопу, — повторил Илья, сотрясаясь от хохота, и выдавил из себя. — Мы все трое такие, блин, придурки!
— Точно, — согласился Замша.
— Вот, к примеру, — отсмеявшись, обратился ко мне Илья и вновь посерьёзнел, — ты знаешь о том, что русские купцы сначала вообще векселями не пользовались? У них были такие долговые зарубки, которые по сути значили не больше, чем честное слово. Дела у нас всегда велись на доверии! А почему? Да потому что русский человек никогда не хотел никого обмануть и на этом обогатиться. Для русского богатство не было самоцелью. Он добро хотел сделать ближнему. А сейчас посмотри, что с нами сделали эти предпринимательские отношения! Найди попробуй хоть одного человека, который бы думал о благе России. Каждый о себе думает и о том, как бы карман потуже набить, блин! Вот в чём фикус.
— Люди любых национальностей во все времена одинаковы и всегда хотят только двух вещей: власти и денег, — возразил я. — Верить в обратное и воображать, что в прошлом русские были ангелами, а теперь их испортила западная идеология — наивное заблуждение!
— По себе не надо судить, — отрезал Илья.
— Ну хорошо, русофил, хоть один пример приведи из прошлого? — попросил тогда я.
— Да вот, пожалуйста… — Илья перестал жевать пельмени и развёл руками. — Целая куча есть подтверждений. Ты не хуже меня знаешь, что был такой русский князь Лев Сергеевич Голицын, который в Крыму занимался виноделием, и он, если бы захотел, мог бы целое состояние сколотить на одном только вине, блин! Но он не эту цель преследовал. Он русский народ хотел отучить от пьянства. Привить русским вкус к хорошему вину. Вот! Не богатство, а благородная цель. Это, я считаю, по-дворянски. И, я тебе скажу, он не только о богатых думал, но и о бедных. Поэтому вино своё продавал дешевле себестоимости раз в десять! В итоге, понятно, наделал кучу долгов и разорился. А был у него какой-то конкурент, который вино разводил свекольным соком, — так тот, конечно, разбогател. Или вот ещё там же, в Крыму, был доктор какой-то, князь Вяземский, который купил дом, купил участок земли и открыл клинику, чтобы людей лечить, да ещё и лечил-то большую часть пациентов чуть ли не бесплатно. И так всегда. Русские люди или разоряются, блин, или в лучшем случае еле сводят концы с концами, но уж сверхприбылей не имеют — это точно. Чтобы сверхприбыли иметь, надо красть или людям говно втюхивать по цене золота. Вот так, блин.
Замше принесли коровий язык. Илью чуть не вывернуло наизнанку, внезапно он поднял вверх указательный палец и произнёс, обращаясь ко мне:
— О! Кстати! Вот тебе и ещё один пример! Ты деда моей жены знаешь?
— Ну, знаю.
— Знаешь, что он был директором известного на всю Россию завода «УЗБО»?
— Знаю.
— Так вот! — продолжил Илья. — Кристальнейшей души человек и до мозга костей русский, даром что коммунист! Радел только за то, чтобы завод процветал. Ничего ему не надо было: ни денег, ни акций. Главное — завод. Главное, так сказать, дать стране угля. Тоже, конечно, своего рода сдвиг, но сдвиг хороший, в правильную сторону. От такого сдвига только польза. При этом он всем помогал. Нам вот с женой квартиру купил. И что же? В девяносто девятом пришли «бурмашевцы» и просто воспользовались тем, что он в своё время, когда была приватизация, что-то там неправильно сделал с документами, русские люди ведь всегда за делом не обращают внимания на всякие канцелярские крючки, им главное суть, а не форма. И вот эти упыри правдами и неправдами захватывают завод, а деда скидывают с директорской должности. У меня аж говно закипает, как вспомню! Потом проходит всего около пяти лет, и завод в полной жопе. Всё разворовано. Вот вам и капитализм, и демократия в действии!
— Ну так ведь «бурмашевцы» -то, — возразил я, — все до одного русские, это же славянская преступная группировка, у них ни одного хачика нет!
— Всё правильно, они русские, — согласился он. — Но капитализм — явление западное и для русского — сущий яд! Русский человек скотом при капитализме становится. Вот в чём фикус!
Неожиданно Илья ткнул пальцем в Замшу и завершил пафосный монолог словами:
— А вот он, обрати внимание, на «бурмашевцев», между прочим, работает!
Замша растерянно заморгал:
— А что мне делать?.. — Пряча глаза, он разглядывал свою тарелку. — Кушать-то всем хочется! Думаете, мне приятно, что ли, всяким уродам помогать? Мои мозги эксплуатируют бандиты, которые закончили максимум спортфак! Это в лучшем случае, а в худшем ПТУ.
— Ладно, не отмазывайся, — махнул рукой Илья.
— А что там такое конкретно произошло? — осторожно вмешался я.
— Да всё очень просто, — объяснил Замша. — При бывшем директоре, при Танькином деде, был заключён договор на шестьдесят «лепёх», по которому завод должен был поставить на север какое-то там оборудование, хрен его знает какое, при условии пятидесятипроцентной предоплаты. Предоплату получили, стали делать, но не сделали, потому что на завод зашёл Гурдюмов и его бандиты. Так что теперь за заводом висит должок на тридцать миллионов и неустойка. А это пахнет банкротством и очередным переделом.
— Повторите нам ещё по такой же, — сказал Илья подошедшей официантке.
— А вы не думали никогда, — оглядел я своих приятелей, — о том, чтобы ситуацией воспользоваться в своих целях?
— Это как? — живо заинтересовался Замша.
— Ну, я пока не знаю. Но положение дел в целом благоприятное: ты работаешь на новое руководство, Илья знает бывшего директора, а у моего депутата в приёмной лежит сейчас вот такая гора обращений от миноритарных акционеров завода с просьбой разобраться и наказать виноватых, в связи с чем в скором времени планируется собрание избирателей. Чувствуете схему?
Компаньоны пожали плечами, и Замша спросил:
— То есть, конкретных предложений нет?
— Пока нет.
— Ну, так что тогда, — вздохнул он.
Я хлопнул его по плечу:
— Да ты не парься пока, дружище! Не может это всё не сложиться! Надо только набраться терпения и подождать. Пройдёт время, и схема созреет!
— Да, действительно, поживём — увидим, — согласился Илья.
О любви
(средиземноморская кухня)
Есть в нашем городе чудесный рыбный ресторанчик на берегу вонючей речки Исети. Называется он «Порт Стэнли». Все официанты там — сербы, одетые моряками — замечательно любезны. Обслуживая вас, они поют и танцуют, умудряясь при этом не уронить огромные блюда, которые носят по несколько штук сразу, разместив их на руке от запястья до локтя. Кажется, что весь интерьер, все корабельные снасти, столы и стулья тоже танцуют вместе с официантами под весёлым морским ветром. Танцуют даже рыбы, креветки, омары, устрицы и осьминоги, наполовину засыпанные кубиками льда. Хозяин заведения, приветливый горбоносый Дядька Средиземномор, вежливо усадит вас за стол и пожелает приятного вечера.
В «Порт Стэнли» я решил пригласить Елену. И не пожалел, когда долговязый, но очень ловкий официант с крохотным кустиком волос под нижней губой принёс нам запечённую в соли рыбу. Несколькими сильными ударами ложки он разбил толстую буровато-жёлтую соляную скорлупу и принялся аккуратно перекладывать нежнейшие филейные ломтики нам в тарелки.
— Прямо волшебство какое-то, — улыбаясь, заметил я, глядя то на официанта, то на Елену.
— Волшебство? — удивился официант. — Что такой волшебство? Я не знать этого слов.
— Волшебство — это, — я неопределённо поводил в воздухе руками, — это… чудо.
— А, чудо! — подхватил он. — Чудо я знать, что такое! Чудо. Нет, ничего чудесного. Просто рыба берёт ровно столько соль, сколько ей надо.
На самом деле чудом мне казалось то, что я ужинал с Еленой в ресторане. Ей было сорок, а мне двадцать четыре. Тягу к зрелым женщинам я открыл в себе очень рано. В пятом классе я был настолько дерзок, что позволил себе влюбиться в учительницу литературы. Я поднимался за ней следом по лестнице, и вид её круглых кремовых икр неожиданно привёл меня в неописуемое возбуждение. На уроке я нагло глядел на её мягкий круглый живот — настоящий женский живот! — на её груди под кофтой — настоящие женские груди! — на впадину между ног, едва обозначенную под тканью клетчатой юбки, и — чёрт побери! — какими смешными показались мне мои недоразвитые одноклассницы! Да на что они были годны, эти глупые маленькие представительницы женского пола с их плоскими грудками и попками размером с детский кулачок?! А потом я встретился с ней взглядом и не смог его перенести: таким холодным, насмешливым и лучистым он мне показался. Я решил для себя: когда-нибудь она должна стать моей! И это была не мечта. Это было твёрдое намерение, подлежавшее воплощению, ибо я всегда брал от жизни то, что хотел. Но что я должен был делать? Ведь мне было всего десять лет, и, следовательно, предстояло долгое ожидание! «Ну и пусть, — думал я, — любой самый длинный путь начинается с первого шага». Сначала я добился того, что она выделила меня из общей скудоумной и посредственной массы. Я стал любимчиком и — о! — я мог позволять себе такие вещи, какие никто не мог себе позволить на уроках. Я с ней спорил.
Чёрт побери, она была необыкновенно умна! Чтобы достигнуть её интеллектуального уровня, я сделал изучение литературы своим призванием. Я никогда не выкрикивал с места идиотские замечания, как делали некоторые неандертальцы, я спорил всегда по существу. И это, братцы, была колоссальная победа, потому что серьёзный спор возможен только между равными. За счёт равенства я пытался уничтожить разделявшую нас разницу в возрасте и отчасти преуспел. Конечно, разница оставалась (всё-таки шестнадцать лет — огромная пропасть), но в отношениях со мной эта пропасть стала значительно уже, чем в отношениях с другими моими одноклассниками. Параллельно я жил обычной жизнью подростка: более или менее удачно соблазнял одноклассниц, старшеклассниц, подруг троюродной сестры, соседку по подъезду, девчонку, с которой познакомился, когда ездил с отцом на курорт — всех девочек, девушек, женщин, попадавших в зону моего внимания. Собственно, успех был мне обеспечен, потому что уже тогда я внешне был чертовски привлекателен, хорошо сложен и выглядел много старше своих лет. Но я не любил соблазнённых мной женщин. Если уж говорить о любви, то единственная женщина, которую я по-настоящему любил, была моя учительница литературы, и когда её выгнали из школы, я тоже ушёл и поступил в ту специализированную гимназию, куда она устроилась на работу. «Главное — быть с ней», — думал я и не терял надежды. Её подходы к обучению отличались своеобразием: она воспитывала страсть к вольнодумству, к свободному выражению мысли. В итоге я провалился на вступительных экзаменах в институт — ещё бы! Моё сочинение «Жизненный путь Пьера Безухова» не укладывалось в прокрустово ложе образовательных стандартов. Однако я ничуть не жалел о своём провале и поступил на платное отделение.
Так случилось, что разные хлопоты, связанные с поступлением в институт, а потом и сама институтская жизнь выдернули меня из оков всепоглощающей страсти, но я продолжал сохранять в душе воспоминание о своей любви к ней.
И вот много лет спустя, уже после института, войдя в кабинет менеджера по продажам одной из контор, с которой я пытался наладить совместный бизнес, я вдруг увидел за столом Елену. Её ястребиные повадки, жёсткий взгляд и фанатическая увлечённость оккультизмом напомнили мне мою учительницу! Мы разговорились за чашкой кофе о модной онтопсихологии и об Антонио Менегетти, и я почувствовал на подсознательном уровне, что представляю для неё интерес не только как партнёр по бизнесу, но и как мужчина. «Что же такого, — решил я, — нет ведь ничего удивительного в том, что двадцатичетырёхлетний мужчина переспит с симпатизирующей ему сорокалетней женщиной, значит, и для сорокалетней женщины такая ситуация не выходит за рамки обыденности». Я заходил к ней частенько по делам и просто так поболтать и однажды пригласил поужинать вместе в «Порте Стэнли».
В тот вечер мы выпили много белого домашнего вина. Она смотрела на меня потемневшими глазами, и её коленка слегка касалась под столом моей ноги. «О чём ты думаешь?» — спросила она. И я неожиданно брякнул именно то, о чём думал, будто бы был не ловеласом со стажем, а глупым неуклюжим подростком! Я хрипло вполголоса сказал: «Я хочу посмотреть, какая у тебя грудь!» — и почувствовал, что в горле у меня пересохло. «Что?!» — переспросила она и расхохоталась. «Я люблю тебя», — поспешил добавить я. Она прекратила смеяться и спросила: «Ты это серьёзно?» «Да», — отвечал я, понимая, что дальше ситуация будет развиваться непредсказуемым образом. «Ну, и что ты собираешься делать?» — в её голосе послышались испытующие нотки. «Забрать тебя к себе домой». «Ах вот так?» — её брови взлетели вверх. «Поехали», — приказал я. «Прямо сейчас?» «Да». А ты уверен, что ты этого хочешь?» «Я люблю тебя», — снова повторил я. «Мне кажется, тобой движет чистое любопытство», — с сомнением произнесла она. «Я люблю тебя», — не отступал я. Неожиданно из её груди выпорхнул резкий вздох, и зрачки, увеличившись, погасили синие глаза: «Ты хоть понимаешь, что говоришь!» «Я люблю тебя», — упрямо пробубнил я. «Это же очень серьёзно!» «Я знаю. Я люблю тебя». «А ты справишься со мной? — Она прищурилась и будто отрезвела. — Мне не нужен мужчина на одну ночь!» «Я готов». Мы встали из-за стола, держась за руки, я, не глядя, расплатился по счёту, оставив на чай в три раза больше положенного, и вышли из ресторана. В такси целовались, как безумные. Поднялись в мою квартиру на шестнадцатом этаже жилого комплекса «Аквамарин», включили в прихожей свет, и вдруг я заметил колебание в её движениях, какую-то неуверенность, какое-то детское виноватое выражение в глазах. «Идём», — я сильнее схватил её за руку и потащил в комнату. «Только не включай свет», — попросила она. Я повалил её на диван, быстро раздел и принялся целовать и шептать ласковые слова — всё как положено — как тысячу раз уже проделывал с другими женщинами. И эта ничем не отличалась от них! Она была даже хуже: скованная, не искусная в любви, она лежала и испуганно таращилась в потолок. Чёрт возьми, я не мог даже нормально кончить! Прекратив бессмысленную возню, я сходил за сигаретами, лёг рядом с ней и закурил. И тут в довершение ко всему началось самое неприятное: она повела себя как обыкновенная десятиклассница, лишившаяся девственности! Нежно прижималась ко мне и смотрела большими доверчивыми глазами, будто ждала чего-то. Докурив, я сказал ей: «Поехали, отвезём тебя домой». Она молча кивнула. Я встал, начал ходить по квартире, подбирать её и мои вещи, разбросанные по разным углам, одеваться. Она бледной тенью неотступно следовала за мной и всё смотрела, смотрела, чёрт побери! Я отвёз её домой на такси, поцеловал на прощание и обещал позвонить. По дороге домой я решил больше никогда не встречаться с ней и одновременно понял, что любовь — это сугубо подростковое невротическое расстройство, вызванное крайней формой половой неудовлетворённости в связи с недостижимостью объекта привязанности.
О родителях
(ресторан эклектической кухни «Кэф»)
Моя мать, когда приезжает из Москвы, любит ужинать со мной в ресторане эклектической кухни «Кэф». Она заказывает себе французский тартар, берёт холодными белыми пальцами нож и аккуратно намазывает на тост из чёрного хлеба красные лохмотья особым образом маринованного фарша. Я благодарен ей за то, что она бросила нас с отцом, когда мне было тринадцать. Мне никто ничего не сказал: просто я пришёл домой из секции кикбоксинга, полез в холодильник и, заглянув в кастрюлю с винегретом, увидел, что на нём расцвели пышные изумрудные острова плесени. В нашей семье приготовлением пищи занимался только отец, и он всегда в точности скрупулёзно рассчитывал, чего и сколько будет съедено на завтрак, обед и ужин. Возникавшие иногда остатки неизменно комбинировались в новые блюда и тоже подавались на стол — так, чтобы, не дай бог, не пришлось их выбрасывать. У отца ничто не портилось, не протухало, не плесневело, не черствело, не становилось не годным к употреблению. Плесень на винегрете свидетельствовала в пользу глобальной катастрофы в семейных отношениях. Короче говоря, всё смешалось в доме Облонских, и я понял, что мать не просто уехала в командировку, а ушла от нас навсегда. Понятным стало и мрачное настроение отца в последнее время. Он ничего не рассказал мне, потому что я должен был сдавать вступительные экзамены в новую гимназию, и он боялся, что я их не сдам, если узнаю о случившемся. Вечером я припёр его к стенке. Сдавшись, отец отдал письмо, которое написала мне мать, а сам ушёл в спальню и глухо рыдал там так, что мне сделалось противно. Очень неприятно слушать, скажу я вам, как плачет взрослый мужчина, тем более твой отец! Я не то чтобы презирал его, но относился к нему снисходительно. Он сам вынуждал меня к этому. Длинное письмо матери в целом сводилось к следующему: «Ты сам всё поймёшь, когда вырастешь». А я и так прекрасно всё понимал: ей, красивой и амбициозной женщине, было трудно жить со слабохарактерным отцом, который предпочитал заниматься моим воспитанием и домашним хозяйством, нежели делать карьеру. Как только экономика совершила дикий скачок в сторону капитализма, мать не потерялась и сменила место работы. Шаг за шагом она пробилась в топ-менеджеры крупного коммерческого банка и стала вращаться среди таких людей, которые никогда бы не подали руки моему отцу. Отца такое положение вещей как будто вполне устраивало, и он продолжал трудиться на своей скромной должности, которая приносила просто смешной доход. Он целиком был виноват в том, что мать ушла от нас. Единственное, чего я не понимал, это, почему мать не забрала меня с собой? Не стану скрывать, я плакал в тот вечер, когда читал её письмо. Мне казалось, что теперь всё должно пойти наперекосяк, что винегрет всегда будет зарастать плесенью, хлеб черстветь, а мясо протухать. Однако уже на следующий день я взял себя в руки и стал готовиться к вступительным экзаменам.
Мои друзья так ничего и не узнали о том, что мать бросила меня и отца. Я вёл себя с ними как ни в чём не бывало и сам поражался собственной выдержке, меня даже отчасти пугало моё равнодушие, а отчасти я был им очень горд. Мой характер был твёрд и жёсток, как неспелое яблоко, в отличие от отцовского характера, который напоминал мне чуть подгнивающий сладковатый и рыхлый картофель. Позднее мать звонила мне и хотела, чтобы я переехал жить к ней в Москву, где она, оказывается, после развода с отцом вышла замуж за какого-то олигарха. Я отказался. Этот олигарх зажимал бы моё свободное развитие. Если бы его не было, я, пожалуй, и подумал бы над её предложением. А потом начались и вовсе уж смешные вещи: какие-то длинные судебные процессы, инициированные то отцом, то матерью, предметом которых было то моё место проживания, то взыскание алиментов. Меня постоянно таскали в суд, я видел там отца и мать, стоявших по разные стороны от судьи, и, когда меня спрашивали, неизменно отвечал, что хочу жить с отцом. Несколько раз ко мне приходил психолог из органов опеки и пытался клещами вытянуть из меня душу, но я ему не дался, и только упорно настаивал на своём: я люблю отца, я больше к нему привязан и хочу жить только с ним. В итоге меня оставили с отцом. Как сказал адвокат: «Исключительный для российской судебной практики случай!» И это было хорошо: слабохарактерный любящий папа нисколько не подавлял меня, я манипулировал им, как хотел, а мать жила далеко в Москве, и её влияние ограничивалось письмами-наставлениями, которые я с интересом прочитывал, но, разумеется, делал всё абсолютно по-своему. Я благодарен и матери, и отцу за то, что они позволили мне разбить диадические отношения зависимости и пробиться на свет к самостоятельности. Я не похож ни на кого из них. Я существую сам по себе.
О демократии
(пивной ресторан)
В пятницу я, Илья и Замша встретились в пивном ресторане «Тинькофф», где подают свежесваренное пиво. До концерта остаётся почти три часа (сегодня выступает отличная команда «Блюз-Докторз»), и мы сидим за столиком, как два игрока в шахматы плюс один наблюдающий. Вокруг полно шумного народу. Завтра суббота, а за ней воскресенье — седьмое ноября, день так называемого Согласия и Примирения, праздник, утративший всякий смысл с падением коммунистического режима.
— Давай не томи, выкладывай! — возбуждённо требует Замша. — Что там сегодня было?
Я смеюсь:
— Что было, что было. Избиратели в ярости! Идея с подделкой протокола собрания тебе принадлежит?
— Ну, мне, — смущённо отвечает Замша. — А что ещё было делать?
— Обманул старичков и старушек, ай-ай-ай-ай! — качаю я головой.
— Да эти старушки, чёрт бы их побрал, на собрания не ходят, а если и ходят, то из чувства противоречия начинают вставлять палки в колёса. Я им объяснял-объяснял, для чего заводу нужна эта реорганизация, а они всё своё: украсть, мол, у нас хочешь последнее и баста. Как я, по-твоему, должен был делать реорганизацию? Им принадлежит-то всего ничего, а они ведут себя как хозяева завода! Почувствовали, что без них не идёт дело, и давай ломаться, условия какие-то выдвигать. Шантаж, одним словом. Я плюнул и послал тимуровцев собирать подписи против «мифического» строительства. На это-то они все и повелись.
— Ты бы видел теперь их праведное негодование! — сказал я. — Они же моему депутату проходу не дают с этим делом. Караул, кричат, обворовали! А у него, у бедняги, какая никакая ответственность перед электоратом. Переизбраться-то хочется. Прикинь, жопа! Он любые бабки готов отдать, лишь бы разрулить ситуацию до мартовских выборов и по возможности принести старушкам голову Гурдюмова на блюде.
— Представляю себе это адское пиршество, — вставил до сих пор молчавший Илья. — Голова Гурдюмова на блюде, а вокруг облизываются старушки-каннибалы с ножами и вилками! Как хорошо, что я не пошёл работать по специальности! — продолжал он. — Продаю себе компакт-диски и честно смотрю людям в глаза. Бабушек не обманываю.
— Зато детей подсаживаешь на компьютерные игры, — ответил я.
— Уж лучше компьютерные игры, чем политические, — парировал он.
— Ты что теперь предлагаешь? — спросил меня Замша.
— Я предлагаю нам сорвать большой куш, — ответил я.
— Это интересно как? — язвительно осведомился Илья.
Не сговариваясь, мы все придвинулись ближе друг к другу, и я задал вопрос:
— Известно ли нам, кому «УЗБО» должен тридцать «лепёх»?
— В том-то и дело, что пока нет. Известно одно название фирмы — ООО «Эльсинор-99», — отвечает Замша. — А кто за ней реально стоит — неизвестно.
— А у людей с фантазией на названия контор порядок! — вмешивается Илья. — Замахнулись на Вильяма нашего Шекспира!
— Вот именно, — отвечает Замша. — Сами, наверное, понимаете, что фирма с таким названием чистейшей воды «поганка», а директор — номинал. Его зовут как-то, то ли Севрюгин, то ли Ветлугин, но это ровным счётом не имеет значения.
— А я думал Гамлет, — вставляет Илья.
Я продолжаю тему:
— Неплохо бы тогда узнать, кто настоящий Король-Отец и когда он появится на сцене!
— Ага, совсем неплохо, — поддакивает Замша. — Но «бурмашевцы» не намерены дожидаться его появления, поэтому уже сейчас сливают активы через реорганизацию, — он исполняет лёгкий поклон, — чем, собственно, и занимается ваш покорный слуга!
— Скажи мне, — обратился я к Замше и на время, пока официант забирал пустые кружки и ставил полные, замолк. — Скажи мне, — снова начал я, когда официант отошёл, — а реорганизация уже закончена?
— Документы в налоговую сданы сегодня утром, — ответил он, отхлёбывая мелкими глотками пиво. — Суббота, воскресенье выходной, понедельник тоже из-за праздников, значит, считай пять рабочих дней со вторника. Примерно через неделю изменения будут зарегистрированы. Но это в налоговой. А кроме того, надо же ещё будет в Палате собственность на недвижимость регистрировать за новым обществом. Это при условии всех ускорений ещё дней пять-десять.
— А можно как-то эту машину остановить?
— Можно. Если реальный кредитор всё-таки объявится, подаст иск и попросит арестовать имущество.
— А кто у нас реальный кредитор? — размышлял я вслух. — Неизвестно, да. Может, ты спросишь? — обратился я к Илье. — Раз дед твоей жены контракт подписывал, наверняка, он помнит.
— Я-то спрошу, — отвечает Илья. Он пьёт жадно и много и, скосив на меня глаза, бубнит в наполовину опустошённую кружку. — Мне не в лом. Я с Таниным дедом в хороших отношениях. — Кружка со стуком опускается на стол, и взгляд Ильи упирается мне в переносицу. — Но мне кажется, Грин, это порожняк, и надо крепко подумать, прежде чем лезть в такое говно.
— Ну, узнаем мы, кто кредитор, а дальше? — волнуется Замша.
— А дальше, как по нотам, — говорю я, — придём к нему и скажем: «Так, мол, и так, срочно подавайте иск, арестовывайте по суду имущество, а мы ваши интересы будем представлять, а?» Поимеем бабло с кредитора, а заодно и с моего депутата, которому тоже кровь из носу надо, чтобы реорганизация «УЗБО» была приостановлена!
— Ты что, я так сделать не могу… — Замша, опустив глаза, осторожно пьёт пиво. — Мне шеф сразу башню свернёт.
— А от тебя ничего и не требуется, — продолжаю я. — Ты как раз будешь работать, как засланный казачок, и делать вид, будто бы представляешь интересы «бурмашевцев», а нам будешь тупо сливать информацию. А от кредитора в суд пойдёт вон хоть Илья! Ты только представь, сколько бабок нам отвалят! Ведь мы же кредитору завод принесём прямо тёпленьким. Прямо с пылу с жару. Берите, парни. А? А сколько тебе платит твоя долбанная контора за то, что ты сливаешь активы?
Замша пожимает плечами:
— Да мне, собственно, только зарплату платят.
— Вот! И ты ещё думаешь! Какая там сумма долга? Тридцать «лепёшек»? Это почти миллион баксов по современному курсу. Да мы с кредитора сто тысяч баксов за всю операцию снимем в лёгкую! А ещё с депутата моего сколько-то можно будет отжать за содействие в создании положительного имиджа в глазах избирателей.
— Да вы что, парни, это всё нереально! — с сомнением говорит Илья. — Во-первых, нам совершенно обоснованно всем троим могут прострелить башку и привет родителям. Это же бандиты. А во-вторых, какой, нахрен, из меня юрист? Да, я «юрик» закончил вместе с вами, но после того работаю директором магазина компакт-дисков. И другой участи для себя пока не желаю. Вот.
Я прекрасно вижу, что колебания моих бывших одноклассников вот-вот прекратятся, что в действительности они давно уже заглотили крючок с жирной наживкой и только совесть не позволяет им откровенно демонстрировать жадность, которая светится в глазах и того, и другого.
— Парни, — говорю я, не давая им опомниться, — вдумайтесь. Речь идёт о том, чтобы каждый из нас заработал минимум по миллиону рублей. Минимум. — И Илья, и Замша (я вижу это по выражениям их лиц) на минуту задумались над тем, что они сделали бы, будь у них миллион. Миллион — это не так уж много, но не так уж и мало для рядового белого воротничка.
— Да вы! Вы… — Я обнимаю их за плечи. — Неужели вы оба не видите здесь совершенно реальную схему?! Реальную, я вам говорю. Замша тебя натаскает, — обращаюсь я к Илье. — Придёшь в суд и по бумажке прочитаешь, что нужно. Вы заранее договоритесь, кто чего скажет, и всё! Никто нам башку не прострелит. Это же не кидалово. Этим ребятам, кредиторам, уроды с завода должны денег, и мы всего лишь эти деньги помогаем вернуть. Законным путём! Надо всего-то узнать, кто кредиторы. Вот и всё!
— Да кто вам вообще сказал, что я на такое пойду! — слабо возмущается Замша. — Я тут больше всех своей жопой рискую! Если действительно узнают, мне первому башку и прострелят!
— Прострелят! Прострелят! — передразниваю я. — Да кто прострелит? Сейчас уже не девяностые годы! Сейчас наше время. Беловоротничковое. Мы, понимаешь, банда. Мы настоящая бригада. Недаром говорят: врачи, экономисты и юристы — самая страшная мафия. Не эти уроды, которых в сериалах показывают, а мы. Мы доим корпорации, потому что корпорации — это жирные коровы, которые специально и созданы для того, чтобы мы их доили. Ну что — выпьем за начало великой операции?
— Операции «Ы», — сказал Илья.
— Мне надо подумать, — осторожничал Замша.
Я сделал вид, что отступился.
— Как знаете, моё дело — предложить. Но выпить-то мы выпьем?
— Конечно, выпьем! — поддержал Илья.
Нам принесли ещё пива, а через полтора часа мы уже были основательно пьяны.
— Демократия, свобода, равенство, братство — всё это шелуха, масонские штучки! — как обычно, рассуждал Илья. — Для русских годится только одна форма правления — конституционная монархия. Ну, Боже царя храни! — Он поднял кружку, и мы втроём в миллионный раз чокнулись.
— Хорошо! — Илья аккуратно вытирает губы салфеткой. — Так вот, русским нужен человек, который бы на себя взял весь грех власти. А таким человеком может быть только монарх.
— А президент? — спрашиваю я. — Президент, что ли, нет? Сейчас-то что конкретно тебя не устраивает? У нас сильная президентская власть. Вертикаль сверху донизу.
— Не устраивает, — с готовностью отвечает он. — Потому что президент — это, блин, кто? Временщик. Только монарх знает, что страной, в конце концов, править будут его же дети. А не очередная, блин, банда популистов. И потом, — воздевает палец, — монарх, он ещё и ответственность несёт перед Богом. Вот в чём фикус. А не перед народом, не перед боярами. Поэтому он и свободен от мнения толпы. — Последнее слово Илья плотоядно закусывает куриным крылышком «буффало».
— Монархия — лучшая форма правления, если монарх душка! — говорю я.
— А демократия твоя… — Он мочит усы в пиве. — Демократия тоже хороша только тогда, когда все депутаты ангелы, блин. — Он ставит кружку и начинает загибать пальцы. — Это раз. Когда в правительстве одни шестикрылые серафимы заседают — это два. И когда Президент… — Илья снова тычет пальцем вверх. — Сам! Это три. А теперь, — продолжает он, — скажи мне, какова вероятность того, что вся эта разношёрстная свора, все эти депутаты, министры, премьеры, президенты окажутся хотя бы как минимум честными?
— Так на то и система, чтоб независимо от людей работала. Честные они или подонки — это без разницы.
— Нет такой системы, которая бы не зависела от людей, — возражает Илья. — Нельзя верить в систему. А что теперешние «единороссы», что так называемые демократы заставляют народ верить. Не бойтесь, мол, что у власти упыри, у нас же Система! Демократия или Вертикаль власти — как ни назови, а всё одно — Система. Система всегда будет работать, Система не допустит и так далее. В человека надо верить, а не в Систему. Вот при монархии верят в человека, заботятся о его воспитании. Тут тебе и династические традиции, и всё остальное. Человека сызмальства готовят к трону, внушают ему правильные мысли. Какова вероятность того, что к власти придёт упырь? Есть, конечно, но ничтожно малая. Вот в чём фикус. И уж точно она меньше, чем когда власть человеку достаётся случайно.
Закончив речь, Илья смотрит на нас.
— Замша, скажи, разве он прав? — спрашиваю я.
В ответ Замша пожимает плечами и изучает столешницу:
— Не вижу смысла с вами спорить, вы оба упёртые фанатики. И каждый по-своему впадает в крайности.
— А как же иначе?.. — Илья обгрызает косточку и глядит прямо на Замшу. — Пока ты молодой, ты должен впадать в крайности. Ты должен всё делить на чёрное и белое. Вот будет тебе лет сорок, тогда и можно мир считать серым, а покамест нет.
— Что поделать, во мне мало очень бунтарской крови, — сетует Замша и берётся рукой за подбородок. — Да и в вас, если разобраться, тоже. Вы всё только говорите, как оно было бы лучше, но ничего для этого не делаете. Наши дети вообще нас презирать будут за то, что мы свою молодость потратили на достижение сытого буржуазного счастья!
— А ты чего хотел? Революции? — интересуюсь я.
— А я не против революции, — вмешивается Илья, — только такой, в результате которой победили бы русские и конституционная монархия.
— Знаете, у Макаревича есть песня про битву с дураками, — говорит Замша. — Я чем больше занимаюсь юридической практикой, тем больше понимаю: вот с кем надо реально бороться! Дураки не достойны ни власти, ни собственности! А посмотришь: кругом власть и собственность достаются как раз дуракам. А дурак у власти — это же обезьяна с гранатой. Это в сто раз хуже, чем взяточник! Коррумпированный судья, по крайней мере, хоть предсказуем, а судья-идиот — это просто генератор случайных решений. И потом коррумпированный профессионал действует тонко, можно даже сказать, виртуозно, он знает свою систему «от» и «до», знает, до каких пределов и в каких местах её можно разрушить, не выводя из строя. У него, по крайней мере, есть своё «можно» и своё «нельзя». А у коррумпированного идиота вообще нет никаких «нельзя». Он себя ведёт, как слон в посудной лавке! А почему? Да потому что у него отсутствует «аристократическое» понимание власти как умения править, а есть чисто «люмпенское» отношение к власти как к источнику удовольствия. «Люмпен» думает, что и власть, и собственность — это рог изобилия. А то, что это сложнейшая работа, он не может понять. Работу за него делают помощники. Неслучайно у нас сейчас всякий судья, всякий депутат, всякий чиновник имеет Помощника, а то и не одного, и этот Помощник чаще всего лучше разбирается в деле, чем его начальник. В итоге Помощники — единственные компетентные люди, которые в состоянии реально управлять, потому что только они досконально знают правила системы.
— Вот именно! — обращаюсь я к Замше. — Ты совершенно прав: дураки не достойны ни власти, ни собственности. Но, тем не менее, ты им почему-то преданно служишь! Ты — Мегамозг от юриспруденции! Ты решаешь такие задачи, которые твоему Шефу с его проржавевшими номенклатурными извилинами никогда не осилить! А что ты получаешь взамен? Короткую цепь из зарплаты, на которую тебя посадили. Это разве не предательство по отношению к твоим способностям? Это разве не самая грязная эксплуатация, порабощение высших низшими?
— Вот, блин, загнул, — довольно заулыбался Замша. — Прямо манифест бунтующих яппи!
— А мне не нравится этот ваш «Бунтующий яппи», — начинает Илья, обращаясь ко мне, — с которым вы все носитесь. Абсолютно идеологически неправильный журнал. По сути, он ничем не лучше, чем «Менз Хелс» или «Космополитен». Тот же глянец, только для другой прослойки. Люди в нем черпают готовые модные мнения, а потом умничают друг перед другом.
— Вот и издал бы идеологически правильный журнал! — отвечаю я не без досады.
— Легко сказать! — восклицает он и хохочет; — Его сразу же закроют за разжигание национальной розни!
— Фашистская ты морда, — говорит ему Замша.
— Да. И горжусь этим! — Илья разваливается на стуле и сияет своей ослепительной улыбкой.
— А ты не думал о том, — говорю я ему, — чтобы деда твоей жены снова сделать директором на «УЗБО»?
— Это как ещё? — спрашивает он.
— А очень просто. Если только мы провернём операцию, «бурмашевцам» на предприятии не усидеть, их выметут оттуда поганой метлой! И кого, ты думаешь, поставят рулить?
— Почему именно деда?
— А потому, что он хоть и старый, но опыта у него побольше, чем у других!
— Не знаю, не знаю… — Илья скептически трёт подбородок. — Есть у меня дурные предчувствия.
— К чёрту предчувствия! — говорю я. — Ты только подумай о том, что сейчас судьба даёт тебе в руки осиновый кол, которым упырей можно казнить. А ты вместо того, чтобы его использовать, начинаешь размышлять, браться или не браться за операцию!
— Упырей казнить, конечно, дело хорошее, — отвечает Илья, — но ведь может такая каша завариться, что потом все вместе не расхлебаем.
Я развожу руками:
— Ну, друг мой, кто не рискует!
— Ладно, — кивает он головой. — Меня-то, положим, ты уболтал, чертяка языкастый! А вот его, — указывает на Замшу.
Тот глядит на дно кружки. Илья продолжает:
— У него положение, работа, стабильный доход, а ты предлагаешь ему всё это поставить на карту во имя…
— Во имя игры! — перебил его я.
— Рискованной игры, — поправляет Илья.
— Вот именно, — соглашается с ним Замша.
— Замша!.. — Я хватаю его за плечи. — Дружище, неужели тебе никогда не хотелось сыграть в настоящую мужскую игру?
Он выпивает остатки своего пива, потом прочувствованно смотрит мне в глаза и внезапно охрипшим голосом отвечает:
Хотелось!
VI
Минг-Шу
Ровно в девять пришёл Роже, и, увидев в дверях его улыбающееся лицо и несколько крупноватую фигуру, она в который раз сказала себе, что нужно смириться, что он — её судьба, и она его любит. Он обнял её.
Ф. Саган. «Любите ли вы Брамса?»

Кап-кап-кап!
Холодный ноябрьский дождичек капает по капельке. Грязный асфальт жирно лоснится и тускло отливает на солнышке, будто китовая шкура. Город стоит на ките. Под дождём шершавая кожа тяжко дышит сквозь ноздреватые поры. Пух-пух.
Цок-цок-цок!
Острые чёрные каблучки истово молотят чудовище, впиваются в толстый ленивый бок. Ему больно чуть-чуть. Огромный добродушный зверь недовольно урчит, но прощает. Ведь это я иду! Мужчины, оглянитесь! Хватайте жадными взглядами мою ускользающую тень. Рвите её на клочки. Распахните настежь двери дорогих авто и обещайте, обещайте, обещайте! Ваши машины похожи на разноцветные морские раковины, отделанные изнутри мягким кремовым плюшем. А вы — моллюски! Я всё равно к вам не сяду! Можете поцеловать мою дерзкую танцующую попку! Потому что я люблю только его. И нет никого на свете лучше моего милого, доброго и сильного зверя, так что провалитесь вы все со своими «мерседесами», особняками и уикендами на Мальдивских островах. Ха-ха-ха! Мне захотелось быть буйной и неистовой. Вот он открывает дверь, и я прыгаю в его объятия, и сразу доверчиво сворачиваюсь в тёпленький комочек. Приласкай меня. Ну, разве я не мила? Посмотри на меня, пройдись своими ищущими губами по встрепенувшимся векам, кусни тихонько перламутровое ушко и долго скользи, лаская мою лукавую улыбку от одной ямочки в уголке рта до другой. Неожиданно прихвачу твой нерасторопный язык острыми зубками. Больно? Не очень? Не морщись тогда. Ну же. Торопливо зашепчу ему на ухо. А, котик мой, отгадай загадку. Я сама её сочинила! Хмурит брови. Хмурый хмурилка. «Какую?» — спросит недоумённо. Мужчинам запрещается, а женщинам прощается! Пусть подумает, всё равно не отгадает. Эх, ты. Он слишком серьёзный. Ответ: делать маленькие глупости, если они приносят им большие радости! Ничего не понял? Ну, ладно, я так и знала. Любимый, ты даже представить себе не можешь, как я, истратив каких-нибудь жалких несколько сотен, смогла себя осчастливить! Да? — удивлённо взметнёт брови. Да! Магазинчик оказался такой милый. Моё появление произвело целый переполох. Девушки просто с ног сбились, предлагая мне разные ароматные разности. Там я истратила всё, что было у меня в кошельке, до копеечки. Но зато. Духи! Лосьон для тела! Гель для душа! Три пузырька аккуратно, как гладкие куриные яички, уложены друг подле друга на дне глянцевого пакетика, украшенного размашистой надписью. Два из них, лосьон и гель, наполнены чудной густой и душистой жидкостью с запахом орхидеи. Потрясающе! Обязательно дома приму ванну. А после, завёрнутая в махровое полотенце, спелёнатая, как ребёнок, буду нежиться в сильных объятиях и нести всякую ахинею. Ахинею про орхидею. Ну, хотя бы вот как у них пишут в рекламном проспектике. Знаешь, любимый, оказывается, горная орхидея обладает удивительным свойством растапливать вокруг себя снег. Я бы сейчас растопила целую льдину, на которую напоролся «Титаник», своим теплом и светом. А он будет неторопливо разматывать толстый махровый кокон, чтобы добраться до источника благовония.
Мы поженились ровно шесть лет назад (сегодня годовщина!), а вместе мы и того больше. И за годы его страсть, я чувствую это, не притупилась, нет, но потеряла первозданную мощь, обмелела, растворилась в быту. Увы, с мужчинами такое бывает. Об этом кругом говорят и пишут. И другая женщина на моём месте сдалась бы, опустила руки, превратилась в убогую «спутницу жизни». Но только не я! Я говорила ему о том, что он не любит меня как прежде, но он злился и не понимал. Да он и не может понять — вот в чём дело! Все мужчины такие толстокожие бегемоты! Но ему повезло, я собрала в кулак всё своё понимание, всё терпение, весь такт, и больше скандалов не будет, не будет истерик. Я снова подарю ему себя такую, в которую он влюбился миллион лет назад, ещё в школе, когда набрасывался на меня, будто огромный огненный зверь. Сегодняшний вечер мы проведём вдвоём, без мерзкого телевизора, без его всегдашнего пива. Мы зажжём нашу аромалампу, мы нальём в неё капельку масла, мы утонем в густых ароматах и погрузимся в ванну, полную благоухающей пены, мы будем пить шампанское, которое уже лежит в холодильнике, и угощаться клубникой со сливками, что я купила по секрету от него.
Тут мне становится так хорошо, что я взлетаю над асфальтом и продолжаю свой путь уже по воздуху. Духи «Минг-Шу» — третья составляющая моего счастья. «Минг-Шу-у-у-у» — лёгкий ветерок доносит до мужских ноздрей тонкий, кружащий голову аромат водяной лилии. Минг-Шу — вырастают видения огромных цветов с широкими лепестками, их запах сладок и слегка удушлив. «Минг-Шу» — и я воображаю себя гейшей, спелёнатой в махровое кимоно. Могу только передвигаться неслышными маленькими шажками, покорно опускать глаза и чуть слышно шептать: «Да, мой господин». Иногда так приятно польстить мужскому самолюбию! Я звонко расхохоталась. Прохожие в страхе отшатнулись от меня, летящей по ветру с распушёнными волосами и громко хохочущей.
«Минг-Шу». Делаю несколько нетвёрдых шажочков по бордюрчику и спрыгиваю на тротуар. Он уже дома и ждёт меня. Обычно прихожу с работы в шесть тридцать. Сегодня опаздываю, но меня нисколечко не терзают угрызения совести. Женщина должна опаздывать. Пусть он помучается чуть-чуть, нервно походит по спальне. Будет смотреть на заправленную кровать и представлять меня соблазнительную. Его желание томится, как запертый в клетке зверь. Опоздаю ровно на пятнадцать минут и ни секундочкой больше. Вполне достаточно, чтобы слегка взвести его нервы, но не разозлить окончательно. Сворачиваю в кафе. Заварное, эклер, круассаны, безе. М-м-м. Воздушное с кокосовой стружкой. Хочу его! И чашечку кофе, пожалуйста. Присядем за столик. А здесь мило. Два придурка уже похотливо косятся в мою сторону. Осторожно губами обламываю хрупкие края пирожного. Осыпается крошка. Внутри сладкое. Чёрная горечь кофе. Смотрят. Смотрите, мальчики. Интересно, о чём думают? Хотят меня оба до одури. Ха! Я не про вас. Воображаю, как он меряет шагами квартиру и кидается в ярости на диван. Мужчина, я — твое избавление, но я заставлю тебя подождать. Не могу отказать в удовольствии помучить тебя. Прости меня, мой зверь. А времени-то уже! Ого-го-го! Как бы и в самом деле не опоздать на полчаса, а то и больше. Встала. Всё ещё пялятся. Липкие щупающие взгляды летят за мной и вьются вокруг моей груди и бёдер, как назойливые мухи. Прощайте! Прихлопнула их закрывшейся дверью.
Я обожаю автобусы за их жёлтую солнечную доброту. Вот он показал свою широченную морду из-за поворота и, переваливаясь на мягких резиновых колёсах, пополз к остановке. Давно бы пора тебе было приехать, увалень. Я и так уже слишком припозднилась. Залезла вовнутрь, протолкалась к окну и упала на удачно освободившееся сиденье. Ну и чудненько. Сегодня, сегодня, сегодня! Прикрыла глаза. Смежила очи. Блеснула серой каплей зрачка из-под навеса ресниц. Люди, как я счастлива! И новое бельё, которое купила недавно и ещё ни разу не надела, пришлось как раз кстати. Он будет без ума. Лилейный запах, нежное тело в лилейных кружевах. Кружится голова. Ах. Горжусь собою. Совершенством не стыдно гордиться. Ничего не висит? На лицо набежала лёгкая тень. Ягодицы было начали дрябнуть. Ну, нет. Месяц занятий — и снова чистый упругий овал. Всё подтянуто. Макияж? Ну-ка? Зеркальце острым углом сверкнуло в глаза. Автобус тряхнуло. Кудри. Тени. Лукавые губы. С этой стороны лучше. Тушь не размазалась? Хмурые люди нависли вокруг. Думают: кокетка пудрит носик. Пусть. Внешнее в гармонии с внутренним. В женщине всё должно быть прекрасно: и душа, и как там? Или быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Женщине, которая считает себя дурнушкой, грош цена. Луна и грош. Это у Моэма. Театр. Джулия, как бишь её? Лэмберт. Потрясная книга. Бесплатное пособие для мужиков. Путеводитель по женской психологии. Каждая женщина мнит, что любви она стоит. В противном случае она ни на что не годится, кроме приготовления завтрака и чистки ботинок.
Поднимаюсь по лестнице. Перехватывает дыхание. Милый! Вот и я! Поворачиваю ключ и толкаю от себя дверь. В один миг понимаю. Стеклянная тишина пустой квартиры. Мяукает Маша. Выбегает навстречу, трётся об ноги. Никого. Как никого? Он должен быть дома. Ушёл куда-то. Не позвонил. Не предупредил. Что-то внутри сломалось. Сажусь в прихожей и рыдаю. Слёзы смазывают и смывают последние мысли. У соседей хлопает дверь. Как же ушёл? Куда? Позвонить. Нет, не звони, дура. Позвонить. Не звони, я сказала! Нет, позвонить. Где же? Где же? Вот его номер. «Котик». Нажимаю кнопку мобильного телефона. «Соединяется с Котик».
— Алло! Алло! — успокоившись, всхлипываю в трубку.
— Алло. Привет, Тань, — отвечает холодно и равнодушно. На заднем плане шум, хохот, свист, звон стекла.
— Ты где? — спрашиваю.
— Мы тут с ребятами решили посидеть в «Тинькове», — отвечает. — Я, Гриневич и Замша. Надо кое-что обсудить.
— А как же наша годовщина!?
— Какая годовщина? Вот чёрт! Забыл! Извини.
— Извини? И только?!
— А что? Если ты помнила, могла меня предупредить заранее.
— Я вспоминаю лосьон для тела, гель для душа, духи «Минг-Шу», ванну с пеной, благоухающий кокон из полотенца, шампанское, наш, только наш праздник, и меня снова прорывают рыдания.
— Тань, да что с тобой?! — сердито говорит он.
— Я хо… хоте..тела сюр.. сюрпри-и-и-з, — реву я.
— Тань, прекрати сейчас же истерику, вытри слёзы, умойся и займись, наконец, чем-нибудь, не прилипай ко мне, как паразит какой-то, — злится он. — Мы вместе, но это не значит, что мы сиамские близнецы! Каждый из нас живёт сам по себе. И только так мы сможем жить.
— Да причём тут это?! — кричу я и бросаю трубку. Он не понимает. Он ни капельки не понимает! Он меня не любит.
Да, всё просто, он меня не любит. Я встаю, раздеваюсь и иду в ванную умываться. Перед зеркалом: ну и рожа! Тушь потекла, губы опухли, завтра под глазами опять будут эти ужасные круги. Что же мне делать? Я знаю. Сейчас открою бутылку шампанского, достану клубнику и буду обжираться! А ещё лучше стану делать это в ванной, полной благоухающей пены! О, йесссс! Просто супер!
VII
«Бунтующий Яппи»
Кто такой Андрей Гриневич? Автор, пожалуй, не сможет ответить на этот вопрос обстоятельно, потому что никогда не встречал Андрея. Он лишь слышал о нём от разных людей, а однажды ему на глаза попался первый и единственный выпуск странного журнала под названием «Бунтующий яппи», главным редактором которого значился некий А. Гриневич.
Некоторые журнальные статьи были написаны Андреем, другие его друзьями или знакомыми. По фрагментам указанных текстов читатель сможет сам реконструировать образ героя.
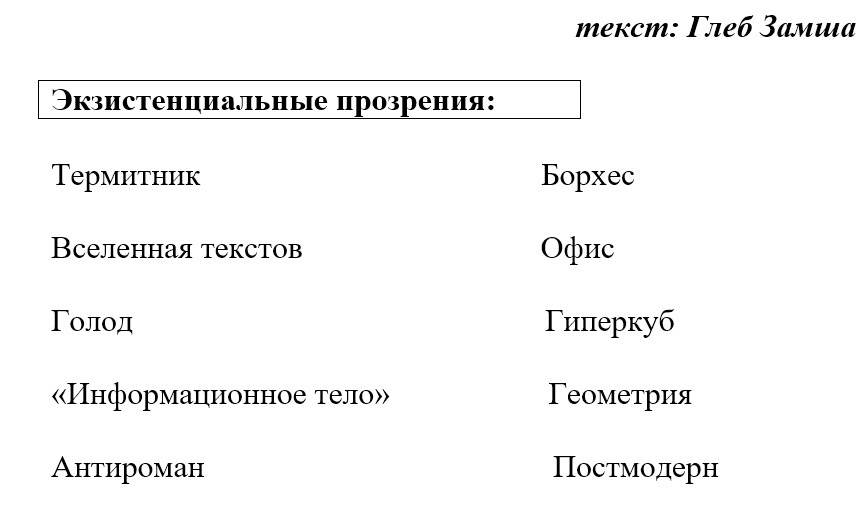
Борхес сказал: «Вселенная — некоторые называют её Библиотекой — состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей, с широкими вентиляционными колодцами, ограждёнными невысокими перилами». Вселенная — это не далёкая чёрная бездна с точками звёзд. Вселенная — это обжитое нами пространство. Место, которое нас вмещает, в которое мы вселены.
Слепой латиноамериканец прозрел суть современной цивилизации. Суть эта настолько близка, настолько въелась в нашу кожу, в наши волосы и мозги, что мы уже не замечаем её. Не замечаем, поскольку не отстраняемся и не подвергаем деконструкции. Пора прозреть вместе с Борхесом. Во-первых, Вселенная — это Библиотека. Во-вторых — многогранник.
ВАВИЛОНСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
Наша Библиотека-Вселенная — целое хитросплетение текстуальных созвездий: здесь есть крошечные тексты-карлики, тексты-гиганты, текстовые галактики, закрученные в причудливые вихри, текст — Млечный путь и текст Полярная звезда. Мириады не только печатных, но и визуальных, звуковых текстов повсюду поглощаются нами бездумно. И безумно. Учёные соревнуются между собой, предлагая нам всё более простые способы усвоения текстовой каши. Теперь мы потребляем в сотни раз большее количество текстов, но при этом, как проклятые богами Танталы, испытываем ещё более острый голод, не знакомый нашим предкам. Информационный голод. Предкам достаточно было куска хлеба, крыши над головой и незатейливого секса. Не таковы мы. Нам, конечно, тоже требуется пища, но пища, обсмакованная текстами, полупереваренная текстовыми ферментами для нашего сознания, для нас важнее читать, смотреть, как едят, только после этого мы получаем удовольствие от еды. Для нас важнее читать, смотреть, как любят, как занимаются сексом, чем любить самим, мы — страшные вуайеристы! Да, наши предки тоже любили читать романы, ходить в театр, но существенная разница между нами и ними заключается вот в чём: текстов было гораздо меньше. Тексты не просто запоминались. Они выучивались наизусть. Многие образованные античные греки, например, знали наизусть «Илиаду» Гомера. Мы же не то что не знаем наизусть практически ни одного текста, мы даже многие тут же забываем после прочтения. Текст превратился в однодневный товар. Потребить и забыть — таково отношение к тексту. Древние громоздкие текстовые сооружения вроде Библии уже не пользуются спросом. А кто сможет осилить «Дон Кихота»? Отсюда кризис и смерть романа.
Из сказанного имеется одно важное следствие: то, что мы помним, мы видим и обозреваем, то, чего мы не помним, видит и обозревает нас. Невспомненное владеет нами. Все поглощённые и забытые тексты живут в нас, как тысячи призраков в царстве Аида. Непамять скрывает их, точно плащ невидимка. Непамять заставляет нас считать, что они — это мы.
Между нами и древними есть и ещё одно отличие. Они никогда не смешивали театр с реальностью. Театр был ирреален. В театре происходило то, чего никогда не случалось в повседневности. Маски актёров ни на минуту не позволяли забыть, где сцена, а где — зрительный зал. Время мифическое господствовало на сцене. Век богов и героев представал перед взором ловившего катарсис грека, но не шумные улицы полиса, по которым гуляет никому не известный Левкипп, влюблённый в никому не известную Аспазию. Реализм, упразднившее сцену кино и особенно различного рода сюжеты basedontruestory принесли неожиданные плоды. Большинство людей наивно верит, что им рассказывают о них самих. В итоге каждое Я, воспетое экзистенциалистами, могучее свободное Я, только и способное совершить экзистенциальный бросок в пустоту, заменило себя «информационным телом». Так можно назвать погружённого в нас, навязанного нам Другого, который живёт вместо нас, но при этом создаёт полную иллюзию того, что это живём мы. «Информационное тело» — сгусток чужих опытов и фантазий — не менее «реально», чем наше физическое тело. И в то же время оно — фантом. Иллюзия знания о себе. Иллюзия, поскольку не подтверждается личным опытом. «Информационное тело» крадёт у нас непосредственную радость опыта. Наша жизнь заранее смоделирована «информационным телом». Мы — модели для сборки. Задолго до первой любви мы уже знаем, что такое первая любовь, задолго до физической близости — что такое эта близость. А кто ответит мне: каков был бы непосредственный опыт, если бы я заранее не знал о результате? Быть может, он был бы более ценен, потому что сделанное открытие принадлежало бы только мне, и я считал бы себя отважным первооткрывателем бытия? В древности каждый важный опыт предварялся обрядом инициации-посвящения. Посвящённые никогда не рассказывали непосвящённым о приобретённом опыте. Это делалось для блага самих же непосвящённых, ибо Непосвящённого впереди ещё только ждала тайна, перед которой он трепетал. Его ждала радость опыта, не замутнённого опытами предшественников. Его ждала чистая радость бытия.
С другой стороны, иногда стоит нам подвергнуть «информационное тело» самому суровому испытанию — личному опыту, — как оно трещит по швам, обнаруживая труху и гниль, и храбрецы неожиданно узнают о том, что они трусы, а казановы, увы, о том, что они импотенты.
В арсенале «информационного тела» сотни способов подавления нас. Самый мощный — искусство. Самый сверхмощный — искусство рекламы. Если искусство, по крайней мере, прямо не требует отождествления, то рекламное послание всегда кричит: «Смотри, это ты!» Когда реклама превратилась в высокое искусство, мы вымерли. В рекламной обёртке мы больше не видим товара, мы видим в ней образ жизни. Нам снова рассказывают о нас.
Способ борьбы с «информационным телом» только один — поднять на уровень массовой культуры «Чёрный квадрат», снять антифильм с названием «Чёрный экран», написать антироман, где на всех 453 страницах не будет ни единой буквы, ни единого знака препинания, и поставить антирекламный ролик, демонстрирующий привлекательность кариеса, перхоти и потоотделения!
ВАВИЛОНСКИЙ МНОГОГРАННИК:
Термитник — снаружи монолитный и правильный параллелепипед, к которому ведут аккуратные бетонные ступени. Большую его часть внутри занимают пустые четырёхгранники. Мы так привыкли находиться внутри пустых четырёхгранников, что не замечаем их. Ура гениальному Борхесу! Он обнаружил принципиальную черту нашей Вселенной — её многогранность. Оглянитесь! Повсюду нас окружает миллионоугольный многоугольник. Куда бы мы ни бежали в пределах города, мы будем попадать из одного многогранника в другой. Мы будто живём внутри школьной тетрадки по геометрии! Наше мышление тоже целиком кубистично. В нём присутствуют только грани, и нет плавно перетекающих друг в друга поверхностей. В природе же, наоборот, преобладает естественная форма — яйцевидность. «Назад к мировому яйцу!» — такой слоган можно поместить на транспарантах борцов за новую жизнь.
Неужели нагромождения многогранников не приводят в смятение? Рекомендую для просмотра фильмы «Куб» и «Куб 2: Гиперкуб» — эти гротескные выплески бессознательного ужаса перед окружающей нас геометрией. А ведь мы стремились как раз к обратному, геометризуя Вселенную! Геометрия должна была обеспечить нам комфорт и предсказуемость. А в итоге? Геометрическая предсказуемость обернулась кошмаром, ибо содержит в себе эмбрион «информационного тела». «Информационное тело» предсказывает опыт, а, предсказывая, моделирует его, отнимая у нас свободу. Человек подлинно свободен лишь в непосредственности опыта.
Сегодня геометрический офис — это место, где продуцируется и обрабатывается текстовая реальность. Офис — наш новый способ бытия. Фабрика по производству «информационных тел». В типичном постсоветском термитнике можно наблюдать следующую картину: мелкие фирмёшки, точно млекопитающие, теснят стегозавров с непроизносимыми именами вроде «Уралборщкислщейпроект» или «Пневмокульмстройтехспецгидромаш». Безобразные гидры советского периода отступают. Не способные продуцировать востребованное новым временем «информационное тело», они выживают только лишь за счёт того, что сдают в аренду конкурентам пока ещё принадлежащие им территории. При этом обладание собственностью уже более не означает обладание властью. Власть — это Проект. Коммунистический Проект рухнул. Фашистский Проект потерпел крах. Либеральный Проект погиб, хотя его гибель сознательно маскируется. Эпоха Модерна — эпоха Проекта завершена, на смену ей приходит безвременье, постистория, невыносимая неопределённость бытия. Идеологическое безвластие оборачивается властью ПОТРЕБЛЕНИЯ.
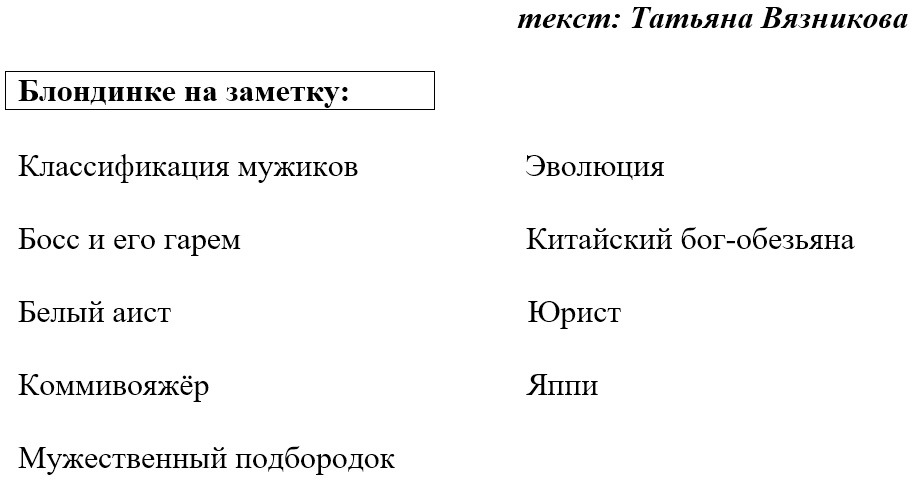
Мужчина офисный
По мере того как жизнь человеческая перемещалась из пещер в замки, а из замков в конторы, мужчина радикально эволюционировал. Вкратце эволюцию можно изобразить такой картинкой:
1. Неандерталец — сумрачный индивид с выпирающими валиками надбровных дуг, облачённый в шкуру мамонта. Отношение к женщине самое варварское. Кульминация любовной игры — сокрушительный удар дубиной по хрупкой женской черепной коробке.
2. Рыцарь — 70—80 килограммов мясных консервов. Забрало поднимал изредка, в основном после победы в турнире, предоставляя даме возможность любоваться своей измождённой окровавленной физиономией. Доспехи не снимал даже в постели. До крайности романтизированное отношение к женщине выразилось в культе прекрасной дамы (как правило, уже замужней). Иными словами — да здравствует адюльтер! Если бы женщины творили культуру, разве они допустили бы такое безобразие?
3. Мужчина офисный. Вот здесь-то и стоит огромный жирный знак вопроса, на который мы постараемся найти ответ.
Вся соль произошедшей эволюции заключается в том, что раньше мужчины были отдельной привилегированной кастой, а теперь мы трудимся с ними бок о бок и имеем возможность следить за их повадками в естественных, так сказать, условиях. В частности, я, работая юрисконсультом в одном известном издательстве, ежедневно наблюдаю поведение офисных мужских особей, что недавно подвигло меня к составлению собственной маленькой, не претендующей на научность классификации.
Босс
Мужчина №1 в офисе. Его отношение к нам двойственное, не поддающееся точному определению. Он рассматривает нас не то как свой маленький уютный гарем, не то как целый выводок любящих дочерей. Никогда не знаешь, в какой пропорции смешались в его фамильярных объятиях и поцелуях родительское чувство и половой инстинкт, а постоянное упоминание на корпоративных вечеринках о желании жить одной большой и дружной семьёй наводит на мысли об инцестуальных наклонностях.
Поскольку Босс, в отличие от других офисных мужчин, вне конкуренции, он никогда не позирует и не рисуется. Тот, на которого я работаю, во всяком случае, может переночевать в офисе, а утром возникнуть из своего кабинета пред нашими светлыми очами в наполовину расстёгнутой, незаправленной рубашке и с незавязанным галстуком. Случается, что одна щека у него уже гладко выбрита, а со второй ещё хлопьями падает белая пена. Весь свой последующий утренний туалет он совершает при нас, иногда обращаясь с просьбой помочь повязать ему галстук. Закончив одеваться, он кружится несколько раз перед нами, весело хлопает подтяжками и спрашивает: «Ну, девки, как я вам?»
Эзотерический мужчина
Сей любопытнейший с точки зрения гендерных исследований экземпляр встречается достаточно редко и является представителем экзотической фауны. Однако в нашем офисе он присутствует и выполняет функции водителя. Взгляд у него спокойный и мудрый, как у китайского бога-обезьяны. Живёт он, по собственному глубокому убеждению, в чрезвычайно непривлекательную эпоху Кали-Юга, и единственной отрадой ему служит третий глаз. Им он необыкновенно ловко пользуется, когда отвозит главного бухгалтера в банк. Трудно сказать, почему главный бухгалтер ощущает некоторый дискомфорт, когда на дороге бог-обезьяна закрывает оба нормальных глаза и активирует третий, продолжая при этом маневрировать между автомобилями. Третий глаз исправно служит нашему водителю и дома. Когда спросонок ему не особенно хочется открывать обычные человеческие глаза, третий необычный безошибочно приводит его в ванную комнату и даже помогает отличить тюбик с зубной пастой от тюбика с кремом для бритья. Однако этого убедительнейшего доказательства не хватает для того, чтобы успокоить расшалившиеся нервы главбуха, и однажды она написала докладную записку Боссу. Босс, войдя в тонкость положения, вызвал к себе водителя и мягко, но убедительно попросил его подписать бумагу приблизительно следующего содержания: «Я, такой-то, такой-то обязуюсь впредь не использовать в рабочее время свой третий глаз». Число. Подпись. За сим знаменательную бумагу к вящему неудовольствию водителя подкололи к трудовому контракту.
Агент
Мужчина-агент появляется в офисе набегами для того, чтобы выпить чашку кофе и рассказать нам пару тройку анекдотов со стометровой бородой. В остальное время он кружит по городу в поисках новых клиентов для фирмы. Из-за бешеного ритма жизни, агенту некогда следить за собой, и, как правило, одет он достаточно неряшливо. Создаётся впечатление, что, помимо законной супруги, женщины его не интересуют, однако это впечатление рассеивается, как дым, на первой же корпоративной вечеринке. Здесь загнанный мужчина-агент демонстрирует нам, что такое настоящая расслабуха. Он употребляет горячительные напитки с отчаянной решимостью десятиклассника, смело шлифуя коньяк «Белый аист» бокалом «Советского полусладкого», и, как следствие, обретает самоуверенность. Он с удовольствием расскажет вам о том, что последний месяц работает агентом, так как у него имеются некие собственные намётки. Решив, что сразил вас наповал блестящей перспективой своего успеха, он предпримет ряд действий, направленных на овладение вашим телом где-нибудь в укромном уголке офиса. В такие минуты ему сам чёрт не брат, и даже авторитет Босса для него становится предметом насмешек, ибо уже завтра он, без сомнения, займёт начальственное кресло в собственной фирме.
Коммивояжёр
Сей экземпляр не является офисным мужчиной в чистом виде, потому как у него нет офиса, к которому он был бы прикреплён. Он, как паразит, постоянно отирается в чужих офисах, ухитряясь проникать даже под носом у бдительной охраны под видом клиента или сотрудника фирмы. Его маленький чемодан — склад всевозможных чудодейственных предметов. Список артефактов, имеющихся у него в наличии, довольно внушителен и начинается фито-чаем, а заканчивается системами видеонаблюдения. Коммивояжёр необыкновенно льстив, как правило, чуть пьян и не в меру говорлив. Однако, несмотря на первое отталкивающее впечатление, он без мыла залезет к нам в душу. Мы для него настоящая находка. Однако не в качестве женщин. Хотя можно на минутку закрыть глаза и послушать витиеватые комплименты в свой адрес. Ведь твой законный мужчина после шести лет совместной жизни вряд ли соблаговолит заметить, как идёт тебе эта новая причёска! Однако общение с коммивояжёром чревато бесполезными покупками и связанными с ними впоследствии угрызениями совести, поэтому будьте бдительны, и когда ваши уши согнутся пополам от тяжести повисшей на них лапши, гоните прочь эту сладкоголосую гадину!
Юрист
Утверждение о том, что профессия накладывает отпечаток, вдвойне справедливо для мужчины-юриста. В силу профиля своей деятельности мне частенько приходится таскаться по судам и прочим присутственным местам, где сей субъект встречается в изобилии. Самовлюблённость, чванство, невыносимый снобизм, высокомерное отношение ко всем, кто не приобщился к эзотерической тайне юридического знания — вот лишь беглый перечень «достоинств» этого персонажа. Мужчина-Юрист смотрит на тебя сквозь очки в дорогостоящей оправе, будто бы с высоты постамента, на котором он установил памятник самому себе. Он — юрист, и уже этого одного достаточно, чтобы ты растаяла от любви, поэтому он не особенно утруждает себя тем, чтобы тебе с ним было весело, и ты смело можешь рассчитывать на то, что за ужином вы станете во всех тонкостях обсуждать выигранный им накануне процесс. Если хочешь доставить ему удовольствие, прикидывайся дурочкой с огромными глазами и время от времени проси разъяснить какую-нибудь юридическую закавыку. Готова поспорить, такой покровительственной улыбки ты не видела даже у своего отца. После этого готовься к получасовому экскурсу в дебри юриспруденции и причудливым вывертам «птичьего» юридического языка.
Яппи
Уже не подросток, но едва ли мужчина. Его поведение — цепь курьёзных несоответствий между выбранной ролью и её исполнением. Он то пытается вас соблазнить, будто истинный мачо, и ведёт себя при этом достаточно развязно, то вдруг впадает в панический ужас перед вами и делается застенчив, точно незабудка. Его стремление подражать Боссу и остальным мужчинам в офисе очевидно. Постепенно он перенимает их повадки, их дурные привычки, включая сугубо животное отношение к женщине и пристрастие к дорогой выпивке и курению сигар. Так завершается воспитание образцового самца. У него явно недостаточный заработок, но, сэкономив на питании, он выкроит лишние деньги на приличный костюм, чтобы чувствовать себя своим в стаде. Он истратит последнее на галстук, а дома будет довольствоваться хлебом и майонезом. И можете не сомневаться — автомобиль он купит раньше, чем квартиру. Самое главное для молодого яппи пустить пыль в глаза, создать вокруг себя атмосферу успеха и блеска, ибо только так можно заставить окружающих поверить в себя, но блеск этот лишён солидности. За этим блеском отсутствует капитал. Это блеск дорогого костюма, в кармане которого лежит последний измятый рубль. Общий ансамбль преуспевания неожиданно может нарушить какая-нибудь мелочь. Присмотритесь — и вы обязательно заметите, к примеру, старый потёртый ремень на брюках «Хуго Босс» или дешёвый галстук под воротником сорочки от «Романо Ботта».
Прекрасный незнакомец
Это Бог с мужественным подбородком и гордой осанкой, который нисходит в офис с небес. Его жизнь кажется фантастической и сверкающей, а сам он представляется идеальным мужчиной, но, увы, лишь до тех пор, пока не подвергнется нашей классификации.

Интервью с Андреем Гриневичем подготовил Иван Имхотепов
КОРР: Американцы делят себя на генерации «Бумеров» и «Иксеров». Можно ли русским генерациям присвоить какие-нибудь ярлыки? Если да, то как бы ты определил свою генерацию?
А: Как? Вот так глобально? Переводим интервью в философский дискурс?
КОРР: Пожалуй.
А: Я по большому счёту против каких-нибудь ярлыков, но сама тенденция называть поколения буквами алфавита кажется мне забавной. Поколение «Х». Поколение «П». Это которые Потребляют, нет, не «Пепси» (смеётся) — «План», скорее, и Прочитали Пелевина. Их предки, правда, тоже в некотором роде поколение «П», потому что они всю жизнь План Перевыполняли и Пили Портвейн. Вот так, Полный получается П…ц из Поколения в Поколение. Нарушая традицию, давайте назовём нас поколение «Ъ».
КОРР: Почему «Ъ»?
А: Прекрасная Постановка Проблемы! Просто Потому что Пора Прекращать этот Постоянный П…ц.
КОРР: За словом в карман ты не лезешь. А если серьёзно?
А: Серьёзно? Во-первых, место нашего «Ъ» эквивалентно месту их «Х» — тоже стоит где-то в хвосте алфавита, но не в самом. Хочется верить, что мы не Последнее Поколение Перед тем, как Придёт П…ц всё-таки. И будет ещё после нас поколение… э-э-э… как его. Да, вот хотя бы поколение «Э». В-пятых…
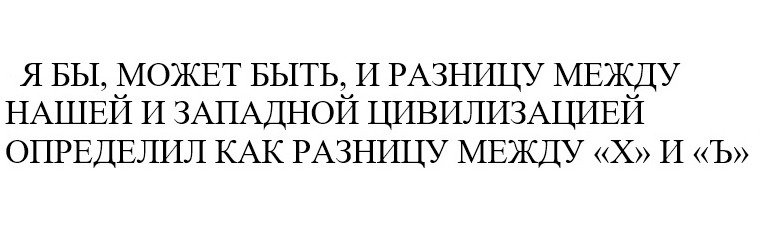
КОРР: Ты хотел сказать «во-вторых»?
А: Нет, что «во-вторых», я ещё не придумал. В-пятых, наш «Ъ» гораздо лучше, чем их затёртый «Х» из школьного уравнения, символизирует неизвестность, загадочность, тайну, иррациональность, если хочешь. Я бы, может быть, и разницу между нашей и западной цивилизацией определил как разницу между «Х» и «Ъ». У них «Х» всегда может быть найден путём вычислений. «Х» всегда равен чему-то. Попробуй найти «Ъ». Он принципиально ничему не равен. «Ъ» разделяет. Разделяет нас на две части. В детстве мы грелись в лучах Владимира Ленина Красна Солнышка, в пубертатный период плелись позади процессии на похоронах Коммунизма, в которой, кстати, ничего не было траурного. Это, знаешь, как я помню, весёлые были такие похороны вроде языческого обряда похорон Масленицы или чего-нибудь такого, пока Гайдар не отпустил цены. А сейчас живём при, во всяком случае, провозглашённой демократии (в действительности Плутократии, в скобках: власть Плутов). Кроме того, мы и сами отделяем. Мы короткий промежуток между теми, кто при коммунизме были уже взрослым, и теми, кто и не нюхали «коммунистического пороха» или «порошка» (смеётся), этими новыми, безбашенными, что ли. Да, они вот тут уже, на подходе, на пару лет нас моложе. На пятки наступают. Но к генерации «Ъ» я их не отношу, хотя официальная наука говорит, что разница между поколениями составляет аж 22 года.
КОРР: Понятно.
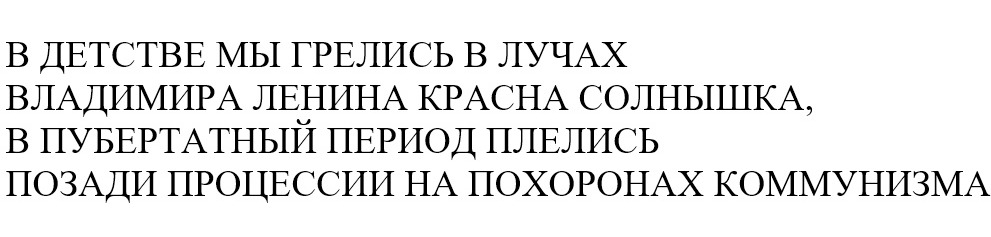
А: Слушай, почему ты сказал «Понятно»? Мог ведь сказать «Ясно» или там «Хорошо», или просто пробубнить «Мг»? А ты сказал именно «Понятно».
КОРР: Почему-то я не подумал об этом.
А: О! Снова «П». Это «П» нас просто преследует. Слишком много этого «П». И людей на букву «П» тоже много кругом стало. Одни люди на букву «П» вокруг. Но вернёмся к нашим баранам. Вот ты говоришь «Понятно». Но как тебе может быть понятно? «Ъ» никому не понятен и не может быть понят. Не понятна наша любовь к нему. Почему в последнее время он появляется на вывесках магазинов, в названиях солидных изданий, да везде, прокрадываясь исподволь в нашу жизнь? «БанкЪ» — это тебе на «Банк», а «ЛомбардЪ» — не «Ломбард». Даже «КоммерсантЪ» не имел бы таких тиражей, будь он просто «Коммерсант». А казалось бы, «Ъ» ничего не прибавляет. Это даже не звук! Всё дело в том, что он выражает непроизносимое.
КОРР: Хватит, напустил туману и даже Березовского приплёл вместе с «Коммерсантом».
А: Да уж, Березовский — действительно Непроизносимое в чистом виде. Имя его в Путинской России лучше не произносить (смеётся). Кстати, «Ъ» так же одиозен, как и Березовский. А борьбу Путина с олигархами можно символически назвать борьбой «П» и «Ъ». «Идущие вместе» с Портретами на маечках — это типичнейшие жополизы или поколение «П», а мы гордо называем себя поколение «Ъ».
КОРР: Так что же, Березовский — кумир Поколения «Ъ»?
А: Нет, не кумир (смеётся). Он враг номер один поколения «Ъ».
КОРР: Это почему?
А: Это потому, что он миллионы вывез из страны. Кстати, не благодаря своему таланту, а просто потому что успел. Пришёл чуть раньше. Чуть раньше нас сориентировался. Чуть раньше повзрослел. Было бы мне лет, ну пусть двадцать, когда началась приватизация!
КОРР: То есть на его месте ты бы сделал то же самое?
А: Конечно и безусловно — да.
КОРР: Ты не патриот?
А: Боже упаси. Нет.
КОРР: Тогда ты космополит?
А: Да нет, вообще-то не был замечен в космополитизме, как, впрочем, и в других «измах».
КОРР: Тогда кто ты?
А: Прошу тебя, не цитируй Децла в объёме, не оправданном для целей цитирования. Это нарушение его авторских прав.
КОРР: У тебя юридическое образование?
А: Да. Должен же я был получить диплом по одной из главных специальностей поколения «Ъ».
КОРР: Расскажи, как ты заработал свои первые деньги?
А: Как, как. Продал килограмм травы.
КОРР:?
А: Лекарственной, естественно. Я узнал, что аптеки принимают лекарственную траву: подорожник, мать-и-мачеху, пижму — и всё лето после первого класса её собирал, потом сушил на балконе на газетах, а осенью сдал. Заработал три рубля с копейками, что ли.
КОРР: После этого дела пошли в гору?
А: Нет. Эти деньги я потратил бездарно. На «пробки». Была у нас в школе такая игра — в «пробки». Играли в неё, как нетрудно догадаться, с помощью пробок. У каждой пробки было своё название. Пробка от зубной пасты, к примеру — «крыса», от лосьона «огуречного» — «пятарик», от тройного одеколона — «пуп».
КОРР: А газеты ты не продавал как всякий начинающий миллионер?
А: Нет, не приходилось. Листовки вот раздавал политического содержания. Платили рублей сто в неделю.
КОРР: Ты считаешь себя «self-made person»?
А: Да. Я стопроцентный «self-made person».
КОРР: Что ты вкладываешь в понятие «сэлф-мэйкинга»?
А: «Сэлф-мэйкинг» — это, выражаясь философски, умение дать себе сферу внешней и внутренней свободы. Внешнее освобождение происходит через деньги, внутреннее — через самоактуализацию. Благодаря деньгам, я имею всё необходимое для меня извне и потому свободен от внешнего. Благодаря самоактуализации, я переношу во внешний мир свое внутреннее содержание и тем самым свободен от внутреннего.
КОРР: А ты мог бы идентифицировать себя в качестве «яппи»?
А: Пожалуй, мог бы, но только с поправкой. Я — «Бунтующий Яппи».
КОРР: Перефразируя Камю?
А: Кому? (смеётся).
КОРР: Альбера Камю.
А: В некотором роде. «Яппи» — это продвинутый экономист, юрист, менеджер, программист. Иными словами, просто высококлассный специалист, который работает на корпорацию или — что то же самое — на дядю-олигарха. «Яппи» — внутренне свободный человек, но при этом внешне несвободный и встроенный в систему. Он предпочитает проделать путь наверх по всем ступенькам. Он причёсывается на пробор, покупает себе костюм (сначала дешёвый, а потом всё более дорогой в зависимости от продвижения), чемодан, мобильный телефон, автомобиль и делает карьеру. Другое дело — «бунтующий яппи». Бунт «яппи» начинается с двух открытий: во-первых, путь наверх по всем ступенькам слишком долог, а жизнь коротка, поэтому можно не добежать до конца дистанции или добежать, но лишь под завязку, к самой старости. Возникает резонный вопрос: имеет ли смысл всю жизнь вкалывать, чтобы тебя похоронили в золотом гробу, а имущество промотали вертопрахи-наследники? Во-вторых, те, кто уже наверху, попали туда в силу случайности, а не благодаря личным заслугам. Действует общее правило о том, что собственность захватывает тот, кто приходит первым. Кто, так сказать, успевает вбить колышек с табличкой «моё». Однако такой захват вообще случаен, а всё случайное неистинно и недолговечно. Поэтому в дальнейшем собственность должна перейти к тому, кто более её достоин, то есть к продвинутым, к self-made people. Вопрос в том, как продвинутым получить эту собственность в условиях, когда первые олигархи уже нагромоздили множество Систем для защиты от посягательств? Вот здесь-то и начинается тонкая интеллектуальная игра. Система, конечно, безупречно отлажена, но как бы совершенна она ни была, она обязательно содержит в себе Ошибку. Ошибка в Системе — быстрый путь наверх для «бунтующего яппи».
КОРР: Эти твои размышления навеяны «Матрицей»?
А: А что, хороший фильм. Его колоссальная популярность вызвана не фантастическим сюжетом и навороченными спецэффектами, а глубоким подтекстом, в котором схвачена суть происходящих в постиндустриальном обществе перемен и который, кстати, выражает чаяния «интеллектуальной прослойки». При этом под «интеллектуальной прослойкой» я не имею в виду интеллигенцию, а предлагаю эти два понятия строго разделять. Люди «интеллектуальной прослойки» могут быть вовсе неинтеллигентны. Чаще всего они неинтеллигентны. Потому что интеллигентность предполагает широкий кругозор и, как следствие, аморфность и бездеятельность, а «интеллектуальность» — чрезвычайно узкую специализацию и «точечное» приложение сил. Так вот, Бунтующий Яппи из «интеллектуалов». Нео из «Матрицы» — в чистом виде Бунтующий Яппи. Только в «Матрице» бунт выражен аллегорически через отрицание физических законов природы. В действительности, чаще всего бунтующие яппи попирают законы социума, но в отличие от оголтелых «лимоновцев», делают это по законам социума. Неслучайно сейчас процветает хакерство. На мой взгляд, это глобальное явление, которое не ограничивается сферой компьютерной информации. Оно есть там, где есть Система, и есть люди, занятые поиском Ошибки. Мы можем найти хакеров от экономики, хакеров от юриспруденции и т. п. Кстати, раз уж я назвал своё поколение «Поколением «Ъ», то поиск Ошибки в Системе можно назвать «Операцией «Ы».
КОРР: А почему «Ы»?
А: А это чтобы никто не догадался (смеётся).
КОРР: Тебе не кажется, что операция «Ы» имеет криминальный оттенок, а бунтующие яппи — обыкновенные «беловоротничковые» преступники?
А: Уголовный кодекс — тоже Система. От умения найти в ней Ошибку зависит, будет операция «Ы» иметь криминальный оттенок или нет. Хакер, обнаруживший Ошибку, существует вне Системы. Для неё он невидим. Как говорил Остап Бендер (кстати, тоже бунтующий яппи): «Кодекс нужно чтить!»
Часть 2
VIII
Новенький
А я, наверно, стоял бы перед ним минут десять. И перчатки держал бы в руках, а сам чувствовал бы — надо ему дать по морде, разбить ему морду, и всё. А храбрости у меня не хватило бы. Я бы стоял и делал злое лицо.
Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

Короче, история такая: я в этом классе ещё новенький. Полтора месяца проучился или около того. Наконец-то нас с мамиком переселили из барака в панельную девятиэтажку. Ну и школу из-за этого пришлось типа сменить.
И до сегодняшнего дня всё вроде было в норме. Ну, то есть никто там надо мной не прикалывался, как обычно прикалываются над новенькими. Но я нутром чувствовал подвох, потому что не бывает так, чтобы над новенькими не прикалывались. Просто они ждали удобного случая, присматривались вроде как и вот устроили мне проверку на вшивость, а я себя повёл как последний лох. Значит, как это было. Буду рассказывать по порядку.
Недавно мы всем классом на фи-зре гоняли в бассейн. Ну, в общем, я не буду описывать, как парни, вместо того чтоб кролем плавать, бикс щипали за всякие места, потому что это отношения к делу не имеет вовсе никакого, а начну сразу про то, как после бассейна мы пошли в душ. В душевой было жарко и воняло тиной. Не знаю уж, почему во всех бассейнах непременно воняет тиной. Ну, неважно. Короче, я краны отвернул и стою себе, моюсь, хлорку, значит, смываю. Горячая вода мне на башку из рожка сыпется, мыльная пена вниз сползает хлопьями. Кайф, одним словом! Из-за влажности и дерьмового освещения вокруг всё такое, как если смотришь, к примеру, через запотевшее стекло и видишь только длинные розовые фигуры без лиц в полутёмных кабинках. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Если глядеть сверху вниз, то фигура у меня расширяется от плеч к заднице — совершенно, как у бабы, и я из-за этого малость комплексую.
Вспомнил вот: недавно нас на медосмотр гоняли. В обязательном порядке надо было пройти, иначе, говорили, что из школы вытурят. Не пойму я, какого хрена они всё время пугают своим исключением? Ведь все же знают, что за такое из школы не выгоняют. Ну и, короче, нас специально ради медосмотра этого, будь он неладен, сняли с первых двух уроков. А первые-то были как раз «труды», то есть халява полная, которую и прогуливать грех, а после них — две алгебры и география. А Географиня у нас, значит, — самая суровая училка. Мы, конечно, по такому случаю давай сразу гундосить, что снимать так уж снимать, и, дескать, пусть все уроки отменяют. Во время медосмотра этого, помимо мочи и дерьма, ведь и кровь нужно сдавать. А человек после сдачи крови может и неважно себя почувствовать. Нам Пружина отрезала: «Чтобы на алгебре все были, как штыки». Это завуча у нас так зовут — Пружина, потому что она, когда идёт по коридору, на каждый шаг пружинит. Её и училки так между собой называют, честное слово. Я сам раз слышал, как алгебраичка говорила англичанке, что Пружине давно пора на пенсию. А, ну вот по алгебре в день медосмотра ещё контрольную должны были писать. Груздь, который и умножает-то с трудом, сказал, что на алгебру он не пойдёт в любом случае. Они с Рожей (так одного парня все зовут за глаза) сговорились вообще на всё забить, а вместо уроков после медосмотра погнать гулять с биксами.
Кстати, для бикс такие медосмотры — сущая катастрофа. Их ведь в обязательном порядке обследует гинеколог! Кто это такой, сами знаете. Интересно, что об этом никто почему-то прямо не говорит. Скажут только многозначительно, чтобы все девочки шли в тридцать пятый кабинет, а какой-нибудь идиот типа Клячи выкрикнет с задней парты: «А можно мне тоже в тридцать пятый?» Все ржут. А Язва Кляче обязательно прошипит: «Сходи лучше к венерологу, проверься». Она крутая: с одиннадцатиклассниками путается и давно уже не девочка. Один раз спросила меня: «Замшин, у тебя не вытекает?» Я вначале не врубился. А дело вот в чём: наша физичка, синегубая пенсионерка, всё время спрашивает: «Итак, а что у нас из этой формулы вытекает?» И как только она сморозит своё «вытекает», так весь класс тут же грохает от хохота. Вот Язва и прикопалась ко мне после физики: «Новенький, у тебя не вытекает?» А сама красная, как помидор, давится от смеха. «Чего, — говорю, — не вытекает? Гонишь, что ли». «Ну, у физички вот не вытекает уже, а у тебя?» Рядом с ней Зойка шла. Она дёргает её за рукав и говорит: «Ты чё — он, наверное, не знает ещё». Да всё я знал про эту их менструацию дурацкую, только не стал ничего отвечать. Из-за менструации ихней сплошные обломы на дискотеках. Ведь как бывает: вспотеешь весь, со стыда сгоришь, потом расхрабришься, подвалишь к биксе, а она не танцует. Не танцую, мол, говорит. Почему? Ясное дело почему! Они поэтому же в бассейн не ходят. Подойдут к физкультурнице, так, мол, и так. Парни это состояние называют «Машкой». Так и говорят между собой: «Зойка в бассейн не пошла, у неё «Машка». В какой-то идиотской книжонке, «Энциклопедии для девочек», кажется, я вычитал, что раньше ещё это называлось «Гостит бабушка». Вот прикол. Иногда девки просто нагло врут, хотя и нет у них ничего такого, лишь бы от физ-ры откосить или не танцевать с тобой. Интересно, если б физ-ру мужик вёл, как бы они тогда? А про менструацию я давно уж узнал, только не помню откуда. Вообще-то ничего удивительного, по телеку сейчас рекламы прокладок вагон и маленькая тележка. Хочешь, не хочешь, а узнаешь про женские радости.
Медосмотр прошёл с приключениями. Биксы пошли к своему гинекологу, а парни — к хирургу, который оказался чистой воды педиком. Дрянной старикашка попросил меня штаны приспустить и начал внимательно изучать мой член. Я мучительно краснел и глядел в сторону, в окно, пока он разглядывал. Он бы ещё микроскоп взял, честное слово! Потом спрашивает таким стариковским козлиным голоском: «Что-нибудь Вас беспокоит, юноша?» Ну вылитый педрило! Я сначала хотел у него узнать, всё ли со мной в порядке. А то у меня недавно одно яичко опухло, — вдруг это водянка? Но язык не повернулся. «Не беспокоит», — говорю. Он тогда сказал: «Теперь повернитесь-ка, молодой человек, задом. Так. Замечательно». С минуту этот урод рассматривал меня сзади. Фу, какая мерзость! Как вспомню об этом, так аж мурашки по коже! Короче, в конце концов, всего меня обмеряли, ощупали и отпустили. Наблюдают за нами гады, как за кроликами, а годика через два на комиссию погонят. Тогда уж придётся думать, как косить от армейки.
Так вот, я вспомнил, к чему это всё про медосмотр рассказывал. В результате всех этих обмеров я узнал, что у меня очень маленький объём грудной клетки и начал комплексовать. У Груздя вон девяносто почти. Надо что-то со своей фигурой делать, а то сегодня уже две биксы в бассейне разговаривали — про меня, наверное, — и одна фыркнула: «Видела, у него же совсем нет торса». Где-то я слышал, что надо меньше хавать картошки, а то от неё плечи плохо растут. Может, брехня, конечно. Мать мне вон тоже в детстве задвигала, что от макарон растут только живот и уши.
Короче, теперь о главном. Я тут уже вспоминал про Груздя. Имя и фамилия у пацана: Андрей Гриневич, но все зовут его Груздь. Из-за него-то весь сыр-бор и вышел. Значит, он мылся в душевой кабинке напротив. Этот пижон, кстати сказать, в отличие от других, нисколько не стесняется и моется всегда без плавок. Волосы аккуратно так назад залижет, руки сложит за голову и замрёт. Позирует то есть. Ну и член у него! Не то чтобы я специально смотрел, вы не подумайте. Я не извращенец какой-нибудь. Но член у Груздя совершенно уникальный, вполне развитый, обросший густым чёрным кустом, с тяжёлым набалдашником на конце. И рожа у этого типа смазливая донельзя. Кожа смуглая. Губы выпяченные, как у греческих статуй, которых нам на МХК показывали. Красивый сукин сын, одним словом! Биксы по нему сохнут, наверное, втихомолку. И есть из-за чего: эдаким инструментом природа наградила! А у меня до сих пор эти хреновы волосы на лобке не растут. А недавно ещё ко мне Дениска подходил и сообщил, что, мол, Груздь уже созрел. Как будто это тайна!
Рассказывают ещё, что у Груздя родичи крутые, и это, видать, чистая правда. Утром его мамик на тачке подвозит до школы, а тачка не «жига» какая-нибудь, а самый настоящий BMW! Каждый год Груздь устраивает у себя на квартире день рождения и приглашает весь класс. У него полная хата аппаратуры: телек в полстены «Тринитрон» или как там, видак, музыкальный центр, «супер-нинтендо», все дела. Ему из бикс вроде Светка Зубова нравится. Говорят, что они в разгар дня рождения вместе свалили в спальню родителей и закрылись там. Может, гонят люди, а может, и нет. С этой Светкой ещё у меня конфуз случился. Началось так: пришли в бассейн, и я понял, что забыл сменку. Пришлось сдать ботинки в гардероб и топать до раздевалки босиком в одних носках. Чувствовал себя полным идиотом, конечно. Все вокруг в импортных сланцах, а я в сиреневых носках с верблюдами. Иду, пальцы на ногах поджимаю, и всё мне кажется, что люди на мои носки сиреневые пялятся и хихикают, особенно биксы. Не заметил совсем, что пристроился за какой-то девкой. Она сворачивает, и я следом. Вдруг оборачивается и меня выталкивает. Ну и фейс у неё был возмущённый! Тут только до меня допёрло, что я в женскую раздевалку зарулил! Визгу было. Парни, понятное, спрашивают, кого видел, да что. А я и успел только мельком на Светку Зубову посмотреть. Зуб у неё погоняло. Она распрямилась, прижимая охапку одежды к груди. Губы пухло округлились, беззвучно сказали: «Ты чё, новенький?» А чего ей там прятать-то было, не пойму. У двух девок из класса только и есть нормальные сиськи. А эта плоская. Её ещё Кляча плоскодонкой назвал. Потом добавил: «Баржа». И пояснил, что баржа — это плоскодонное судно. Глаза у неё были злые в тот момент, когда я на неё пялился. Чёрные, красивые и злые. Так и вытянуло меня сладким крапивным ожогом вдоль спины. Чёрт, опять я не о том.
Ну вот, Груздь попозировал немного, потом повернулся спиной и плечами встряхнул, как это делают заправские пловцы. Он мочился, пока никто не видел. Бледно-жёлтая струйка примешивалась к пенистой воде на полу. Закончив свои дела, он воровато оглянулся, потом, покачивая торсом, подошёл к скамейке и взял в руку шампунь VidalSassoon. Wash&go. Тот самый, что по телеку вовсю рекламируют. Там ещё мужик волосы моет сначала обычным шампунем, а потом этим, и перхоть у него зараз проходит. Короче, Груздь неторопливо выдавил в ладонь чуть-чуть пахучего желе и давай его втирать себе в башку. Тут-то Рожа над ним и прикололся. Он на Груздя пальцем показывает и громко так, чтобы все слышали, говорит:
— Видал, сосун.
Все заприкалывались, понятно. А Груздю мыло в глаз попало. Он жалко заморгал и огрызнулся.
— Груздь, а рот у тебя не болит? — спросил Кляча.
А Груздь ему:
— Слышь, Кляча, ты не воняй, а.
— По размеру брать надо, тогда болеть не будет, — заржал Кляча.
Груздь у него спрашивает тогда:
— А у тебя в жопе резьба не сорвана?
— А чё ты касьянишь? — Кляча высунул из кабинки свою длинную лошадиную башку.
— Кто касьянит-то, ты, женщина?
— Ты мне сейчас обоснуй за женщину.
— А чё обосновывать-то, Кляча? Все же знают, что Рожа тебя каждый день в аналку пользует. Аналка-то у тебя разработанная. Чё, не так, что ли?
И они начали, как обычно, в подробностях выяснять, кто, кого и куда имел. Эти разборки у них по десять раз на дню. Причём выдумывают друг про друга такое, что уши вянут. Не понимаю я, в чём здесь кайф?
Потом Турбо крикнул:
— Люди, играем: кто слово скажет, тот педик!
Все затихли, начали давить косяка друг на друга и зажимать рты. Только вода шелестела. Прошло минуты три. Вдруг Кляча, оскальзываясь, на полусогнутых ногах подбежал к Груздю и обдал его ледяной водой из своей купальной шапочки. Раздался вопль:
— Гнида!
— Все слышали? Груздь — педик! — объявил Кляча и начал смешно раскланиваться на все стороны. Все заржали, понятно.
— Я тебе голову сломаю, подонок! — Груздь бросился на Клячу. Они сцепились и стали бороться. Их ноги скользили по кафелю. Кляча упал, а Груздь мигом оказался сверху, прижал его животом к полу и вывернул ему руку.
— Пусти, придурок! — Кляча замолотил свободной рукой по кафелю. Груздь, довольный, слез с него и пошёл в свою кабинку. Тут его снова окатили. Он заорал: «С-у-у-ки!» — начал носиться как угорелый и поливать всех подряд. Поднялся страшенный гвалт. В пару засверкали мокрые лодыжки. Через секунду все брызгались холодной водой, как натуральные психи. Подсолнух, поскользнувшись, упал навзничь и прокатился по полу. Хорошо хоть затылком не ударился. Его чуть не затоптали, и ему пришлось отползти в сторону. Там он на корточки сел и стал тереть ушибленный позвоночник. Рот его открывался, но из-за галочьего гама и шума воды не слышно было, как он матерится. Потом кто-то сбегал в раздевалку, и я не успел глазом моргнуть, как вокруг уже хлестались мокрыми полотенцами. Хлопала скрученная жгутом вафельная ткань. Мне чуть по носу не съездило, и я на всякий случай отошёл подальше.
Вдруг меня как окатит сбоку тёплой водой — аж дух перехватило от неожиданности. Смотрю — а это Груздь с пустой купальной шапочкой в руках. Стоит, ухмыляется. Я вроде как тоже ухмыльнулся в ответ, а сам чувствую какую-то подлянку. Тут Груздь громко объявил:
— Пацаны, я в шапочку нассал и новенького облил!
И стоит ещё больше лыбится. Остальным интересно стало, как я буду выкручиваться, и они сгрудились по обе стороны от нас. Так-то, по большому счёту, надо было врезать ему по морде и всё, но я не мог. Я, понимаете, не могу бить в морду! Вместо этого я стоял и думал, что сейчас врежу ему, вот прямо сейчас, сию секунду, но секунда проходила, и я понимал, что не врежу. Реветь хотелось от досады. Время шло. Между нами как бы медленно вырастало толстое стекло. Руки делались ватные и вялые. Я видел, как лоскуток кожи тревожно бьётся у него между рёбер. Я не смотрел ему в лицо, всё время отводил глаза и чувствовал, как к щекам приливает жар, а в горле становится ком. Чёрт, скорее бы это кончилось! Все вокруг ждали.
— Ты чё, охуел? — жалким дребезжащим голосом сказал я, и сам не понял, как сорвалось с губ ругательство. Как будто кто-то чужой неожиданно высоким звенящим от слёз фальцетом крикнул: «Ты чё, охуел?» Все загоготали. На глаза наползали слёзы бессилия. Я сморгнул с ресницы сверкнувшую горячую искорку.
— В натуре, Груздь, ты чё, охуел? — хихикнул Кляча и легонько хлестнул его полотенцем.
— Не впрягайся, — огрызнулся Груздь и вкрадчиво так продолжал, повернувшись ко мне: — Ты чё быкуешь, бык? А? Ты бык, новенький?
— Сам бык, — говорю и жалею, что это сказал, потому что как в детском саду получается, честное слово!
— Ну ты и касьян, в натуре, — протянул Груздь.
— Сам такой, — отвечаю. Вокруг уже посмеиваться надо мной начали.
— Да ты чё, новенький, броневой, что ли?.. — Он наклонился к самому моему лицу. — Ты базарить-то умеешь, лох?
— Сам лох.
Все заржали.
— А папа-то хоть есть у тебя?
— Нет, — говорю, — не живёт он с нами.
— Я не про папика твоего спрашиваю, придурок, а про папу. Знаешь, кто такой папа?
— Кто?
— Папа — это тот, кто тебя базару учит, понял? Ты вообще кто по жизни?
— Я кто? Человек, — говорю.
— А ты знаешь, что педераст — тоже человек?
— Ну.
— Так, значит, ты педераст?
— Слушай, достал уже.
— Чё, схавал за педераста? Ты мне теперь «воздуха» должен.
— Какого «воздуха»?
— Такого «воздуха», айбол. Какой «воздух» бывает? Ладно, на первый раз прощаю. Косарь завтра приносишь, и хватит с тебя. Не принесёшь, счётчик включим.
— Ты запарил! Я тебе ни фига не должен!
Груздь тогда говорит:
— Так, новенький, ты какой-то упёртый, в натуре. Придётся тебя ломать. Давай-ка стрелу забьём — моё место, твоё время.
— Что?
— Время называй, придурок, когда махаться будем.
— В субботу, — говорю, — в десять.
— Ладно. Знаешь корт во дворах за школой?
— Но.
— Вот там.
Все загалдели и повалили в раздевалку. Кто-то сказал: «А новенький лох». «В натуре лох», — согласились с ним.
Я остался один в душевой. Вода хлестала из рожков вовсю. Я начал обходить кабинки и плотно заворачивать краны. Мой характер так по-дурацки устроен. Только что Груздь свалил, как во мне поднялась запоздалая ярость, такая сильная, что хотелось бросаться на стены. Мне бы чуть-чуть этой ярости в нужное время, я бы тогда. Получи, гнида. Башкой тебя об стену. Баш-ш-шкой, чтобы остался длинный слизисто-кровянистый след, а потом под дых коленкой. Подыхай, гадина. Кровью будешь харкать, в ногах валяться, прощения у меня просить. Су-у-ука.
Когда я пришёл в раздевалку, там уже остался один Турбо. Он жёваный китайский костюм застегнул на молнию и стал аккуратно зализывать назад коротенькие волосы. Турбо стрижётся под площадку, так что башка получается совершенно квадратная. У него фамилия Трубников и ещё есть кроссовки с надписью «Турбо» на подошвах, за что ему и дали погоняло такое. Прилизавшись, он подвалил ко мне и сказал:
— Слышь, ты не грейся, Груздя легко сломать, хоть он и закачанный. Берёшь его за шею.
Он крепко обхватил меня за шею своей сильной рукой.
— Берёшь и, хоп, так бьёшь его головой в переносицу.
Турбо дёрнул меня на себя, одновременно выставляя вперёд свой крепкий шишковатый лоб.
— Я тебе сейчас несильно показываю, а там надо изо всей мочи. У него по ходу дела сразу болевой шок, а ты его запинывай ногами, и он готов. Ещё раз показать?
Турбо с охотой снова проделал свой приём, а потом спросил:
— Ты чё, в понятиях не рубишь совсем?
— Нет, — говорю.
— Ничего — научишься. Смотри, понятия бывают лоховские и воровские. Короче, когда тебя спрашивают, по каким понятиям живёшь, отвечай: по воровским.
— А чё, больше нет понятий? — спрашиваю.
— Больше нет. Ты либо вор, либо лох.
— А если я не вор, а простой человек.
— Не говори, что ты человек, потому что человек — это по воровским понятиям педераст. Ты чё, ни разу в жизни ничего не спиздил?
— Вроде нет.
Турбо наморщил свою ежистую репу.
— Ну вот, смотри, — говорит, — раньше ещё, когда кондукторов не было, ты билетики покупал в трамваях?
— Не-а.
— Видишь, значит, пиздил у государства деньги. По три копейки за несколько лет сколько набежало? То-то и оно, что до хуя. Значит, ты — вор. Смело говори, что вор, не пропиздоболишь.
— Ясно.
— А если чё, на тебя наезжают, ты говори, что Толю Гурдюмова знаешь.
— А кто это?
— Ну, ты с дуба рухнул, в натуре! Это у «бурмашевцев» главный.
Я кивнул.
— Ну ладно, мне на треньку ещё надо в самбо.
Турбо покровительственно хлопнул меня тяжёлой рукой по плечу и вышел. Я встал перед зеркалом в боксёрскую стойку, начал с шипением выдыхать и делать пассы руками, как каратисты в гонконговских боевиках. Потом поклонился себе в зеркале и пошёл вниз.
Возле гардероба меня ждал Дениска. Из раздувшейся куртки, похожей на спасательный жилет, торчала маленькая голова. Рядом с ним на стуле лежала огромная китайская сумка с надписью «Adibas».
— Чё так долго? — спрашивает.
— А, пока одевался…
— Груздь говорит, что он крышу с собой приведёт, слышь? Ты тоже свою крышу приводи. Есть у тебя крыша?
— Нет.
— Жаль, сейчас время такое, без крыши никак. Мой дядя, ну, тот, про которого я тебе рассказывал, у которого ещё «фольксваген», — вот он тоже только под крышей работает. «Бурмашевские» его крышуют. Пока был без крыши, у него два раза киоски взрывали.
Я его не слушал. К гардеробу шла, плавно размахивая ломкими белыми руками, Машенька Кащенко. Её шаг был широкий, скользящий, рвущий складки длинного красного платья в чёрную клетку.
Тоже мне леди ин ред, — хихикнул Дениска, — нормальные-то биксы давно уже в мини-юбках гоняют и в лосинах.
В бассейне я специально поднырнул под воду, чтобы посмотреть, как она плывёт. Совершеннейшее чудо! В трепете синих бликов, оплетённых золотыми прожилками, в прозрачном просторе, будто подвешенная в невесомости, скользит, вытянувшись в ровную стрелку, чёрная рыбка. Белые ножки резво полощут, как плавник. Хлорки наглотался. Вынырнул и с храпом стал хватать воздух. Больше всего ненавижу, когда вода попадает в нос. Щиплет так и колет в затылке.
Высокая, стройная в узком чёрном купальнике. Грудки, правда, ещё не развились — ну, это ничего, это поправимо. Единственный недостаток: выше меня на полголовы.
Она подходит к гардеробу. Высокий чистый мраморный лоб, мягкие серые глаза и клюквенные губки, разнимает их, а на внутренней стороне блестит слюнка. Ангел! Подойти бы сейчас. Подкатиться эдаким лихим бесом, сказать: «Классно плаваешь». Но я не стал — так вот по-дурацки устроен мой характер. Напротив, я сделал всё, чтобы показать, что не обращаю на неё ни малейшего внимания. А надо было взять у неё портфель, что ли, до дому проводить.
Недавно почти что ходил к ней домой. Почему почти? Сейчас объясню, это целая шпионская история. Ну вот, короче: адрес её я надыбал в классном журнале. На физике, пока он лежал на учительском столе, тихонько посмотрел. Долго я носил этот клочок бумаги с адресом в кармане, пока вечером однажды не решился. Оделся во всё лучшее и пошёл. Чем ближе подбирался к её дому, тем больше комплексовал. Наконец, решил так: найду её дом и квартиру, но заходить не буду.
Нашёл нескоро, минут десять поплутав в колодцеобразных дворах. Медленно брёл по тропинке под окнами, в которых оранжевым уютом светилась чужая жизнь. Когда мы с моей Машуткой поженимся, у нас тоже будет своя квартирка. Я буду приходить вечером домой, а она встречать меня в коридоре в халатике, накинутом на голое тело. Эта игривая мыслишка привела меня в ещё более хорошее расположение духа. Где-то там её окошко. Задрал голову. Если как-нибудь случайно увидит меня, подумает: что за кретин ошивается тут под её окнами? Ещё хуже: выйдет гулять с собакой. У неё есть собака? В любом случае. «Привет». — «Привет». — «А ты чего здесь делаешь?» — «Да так. Друг у меня тут». — «Ну, пока». — «Пока». Машенька. Машутка. Нет, не так. Пошли прогуляемся. И я пойду рядом с ней. Украдкой взгляну на нежный профиль. Красная вспотевшая рука ищет лилейно-белую её руку. Смыкаются. Я поймал себя на том, что блаженно улыбаюсь, как идиот. Зашёл в подъезд. Букет запахов щекочет ноздри. Несёт мочой и помоями. Где-то готовят пожрать. Жареная картошечка с лучком. М-м-м. Третий этаж. Долго ещё? «Кто пишет это, тот лох», — написано на стене. А вот: «Нас всех раздавят колёса огненной содомии». Тьфу ты, металюги какие-то патлатые тут живут. На подоконнике шприц и кусочек ватки. Ширнулся кто-то. Что тут у нас? Ну-ка. Латынь! Si vis amare amo. Шестой. Уф-ф-ф. У кого-то молочко пригорело. Вот она заветная дверца. Стою и чувствую, что сердце бешено колотится. Глажу пальцами кнопку звонка. Сейчас надо бы позвонить, но я на сто процентов уверен, что у меня не хватит мужества. Так и подмывает развернуться и убежать. Дверь как дверь. Листовое железо, крашенное тёмно-бордовой краской. Выпученный глазок Объёмные цифирки: 233, обрамлённые нехитрым растительным орнаментом. Позвоню и скажу: «Здрасьте». Я представил свою идиотскую рожу при этом «Здрасьте» и подобострастную улыбку. «А Маша дома?» Строгая мать сведёт недовольно брови. «Что за дебил тут припёрся к нашей дочурке?» Отец, закатав рукава по локоть и обнажив волосатые ручищи, выйдет из кухни. «Тебе кого, мальчик?» Лифт надсадно гудит, и скрипят ржавые цепи. Я еле успел юркнуть в сторону к мусоропроводу, когда он остановился на том этаже, где я торчал перед дверью. Жалобно пропели двери. Хищное клацанье каблуков. Клац-клац. Ключ со скрежетом поворачивают в замке. Нет. В соседнюю квартиру. Я выбрался из укрытия. Не знаю зачем достал ключ и как во сне стал царапать стену. Белый порошок извести сыпался с мягким шорохом. М. Орудовал резцом. Вот так. Маш. Машутка или Машенька? «Машенька». За дверью голоса. Серебристый смех. Я опять бросился к мусоропроводу. Дверь открыли. Мягкое шлёпанье тапок. Ко мне идут! Заметался в замкнутом пространстве, как пойманный в силок заяц. Спрятался за толстый, серебром отливающий ствол мусоропровода. Кисло воняло отбросами. Шорох приблизился. Я гадал: она или не она? Стукнула откинувшаяся крышка. В гулкую пустую утробу посыпался мусор. Гулко во мне стучало сердце. Шлёпанье удалилось. Я снова вышел. Какой же я идиот! Сентиментальный придурок. Стою и млею перед чужой дверью. Растравляю в себе романтические чувства. Sivisamareamo, сказал один поэт. О, пиковая дама, без Вас мне счастья нет. Я так глупо устроен. Они сейчас, наверное, пьют чай и не ждут гостей. Большая дружная семья сидит за столом под оранжевым абажуром и звенит маленькими ложечками, размешивая сахар. Горячий чай согревает нежно-розовые стенки фарфоровых чашек. Машенькин профиль и тонкий стан рисуются на фоне темнеющего окна. Губы, обжигаясь, дуют. Глаза лучатся ангельской кротостью. Волосы кольцами спадают на чуть зажжённые прилившей кровью щёки. Тряхнула кудрями. Смеётся. Маленький соловьиный язычок щебечет. Машенька, боже мой, Машенька. Я люблю тебя. Я стою, сложив руки крестом на груди и зажмурив веки. Улыбка трогает мои губы, блуждает по лицу, морщит нос и глаза. От наплыва чувств сладко истаиваю.
— Чё лыбишься-то?.. — Денискина хориная мордочка заслоняет картину. Машенька давно уже ушла. Я пошёл к гардеробу и забрал свою лоховскую куртку. Вот ещё одна причина, почему я не подошёл сегодня к Машеньке. Стыдно было бы разговаривать с ней, одновременно надевая лоховскую куртку. Был бы у меня кожаный плащ. О кожаном плаще я мечтаю давно. Хочу, чтобы он был длинный и доставал до земли. Ещё хочу дипломат. Вот так, мне кажется, я должен выглядеть, чтобы, так сказать, внутренняя сущность соответствовала внешнему виду.
Мы пошли вместе с Дениской. До дому нам топать почти по пути.
— Видал сегодня в бассейне у Альки волосы подмышками? — неожиданно спросил он меня.
— Нет, как-то внимания не обратил, а что?
— Да ничего, чисто так спрашиваю. Это значит, что она созрела уже, въехал? Она с каким-то парнягой мутит из десятого, что ли, класса, точно не знаю. Думаешь, они трахались?
— Может, трахались.
— Стопудово трахались. А то как? Когда созреешь, по-другому нельзя.
— Я зато, — говорю, — видел, что Алька лифчика не носит.
— В натуре, что ли? — Денискины глаза зажглись.
— Я тебе отвечаю. Сам завтра можешь посмотреть.
Представилось смуглое Алькино тело, фиолетовый румянец на щеках. Горячей расплавленной чёрной смолою брызнули раскосые татарские глаза. Она сидит через проход от меня. Сегодня на ней была белая блузка, и я, глазея в окно на литературе, случайно увидел, что она не носит лифчика. Сквозь блёклый молочно-кисейный туман просвечивали очертания темнеющей сопки с навершием из маленькой шишечки. За ней вторая. Груди. Солнце наливало золотую лужицу в ложбинку между ними — маленький христианский крестик. И запах, какой-то сладковатый и одуряющий, шёл от неё и бил в ноздри. Так, наверное, пахнут подмышки. Я представлял, как медленно расстёгиваю на ней пуговка за пуговкой блузку, обнажая смуглое. Вижу тёмные грудки, увенчанные сладкими шершавыми шишечками хмеля. Хотелось стиснуть их пальцами.
Всё это только похоть, на самом деле я её не люблю.
— Видал, сколько у Груздя волосни? — спросил Денискин голос.
— Ага.
— А тёщиной бородки-то нет ещё. Знаешь, что такое тёщина бородка?
— Нет.
— Это, короче, когда от хуя до пупка волосы растут. Тёщина бородка называется. Только у взрослых мужиков бывает. У моего бати есть, а у твоего?
— Не знаю, он не живёт с нами.
— А-а-а-а. Па-анятна-а. Видал, какая у Клячи шапочка?
— Какая?
— Как презик. Неприкольно на башку презик натягивать, в натуре ведь? Покупал их когда-нибудь?
— Нет.
— У моего брательника их целая куча. Мы тогда в них набирали воды. А знаешь, кстати, сколько в один гондон воды влазит?
— Литров десять?
— Да не, поболее. Ну вот, набирали, а потом с балкона кидали. По приколу было.
Добрались до остановки. Пока не было троллейбуса, мы оба прилипли рожами к витринам киоска. Там много было всяких жёвок и новых шоколадных батончиков, которых я ещё не пробовал. Из всех мне больше всего нравится «Сникерс». Вы пробовали когда-нибудь «Сникерс»? Орехи, мягкая нуга, густая карамель и великолепный молочный шоколад! Интересно, что такое нуга? Короче, когда хаваешь этот «Сникерс», то эта густая карамель так прикольно тянется, совсем как у мужика в рекламе. Съел и порядок! А ещё недавно появились эти новые конфеты «Скитлз» — радуга фруктовых ароматов. Их я ещё не ел. Нарубить бы где-нибудь бабок на «Сникерсы» и «Колу», а то на мамкину зарплату, небось, не очень-то пожируешь. Она у меня врач-педиатр. Получает гроши, даже на хавчик толком не хватает.
— Знаешь, что Груздь каждый день, когда делает домашку, по «Сникерсу» хавает и колой запивает, — завистливо протянул Дениска, отлипнув от стекла. Тяжёлая сумка тянула его к земле, и он смотрел на меня снизу вверх, смешно вывихнув шею.
— Да, — говорю, — прикольно ему.
— А ты ему сразу пни по яйцам, — неожиданно зло сказал Дениска, и глаза его сузились. — Когда кто-то сильней, надо сразу по яйцам, а потом запинывать.
— Ты чё, — говорю, — злой такой.
— Да не злой, чисто так.
Тут подошёл мой троллейбус, и я сказал:
— Ну, пока.
— Пока.
Домой я приехал в самом паскуднейшем настроении. А вечером вдобавок ко всему ещё с матерью поругался неизвестно зачем. В последнее время она особенно меня достаёт своими расспросами дурацкими.
— Как день прошёл?
— Нормально.
— У тебя что-то случилось?
— Нет.
— Я же вижу, что ты какой-то грустный.
Молчу. Тогда она пускается на разного рода наивные хитрости: «А за мной сегодня, представляешь, какой-то дядька гнался с цветами, кричал: «Вы — женщина моей мечты». И начинает наигранно смеяться.
А я ей:
— Ну и выходи за него замуж, мне-то что.
Она теряется. Потом берёт себя в руки и раздражённо замечает:
— Не груби мне.
Щёки у неё покрываются розоватыми пятнами.
— Ты вообще в последнее время стал очень грубым.
— Сама такого воспитала, теперь расхлёбывай! — отвечаю.
А она стоит и, видно, не знает, обидеться ей или рассердиться и залепить мне пощёчину. Как маленькая девочка, честное слово! Тут захотелось как-нибудь ещё поддеть её, и я медленно так говорю, каждое слово взвешиваю:
— Чё прикопалась-то со своими расспросами дурацкими, я же не спрашиваю тебя, почему у меня папы нет?!
— Кажется, мы уже обсуждали с тобой этот вопрос… — Она старается, чтобы голос был ровным.
— А знаешь, кто такой папа?! — с каким-то щенячьим привизгом выкрикиваю, — это тот, кто тебя базару учит, за жизнь тебе втирает! Поняла?!
— Слов-то нахватался.
— Нахватался, представь себе. Это не с тобой сюсюкать. Воспитывала меня всю жизнь, как благородную девицу. В гробу я видал такое долбанное воспитание!
Долго бросал ей в лицо обидные слова. При этом испытывал какое-то нездоровое удовольствие. Знаете, чего я добивался? Чтобы она ударила меня по щеке, и слёзы бы из глаз брызнули, а щека бы вспыхнула. Я бы тогда выскочил в прихожую, сорвал с крючка куртку, сунул ноги в стоптанные ботинки и выбежал на улицу, хлопнув дверью. Ушёл бы, короче, из дому. Все подростки рано или поздно уходят из дому. Со мной ещё такого не случалось, и я очень хотел попробовать. Но мать всё испортила. Она просто перестала меня слушать и занялась своими делами. Я оделся и хлопнул дверью. Конечно, не так эффектно всё вышло, как если бы она мне влепила пощёчину, но я решил всё равно уйти из дому, потому что меня игнорируют.
Темнело уже, и я стал представлять, будто в конце нашего разговора она не выдержала и отвесила мне оплеуху. Родная мать — и сына по щеке! Ну, нет, я ей этого никогда не прощу. Придёт ведь завтра сама извиняться. Да не тут-то было. Завтра я не вернусь, и послезавтра не ждите. Буду жить на вокзале с бомжами и проститутками. Пускай побегает, милицию на уши поставит. Они дадут объявление по телеку: такого-то числа, во столько-то такой-то ушёл из дому и не вернулся. На нём была коричневая дермантиновая куртка, синие джинсы «Врангель» (не настоящие, а китайские). Какую-нибудь фотку покажут, чтоб весь город видел. Через недельку уже надежду потеряют, с ума сойдут от горя, подумают, что меня продали на органы. А я — вот он, тут-то и объявился, целый и невредимый! Уж она тогда запомнит на всю оставшуюся жизнь!
Незаметно для себя я добрёл до Машенькиного дома. Девятиэтажки в сумерках напоминали многопалубные корабли со множеством жёлтых огней. Я почему-то вспомнил про книжки писателя Владислава Крапивина. Крапивин классный мужик и пишет прикольно про пацанов, таких же, как я, про корабли и про приключения. Тут мне захотелось быть капитаном какого-нибудь парусного судна, фрегата или каравеллы, а ещё круче пиратом типа капитана Блада, который возвращается к своей Арабелле Бишоп или как там, а она выбегает его встречать на пристань. Он сходит с корабля и крепко прижимает её к груди, непременно к груди. Так хочется прижать кого-нибудь к груди и гладить по волосам! Вот возьму и зайду сейчас к Машеньке. Всё ей расскажу. Она выслушает и поймёт, потом погладит по волосам, прижмёт к груди мою несчастную голову. Чёрт! Я иногда такой сентиментальный, аж воротит. Травлю себя, травлю всякой чушью! Мне вдруг сделалось стыдно оттого, что я сегодня мать довёл до белого каления. И самое главное, зачем? Так вот глупо я устроен. Сам вначале делаю, а потом не знаю для чего. Но всё-таки извиняться я не пойду. Гордость не позволит. Я, конечно, виноват, но ведь и меня можно было понять. Любая нормальная мать на её месте давно бы догадалась, что у меня переходный возраст и так далее. Она, между прочим, тоже виновата. Кто, в конце концов, меня воспитал? Не сам же я по себе такой вырос.
Вернулся домой уже очень поздно. На кухне горел свет, она не спала. Увидев меня, встала, молча прошла мимо и свернула в комнату. Я, не раздеваясь, просунул голову в дверной проём: она уже лежала, накрывшись одеялом и отвернувшись к стене.
Скоро я тоже улёгся. Не удавалось заснуть. Слышалось её ровное дыхание. Мы оба спим в одной комнате (квартира-то у нас однокомнатная в панельной девятиэтажке — всё, что дали после сноса барака в 1987): она возле окна, а я на другом конце, в углу. Вдруг показалось, что будет до жути романтично не спать совсем и целую ночь думать о моей Машеньке.
Попытался поймать в фокус воображения её розовый кошачий ротик. Он порхал перед внутренним взором. Когда-нибудь мы с ней поженимся и тогда будем вместе лежать в одной постели. Мне представилась сцена: я у неё в гостях, мы долго целуемся — Господи, невероятно! — оба падаем на кровать. Мои руки забираются ей под блузку. Нет. Я поспешно отдёргиваю их и отваливаюсь в сторону. Лежим, прерывисто дыша и глядя в потолок. Кто-то стискивает сердце. Господи, милая моя, как долго ещё до свадьбы! Нам только четырнадцать. Но мы дождёмся, правда, ангел мой? Правда? Так мы будем испытывать себя, мучить каждый день, но ни разу не дойдём до конца. Что-то, конечно, можно будет себе позволить и до свадьбы. Снять с неё блузку, расстегнуть лифчик и прижать маленькие нежные грудки к своей горячей груди. В этом же нет ничего предосудительного! Всё. Только это. Дальше я не пойду. Я честный человек. Я начинаю проделывать всё это с ней в своём воображении. Я готов был сдержать слово. Только снять лифчик. Расстёгиваю его скрюченными пальцами: мелькают круглые спелые фиолетовые груди, украшенные шершавыми шишечками. Смуглое тело. Прекрасный раскосый, серебром отливающий сабельный длинный серп татарского глаза. Сверкнул. Рассёк. Губы жаркие, пухлые прислонились к губам. Альфия. Зверея, рычу, рву в клочья одежду. До конца! До конца! Ткань подушки, как наждачная бумага, царапает щёку. Тихо, чтобы мама не услышала. Простыня облепила зудящее тело. Тру его обо всё, что попадётся под руку. Господи, не могу. Прости грешника. Так. Колени стискивают одеяло, как клешни. Подушку вниз. Обхватываю ногами. Мну её. Милая Альфия. С тобой не надо ждать. Скорее. Кусаю зубами комок простыни. Целую собственные руки. Я нежный, я такой нежный, дайте мне подарить свою нежность. Ногти царапают кровать. Спазм. Стрелой в небо. На излёте. Высшая точка. Звезда. Взрывается. Стремительно вниз. Тело колотит, будто оно кувырком по ступенькам летит. Всё.
Распятый лежу на кровати. Я жалок. Я противен себе. Я ничтожество. Если бы Машенька только знала, она бы меня не простила никогда. Всё, сегодня был последний раз, когда я позволил себе это. Я мужчина или тряпка? Неужели не могу сказать себе твёрдо раз и навсегда: я завязал и точка. Могу. С тем и заснул.
На следующее утро, так и не помирившись с мамиком, погнал в школу. Обычный день. На крыльце у школы старшаки тусуются. Широкие спины в кожаных куртках. От них несёт агрессивной смесью табачного дыма и одеколона Oldspice. В рекламе мужик рассекает по волнам на сёрфинге. Обещают запах свежий и пряный, как морская волна. Короче, это был Чиба и его братва. С ними ещё зависали размалёванные девицы с обесцвеченными волосами. Драные лохудры. Я хотел было незаметно прошмыгнуть мимо, но меня окликнули:
— Слышь, парняга, иди сюда, побазарить надо.
Внутри всё похолодело, и кишки слиплись от страха. Такой вот я трус. Если будут прикалываться, смолчу. Ну их, с ними связываться.
— Иди, иди, не грейся.
Я робко приблизился. Обесцвеченные лохудры нагло изучали меня, надувая розовые пузыри из жвачки.
— Чё уставился? — одна сказала. — Это ж «Бубль гум».
Они заржали.
Чиба наклонил свою бычью голову вниз и выкатил на меня стеклянные карие глаза. На его короткой шее растеклось чернильно-фиолетовое родимое пятно.
— Ты в воскресенье с Груздём махаться будешь? — спрашивает.
— Ну, я, — отвечаю.
— Смотри, не обломай, мы все придём, посмотрим.
— Да, я уже ставки сделал, — выкрикнул кто-то из их братвы. Все снова дружно загоготали.
Чиба продолжил:
— Я на тебя поставил, не обломай. Если Груздь тебя отпиздит, ты мне денег будешь должен.
Я заморгал и хотел возразить.
— Ну чё шарами хлопаешь, вали теперь.
Я повернулся, как загипнотизированный, и пошёл в школу. Хренотень какая-то получается очень неприятная. Теперь-то уж железно придётся драться. Вчера, успокоившись, я подумал, что, может быть, как-нибудь удастся замять это дело. Не выгорит. Настроение опять стало паскудное, будто отравился чем.
Единственный случай меня сегодня порадовал. Стоим мы с Дениской на переменке перед географией, треплемся о чём-то своём. Весь наш класс торчит в коридоре, потому что Географиня никого внутрь до звонка не пускает. Запрётся на шпингалет и сидит одна. Какого чёрта она там делает? Заходим потом на урок, а там воняет «Красной Москвой» или ещё чем. Наверное, она за перемену целый флакон на себя вылить успевает. Зачем? Может, чтобы потом от неё не несло. В общем, точно не знаю. Короче, мы с Дениской прикалываемся, а рядом Светка Зубова с Маринкой. И как-то ненавязчиво вдруг начинаем вместе общаться. Они смеются, мы не отстаём. Я чувствую: что-то уже наклёвывается. Словом, хорошо всем. А дальше — ещё лучше! Светка в разговоре, как бы между делом, протягивает полные красивые руки и поправляет воротничок моей рубашки. Мне прямо в лицо, в самые глаза ударило тёплой волной, даже губы обожгло. Сделала она это бессознательно, повинуясь какому-то женскому инстинкту приводить всё в порядок, и сама смутилась. Тепло заструилось вниз, растекаясь по животу. Приятно было до жути. Я тут же на месте в неё влюбился. Таких потрясающе красивых тёмно-карих, почти чёрных глаз я ещё ни у кого не видел. Кожа у неё белая-белая, а на щеке коричневая родинка, будто кто капнул в молоко капельку шоколада. Родинка движется, прыгает, когда улыбаются розовые губы. Какая она замечательная, эта Светка! И оказывается, не злится на меня за то, что я её тогда случайно в раздевалке увидел без лифчика. Чёрт, я иногда сам себя не понимаю! Мимо в этот момент проходила Маша Кащенко, и я не нашёл её такой же привлекательной, как вчера. Мне показалось, что она слишком худая. И нос у неё крупноват. Я даже обозлился на неё за этот нос. Симпатичное личико и такой носище! Какая-то она, вдобавок ко всему, холодная. Во всяком случае, в Светке больше тепла. Светка душевнее и ближе как-то.
В обеденный перерыв в столовке Груздь схватил меня за рукав и сказал, чтоб я Светку оставил в покое. Я вырвал локоть и вообще не стал ему отвечать. Подождём до воскресенья. Зря, конечно, бахвалился. Начистить ему рыло у меня нет почти никаких шансов, потому что попросту не смогу я врезать ему по роже. Вы когда-нибудь замечали, как трудно бить людей по морде? У меня это главная проблема. Ну, и ещё страх, конечно. Вчера я чуть-чуть в штаны не наложил в бассейне-то. Как же я ему врежу? Только начинаю представлять драку, сразу суставы размякают. Я жалкий, ничтожный, трусливый онанист. Ни на что не способен! Самое обидное, что я это про себя знаю.
Сегодня топаю домой после школы весь загруженный своими проблемами. Дениска где-то сзади отстал. Оборачиваюсь, а он с перекошенной мордой убегает в сторону. Сумку подмышку подхватил и вчесал. Я вначале не врубился в чём дело, а потом посмотрел вперёд и увидел гопников. Их было трое, и шли они мне навстречу так: двое впереди, один немного сзади. На всех чёрные вязаные шапочки, надвинутые на глаза, и куртки LosAngelesKings. Походочка характерная: головы втянуты, плечи ссутулены, а руки спрятаны в рукава. Я не на шутку перетрухнул, или, по-нашему, сел на измену, но сворачивать было поздно, поэтому морду сделал клином и ломлюсь мимо них, стараюсь ни на кого не смотреть. Авось пронесёт? Они проскользнули по обе стороны. Один ещё как следует толкнул меня плечом, но я возникать не стал, а только шагу прибавил, лишь бы ноги унести подобру-поздорову. Потом слышу:
— Слышь, Вася, «катей» подогрей нас, а?
Голос не угрожал, но по-дружески просил об одолжении так, что не было никакой возможности отказать. Рука сама полезла в карман джинсов, достала мятую сотню, которую я сэкономил на школьных обедах, и передала через плечо. Её с благодарностью приняли невидимые руки, затем вкрадчивый голос сказал:
— Слышь, я же вижу, что ты нормальный парняга, «катю» не подкрысил, у тебя, наверное, ещё «воздух» есть? Нам чисто на пиво с децл не хватает.
Тут до меня допёрло, что я по уши в дерьме. Теперь гады не отвяжутся, раз поняли, что можно меня развести, как лоха. Они ещё плотнее взяли меня в кольцо. Двое шли по краям (я чувствовал их плечами), один сзади. Волки позорные.
— Больше нет, — говорю.
— А если мы проверим? — оживился голос. Из чужого рта воняло подсолнечными семечками и гнилью. Мне стало противно от этой вони, а ещё противнее от собственной трусости. Если бы я дал им себя обшарить, то потом презирал бы себя всю оставшуюся жизнь.
— Как, — говорю, — ты проверишь?
— Ты ёбнутый или притворяешься? Пошли сейчас вот сюда во двор, ты нам карманы покажешь, если, в натуре, нет «воздушки», можешь идти, а если есть, значит, ты пиздобол и нам денег должен.
— Не пойду я никуда.
— Дык, слышь, Вася, ты же по-любому не прав. Да стой, куда ты ломишься? Ломовой, что ли? Слышь, ты вообще по каким понятиям живёшь?
Тут я вспомнил, что говорил Турбо, и брякнул:
— По воровским.
— По воровским?.. — Первый голос как будто удивился. Другой с сомнением спросил:
— А у тебя старшой-то хоть есть?
— Нет, — говорю.
Он тогда обрадовался:
— Если старшого нет, кто тогда тебя вором утвердил? Значит, ты не вор, а пиздобол, и нам денег должен.
— Никому я не должен.
— Ты чё, Вася, повёлся, ты уже тут столько накосорезил, что нам косарь должен. Сегодня не отдашь, мы счётчик включим.
— Я Толю Гурдюмова знаю, — промямлил я без особой надежды.
— Чё-о-о-о-о? Ты такой пиздобол, в натуре! Я сам его племянник. Так что не гони.
Короче, опять началась та же волынка, которую мне Груздь недавно втирал. Я понял, что бесполезно с ними разговаривать, и молчу, только шагу прибавляю. Потом не выдержал и драпанул. Стыдно, конечно, было, но ничего поделать с собой не мог. Такая вот я размазня. Ещё, главное, как от них смылся, так сразу начал представлять, как врезал тому, что шёл справа, по сусалам. Он схватился за лицо, а я его коленкой под дых. Потом развернулся и треснул второму в солнечное сплетение. Тот начал хватать ртом воздух. Третий, понятно, не стал дожидаться своей очереди и исчез.
С матерью опять сегодня какие-то нелады. Вздумала меня кормить биодобавками. Хаваю суп, смотрю: она мне что-то в чай подсыпает. Я тарелку отодвинул и говорю:
— Так, чего это за отраву ты мне скармливаешь?
— Это, — отвечает, — биодобавка. Мальчикам очень полезна.
А сама глазами невинно так заморгала, будто я её поймал на месте преступления.
— Почему это именно мальчикам? — наседаю.
— Потому что у них организм… в общем, чтобы они были спокойнее.
Так это теперь называется?! Короче, я всё понял: чтобы мальчики по ночам в карманный бильярд не играли! Меня это так взбесило, особенно её дурацкие увиливанья, как будто я не знаю, о чём речь идёт! Добавки я, понятно, жрать не стал и как всегда нагрубил. Ну и кончилось крупной ссорой. Хотел было опять уйти из дому, но потом поостыл и никуда не пошёл. Ночью думал о Светке. Никак из головы не выходила её родинка, прыгающая на белой щеке, и улыбчивые губы. Полные руки, поправлявшие мой воротничок. В бассейне видел её в одном только купальнике. Она стояла на тумбочке и готовилась прыгнуть в воду. Маленький мускул дрогнул на мраморном сильном бедре. Но крамольные мысли я тут же пресёк и слово своё вчерашнее сдержал: не стал заниматься рукоблудием, чтобы не пачкать светлый Светочкин образ. Проснулся уже влюблённым в Светку по уши. Я так глупо устроен! В школе сегодня весь день мой восторженный взгляд преследовал её. Только надо было соблюдать осторожность, а то заметит кто-нибудь, и пойдёт сплетня гулять по классу, дескать, новенький озабоченный. А кто неозабоченный? На большой перемене Груздь стал, как всегда, об мою Светочку обтираться. Прижал её к стенке и проходу не даёт. Во мне аж всё закипело. Подваливаю к нему, решительно хватаю за рукав и не знаю, что сказать! Все слова застряли в горле. Покраснел, как идиот, до самых ушей и выдавил из себя только глупое и банальное: «Не лезь к ней». Это вместо того, чтобы произнести язвительную речь, которой я хотел Груздя уничтожить, растоптать его в прах, чтобы он отстал от Светочки раз и навсегда. Я бы тогда заговорил с ней, но не так, как Груздь. Не стал бы ей всякую похабщину шептать. Словом, всё бы сложилось как нельзя лучше. Но я только еле слышно пролепетал: «Не лезь к ней».
— Не встревай, новенький! — отрезал Груздь и снова повернулся к Светке, продолжая бормотать ей на ушко что-то грубовато-ласковое и прижимая к стене. Его губы сложились в улыбку искусителя. Но самое обидное, что Светка выразительно сверкнула на меня глазами, мол, не мешай, новенький, видишь, мы заняты!
Подавленный, я поплёлся назад. Зачем? Зачем ты вчера так непринуждённо и так по-женски поправила мне воротничок? Ты, конечно же, сделала это безо всякого умысла. А я, дурак, подумал, что могу надеяться на нечто большее с твоей стороны!
Сижу вот теперь на алгебре. Дениска рядом скрипит шариковой ручкой. С ним я не разговариваю со вчерашнего, когда он меня бросил и смотался от гопников. Тут меня ещё к доске вызвали. Я встал и спокойно говорю:
— Я не готов.
Надо уметь некоторые вещи говорить с чувством собственного достоинства, а то кое-кто начинает мямлить и крутить хвостом. Тишина. Все залегли на парты, как перед авианалётом. Кого спросит следующего?
— Садись, два!.. — Голос её звенит, как металл о металл.
Медленно сел с выражением глубокого безразличия на лице. Алгебраичка у нас молоденькая, и я вдруг подумал: интересно, как она провела прошлую ночь? Ведь все же вокруг занимаются сексом. Все поголовно. Я иногда иду по улице, смотрю на мужчин и женщин и думаю: «А ведь вы все занимаетесь сексом, чёрт возьми!» Все. По ночам. В своих комнатах. А некоторые и днём на работе в обеденный перерыв! Алгебра не лезла в башку. Я оглядел притихший класс. Все пишут. Солнце золотит их затылки. На соседнем ряду напротив меня сидит Алька. Рожа, беззвучно хихикая, пишет ей записочки. Она их разворачивает и прикрывает ротик смугленькой ладошкой, чтобы вслух не рассмеяться. Господи, до чего же у неё миниатюрные ручки! Я посмотрел на свою раскрытую пятерню — крабовая клешня. Однажды стою в очереди в буфет, а сзади Алька. «Купи, — говорит, — мне булочку» — и протягивает мелочь. На секунду только её маленькая ладонь доверчиво легла мне в руку, чтобы передать монетки. Но что это была за секунда! Я вполне испытал блаженство.
Алька сидит, склонившись над столешницей. На ней вчерашняя блузка. А лифчик? Смотрю урывками. Проскальзываю глазами. О, счастье! Опять нет лифчика! Утренние лучи просвечивают курящийся млечный туман. Где она? Призрачной тенью встаёт знакомая сопка. Вот-вот. Лови момент. Вот она! Хорошо виден пологий склон и навершие культового камня. Рядом ещё одна такая же. Загадочный запах. Мне никогда не разгадать его природу. Сладковатый, пряный, мускусный, но в то же время не резкий, едва только уловимый, дразнящий. Ноздри округляются. Что это? Зовёт? Хочу следовать за его обладательницей повсюду! Всегда этот запах сопровождает её. Стою на перемене или сижу на уроке, вначале обоняние улавливает уже знакомое раздражение, тонкий аромат. Миг нахожусь на грани предвкушения, потом глаза замечают её присутствие. Запах этот не назовёшь приятным, даже, напротив, к ощущению, которое он вызывает, примешивается небольшая доля отвращения. Он какой-то первобытный, привязывающий к женщине накрепко.
В дверь постучали, и в кабинет вошла наша классная. Она была сильно взволнованна.
— Алёна Владимировна, извините, пожалуйста, за вторжение, — обратилась она к алгебраичке, — я вынуждена сделать срочное сообщение.
Классная встала посередине перед доской. Заметно было, что она не знает, как лучше начать.
— Дети, произошло ЧП. Мне очень неприятно, что это связано именно с нашим классом… Как вы знаете, недавно в школу привезли новые парты. Между прочим, чтобы вам же было приятнее учиться. Все они хранятся временно в актовом зале на первом этаже. Некоторые… хм… наши мальчики, личность которых нам удалось установить, позволили себе… Иными словами, новые парты исписаны отвратительнейшей… похабщиной… Этот акт вандализма сам по себе заслуживает сурового порицания. Но это не всё… Там фигурируют имена девочек нашего класса. Я не буду называть ничьих имён, но я думаю, что тот, кто написал это, тот знает, и сам принесёт извинения девочкам, которых он оскорбил… Меня лично очень бы возмутило, если бы что-нибудь подобное было написано в связи с моим именем… Кроме того, на партах нарисованы в очень грубой форме… сами знаете что… Это мог сделать только бескультурный варвар, и мне очень неприятно, что такие всё ещё учатся в нашей школе, более того — в нашем классе. Такое циничное отношение к женщине недопустимо! Всех, кто участвовал, мы будем вызывать к директору по очереди и проводить индивидуальные беседы. Возможно, в отношении некоторых лиц вопрос будет стоять об исключении из школы. Видимо, также придётся пригласить психиатра, потому что, когда это принимает такие извращённые формы, здесь уже явно имеются отклонения в психике. Я что хочу сказать: если вам так уж хочется рисовать эту пакость или писать — пишите дома на бумаге, а потом выбрасывайте или лучше рвите сначала. И ещё, мальчики: те, кто это написал, вам должно быть сейчас стыдно. Поймите, что нельзя так о девочках, тем более о тех девочках, с которыми вы вместе учитесь. Как вы сейчас будете смотреть им в глаза, я не знаю! Ведь это же будущие матери ваших детей.
Потом классная извинилась ещё раз перед алгебраичкой, они вместе поохали, и она вышла. Народ загалдел, обмениваясь предположениями о том, кто это сделал. Можно было не сомневаться, что после звонка все кинутся в актовый зал, чтобы своими глазами посмотреть на злополучные парты.
— Не знаешь, кто это? — спросил Дениска у Зойки, сидевшей сзади.
Та округлила глаза и под страшным секретом сообщила:
— Это по ходу дела Груздь, Посолнух, Турбо и Кляча. Это они писали про Светку и про Альку и, кажется, про Машку ещё. Знаешь, кто их заложил?.. — Она придвинулась к самому Денискиному уху. — Маринка. Про неё тоже та-а-акое написали! — Зойка многозначительно закивала. — А она их всех спалила.
Всё время, пока классная произносила свою гневную речь, я краснел. Уши горели. Шею жгло, как огнём. Узкий воротник тёр её и колол. Я думал: вот сейчас она скажет, сейчас она назовёт, но она не сказала и не назвала. Она попросту не знала, не догадывалась, не могла даже подумать, и никто в целом классе, который гудел, как растревоженный улей, не знал, не догадывался, не мог подумать, что это сделал я! Я, случайно оставшись один в актовом зале, писал на парте все эти похабные гадости про Машеньку, и про Альку, и про Светку. Груздь, Подсолнух, Турбо и Кляча пришли потом, читали и ржали, как резаные, и добавили ещё про Маринку. Самое главное, что я не могу объяснить теперь себе, почему мне было так приятно писать примитивные и грубые слова. Причём началось-то всё случайно. Я вдруг подумал: а что если я возьму и напишу на парте «Это» про Машеньку? Вы понимаете, «Это» про Машеньку! Кто бы мог подумать, что такое можно писать про Машеньку! Чёрт возьми, ещё как можно. Никто ведь не узнает, что это я сделал. Правда, вдруг кто-нибудь войдёт в зал, пока буду писать?! Но чувство опасности только меня подогрело. А эти новенькие парты, сверкающие свеженькой краской! Потом уже остановиться не мог. Находился в каком-то сладком оцепенении и расписывал во всех подробностях отвратительные сцены. Вот такой я человек. Не человек, а куча дерьма. Что теперь делать? Пойти во всём сознаться? Лучше сразу повеситься, потому что с таким позором мне потом не жить. Пусть лучше все думают, что это Груздь. А там как-нибудь скандал замнётся, и всё забудется. Хорошо бы сейчас время назад повернуть. Устроить всё так, будто ничего и не было. Может, на самом деле не было? Может, Груздь и написал это на партах, а не я? Я ведь и не мог бы такого никогда в жизни написать.
* * *
Ну вот, короче, мне сегодня с Груздём идти на стрелку. Чувствую себя паршиво, сказать по правде. Примерно, как если б мне надо было на приём к зубному. С самого утра только и думаешь, что тебе вырвут зуб. Щупаешь его языком за завтраком и знаешь: скоро на его месте останется кровавая яма, а оттаивающая щека будет ныть от укола. Всё это через каких-нибудь несколько часов, а пока твёрдый и гладкий зуб прочно сидит в своей лунке и ни о чём не подозревает, бедняга. Расстанемся. Он, беспомощный, с оголёнными корнями, звякнув, упадёт в стальную плевательницу. По дороге в больницу непременно всякая дурь лезет в башку: «А вдруг корень обломится? Рассказывают, если неудачно вырвать зуб, можно ослепнуть…» С другой стороны, в начале одиннадцатого пытка неопределённостью уже кончится. Скорее бы уж. Или не ходить вообще? Чего бы я ни дал — лишь бы не ходить!
Я дёргаю рукой челюсть: хорошо сидит. Оттягиваю вниз веко, воображая под глазом аккуратный синяк. Смешно, я ни разу в жизни не дрался. Это, скорее всего, из-за того, что у меня не было отца. Груздь, другое дело, — чемпион города по кикбоксингу. Сломает меня, как нефиг делать.
Теперь в классе-то толком никто не знает, зачем мы стрелу забили. Разные ходят слухи. Я тут слышал, как Зойка сказала, что мы, мол, из-за Светки. Хорошо бы было, благородно. Он её тискает, а я вроде как вступился. Но это же не так. Во-первых, ей нравится, что он её тискает, а во-вторых, я ведь написал про неё на парте всякие гадости. Хотя все думают, что это он. Получается, что на самом деле Груздь благородный, а я подлый. Взять бы и рассказать всем правду! Но я не смогу, поэтому я вдвойне подлец.
Мать со мной разговаривать не хотела. Дулась из-за вчерашнего. Вот не знает, что, может быть, меня сегодня на «скорой» увезут в реанимацию. Когда одевался, она спросила:
— Куда собрался?
Я вначале хотел сказать ей всю правду, а потом быстро уйти, хлопнув дверью. Пусть помучается. Красиво бы вышло. Но потом раздумал.
— На кудыкину гору, — говорю.
С утра подмораживало. Сел я в троллейбус, но, когда доехал до нужной остановки, не стал выходить. Двери захлопнулись, и мне вдруг сделалось легко, как будто всё уже кончилось. Мы помчались по утреннему городу с огромной скоростью и, наверное, перебудили всех сонных горожан нарастающим гулом и металлическим шелестом проводов. У меня окоченели руки и стали похожи на мороженую рябину. Я сунул их в карманы и вспомнил, как во втором классе наелся мороженой рябины, а потом у меня случился аппендицит, и я думал, что это из-за того, что я ел рябину грязными руками. Мама навещала меня в больнице и приносила душистые апельсины. Но старшие пацаны, которые лежали со мной в палате, отбирали их у меня, поэтому я так и не съел ни одного. Мне было до слёз обидно, честное слово, но маме я не рассказывал, потому что они обещали меня задушить подушкой, если я это сделаю.
Я вышел на конечной остановке и пошёл пешком до корта, причём, почти добравшись, решил сделать ещё небольшой крюк и свернул в сторону с намеченного пути. По дороге отвлекался на всякую ерунду, которую раньше ни за что на свете бы не заметил. Ну вот, например, в одном из дворов я увидел девчонку, которая играла с пластмассовой собакой, и вспомнил, что у меня в детстве была точно такая же собака, честное слово! Именно такая красная пластмассовая собака. В голове у неё шар с нарисованными глазами, так что, если катишь её по земле, то эти глаза бегут, сливаясь в две дорожки. Детей это почему-то прикалывает. А в другом месте возле мини-рынка, где «хачики» торгуют фруктами, стояла старая нерусская баба с синими губами и продавала урюк. Давно, когда мы с мамой ещё жили в бараке на улице академика Арцымовича, нашим соседом был шофёр Колька, который матерился по-страшному, но самым жутким ругательством считал нематерное слово «урюк». По этой причине я до первого класса думал, что «урюк» обозначает что-нибудь бранное.
Пока я старательно отвлекал себя от мыслей о драке, ноги несли меня во двор за школой, где находился этот чёртов корт. Когда, наконец, туда добрался, там уже тусовалось несколько парней из нашего класса. Я пожал им руки. Они подбодрили меня. Не так чтоб хотели поддержать — просто, если я скисну раньше времени, драки не будет, и зрелище, ради которого они сюда тащились, обломается.
На некотором отдалении за углом дома я заметил Зойку с Маринкой. Они тоже припёрлись поглазеть на драку, но подойти ближе не решались, видимо, понимая, что не их это собачье дело. Мне вдруг захотелось, чтобы пришла Машенька или Светочка. Откровенно говоря, всё равно, кто из них. Я бы тут же после того, как избил Груздя, признался бы ей в любви, стоя на коленях. А если бы Груздь избил меня, они бы сбегали за чистыми бинтами и йодом и перевязали бы мои раны.
Потом подвалили Чиба и его братва. Они остановились на расстоянии, но всё же так, чтобы иметь возможность наблюдать драку, и молча пасли оттуда. Чиба надменно жевал жвачку, выкатив влажные бычьи глаза. Старшаки переговаривались между собой, показывая на меня пальцами, видать, ставки делали. Их размалёванные биксы хихикали визгливыми голосами. Стадо буйволов и гиены. Честное слово, не старшие классы, а «В мире животных»! Народ недовольно галдел. Ждали Груздя. Наконец он пришёл с толпой коротко стриженных парней в спортивных костюмах и белоснежных кроссовках. Видать, это и была его крыша.
— Чё, — говорю я ему громко так, чтобы все слышали, — спортивную команду с собой привёл?
Это был нормальный заход. Народ вокруг одобрительно загоготал. Но первая фраза, похоже, была единственной моей удачей.
Мы с Груздём замерли друг против друга. Я опять не мог заставить себя посмотреть ему прямо в глаза. Я, наверное, трус. Времени прошло чёрти сколько, пока мы просто так стояли. Мне казалось, что всё вокруг: тихий двор, хрущёвки, тополя, корт, ржавая штанга ворот, мои одноклассники, Чиба со своей братвой, стриженые в белых кроссовках, Груздь — остекленело, и стоит только мне двинуться, как оно разобьётся на мелкие куски. Кто-то нетерпеливо крикнул:
— Ну чё, давайте, в натуре!
Я заставил себя посмотреть на Груздя и тут же снова отвёл взгляд. Мы медленно, как бы нехотя, начали ходить кругами. Между нами будто наливался энергией невидимый шар, который мешал сойтись. Потом я увидел, как Груздь разбегается и выносит ногу вперёд, но вместо того чтобы собраться, моё тело обмякло, как вата. Резкая боль вдвинулась в живот. Отбросило. Повело. Перевернуло. Зыбкий асфальт качнулся под ногами, шершавый, в мелких камушках, острый, оцарапал щёку. Лежу поверженный, а мне абсолютно на всё наплевать. Могу так час проваля. Ля-ля-ля-тополя.
— Давай вставай… — Его ботинки с шорохом прошлись перед моими глазами и остановились. Тяжёлые ботинки с зубастой подошвой.
Я еле-еле поднялся на ослабевших ногах, будто мне кто поджилки подрезал, честное слово, и стою, ни фига не соображаю. На одной руке, слегка обмёрзшей и покрасневший, была содрана кожа, под которую кое-где забились камешки. Ошалело озираясь, стал инстинктивно слизывать капавшую солёную кровь. Слёзы неудержимо потекли из глаз. Неожиданно для себя я зло выкрикнул:
— Сука!
Груздь разбежался и снова меня пнул, но я не унимался и продолжал бросать ему в лицо оскорбления. Отчего он не даёт мне зализать рану? Жалко себя. Всхлипы клокочут в груди, как у маленького ребёнка. Ватные руки, ватные ноги — тело меня предало, и только с языка слетают злые слова. Груздь ярится и энергично месит кулаками воздух. Я стою, прижавшись спиной к забору и беспомощно закрывшись руками. Градом сыплются удары. Губа вдруг сделалась горячая и чужая. Тёплое запузырилось, побежало по подбородку. Привкус железа. Солёное. Кровь.
— Э-э, пацаны, кончайте.
Груздя оттаскивали от меня три человека. Я опустился на корточки и смотрел в небо. Там летели вороны. Карр-карр.
— Идиоты, — сказал суровый голос, — какого хрена вы творите?!
Рядом зашуршала одежда. Чьи-то сильные пальцы крепко схватили меня за плечо и помогли подняться. Потом кто-то отряхнул мне спину.
— Ну, хорош боец, нечего сказать.
В своём спасителе я узнал Рожу. У него был крупный бугристый череп с развитыми надбровными дугами, глубоко засаженные умные глаза и русые лохматые волосы.
— Погнали умываться, — сказал Рожа.
Я не возражал и заковылял вместе с ним.
— Платок хоть есть у тебя?
Я мотнул головой.
— На, — он протянул мне свой, — не грейся, я в него ещё не сморкался.
— Нафиг чё надо, — говорю, — потом не отстираешь.
— Да бери.
— Не.
— Ну, хозяин барин. А то смотри… — Он ещё раз протянул платок.
— Не… — Я вытер рукой подбородок, на пальцах была кровь. Я вдруг заметил, что ворот рубашки, кофта и куртка у меня тоже в крови. Кровь была липкая.
— Я здесь недалеко живу, — сказал Рожа, — в этом доме… — Он указал жестом на хрущёвку. — Мамик с папиком сегодня в деревню свалили. Дома никого. Сейчас рожу у меня умоешь.
— Угу.
— А чё ты… — начал Рожа, но потом махнул рукой: — А, ладно.
Я понял, что он хотел спросить: «А чё ты Груздю не вломил?» Хорошо хоть не спросил, а то мне нечего было бы ответить.
— Я, — говорю, — попал. С меня сейчас Чиба стопудов будет бабки трясти. Он на меня ставил.
— Не грейся. Я Чибу залечу нефиг делать, чтоб он тебя не трогал, он мой двоюродный брат.
Мы зашли в подъезд. Там было сыро и пахло кошачьей мочой. На стене кто-то написал «DEPECHEMODE». Рожа спросил:
— А ты сам нафига с Груздём схлестнулся? Он же, блин, больше тебя раза в два.
Я пожал плечами.
— Я, — говорю, — сам щуплый, а гордости во мне на слона хватит.
— Ну, заходи, слон. — Рожа открыл ключом дверь. Я вошёл в тесный тёмный коридор и чуть не запнулся о велосипедную раму.
— Да что ты, итить твою налево, — сзади прохрипел Рожа, — как слон в посудной лавке. Разувайся, в ванную проходи. Умоешься, там полотенце старое справа. Увидишь. Можешь потом морду вытереть. Мы им так-то ноги вытираем.
Он захихикал:
— Шучу.
Я давно заметил: в каждой квартире пахнет по-особенному, причём очень трудно словами описать запах чужой жизни. У Рожи приятно пахло разогретым в руках деревом и сухой лимонной коркой. Я прошёл в маленькую ванную, где на полочке над умывальником стояли всяческие баночки-скляночки и две коробки от старых, столетней давности духов «Саша» для мужчин и «Наташа» для женщин. Первым делом уставился на свою разукрашенную рожу в зеркале.
— Красавец, — сказал Рожа. Его разбойничья рожа возникла в дверном проёме. Как тебя такого сейчас Машка Кащенко будет любить? — спросил он.
— А с фигов ли она меня любит? — поворачиваюсь к нему.
— Любит стопудово.
— А ты почём знаешь?
— Есть свои источники информации, — уклончиво ответил Рожа. — А ты чё, чай, не рад, а? Тебе ж она тоже нравится.
Тут я вконец обалдел.
— С дуба рухнул? — говорю. — Она мне не нравится, и ва-а-аще, в натуре, она фригидная какая-то.
— А какого хрена тогда ты под её окнами каждый вечер топчешься? Тропинку уж протоптал. Алька тебя спалила, так что нефиг отмазываться.
— И чё, все теперь знают? И Машка тоже?
— Да ты чё, хм! Девки всю неделю об этом только и трещат.
Я открыл кран и стал умываться.
— Вот, значит, как.
— А чё ты нагрелся? — спросил Рожа. — Тебе надо с ней просто замутить, тогда все перестанут над тобой прикалываться.
— Да как замутишь-то? Теперь ещё после всего… — Я выключил кран и посмотрел в зеркало. Губу разбарабанило на полметра.
— Ну, целоваться первое время не придётся по-любому, — заключил Рожа. — А для начала тебе нужно просто больше хохмить.
Мы с ним пошли на кухню.
— Суп будешь хавать из рыбьих голов? — спросил он.
— Буду.
— Ну вот, — продолжал Рожа, зажигая газ, — девка чего больше всего хочет?
Я пожал плечами.
— Чтобы её развлекали, дурень. Запомни первое правило: женщина всегда скучает, вот. Хохми, прикалывайся, делай всё, чтобы ей было весело, тогда она твоя по-любому.
— Понял, — говорю, — только женщинам всё равно нравятся такие мускулистые с накачанными ногами типа Груздя.
— Да ну, не ерунди. Над Груздём, наоборот, все девки прикалываются, что он озабоченный. Ему лишь бы спустить, вот. Это Язва тогда сказала. Этот придурок прижмёт Зубову и ну давай её лапать. Так она по-любому ему не даст, это и козлу понятно. Только шлюха какая-нибудь, может, и даст, а нормальная девка нет, вот. К женщине нужен подход, а не так, что сразу хвать за жопу — и в кусты.
— А тебе, — спрашиваю, — кто нравится?
— Из пацанов? — приколололся Рожа.
— Да нет, из девок. Я же тебе сказал, кто мне нравится.
— Я это и без тебя знал… — Рожа поставил передо мной тарелку с супом. — С хлебом будешь?
— Блин, это кто-нибудь из класса или нет?
— Лучше хавай давай, а то остынет.
— Пусть лучше остынет, а то не могу. Горячо. Губу больно. Ну, так кто она?
— Ну ладно, ты меня достал… — Рожа посмотрел на меня. — У тебя есть три попытки. Угадаешь — скажу. Нет — тогда никогда больше не приставай ко мне с этим вопросом.
Я почесал затылок:
— Машка?
— Не-е-ет. С чего ты взял? Боишься, что отобью? — Рожа хихикнул.
— Ничего я не боюсь, я же сказал, что я так её не очень люблю, нос у неё больно здоровый, то есть она так-то прикольная, но, короче, ты понял. Тогда Светка Зубова.
— У-у-у-у, совсем холодно. Светка мне не нравится. Она хитрая баба, себе на уме. Потом у ней же сисек нет. Есть в классе девки и поприкольнее.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
