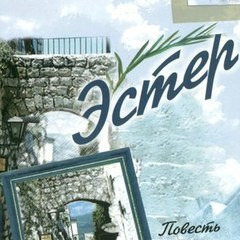Бесплатный фрагмент - Братство тупика
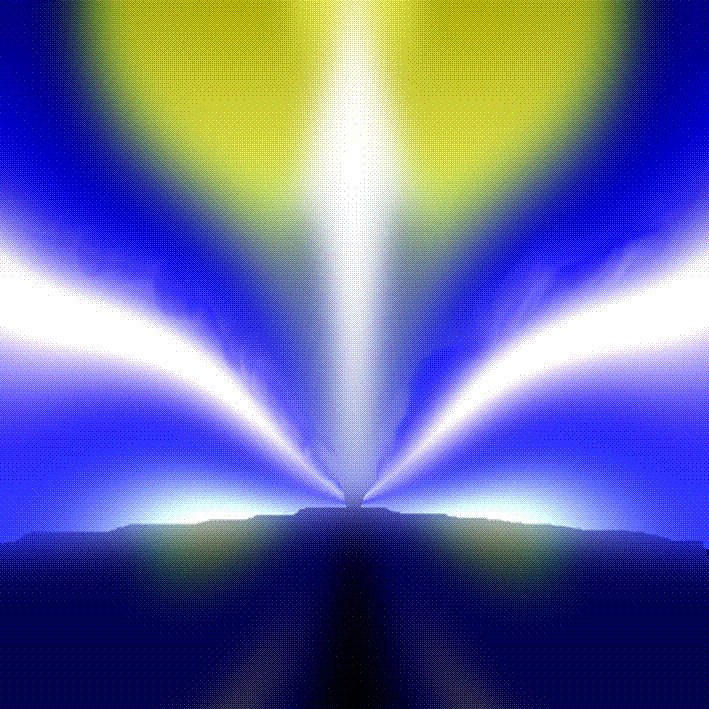
Предисловие писателя и друга Григория Розенберга
Когда появились в СССР тексты Хемингуэя, первое, что сразило в них, это не тема, не позиция автора, а особый, знойный, пружинистый воздух внутри текстов, выстраивание характеров непривычными для советского читателя средствами, особыми взаимоотношениями между героем и читателем. Если я все воспринял адекватно, Вы выстраиваете текст теми же средствами. Лирический герой не столько рассказывает, описывает события, реакции других героев, сколько комментирует их внутренним монологом. А если он при этом еще и умен, наблюдателен, наделен отличным чувством юмора, то опосредованное изображение характеров и событий через эти комментарии выглядят особо притягательными. Реплики героев, их обработка в голове Лирического Героя, ответные реплики (не всегда совпадающие с внутренним монологом), умолчания, недоговорки, многоточия — очень выразительные средства, которыми изображают не в лоб, а опосредованно. Даже если лирический герой необъективен к кому-то, не понимает его, то даже это окрашивает события особой краской… Наблюдательность и ум лирического героя, практически совпадающие с авторскими, создают и остальные характеры интересными и живыми… Мне это было очень по сердцу — когда читал вас. Кое-где возникло (вещь вполне самостоятельная, но при этом лоскутная) — ощущение стилевого дежавю… Но автор владеет гораздо более мощными средствами. Вот обнаруживается, что у героини, оказывается, еще и метафорическое мышление. Возникающие образы — глубокие психологические метафоры. У нее очень меткий глаз. Пассажи с открытой форточкой и котенком, которого тычут в молоко, просто блистательны. И сразу — досада. Почему всего две точки на весь текст. Почему эти краски не основные в рассказе! Ведь вот как умеет. Да не только «умеет», она же (героиня, автор) так и мыслит. Но почти избегает открывать читателю эти жемчужины. Сознательно, что ли? Однако развитие характеров, психологическая оправданность сюжета — безукоризненны. Как и язык (что удивляет отдельно и сильно). Есть парочка мест, где я мог бы поспорить-порассуждать о точности. Да и то — это возрастные придирки. Я, как видно, дольше жил среди всего этого… «Черненко (помните, он был после Брежнева)…» Я понимаю, что Брежнев успел стать эпохой. И все, кто были после него, были «после Брежнева»… Но, между нами, Черненко был все-таки после Андропова (который эпохой стать не успел), но смена курсов была такой значимой, что не такой умной и продвинутой героине это путать. Повторяю и подчеркиваю, это все — гарнир к вышесказанному. К тому, что вещь мне кажется замечательной. Так что, спасибо. Эстер, вы удивили меня замечательным языком. Возможно, я что-то и проглядел, где-то зевнул, но на мой вкус язык у вас не только точный, выразительный и живописный, но и — что особенно, уж простите, удивило — грамотный. Хоть главная героиня обретается в журналистской среде, ни одного журналистского идиотизма в тексте я не обнаружил. Вам удалось не употребить ни одного слова, значения которого вы не знаете (а это сегодня среди писательской братии действительно очень редко!), ни одного безграмотного оборота Ни провисаний композиции, ни недостоверностей (я о художественной достоверности. На самом деле мне чихать, кто в реальности был после кого и где были председатели, а где директора — мне, как читателю, важно, насколько это органично в том мире, что вы сотворили), ни искусственностей я не обнаружил. Про Черненко я уже сказал выше. Но потому что все это очень близко еще (для меня, например), потому что помню, как резко менялась атмосфера в стране, какие страсти это вызывало, зацепился за это. мне показалось, что там, где есть явные удачи, — это не придумано, не «найдено». Мне показалось по тексту, по естественности этой речи, что Вы (и Ваша героиня) просто так видите. Эти ассоциации, эти сравнения превращаются в метафоры сами по себе. Когда-то мне Гойхман ставил в вину избыточность этих красок в тексте, что они становятся главными, что так, мол, можно докатиться до «Ни дня без строчки» Олеши… Но дело в том, я считаю, что для кого-то такая литературная речь — результат усилий. А для других — как для вас — просто их личное свойство речи. Спасибо за это произведение. Это настоящая проза.
1 От роддома до пионерлагеря
Все, кто описывает, пытается описывать, свое детство, — правы: это так и следует, так и нужно, поскольку там, в начале ручейка, в начале чего-либо, в истоке, больше всего чистоты, и ты идешь туда и получаешь обратно эту чистоту. Чистота означает непознанность (себя, фактов).
— С вещами на выход! — говорят душе, спуская ее в этот мир.
…Какие-то двое соединились, чуткая оскорбленность матери и офицерский напор отца, и вот получилась я, проскользнула в комнату, убедилась, что буду рождаться в женском теле на сей раз, еще какие-то такие быстрые выводы сделала (как разведчик, мгновенно взвешивающий окружающую обстановку), и притворилась зародышем, ничего не имеющим против змеиных страшных колец пуповины — а «на выходе» с ними придется еще побороться. До посинения. До удушья. Но спасли.
Родившись и будучи привезена в запеленутом виде в квартиру, заметила ли, что в доме еще есть бабушка, мать мамы?
Работающий телевизор? Брат-сестра, где они? Что-то очень мирное, июньское, славное, хороший дом, хорошая атмосфера. Главное хорошее исходит от мамы. Я расту. Розовая комната, занавески, большой простор зелени в окне. Вероятно, руки. Много рук, много прикосновений. Тугие простынки, пеленки, крахмальность этого тугого кипяченого чистого белого. Много потолка. Разумеется, ракурс — потолок.
Дальше — колупание ногтем краски у балконной двери и выход к свежести балкона, малюсенькое мое тело идет само, впервые, шлеп, очень пугаюсь.
Часто забредаю потом под стол в зале (гостиная называлась залом). Стол из Альтенбурга, немецкой конструкции, с регуляцией длины и даже высоты, там подкручивалось ручкой соединение неких железных линий под доской, так в эти железные крученые пруты вечно цеплялись волосы, помню это обдирание, это ощущение, что я снова попалась, обдираю макушку, высвобождаюсь, вылезаю. Избегаю — всегда — прямых контактов со взрослыми. Они меня хотят приласкать, я им не даюсь. У отца щетина, колкий подбородок, у всех остальных какие-то другие недостатки (бабушка слишком душно и сильно прижимает, как в плен попадаешь), брат пахнет алкоголем, только к маме иду всегда, и ощущение, что она ускользает, что ее основная забота — это именно ускользнуть от моего к ней рабовладельческого интереса.
Разочарование: оказывается, мать добра не только ко мне. Приходится добирать где-то на стороне любовь, хотя это, конечно же, не то! К бабушке Клаве вообще не хочу, она означает для меня насилие (раз никто не сидит со мной, то сидит именно она, а все уходят по очень важным, очень интересным делам в очень интересный мир!). Бабушка это запасной вариант, это на самый худой конец. Не помню ничего из того, что она делала или могла делать. Вроде бы идут, впрочем, две ассоциации: резкие духи «Красная Москва», сам флакон в раздвиге серванта, и резкий же запах чрезвычайно жирной и пережаренной картошки на сковороде, это все безвкусица и не подходит к нашей квартире и, точно, скоро бабушка переселяется к тете Люде.
Сервант! С ним много связано. Как-то раз из него извлекли все фигурки, всю посуду, все. И я смогла туда залезть. Я оказалась вся в нем. Рядом со мной была его глубокая зеркальная стена. Это было страшно. Стоило пошевелиться — и там уже шевелилась эта чужая девочка.
Ясельный период — ничего не помню. Возможно (если не придумываю, не навязываю из более позднего восприятия) — рев и беспомощность. Я реву и я беспомощна. Разлука с мамой. Переживание, перекрывающее все прочее. Рассказ мамы: она несла меня туда, я ревела, она чуть не наступила в дымящийся открытый канализационный люк. Пронесло.
Садик, «Солнышко» назывался, чувство тревоги и недоверия при входе на территорию: ЯВНО МАМА МЕНЯ ЗДЕСЬ И БРОСИТ И ВСЕ!
Предсмертное содрогание такое внутри, как перед концом. Не хочу!
…К счастью, появился мальчик, Игорь Расщеперин, он сразу мне сказал в песочнице, что мы поженимся, и мне полегчало!
Без ключа: приключение у двери
Дверь квартиры, у, какая вражеская изнутри, снизу, когда ты мал и заперт за нею!
Или когда ты, наоборот, вернулся откуда-то домой, а нету ключа на привычном месте и стоишь такой скребешься под цифрой квартиры. Есть соседи, но равнодушные.
Смерть соседки, молодой, из квартиры напротив, ее лоб высоко увенчан какой-то смертной наклейкой, она лежит неведомая и оплаканная. Почему-то не испугало меня ничего в этом, просто я все поняла. Соседка Светлана, да, вот так ее звали, и там, кажется, было убийство. Это еще все до афганских дел. Которые потом станут близкой реальностью: оркестр, цинковый гроб с молодым чьим-то телом, испорченное утро, стоишь на балконе и не знаешь, как совместить прекрасное утро с этим фоном горя.
Пианино. Костяные клавиши. Невпопад стучишь по ним, чтобы помешать отлично исполняющей романс сестре. Вообще, желание противоречить старшей сестре, очень жизненное такое желание: она воплощает тип человека, который в мире адекватно себя чувствует, делает все правильно, соответствует, знает четко, что говорить и как себя вести. В отличие от.
…Сижу на полу, долблю пяткой в стену перед ванной комнатой, там заперто, туалет и ванная совмещенные, так что раздражение понятно. Но пяткой я долблю от какого-то непонимания глобального уже, видимо. И додолбалась — пробила стенку на пять сантиметров, так и осталось круглое углубление.
Еще можно с кухни подглядывать в высокое оконце, затуманенное, со стороны ванной: это вообще прикол, можно хихикать, как будто видишь что-то смешное, Но ничего не видишь, это ж высоко.
Будить брата!
Утро, уже не раннее, я иду будить Вовку. Вовка это целая планета такая, мускулистая, вальяжная, это гораздо лучше, чем любая игрушка, любой Мишка и любая кукла Машка-Наташка. Хотя веки у него разлипаются труднее, чем даже у куклы. Ух, его будить это прямо мука. Такое бледно-напитое красновато-бугристое лицо, раз он на 14 лет старше меня, совсем молодой, но все равно он — из мира взрослых казалось бы. Но есть одно «но». Он (я проникла в тайну) НЕ ПРИНЯТ в мире взрослых, они его отвергли и выбросили и ему ЛУЧШЕ в мире детей и прочих безответственных птиц и пьяниц.
Его расталкиваешь, например, а он так негрубо отбивается, отворачивается к подушке, дыхание вероятно с пьянки еще то, и возникает такое тепленькое беспомощное братское взаимопонимание, он как бы знает, что я ж не как отец, я ж не скажу ему: «Ты подлец, кто ты есть? Ты же ноль без палочки!» хотя эти слова я знаю, о, как же мне их не знать, равно как и слово Паразит. А еще слово страшное — Железнов. «Железнов снова приходил» «С Железновым снова куда-то ушли» «Да, закончил бы университет, если бы не Железнов этот». Некий мифический Бэд Гай Железнов, который «с дружками» сбивает с пути нашего хорошего Вову. Ух попадись мне только этот плохой Железнов! Конец был бы этому Железнову.
Короче, Вовка не встает, так и будет до 11—12 валяться, а потом еще и в футбол со мной поиграет. Ворота мои — пианино. По низу мячик ударяет, звук идет такой утробный. А Вовкины ворота — вся стена с балконной дверью. Конечно я забью туда гол!
Балкон.
Странное желание дотащить кошку до балкона и попугать ее, якобы сбрасывая вниз, на все четыре этажа. Кошка яростно бьет всем телом в мой живот, царапает до крови мои руки, чтобы я даже и не пыталась поставить ее на перила. А сама — в другое время — запросто по этим перилам расхаживает.
Вырвалась, умчалась, облеклась снова царственным равнодушием ко мне.
Неподходящий объект для манипуляций!
Взрослыми можно, получается, ну хоть иногда, поманипулировать с помощью болезни. Лежишь, страдаешь. Сразу меняются реакции на тебя. Говоришь слабеющим голосом. Родство душ ощущаешь с ящиками помидорной рассады, что стоят над батареей по подоконникам (теплый дух землички, и саженцы зелено-прохладны, чуть волокнисто-волосаты их стебельки, не прямые, а стоящие под одинаковым углом, выгнутые к солнцу).
Как запомнилась их отсвечивающая ворсистость. Их упругая самостоятельность. Зеленая армия молодых уверенных в выбранном ими направлении роста солдатиков помидорного полка.
…Так и не делаешь ничего целый день. С упоением глядишь в глаза киногероев Стриженова, Даля на фотках. Февраль. Солнце бьет в окно, снаружи холодища. А у тебя парник, саженцы, весенняя земличка рассады, и самое приятное, что ты больна и твое отсутствие в школе оправданно. Гадкие жженные квасцы, которыми нужно промывать горло при фолликулярной ангине. А-а, какие слова я знаю!
Обнимашки
Во дворе идет игра, вечер, скоро загонят домой, но надо доиграть. Тут я без шансов, тут я — непопулярная девочка в смешанном сборище дворовых мальчишек и девчонок, причем элементом игры является поцелуй в щечку. Инку кто-то даже целует, но это для понта, остальные это правило не выполняют, игнорируют. Доигрываем второпях. Не помню, во что играли и при чем тут был поцелуй этот, может все-таки игра в «бутылочку»? Но факт остается фактом, меня никто никогда не трогал, моя внутренняя напряженность передавалась всем, я им конкретно мешала.
Я и мама год прожили в станице, мама работала завучем, зарабатывала себе пенсию.
В станице этой мотоциклист Валерка вдруг стал возле нашего (у бабушки Романовны, где квартировали) двора залегать, лежбище себе обосновал. Нравилась я ему, что ли, разговорчики разговаривать приезжал, семечки лузгал. Галка (Халка на южном диалекте) была его официальной невестой перед армией, и это было серьезно. Когда ей доложили за городскую малолетку, она пришла нам забор мазать. Девушки вооружились глиной, грязью, промазали переднюю часть забора, бабушка вышла на них кричать («шуметь» по-станичному), они объяснили ей, что ее квартирантка с Валеркой ходит, она охнула, но уже им не препятствовала. Видно, судьба такая забору, — решила.
Забор — лишь предвестник виртуальных обид, которые еще доведется снести.
Но факт, что я опять-таки об объятиях могла лишь мечтать, ничего не выходило. Валерка чувствовал интерес, потому что я была хорошим товарищем (всегда таким и буду), а девушки не поняли.
Поэтому, когда началось освоение целины в этом вопросе, оно уже пошло по полной программе. В редакции. В 15—16 лет.
А до этого?
Помню глухое сознание своего невежества, куда, как, что. Что они все имеют в виду? Книжка была найдена у сестры — д-р Уаргинсон, пособие такое для супругов, ксерокопия. Дома никого не было, я и книжка. Ага, вот оно значицца как обстоят дела. Хриплый тигриный всхлип по поводу обретенной истины. Маму не придется тревожить расспросами, и то хорошо! И сразу внутренняя установка: это тоже какой-то аспект знания, где нужно получить пятерку. Но где, как ее получить? Кто поставит отметку?
…Честно говоря, хуже этого подвешенного состояния я не знаю ничего. Представьте себе, вам говорят, что ваши номера, кажется, выиграли в лотерее. А узнать вы сможете лишь через неделю! Пытка! Так и тут. Ходила абсолютно сама не своя. Предчувствовала выигрыш, какой-то невероятный жизненный пласт счастья, знала, что все получу, но где, как, с кем, при каких обстоятельствах, все было скрыто от меня. Мучение было запредельным.
Стадион
На стадионе получается игра в любовь, первое такое противостояние, магнетизм взгляда. Я участвую в выступлении по спортивной гимнастике, мы должны составить некое слово, как-то выплеснуть некий цвет и узор, будто живая движущаяся клумба, но пока что мы сидим на трибунах, выступают другие.
Передо мной красивый человек, родной по типу внешности, я тут же бегло додумываю: одинокий, страдающий, интеллектуальный, все при нем. Профиль, черные волосы.
Он просто сидит. На трибуне. Зритель. Лет 25 может ему.
Я просто поглощаю его взглядом с четверть-оборота, с близкого ряда, сразу за ним. У меня возникает целая история, там и Париж, и бульвары, и платаны, и мы с ним идем и объятия там и поцелуи и вся страсть там и невесть что.
Далее нас вызывают выступать с лентами, а после уж — на трибуны мы не вернулись, праздник завершился, я иду домой переполненная чуством удачи. Состоялось!
Теперь мне есть кого назвать загадочным словом «ОН»!
Даль — это тоже ОН.
Смерть Даля была таким интимным глубоким переживанием, что весь организм содрогался. Это была потеря, утрата.
Даже когда Бим убежал и пропал (спаниэль), не было такого мощного катарсиса.
Даль — это еще и ревность к актрисе Нееловой. Ух противная Неелова. Они целовались в пьесе одной.
Жизнь принадлежит мне? То есть — имеет ли человек право на самоубийство? — Вопроса такого для меня не было, так ни смерти, ни опасности для меня не существовало.
Тренировка по фигурному катанию во Дворце Спорта, я вылезла на лед раньше времени, еще старшие не откатали, и меня сбивает с ног мчащийся со своей партнершей, Белоусовой, супер-чемпион Протопопов. Они меня поднимают, отряхивают, приводят в чувство. Я просто девчонка в шерстяном красном платьице. Но меня сбил Сам Протопопов!
Спортивная секция, гордость папы за меня. Шоколадная вафля «Гулливер», большая, сытная. Покатаюсь — и опять к папе. И передохнув, опять уносишься прочь. Тренировки (сухопутные, на полу) были тяжелые, много нагрузок на ноги, мышцы ноют. А на льду — все ничего, состояние плавучей невесомости.
Озеро замерзало зимой, мы приходили с линейкой, меряли толщину круга проруби, если сантиметров 13, то можно выходить на лед. Отец говорил, что я сбиваю один конек. Действительно, левый конек был сбит больше всегда, я его укладывала внутрь, неровно ногу держала при катании. Боялась, что отец заметит. Проезжая мимо него, выравнивала. Потом опять левый конек чуть уложен был. Критика отца — это всегда было очень чувствительно. «Ну ты прям как без рук!» (когда еду подаешь). «Ну что ж ты как ноги ставишь!» — на катке.
…Потом отец уже запутался, когда меня критиковать, когда — нет. Потому что я делала что-то, что ему было непонятно, в чем он не разбирался… Он знал что? Крестьянскую семью, Поволжье, село Богатое да Ефремовку, армавирское летное училище, Тирасполь, Германию, гарнизоны свои, командование эскадрильей, оборонный завод, накопление материальных благ знал, чтоб не облапошили надо в жизни смотреть в оба глаза, это знал. И что луна — это таинственно. Он даже стих написал, заканчивалось там так: «Когда смотришь на луну — Сердце тает словно!»
Новый персонаж
Учитель был не очень приятен отцу, было между ними противостояние. Учитель был нанят, когда мне исполнилось 9 лет. Тут отцу пришлось пересмотреть свой взгляд на меня.
Он не знал, как быть с ребенком, когда он все экзамены (а у меня были регулярные экзамены) всегда сдает на пятерки, когда ребенок с 5 класса идет сдавать с десятиклассниками, когда говорят тебе про ребенка, что это какое-то совсем гениальное существо — вот тут он уже был в затруднении. На каком-то этапе его критика полностью прекратилась, отзвучала.
Но на моего брата он, конечно, всегда имел что сказать. «Ну не работал же и недели, ну что ж ты врешь!» Его разочарование Вовой было практически постоянным. Иногда наступало очарование: тот пошел на какую-то работу. Но потом все по новой.
Мать дает Вове деньги, а их давать нельзя. Нельзя поощрять пьянство и паразитизм.
(Я постоянно внутри этих событий, вырабатываю механизм убегания. Мое убегание — это страшная успешность в учебе, глубокое чтение и переживание,
глубокое общение с музыкой, слежка за сестрой и ее сердечными делами,
первые занятия с Учителем, начало преданности ему, открытие первой синагоги в Крыму с надписью Сальвэ.)
Никогда не пыталась самоубицца.
До наступления 15—16 лет и взрослого самоощущения — никогда. Но где-то сидело это предощущение, что когда-то такой вопрос возникнет, о нужности или ненужности моей жизни. До 15 лет жизнь имела безусловную ценность, она еще не отделилась от меня, не отслоилась. Не было иллюзии, что жизнь принадлежит мне и что я могу с ней делать что хочу.
Мальчишество.
Крутила круги на турнике. Дворы, площадки, крыши, стадион СКА, — все они были мои. Велосипед, потом мопед. Вельветовые курточки, брючки, шорты, значок с ненашей надписью непременно на видном месте.
Сестра сшила себе платье и шляпу к свадьбе! Розовый гипюр, ну, как такое пережить! Где я и где шляпы и розовое это нечто, волны кружев на гипюре? Женственность, женские уловки, это чуждо мне навек.

Учитель входит в жизнь мою, и сразу возникает неловкость. У него — vision, пророчество, он говорит все время какими-то пророчествами. «Тебе многое суждено… ты будешь известна.. ты имеешь способности… только не зазнавайтесь (часто переходил на Вы) …вы далеко пойдете».
Что мог ребенок вроде меня вообразить? Ну кем таким уж я буду и куда далеко пойду? Другой ученик того же Вартареса Григорьевича действительно стал виднейшим ростовским адвокатом и у него очень удачно сложилась (внешняя, насчет внутренней просто не знаю) жизнь. Это Марк Моисеев.
Но тогда он был толстый еврейский мальчик, я ни малейшего желания не испытывала пойти туда, куда он, то есть «далеко».
У учителя еще имелось увлечение: собирать материалы об архиепископе Иосифе Аргутинском. Моя мама их ему отпечатывала, получая от него бесчисленные правки.
Однажды мы поехали на море, мама и я. Мама какая-то праздничная. Прелестна и Феодосия, и море, и надувной лебедь, которого я хватаю за шею, пытаясь удержаться.
Учитель тоже оказывается в Феодосии.
Перепечатки по истории Армении продолжались и там. Эчмиадзин, последние сцены драмы про архиепископа Иосифа. Мне надлежит не разглашать, что учитель там тоже отдыхал, я и не разглашаю. Я уверена ведь, что ради меня он там оказался! И это хорошо, что я совсем не смущена. Я на самом деле думаю, что это в порядке вещей, что где-то там он тоже снял жилье и отдыхал. Я не знаю, может они дружили, гуляли, ходили куда-то. Я рада, что я не знаю. Мое спокойствие и наивность не поколебались.
Пионерский лагерь в Лазаревской
Аппендицит приключился, когда была в пионерском лагере. Девчонки в отряде были недружественные, дневник мой однажды силой взяли и насмехались, да и еда в столовке была только что не смертельная, но все искупало море — верное мне, игривое, радостно-сияющее. От девчонок частенько убегала в самую дальнюю виноградную беседку, а там был незрелый виноград, который и вызвал резь в животе, как оказалось, означавшую воспаление, разлитие гноя.
И все это ночное беззащитное размазывание себя по стенке главврача (с трех ночи и до восьми утра) ни к чему не привело — двери были заперты, вожатые особо не волновались — максимум, помрет, а я и вправду была к этому близка. Но утречком всполошился начальник лагеря и все дело набрало скоростные обороты. Врачи паниковали, как могли.
Мама случайно узнала о произошедшем — от людей, которые сошли с приморского поезда и встретили ее где-то в нашем городе и даже не знали, что это моя мать — то есть как раз мать той заболевшей девочки, о которой они ей почему-то рассказывают.
И она сообразила тут же выехать ко мне.
У меня уже был послеоперационный период — кресты светлеющих окон, потолок, вкус лимона во рту (было принято давать лимон, вместо питья), срастание швов.
И вдруг меня стала донимать мысль, что директор лагеря меня преследует своей страстью. Он часто заходил в палату и беседовал наедине.
Сейчас я понимаю, что его внимание было навязчивым от страха — его могли в тюрьму посадить за безалаберность, ведь неоказание своевременной медпомощи воспитаннице привело к разлитию гноя и риску летального исхода от аппендицита.
Вот он и ходил, донимал меня ласковостью, подарочками.
А мне было страшно неприятно его видеть.
Я видела себя эдакой интересной, его — унылым и влюбленным.
Мама приехала, никакого тарарама не устроила, ну он и отвязался, просто разрешив ей и мне остаться на следующий поток на море бесплатно. А мои ощущения от заката солнца в больничном саду, от магнолиевых зарослей и каких-то пахучих пушистеньких и душистых веточек с райским розовым оперением, от музыки на массовках, от взрослых мальчиков на территории лагеря, куда мы с мамой вернулись «добирать» положенные дни отдыха уже в третьем потоке — все слилось в одно общее — окончание детства и готовность к настоящей любви.
Мы сошли с поезда глубокой ночью, по ростовским улицам близ Центрального рынка ветер шарахал по-бандитски и по-летнему раскованно, и дома ждали всякие вкусности и папа и хорошая жизнь, но я-то уже повзрослела, внезапно, и уже хорошей жизни мне было мало, нужна была приправа — она же отрава — тонкая смертельная сладость влюбленности.
2 Редакция
1
Учитель решил, а родители согласились, чтобы я пошла в редакцию работать внештатно.
Ростов, Россия, Женечка Светлова… Впрочем — Имя героини? Страна проживания? Меньше всего меня волнует. Все это вырисуется как-нибудь само собой. Пусть только читатель вдохнет полные ноздри майского, пыльного пуха тополиного, пусть в испуге вздернет голову на истеричный звон трамвая возле стадиона «СКА», с которого гурьбой, толпой, массой, разрастаясь, текут потные болельщики за нашу футбольную команду. (Потом, в Севен-Севенти, вот такие массивные толпы черно-белых хасидов увижу. А, выдала свою масонскую принадлежность).
…так вот, Ростов мой останется читателю неизвестным — этот серо-зеленоватый, Доном обогнутый по боку, бандитский и неинтеллигентный город, где жарко, где ларьки и собаки, где 1970—1980—1990 годы моей сознательной жизни затаились, вкрапились в бетон улиц и развороченную жадную черную почву садов весенних — а там ведь всегда весна, в Ростове, если и проскакивает какое-то другое время года, то только как досадное недоразумение, и даже осень какая-то весенняя, влюбчивая, размашистая, ничуть не сдержанная, и раздетые деревья пахнут Первым мая, а не Седьмым ноября, и Ростсельмаш, и голуби, и я, в шарфе, пальтишке, сапогах, с распущенными волосами, с пылающими глазами и щеками, бегу, спасаясь от воображаемого преследователя, мне сколько-то лет, я — крупным планом, пробежала, втиснулась в автобус, и вы успели запомнить это самолюбивое лицо с неподведенными прозрачными глазами, в которых много неба и мартовской воды, с легкими и тонкими кудрями, отливающими солнцем, с чуть пасмурными выгоревшими кончиками волос… худая и стройная, но — при ближайшем рассмотрении или, скорее, уже только при ощупывании оказываюсь не больно-то рекламной моделью, не особо выпуклой там, где выпуклость при определенных обстоятельствах ценится, зато какая стремительность, страстность, готовность к любви.
И — спрос рождает предложение — с хорошим напитком «Поларис» и первыми в моей жизни проявлениями мужского нетерпения меня познакомил газетный фотограф (опустим диалог примитивного соблазнителя и смелой девушки-тинейджера, утомленной долгими приготовлениями к ночлегу среди бела дня. Соблазнитель боялся за свою неслабую карьеру в газетенке и все предлагал секс как-то не по-человечески, модернизированно и не с полной отдачей. Девушке показалось мало. Она хотела доверительных отношений и по неопытности очень удивилась, почему счастье не наступило. Она не знала, что бывают у людей иногда обломы и что даже самые хорошие люди после обломов становятся жестокими. Боятся допустить кого-либо в свою душу. Так тут и получилось. Душа его была всегда для нее закрыта: то на обед, то на переучет общечеловеческих ценностей. И девушка через несколько месяцев от него ушла, с легкой обидой и прочными навыками, для приобретения коих души не требуется.) Пыльца наивности слетела, мир обнажился как он есть.
Но серу со спичек я все же в течение двух месяцев соскабливала, чтобы съесть как-нибудь вечерком все наскобленное и — умереть. Когда же любовные отношения восстанавливались, то я выбрасывала серу, так и не применив. Бабушка Нюра, мать отца, тогда ходила по нашей квартире с помощью веревочки, протянутой от ее кровати до ванной, и вот она ночами странствовала туда-сюда, а то и на меня набредала, ощупывала меня сухими пальцами, шасть по лицу, зашепчет что-то надо мной, я лежу, обмерла: думаю — все прознала бабка-знахарка! Как я к смерти-то прошусь! Но нет, она только про свое думала и бормотала: какой еси в небесах Г-сподь и каков престол Его Вышний. Она была возвышенная, благостная, таинственная: с вечной прялкой, с сухими черноватыми пальцами, с почти до конца уже грубо вывязанными носками на руках, из самодельной пряжи… число носков росло — хотя все делалось вслепую — катаракта сидела на глазах, а слух был из-за высокого давления тоже плохой, и оставалось ей лишь гадать, что происходило вокруг нее, а ничего и не происходило: моя сестра жила с мужем и дочкой в соседней комнате, проблемный брат Вова — этажом выше имел подобие семьи, мать с отцом ночевали то в зале, то в северной комнате. Я в южной на топчане, кажется, тогда спала. Но я не совсем спала, я все время находилась в лихорадке ожидания очередной встречи со своим фотографом, в состоянии гормональной невменяемости. Причем собственно он, его жизнь, его проблемы для меня не существовали. (Он был популярный, работал до того качественно, что ему даже собирались вот-вот дать квартиру, однокомнатную, но пока он элементарно жил и спал в этой самой фотолаборатории). Мне было невдомек, что он когда-то тоже рос в деревне, был мальчишкой, что он любил свою мать, не имел отца (мать врала, что отец вот-вот появится), что он хотел закрепиться в большом городе. Я не воспринимала ничего, кроме самой себя и своей страстной от его тела зависимости.
Середина июня это было всегда время сказки. Черешня, когда залезаешь на самую верхотуру и оттуда видны прожекторы стадиона СКА. Рукой на паутину попадешь и чуть не грохнешься с дерева, но все же нет, только чуть выше переместишься, пальцы об джинсу вычистив… в саду работать требовалось… но какая тут работа, если уже понял, что время слаще без нее проходит… и все-таки надо бы написать про восхитительные перипетии жизни… не именно сам день рожденья, а веселость, опьянение жизнью, непрекращающиеся рождения: смысла, восторга, любви… рождение прозы, рождение иллюзии, рождение удачи… рождение это всегда надежда… шанс… заряженные батарейки… полные пригоршни воды… упоение не собой и не от себя, а от Б-га, который в тебе. Середина июня. Да здравствует середина июня!
Футбольный матч кончился. В воротах в скрещении софитных лучей лежал покинутый мяч. Толпы болельщиков рассасывались.
Сергей Шангин ждал меня у скамейки запасных, со своей квадратной сумкой на плече, с непроницаемым лицом, не делая ни шагу навстречу.
Медленно подойдя, я виновато остановилась.
— Что же ты глупишь, девочка? — без улыбки начал он, — что ты хотела сказать тем телефонным звонком?
— Ничего. Кроме того, что сказала.
Он достал аппарат и навел на меня объектив.
— Улыбнись!
— Нет, легче уж заплакать, — я попыталась отвернуться.
— Стоп, замри, отлично, — сделав три кадра, он обнял меня одной рукой. Я плакала. — Ну, брось. Нам будет трудно так.
— А почему… должно… быть… легко?
— Мне еще в аэропорт ехать, там снимать, не устраивай сцен.
— Езжай и снимай, — сказала я, не отнимая ладоней от лица.
Он запаковал камеру, бросил сумку на траву, разнял мои руки и поцеловал соленое лицо и забросил мои руки себе на плечи.
— Ты позвонишь? Не будешь пропадать? — спросил он после медленных и нежных минут. — дать тебе «двушку»?
— Да…
— Лучше вечером связывайся, когда Журавлев уйдет.
— Хорошо.
— Только не влюбляйся в меня, слышишь? Не привыкай ко мне. У нас нет будущего… никакого.
— Почему? — глотая рыдания, спрашивала я.
— Я знаю, чем будешь ты через десять-двадцать лет, и чем буду я. У меня другая жизнь, плохая, но ее уже не изменишь, и я не хочу ее менять. И я не буду портить жизнь тебе. Нам нельзя привыкать друг к другу, а ты уже начинаешь… и я тоже…
— Так ты правда хочешь, чтобы я позвонила?
— Очень.
…Это был, кажется, лучший момент во всей этой сладостной, горестной истории. «Очень».
2
Мне нужно было набрать 20 публикаций в какой-нибудь газете, чтобы поступить в МГУ на факультет журналистики. Меня познакомила с заведующим отдела информации «Вечерки» мамина подруга, которая там работала корректором.
Но тот как раз ушел в отпуск, когда я явилась с готовыми текстами.
В отсутствие завотдела можно было сдавать информационные материалы ответственному секретарю, Лиманченко. Он был худой, начинающий седеть одессит. С мягкой улыбкой проглядев мои заготовки, он снисходительно поощрил меня к работе.
Речь шла о спортивных интервью, заметках, которые я принесла. Кое-что нуждалось в правке. Завотделом, Ковалев, только предложил тему, а теперь его на работе не было, и не очень понятно было, кто в итоге отвечает за мои материалы в их конечной стадии. Лиманченко, ответственный секретарь крупной газеты, любезно взял на себя не свою работу и дал мне общие указания, что и как править. Я тут же воспользовалась редакционным телефоном и выяснила у героев материала все недостающие детали. Теперь надо было вносить изменения, и это я тоже сделала быстро и, как выяснилось потом, вполне профессионально. Я подошла к нему снова. Подождала, пока Николай Григорьевич освбодился, поднял голову от макета.
— Ну, что?
— Переделала.
— Клади. Сядь.
Он по инерции еще продолжал выправлять что-то в макете, потом положил мои листы поверх, начал проглядывать. Я сидела прямо и напряженно, сдерживая волнение, и смотрела в сторону.
За другим столом работал художник-оформитель, то и дело выбегавший в коридор и возвращавшийся с сердитым бормотанием. За третьим столом разговаривала по телефону Изабелла Борисовна, постная и всех поучающая сотрудница отдела культуры. Она мне запомнилась еще с прошлого посещения этого учреждения (тогда она решительно потребовала, чтобы я заколола свои волосы).
Вошел сотрудник со снимками в руках, положил их на стол художника, кивнул Лиманченко, оглядел гостью и вышел. Изабелла при виде фотографа мрачно отвернулась с трубкой в руке.
— Все, теперь нормально, — сказал Лиманченко, принимая листы в папку, — только ты, дорогуша, правишь писательскими значками, не редакционными, переучивайся.
Прошла неделя. Выяснилось, что материалы «пошли» без подписи, просто как информашки. Он не хотел брать на себя ответственность и ставить новое имя, не проверив моей полной лояльности и надежности в узком журналистском смысле.
Но первые деньги по «корешку», квитанции об оплате, были мною получены в окошечке кассы двумя этажами ниже редакциеи. Это было счастье. 15 лет, а уже зарплата.
У Сергея Шангина была простая повадка знакомиться с женщинами — он делал снимок практически без спросу, сразу предлагая улыбнуться в объектив, а потом уже имелся хороший повод пообщаться, когда ей преподносилось готовое качественное и не без изюминки фото. Так оно началось и тут.
Я даже не знала, что выгляжу на снимках так необычно, не видела себя такой со стороны. Диковатое впечатление: масса волос, острые плечики, взгляд не от мира сего, лицо правильное, но усталое, девчонка красивая и неухоженная, такой подросток-шалава… Короче говоря, все завертелось сразу — быстро — резко — болезненно, чуть ли не со первой фотосессии.
Мне понравились его черты лица и плотное телосложение, но артистизма в нем не было вообще, просто такой доброжелательный профессионализм, хорошее ровное обхождение со всеми, отсутствие нервозности.
У него, помимо газетных, имелись потрясающие фотографии, я увидела их позднее… Седой фонтан, в котором благодаря тени вдруг угадываешь черты какого-то старца с бородой. Влюбленная пара на площади перед собором ночью. Две гигантские тени — тени, пересекающие соборную площать. Лица женщин. Профили и плечи при свечах. Но это все было потом, я забегаю вперед…
Он насмешливо заметил однажды, когда мы вместе делали материал, что, если бы в свое время учился как следует на журфаке, то мог бы сам писать репортажи, а не только фотографировать.
— Я бы хотела снимать сама, — отозвалась я с улыбкой, — у меня и «Смена» своя есть.
Он согласился меня научить. Я принесла свой фотоаппарат, тетрадочку…
И однажды он что-то такое мне надиктовывал, насчет фокуса и освещения и выдержки — и сказал, что все, выдержки у него больше нет, и обнял меня так, что у меня потемнело в глазах.
Но и это только потом было, я опережаю события.
…Я опять, в четвертый или пятый раз, получала указания от Лиманченко.
— Ты знаешь, — вдруг перебил сам себя Николай Григорьевич, — почему я заставил тебя переделывать этот репортаж?
По улыбке на длинном породистом лице было видно, что ругать меня он не собирался.
— Ну, так почему? — повторил он.
— Потому что он был плохой…
— Нет, он не был плохой. Но я хотел, чтобы ты научилась резать сама себя. Пишущему так же трудно сокращать себя, как… врачу удалять самому себе аппендикс. Понимаешь? Я и сам мог убрать ненужные места и сдать материал в набор. Но мне хотелось, чтобы ты поняла, почему я требую перенести акценты именно таким образом. Да там у тебя вообще акцентов не было. Вспомни первый вариант: ты начинаешь с описания спорткомлекса, берешь интервью у уборщицы, упоминаешь, что у директора спорткомлекса в кабинете много бутылок из-под коньяка…
— Из-под вермута…
— И только потом, — глотая смешок, продолжал он, — идет очень хороший кусок разговора с девушками из спортшколы, который, однако, заканчивается чудовищно глобальной фразой насчет бренности всего сущего. И ты несешь это в газету?!
— И в газете это берут…
— Как это написано сейчас, я беру… Но на будущее…
Я посмотрела ему в глаза, смущенно ответила:
— «Мой добрый принц, приведите вашу речь в некоторый порядок и не отклоняйтесь так дико от моего предмета». Я правильно вас поняла?
Лиманченко перевел взгляд на Изабеллу Борисовну и тихо сказал:
— Хорошо, что ты знаешь литературу, кстати, кого цитировала-то?
— Шекспира.
— Я так и понял. Но мой тебе совет: не пускай наружу свою эрудицию. Из тебя прет зеленый ум, который здесь многих уже раздражает.
— Ты освободилась? — спросил Шангин, когда я оказалась в коридоре. — Ну, пойдем.
Я последовала за ним куда-то, где еще ни разу не была, в длинный рукав коридора, там были фотолаборатории. Одна комната — с дневным светом и еще две — с затемнением. В первой возился его напарник. Журавлев была его фамилия — я прочла на табличке. Он вешал сушить пленку почти под самым потолком, и ему нужны были какие-то прищепки специальные, чтобы предотвратить скручивание пленки при просушке (была технология).
— Серый, куда ты деваешь прищепки? — обратился он к Шангину, — в пищу употребляешь, что ли?
— На подоконнике, — показал Шангин, открывая ключом дверь со своей фамилией на табличке.
— А что, ты опекаешь молодое дарование? — Журавлев теперь смотрел на меня.
— Это его репертуар, — заметил Шангин, умеренно веселясь.
— Это ЕГО репертуар, — не отставал Журавлев, — он обожает молодые дарования. И прищепки поедает в неограниченном количестве. Он ужасный человек.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.