
Бесплатный фрагмент - Большие дикари
100 рассказов о дикой жизни
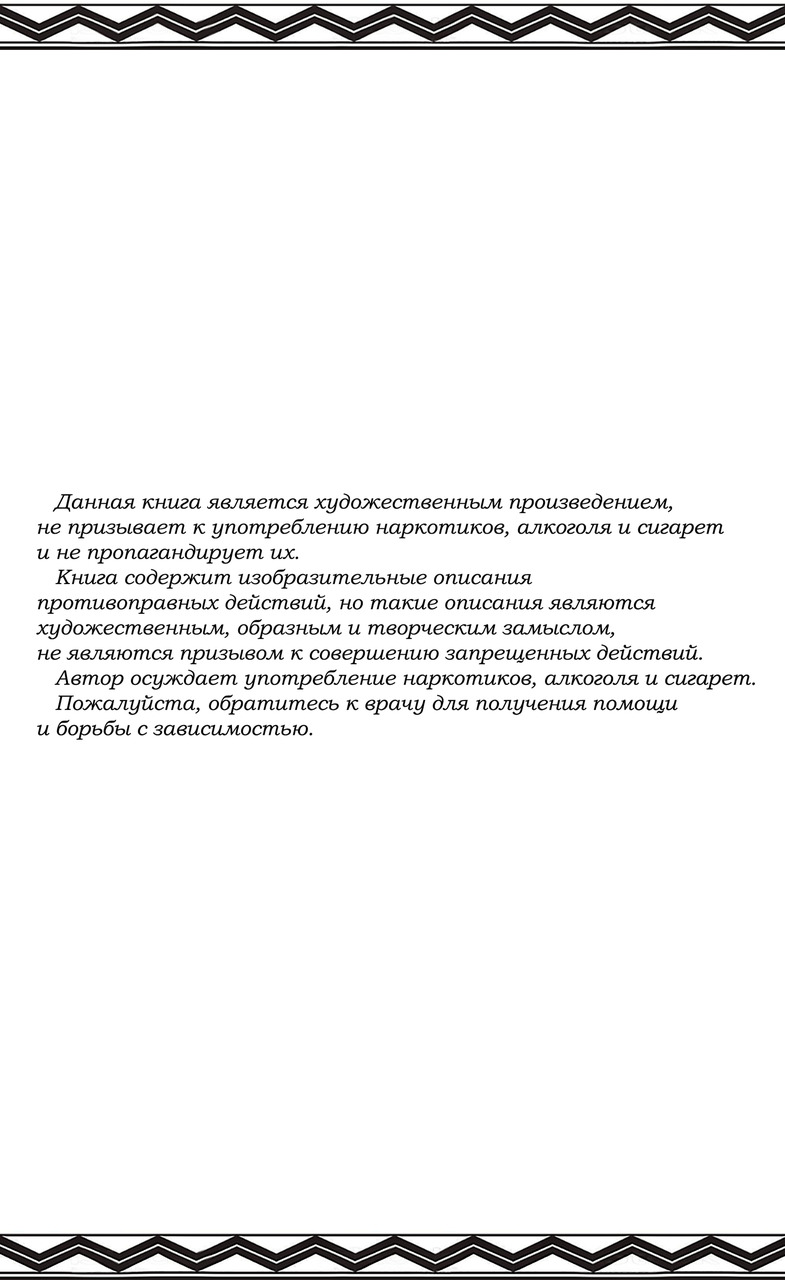
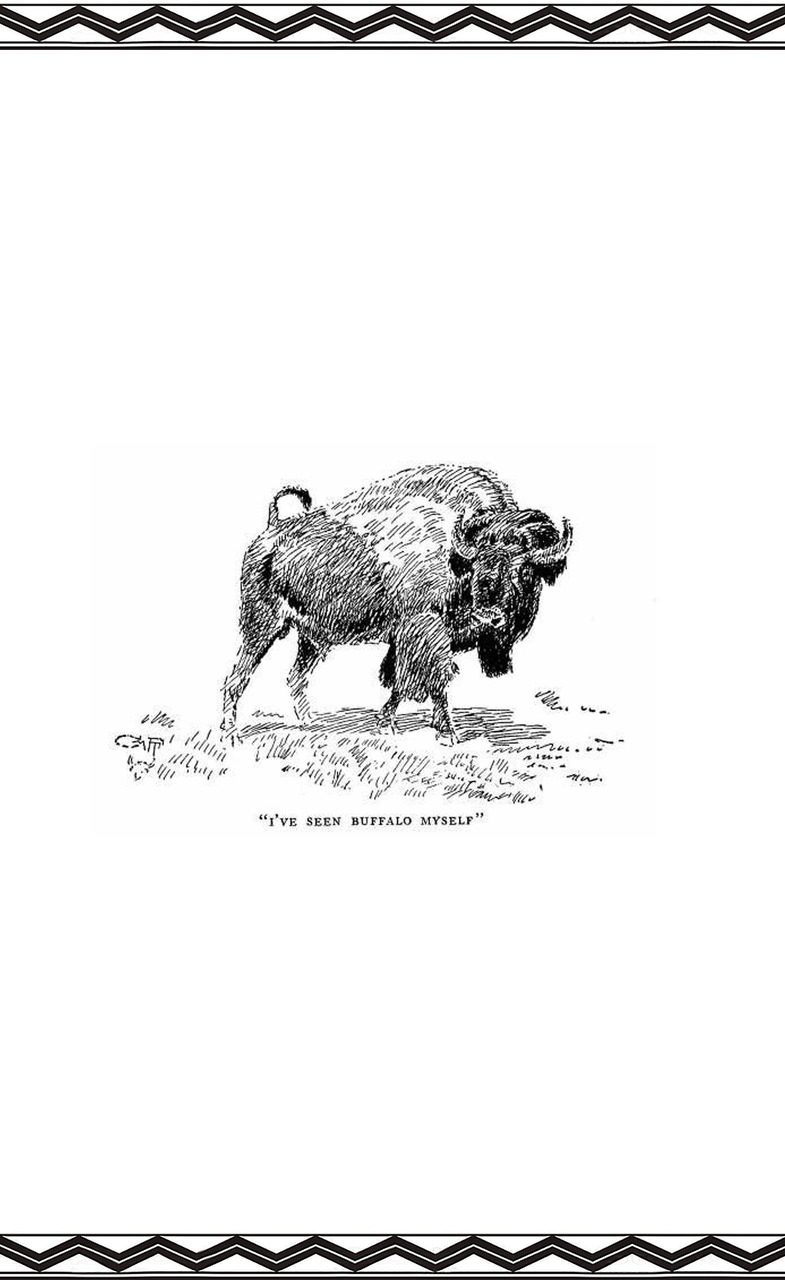
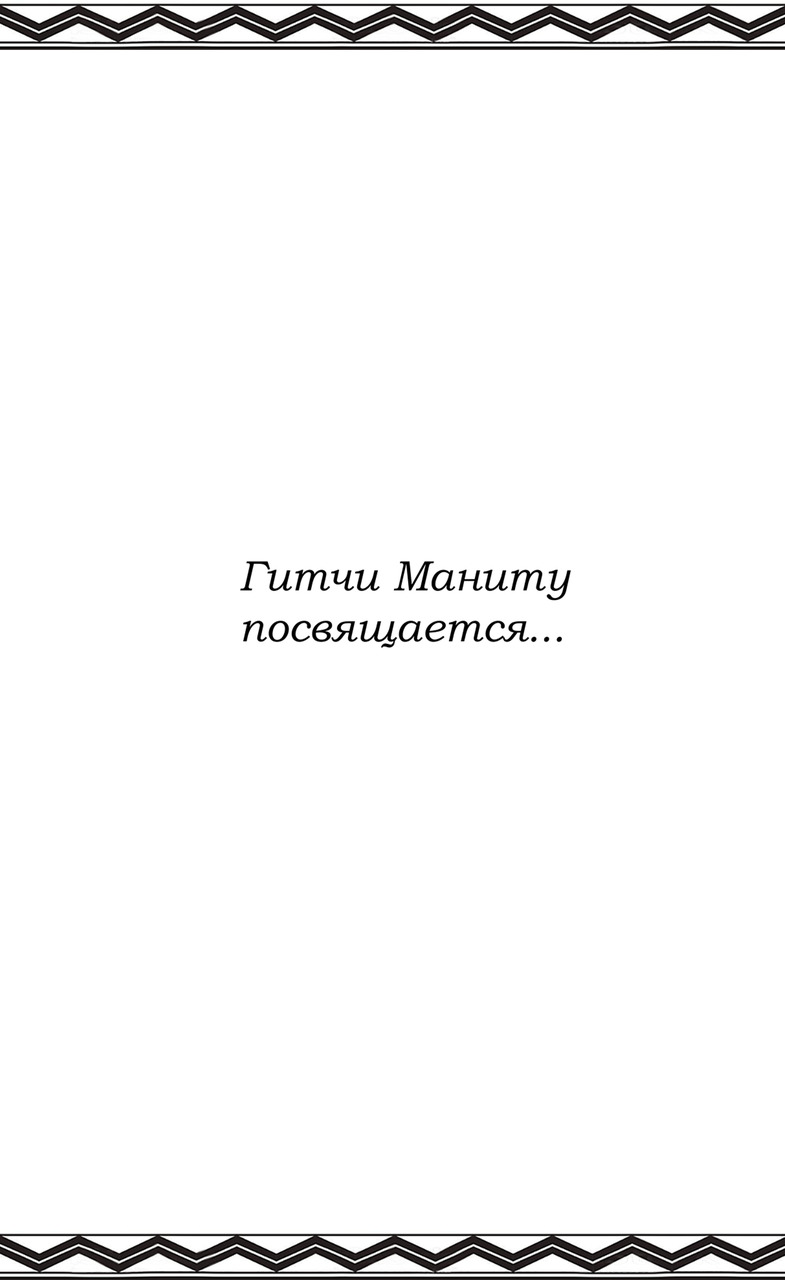
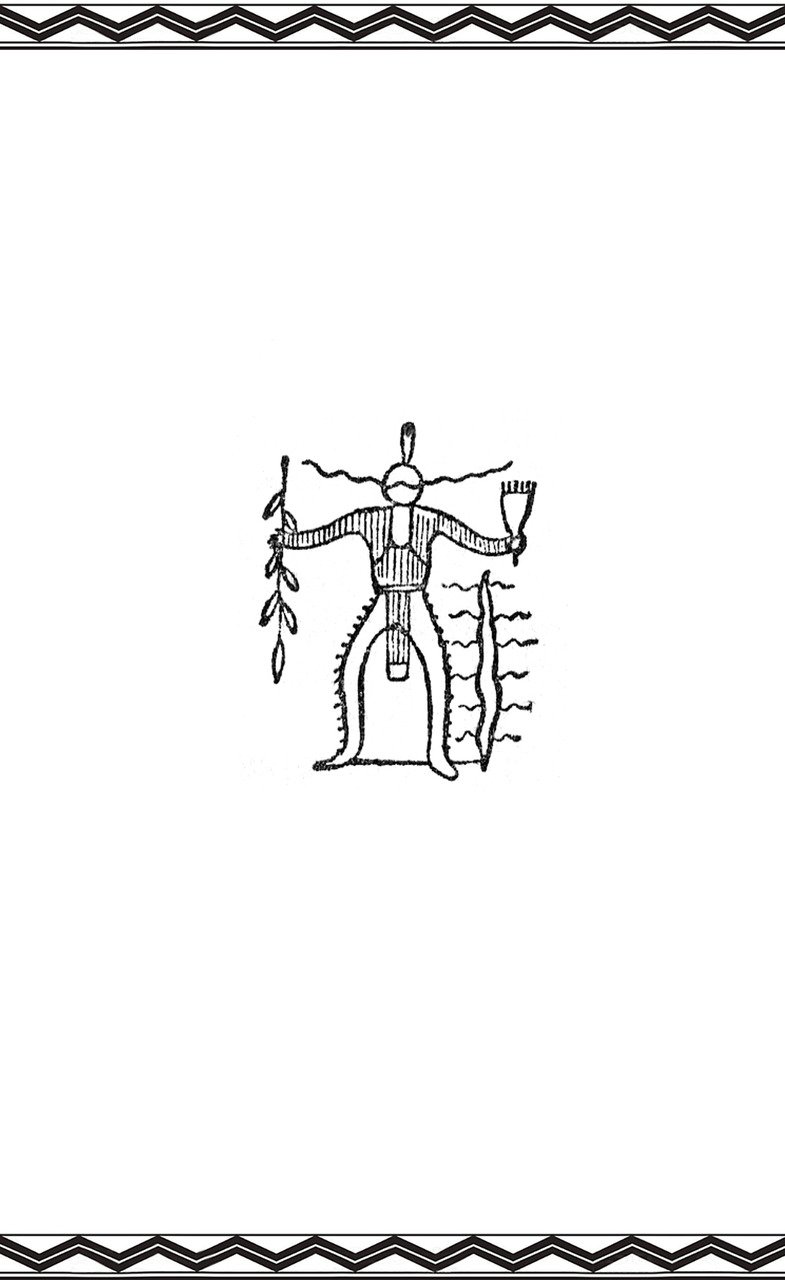

На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отвсюду.
От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнём, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой Путь отныне будет!»
(Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате», 1855 г.)

Великая Папуасия
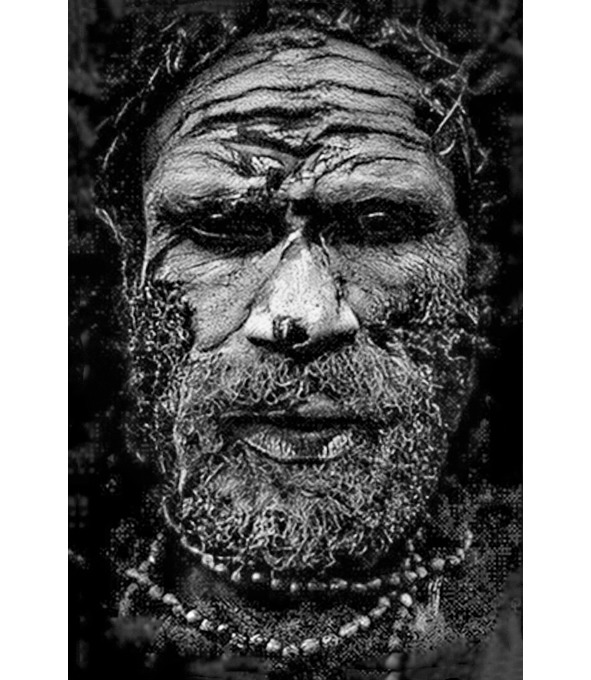
Меня всегда удивляла одинаковая реакция совершенно разных людей на слово «индеец». Все, как один, начинали высокомерно так улыбаться и хлопать ладонью по губам, издавая псевдо-индейские кличи: «Улюлю!»
Раньше обычно это как-то даже меня раздражало. Сейчас думаю, что людям этим, наверное, виднее — потому, что они сами как индейцы.
Не те, несущиеся в галопе по вольным прериям раскрашенные свободолюбивые конные воины, а, скорее, индейцы как обманутые наивные аборигены.
Лишённые своих прав на землю, живущие в материально-угловатых городских резервациях. Дикари по своей природе, обёрнутые в расписное целлофановое одеяло прогресса. Теряющие истинную веру и цель в жизни из-за призрачного сиюминутного блеска. Выменивающие на бисер моды и бусы мейнстрима свою персональную индивидуальность. Забывающие свои традиции, язык и родственные отношения в поисках чего-то сакрально-иноземного. Скачущие вокруг мизантропического костра всеобщей ненависти, разбрызгивая токсичную слюну зависти и злобы.
Божок этих вымирающих дикарей — это зеркало эгоизма, ему и поклоняются отныне.
Живи и процветай, Великая Папуасия!

Восходящее солнце

Родился я в далёком 1968 году в Ростове-на-Дону, в славной и великой стране СССР.
Ростов моего детства был небольшим зелённым городом, который только начинал расстраиваться и расти на высоком правом берегу, вальяжно текущего через бескрайние степи, Батюшки Дона. Моё детство как раз и проходило в недавно построенном западном жилом массиве, который впоследствии стал для нас Диким Западным. Наша пятиэтажка была предпоследняя, эдакий форпост, граничащий с промзоной, обширным садоводством и совхозом «Нива».
В детстве любая живность, проживающая в степях, была нам известна.
После дождя, неведомо откуда, лужи заполнялись головастиками, лягушками и земляными червями. Ласки, змеи, жабы, ящерицы, ёжики и суслики тоже встречались. В небе реяли различные виды стрекоз («иголочки», «пожарники», «богатыри»), шмели, пчёлы и несметные облака бабочек. Выше обитали любимые ростовчанами ручные голуби и дикие, стрижи, ласточки, совы, сычи, а также ястребы, орлы и копчики.
Жители молодого Западного высаживали возле домов абрикосы, вишни, грецкий орех, крыжовник, смородину и малину, чем потом лакомилась вся детвора на летних каникулах. Ряды балконов на пятиэтажках заплетали виноградные лозы, из-за которых порой и дом казался зелёным холмом.
Много было вокруг строящихся домов, где ребятня скакала и прыгала, играя в прятки и лова, частенько ломая кости конечностей при плохо расчитаном прыжке или неудачном падении. В целом окружающее весьма способствовало появлению детских индейских дворовых племён, как грибы проросших после выхода на большие экраны кинотеатров Советского Союза вестернов киностудии «ДЕФА» и фильмов про Виннету.
Детвора тогда вообще была восприимчива ко всему впечатляющему, что скрашивало их уличную полудикую жизнь. Телевизор имел тогда лишь два канала и те в основном носили информационную тематику. Были конечно мультики, «Клуб кинопутешественников», «В мире животных» иногда проскакивали хорошие приключенческие фильмы, но этого не хватало, поэтому вестерны сразу стали очень популярны, и не только среди детей.
Книги тоже занимали достойное место у ребятни и взрослых, правда, хорошие было сложно достать и вообще книги были в большом деффиците. Многие записывались в библиотеки, некоторые менялись, а уж у счастливчиков были свои небольшие домашние библиотеки, собранные родителями, и они считались зажиточными, богатыми людьми.
Моё «знакомство» с индейцами произошло, наверное, как и у всех через великое чудо синематографа. Общество было очень коллективно, ни быт, ни должности, ни гаджеты не разделяли особо народ. И любая мода или увлечение были «заразны» и охватывали большие слои населения. Когда на тебя с обложек журнала «Советский экран» или афиш кинотеатров зорко взирает мужественное лицо Гойко Митича, то трудно не поддаться всеобщей истерии вокруг индейцев. Официальные советские власти тоже их поддерживали, считая колонизацию Америки примером кровавейшего геноцида целой расы и использовали печальные страницы этой истории для политической борьбы. В общем, ещё до моего глубокого погружения в мир краснокожих, индейцы были вокруг и всюду, в кино, книгах, журналах, политических передачах и газетах, особенно после восстания 1973 г. активистов «Движения Американских Индейцев» в резервации Пайн-Ридж, в самом сердце лоснящегося от достатка и комфорта капиталистического мира.
Летом школьники были предоставлены сами себе, и если не были у бабушек в деревне или в пионерлагерях, то оккупировали улицы с утра и до самой темноты. Кормились тут же дарами природы, иначе, если проявил слабость или малодушие и повёлся на кусок ливерухи, то можно было уже не выйти обратно. Там-то и играли в разные игры. Белых и красных, казаков-разбойников, фрицев и наших, индейцев и ковбоев. У нас тоже было своё дворовое племя, мы делали налобные повязки с кусочками меха и перьями, строили вигвамы из картона летом и из выброшенных новогодних ёлок зимой, имели имена.
Не могу точно сказать дату, когда я полностью погрузился в индейство, но помню, что после прочтения книги из школьной библиотеки «Таинственные следы» Сат-Ока мир разделился на до и после. Эта детская и во многом наивная книга (нынешний взгляд, конечно же) что-то перешёлкнула во мне, какой-то выключатель-кнопку, которую так безуспешно искал Урри у Электроника. Будто открылся занавес, а за ним чарующий, красивый, неведанный мир, полный настоящих приключений, истинных чувств, искренних взаимоотношений и волшебства дикой природы. И всё это вписалось в одно слово «индеец», которое далее производило на меня странное чарующе-магнетическое притяжение, пока ещё неизученное современным легионом всяческих новомодных доморощенных психологов.
Вся последующия жизнь была выстроенна (хотел я или нет) от того самого магического момента. Все личностные отношения, мои действия и значимые шаги так или иначе были связанны с тем детским перевоплощением и пропущены через призму индейского восприятия. Отмечу сразу, что больше всего меня манило их мировосприятие, их обустройство мира и взаимоотношений, ну и конечно же свободная жизнь на лоне природы, трудная и суровая, но полная захватывающих дух городского мальчишки приключений.
Однако формирование моей индейской вселенной произошло не сразу, а по мере поглощения информации, связанной с их культурой, бытом и историей. Романтический образ «благородного дикаря», взращённый кем-то однажды в литературе и публицистике, был умело подхвачен и практично использован в последующих художественных книгах и фильмах. Сейчас понятно, что это именно «образ», но в жизни все, так или иначе, идут за каким-то образом, стремятся к какому-то идеалу и тот образ ничем не отличался от других. Помимо пионер-героев и ударников коммунистического труда мне, наверное, нужен был и такой вот идеально-романтический свой собственный.
Меня вообще с детства угнетали просчитанные кем-то мои заведомо однообразно-серые (как у всех) жизненные этапы: ясли, детсад, школа, институт-техникум, семья, работа, пенсия, смерть. Типа, смирись и будь как все, за тебя уже просуетились, живи- поживай да добра наживай. А где, собственно, жизнь-то, где познание безграничного и неоднозначного мира личностью? Ничего страшнее такой размеренной унылой скуки для меня не было. Другое дело мир красочных фантазий и грёз, куда уносили меня прочитанные книги.
До класса шестого моё увлечение индейцами воспринималось нормально и родичами и ровесниками, но повзрослев, многие сверстники уже стали считать меня чудаком, задержавшимся в детстве. Уличная компания — довольно жестокая среда и мне приходилось выслушивать кучу обидных дразнилок-прозвищь и отстаивать своё мировосприятие в многочисленных потасовках и драках.
Вскоре я стал скрывать своё увлечение индейцами и про него знали лишь немногие дворовые и школьные друзья. В тот период я стал всё больше любить одиночество, спокойно погружаясь в упоительные приключения из книг.
За нужными книгами у меня была настоящая облавная охота. Я раз в две недели обходил все книжные и букинистические магазины города, а по выходным ездил на книжную толкучку. Там на сэкономленные деньги, которые мне давала мать на школьные обеды, покупал у спекулянтов искомые экземпляры и потом надолго погружался в описанный там сказочно-захватывающий мир. Я брал в библиотеках, выменивал у друзей нужные книги, выдуривал у девчонок одноклассниц, обольщая и охаживая их месяцами. Первые книги, появившиеся у меня, были не про индейцев, а о ребятне, играющей в индейцев (А. Анисимова «Рюма в стране ирокезов» и Стевана Булайича «Ребята с Вербной реки»), только ещё больше разогревшие мой «аппетит» к индейцам.
И понеслось, и поехало, это было сродни навязчивой маниакальной идее.
До сих пор не могу забыть, как в одном захудалом книжном отделе букинистики нашел книгу по особенностям фонетики языка индейцев мускогов-криков, сугубо научный труд каких-то советских учёных-лингвистов. Тогда у меня не хватило денег, а когда поднакопил и приехал позже, книги уже не было. Невероятно горькое разочарование.
Кстати, десятилетия спустя, уже общаясь с первыми индеанистами Советского Союза, я ни разу от них не слышал о такой книге. Я мог бы стать её единственным гордым владельцем, но не срослось, не срослось.
Благодаря моим походам по магазинам и книжным толчкам города личная библиотека росла и знания структуировались, выкристаллизовывая суть индейского (книжного) мировосприятия.
Мастерил я также мокасины, томагавки, луки и прочие неизменные атрибуты любого индейца. Так, приобретя на книжном рынке книгу «Песнь о Гайавате» Генри Лонгфелло с иллюстрациями Ремингтона, я сделал свою первую курительную трубку-калюмет. С Серёгой Лютовым (Крыло Орла) мы вырвали тростник-эпоква в Рябининой балке за областной больницей и я, обмотав его смоченными в клее разноцветными нитками, сделал из него длинный чубук. А потом из красной глины, в которую я подмешал собственной крови для пущей магичности, мы сделали чашечку, укрепив её на огне. Я до сих пор помню, как мы зимой пошли в далёкую лесопасадку в заснеженном поле возле бывшего совхоза «Нива», разожгли костёр и раскурили нашу настоящую Трубку Мира.
Мой индеский мир тогда базировался на вычитанной (высмотренной) доступной информации и общении с парой друзей из «вымершего» уже дворового племени. По мере взросления вообще стал считать, что больше таких вот, как я, «помешанных» на индейцах и нет больше. До самой армии я больше не светился своим индеанизмом перед уличной компанией, тщательно храня внутри всё таинственное волшебство мира индейцев.
Те книги были подобны кирпичикам, выстроившим стену, отгораживающую мой альтернативный взгляд на мир от общепринятой крепкой, но весьма пресно-блёклой действительности.
Мне до сих пор с завидным постоянством снится сон, словно остаточное наследие того маниакального периода книжных изысканий. Будто я в том или ином магазине (всегда разные) нахожу неведанную доселе книгу или старый потрёпанный фолиант (тоже всегда разные) с кучей картинок, иллюстраций и новой информацией. Во сне ощущаю небывалую радость и неописуемый восторг, с которыми, крепко прижимая желанную находку к груди, я и просыпаюсь.
Вот так взошло индейское Солнце, указавшее, осветившее и согревающее весь дальнейший мой жизненый путь.

Типи
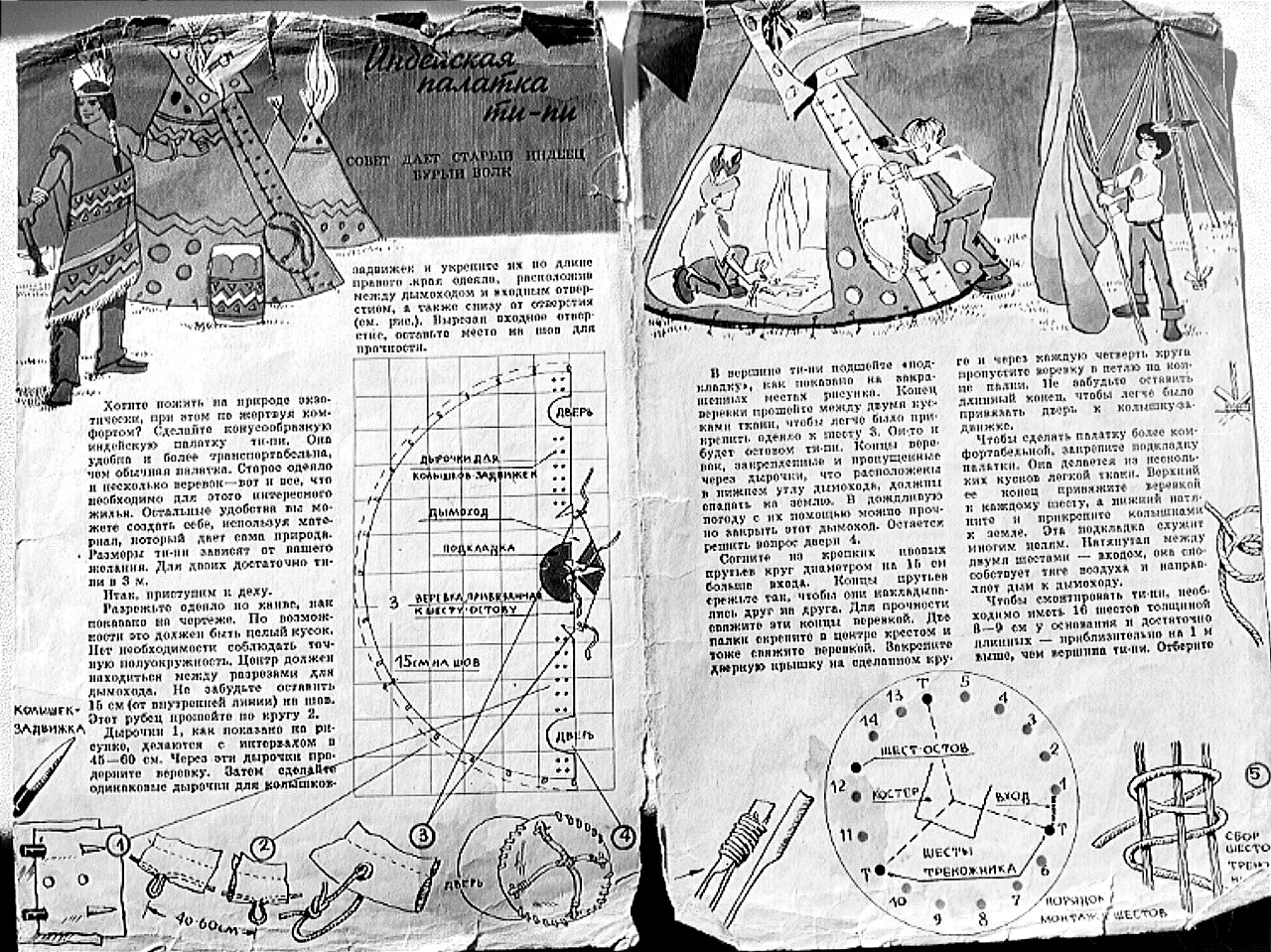
Своё первое типи я сделал в классе наверное пятом, году эдак в 1980-ом.
В журнале «Юный техник» наткнулся на статью о выкройке детского типи из пары обычных одеял. Совет давал старый индеец Бурый Волк, который там же и был изображён. Такой авторитетный мастер, конечно же, сподвиг меня на решительные действия.
Я долго выпрашивал у матери одеяла, она, кстати, в теме была. Называла меня «Гойко Митич», пришила к шахтинским джинсам-чухасам бахрому со скатерти и даже помогла убор склеить из гусиных перьев.
В общем, кое-как я сделал выкройку и наше маленькое племя собралось в «лесах», так мы называли заросли крыжовника, каштанов и жердёл за 235-ым домом на проспекте Стачки.
Я тогда звался Яха-Хаджо (Безумный Волк), ещё были Чук (Одноглазый Волк, из-за бельма на глазу), Олька Ляхова (Молодая Луна, на то время моя индейская скво), Танька Вербняк (Грозовая Туча) и Инка Кишик, примкнувшая к нам, дабы не профукать в одиночестве летние каникулы.
Помню, поставили мы типи и сели внутри по кругу. Это был наш детский сказочный мир, наша ракета, несущая юные чистые фантазии в бесконечный космос, наша индейская церковь.
Не успел я преисполниться гордостью и амбициями удачливого вождя, как типи сотрясли страшные удары. Испугавшись землетрясения (а все тогда смотрели японский фильм-катастрофу «Гибель Японии») мы высыпались наружу, и не все через дверь. Но амплитудные толчки вызвало отнюдь не движение тектонических плит, не испытание термоядерных бомб в Семипалатинске или атолле Муруроа.
Это была баба Женя, прабабка Инки (вот всегда с этими бледнолицыми скво проблемы!), сухая сморщенная старушка 85 лет, традиционалистка, ходившая в платках и стерегущая нравы. Для её возраста она была довольно шустрая и сильная; громко голося, она пыталась сорвать покрышку и расшатать шесты. А всё потому, что боялась, будто мы (пионеры, между прочим!) лишим невинности её правнучку (сто лет бы она нам ни всралась). Ни уговоры матери о невинных детских играх, ни другие доводы старую традиционалистку не убедили.
Моё первое типи не простояло и часу, а в клан дворовых бледнолицых врагов добавилось имя бабы Жени, и я, проходя мимо, никогда не здоровался и делал гордо-презрительное лицо, копируя героев Гойко Митича.
Вторая попытка была уже в 1991 году.
Тогда мы познакомились с Мокасином (Шулика, на тот момент) и в нас, вместе с китайской 1,5-часовой копией «Танцев с Волками» проникла Красная Сила, разбудив полузабытые мечты индейского детства.
У меня были прорезиненные покрышки с палаток и мы, готовясь к суровым зимам Алтая, решили пройти тест-драйв в пойменной роще на Левом берегу. Там было такое место, «тоня», куда в путину рыбаки вытаскивали сети, а недалеко была тайная поляна, которую мы считали священной индейской территорией. Вот туда, обсираясь от тяжести ноши, мы отправились в морозный день.
Короток световой зимний день, но мы всё же успели поставить шесты и обмотать их покрышкой. Надев ватники, разожгли костер и приготовились коротать ночь и делиться индейскими рассказами.
Типи было без полога и нахождение в нём приравнивалось почти что к душегубкам Освенцима, тiльки там газ без цвета и запаха был, а тут и дым, и гарь, и угар. Мы периодически высовывали носы под покрышку, где их сразу же обжигал мороз.
Даже индейской выдержке есть предел! Через пару часов токсичного испытания, мы, невзирая на окоченевшие руки и ноги, свернули ставшую колом покрышку и героически отправились в ночь — домой.
Второй раз мы поставили её в мае, перед отъездом на Алтай. Весна — это вам не зима, можно было и кастрик не разводить даже, если бы не комары, атаковавшие гордых сиу, словно подлые оджибвеи. Под утро мы всё-таки чутка приспали, сраженные свежим воздухом, усталостью и обескровленные комарами. После рассвета меня разбудили рыбаки, проходящие мимо.
— Э, гляди! — говорил один другому. — Вигвам!
— Индейцы. — обыденно ответил второй.
Лучи пробивались сквозь дымовое отверстие и дырки в покрышке, Макас сопел, свесив из угла рта вязкую слюну, иногда пуская ветра, обозначая тем самым, что он жив, и чтобы я особо не беспокоился. А в листве над нами какая-то птичка всё время насвистывала почему-то фразу из «Танцев с Волками»:
— Васичу-кигипи, васичу-кигипи, чичу-кигипи…
А потом был волшебный Алтай, община «Блю Рок», зубрятник, много новых друзей, куча индейцев, метисов, сочувствующих и, конечно же, много настоящих типи.
Вспомнил я про всё это, лёжа в своем типи, которое мне помог сделать Маленький Ястреб, и которое путешествовало со мной на Пау-Вау в Лугу в 2000 г., стояло в Калмыцкой балке и в поселке Новый, что в предгорьях Кавказа. Это уже полноценное жилище, в нём и зимой можно спокойно спать, не вспоминая Освенцим.
И, конечно же, огромное спасибо мудрому индейцу Бурому Волку из журнала «Юнный техник» за его советы — та легендарная вырезка хранится у меня до сих пор.
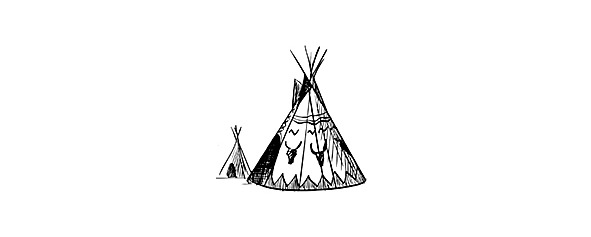
Золото Горшкова
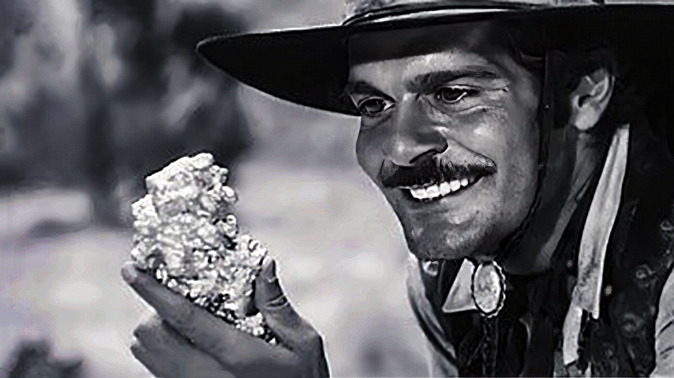
Где-то в восьмидесятых, учась в старших классах, я попал на прощание с фильмом «Золото Маккенны».
Его снимали с проката по большому экрану и поэтому в кинотеатре «Комсомолец» на ул. Энгельса (Большая Садовая) всю неделю было торжественное прощание с фильмом. Такой фильм, красочный и американский, всегда собирал полный зал народу, желающего пережить захватывающие приключения с героями фильма.
К тому времени я уже много раз его смотрел, знал все эпизоды с апачами, диалоги Хачиты, с которого фанател, и пикантные сцены с купанием обнажённой Хешке. За этими сценами многие взрослые и приходили в зал, так как на советских экранах обнажённого женского, и притом красивого, тела было мало. Находчивые операторы вырезали кадры из плёнки с понравившимися моментами, и порой версия советского фильма была прерывиста в сюжете и отличалась по продолжительности от оригинала.
В общем, почувствовал я некую тоску от того, что больше не увижу Хачиту, который разрядил оружие алчных бледнолицых в каньоне старого Адамса, и решил смотреть прощальное кино каждый день после школы.
Ровно неделю, день в день, шёл этот вестерн. Несмотря на рабочий день, зал не пустовал, всегда были подростки и юноши с разных районов города. Зная это, администрация кинотеатра решила совместить полезное с приятным. Перед каждым просмотром на сцену выходил Сергей Ильич Горшков, командир 5-го гвардейского Донского Казачьего Будапештского Краснознамённого Кавалерийского Корпуса, в военной казачьей форме с красными лампасами. Его задачей было рассказать подрастающему поколению о героических подвигах казачьего корпуса во времена Отечественной войны 1941—45 годов, дабы направить неокрепшие умы на службу отчизне и воспитать поколение в духе героического патриотизма.
С генералом Горшковым я был знаком и встречался в школе не раз. Дело в том, что наша школа №60 имела музей имени 5-го гвардейского Донского Казачьего Будапештского Краснознамённого Кавалерийского корпуса, где была большая экспозиция времён войны, фотоархивы, документы, оружие, форма и даже настоящая тачанка. Генерал Горшков был частым гостем на первом звонке и выпускном, да и на других праздниках тоже. Он был истинным сыном донских степей, коренастый, седой и с пышными усами а-ля Семён Михайлович Будённый. Рассказывать он умел красочно.
Всю неделю я слушал, как казаки рубали фрицев «на капусту» и ёрзал в нетерпении, в ожидании начала фильма. Я был далёк от его боевых похождений, скача где-то там, среди апачей и золотоискателей, как, впрочем, и все другие в зале. Иногда слышался недовольный шёпот или смешки слушателей.
Особенно в том месте, где наши казаки зажали немцев на берегу какой-то европейской реки и налетели буйной лавой на врага. В этом месте малорослый Горшков расходился особенно сильно, вспоминая боевую молодость. Его лицо становилось красного цвета, он махал воображаемой шашкой и орал:
— А мы их — на капусту, НА КАПУСТУ!!!
Напор его был так велик, что казачьи усы не могли удержать брызгающие слюни боевого запала, которые вылетали, дабы окропить первые ряды неблагодарных слушателей. Потом он уходил вместе со своей кровавой и горестной былью, под редкие аплодисменты и смешки, свет медленно тух и начиналась великая американская иллюзия кино. Зал замолкал, все переносились в жаркий штат, где сражались гордые индейцы и плохие бандиты Колорадо, переживая невероятные приключения.
Прошли многие годы. Генерал Горшков давно пьёт горькую с боевыми друзьями в своей казачьей Валгалле, вспоминая, как вместе сражались за родину. Родину, которой теперь нет…
А американское кино теперь можно посмотреть, просто включив телевизор. Такое же красочное, приключенческое и кичливое.
Показалось мне вдруг, что тогда, в том зале, мы стояли перед неким выбором: принять свою быль, пусть порою жестокую и суровую, или уютно-красочную чужую иллюзию.
И походу, сделали выбор.
Муги-коонс-сит

Из вычитанной информации с многих источников у меня сложился образ индейца, как дитя природы, следопыта, охотника, воина и выживальщика в суровых диких условиях, которому присущи были такие черты характера как стойкость, отвага, воля, честь, закалка и прочий стоицизм.
И это всё, так или иначе, пригодилось, когда меня призвали в ряды легендарной и непобедимой советской армии.
К тому времени я был парашютистом-разрядником, отучившимся в ДОСААФ, и поэтому автоматически попал в воздушно-десантные войска в легендарный 242-ой учебный центр Гайжюнай, базировавшийся на территории Литвы.
Это было жёсткая проверка моего детского индейского стержня. Про учебку ходило крылатое выражение «кто прошёл малый Гайжюнай, тому не страшен большой Бухенвальд» и в, целом, вся служба там это подтверждала. Мы стреляли, как ковбои и бегали, как их лошади.
Если убрать мозги цвета хаки, способствующие развитию злокачественного солдатского долбоебизма, так необходимого при выполнении боевых задач, поставленных командованием, правительством или партией, то жизнь десантника походила на индейскую.
Холод, голод, стычки с противником (тогда ещё своим), марш-броски, выживание в лесу и гордое отстаивание собственной чести. Закалка духа по-индейским понятиям очень мне помогла стойко сносить тяготы и лишения воинской службы. Вот насчёт честного и дисциплинированного воина не скажу, что был прям таким, как того требовала присяга. Но зато свято и строго хранил военные и государственные тайны — потому что не знал таковых. Выработанный в детстве внутренний кодекс индейца не позволял мне чмыриться за еду и сон, помогал в сварах с сослуживцами, а взращённый на книгах альтернативный мир спасал от мрачных мыслей, сопутствующих неопытному солдату первых, самых тяжёлых месяцев службы.
Потом в войсках, в знойном климате Афганистана, мне помогала апачская хитрость. Когда с водой был строгий дефицит, а за бортом было 56 градусов в тени, но это не должно было никак влиять на поставленную для разведроты задачу, я носил во рту плоский камушек, как воины апачи, помогающий бороться с сухостью во рту.
Но до этого надо было пройти ещё проверочный экзамен в учебке, знаменитый и устрашающий «разведвыход». Раньше разведгруппы забрасывали на границу с Польшей или Белоруссией и оттуда они должны были по ночам скрытно пробираться на базу, выполняя поставленные задачи и развед-диверсионные действия. В нашем случае обучение шло по ускоренному афганскому варианту и поэтому заброска была в глубину местных литовских лесов, тайное логово печально известных «лесных братьев».
Разведвыхода удостаивался не каждый из курсантов, могли не взять, если не тянул физически или по морально-волевым качествам.
Моё участие тоже было под сомнением, ибо, к стыду признаться, бегал я тогда чертовски плохо. Нет, на короткие спринтерские дистанции я был лучшим в роте, а вот «трёшка» в полном боевом была на уверенную жирную двоечку. Дох физически на половине дистанции, дыхалка была поставлена неправильно.
Это уже после армии понял, когда стал бегать по утрам, настырно вырабатывая выносливость.
Проскочила тогда в газете «Советский спорт» занятная рубрика под названием «медитация». Сидеть в лотосе и задумчиво вдыхать-выдыхать воздух мне не позволяла врождённая гиперактивность.
Но была там ещё статья про активную медитацию под названием «индейский бег». Рассказывалось в ней о бегунах-индейцах, которые могли бежать двое-трое суток, впадая в определённое трансовое состояние. Лошадей-то раньше было маловато и леса кругом, а до сплетен из дальних обширных регионов ирокезы были дюже охочи, вот и бежали посланцы без перекуров, чтобы донести новые вести от Флориды до Великих Озер. Осейджи тоже приуспели в беге, могли догнать всадника на лошади и вышибить зазевавшегося ездока из седла.
После прочтения этой статьи я стал каждое утро бегать и как-то раз достиг желаемого трансового состояния, в котором лёгкие, сердце и ноги сами по себе работали на автомате, пока мозг пребывал в благостной тишине. Вот почему эту статью не написали до моей службы в учебке?!
Командир нашего разведвзвода капитан Гришковский кривил надменно-недоверчивые гримасы, когда я убеждал его взять меня на этот сложный двухнедельный экзамен. Индейская логика «мы же не бежать будем, а идти!» всё-таки его убедила и он снисходительно вынужден был согласиться. Если отбросить боевую задачу и всё армейское в целом, то разведвыход был мечтой каждого городского хлопца, бредящего приключениями на Диком Западе.
Нас выбросили чёрт знает где, в ночную темень литовского леса, и первую ночь мы шли без остановки (только 15—20 минут, чтобы поесть, справить нужду и перемотать портянки), с 18.00 до 12.00 ч. следующего дня. По пути мы отлавливали всякого, кто шлялся по лесу, с дальнейшей передачей в органы МВД, имитировали подрывы железнодорожных веток, столбов ЛЭП, «захватывали» мирно спящие посёлки и «травили» воду в колодцах и водохранилищах.
Загружены мы были по полной боевой: личное оружие, боекомплект, бронежилет, шлем-каска, противогаз и ОЗК, сапёрная лопатка, плащ-палатка, сухой паёк на трое суток, фляга с водой — и весило это всё, как казалось к концу марш-броска, целую тонну. Всю ночь на нас делала засады разведрота с 226-го полка и было пипец как утомительно-весело.
Я шёл в паре дозорных, это такая своего рода приманка-макуха для врага, идущая впереди головного дозора в прямой видимости. В один момент тело не выдержало нагрузки и бодрствования, и я заснул прям на ходу, сам того не ведая. Очнулся от того, что споткнулся о неровность тропы, пройдя в таком вот состоянии метров десять.
К утру начали дохнуть самые стойкие и сильные марафонские бегуны нашего взвода, один за другим. Особенно пулемётчику досталось — нелегко тащить 12 кг на своих плечах и ещё ленты боекомплекта. У всех глаза полезли на лоб, когда я предложил понести его пулемёт:
— Как же так?.. Ты что, не устал? — вопрошали меня заправские рослые бегуны.
— Конечно, устал — отвечал я честно.
— Так почему ты так бодро идёшь, ты же дох, когда бегал?!
— Но мы ведь не бежим, — отвечал я им по-индейски мудро, — а в ходьбе я вас всех перехожу!
Конечно же, я не выдал им свой фирменный индейский секрет, вычитанный в книгах Сат-Ока. Когда индейский воин или охотник идёт по тропе, то непременно косолапит ступни большими пальцами внутрь, чтобы вес тела равномерно распределялся на всю стопу и ноги не уставали. Не знаю, так ли это действует, или просто останавливает внутренний диалог, концентрируя внимания на постоянной мысли о косолапой постановке стоп, но это работает, работает.
Много тогда выпало жёстких проверок и суровых испытаний на прочность моей индейской сути в той десантной школе Молодых Волков.
Маниту
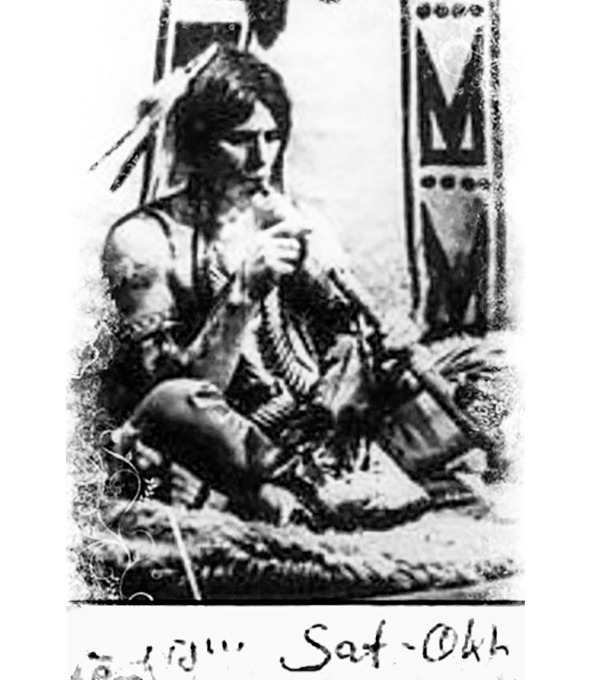
На войне нет неверующих.
Как пел многоуважаемый поэт-песенник: «Не бывает атеистов в окопах под огнём». Каждый во что-то верит: кто в Христа Спасителя, кто в Аллаха Всемилосердого, кто в удачу и фарт, кто в победу коммунизма. Один я в 40-ой армии взывал к Гитчи Маниту. «Кто это?» — пожмёте недоуменно плечами вы. Если перевести с языка алгонкинов лесных, то будет примерно «Великая Сила». Та Сила, которая приводит всё в вечное движение, что наполняет каждую тварь Создателя. Та, что незримо ведает нашими судьбами, та, что разлита вокруг во всём и пребывает вечно.
А всё книги про индейцев виноваты и Сат-Ок. Был такой польский индеец-писатель, книги которого раз и навсегда изменили всю суть моего существования и сформировали мою веру. В общем-то, я его в 12 лет прочитал, тот ещё возраст для духовного фундамента. Церковь тогда была на задворках социалистического мира со своими просроченными догмами и постулатами, а коммунистическая идея всеобщего братства и равенства медленно и неумолимо шла ко дну, натолкнувшись на айсберг человеческой самовлюблённой натуры. Каиново племя, одним словом.
В нашем гвардейском десантном 350-ом полку служили разные воины со всей территории СССР. Скидку на национальность не делали, все были единым организмом и каждый знал своё место. А кто не знал, того уверенно, по-десантному, направляли, смещая точку восприятия увесистой воздушно-десантной колымбахой по бритом затылку. У меня были друзья и братья по оружию: украинцы, белорусы, татары, комяки, чуваши, таджики (кстати очень суровые и надёжные воины), литовцы, казахи, сибирские кержаки (малословные, но верные сотоварищи), бесшабашные армяне, гордые махачкалинские джигиты и прочий разномастный люд.
Хохол «Фикса» с Харькова носил с собой живые помочи, тюменский татарин «Чита» на накачанной шее — мусульманский треугольник с сурами из Священной Книги, бульбаш «Мороз» из Минска в кармане гимнастёрки держал фотокарточку любимой, которая согревала его душу на неприступных ледниках Панджшера. У всех были свои амулеты и талисманы. Некоторые из них удачные, а с некоторыми их владельцев отсылали «грузом 200» в Союз.
Я носил на все операции во внутреннем кармане десантного комбинезона фотографию Сат-Ока. Её ещё в учебный центр в Гайжюнае мне прислал друг детства Юрка Вербняк, уже отслуживший срочную. Вырезал с какого-то журнала. Сат-Ок на фото сидел в головном боевом уборе из перьев, по пояс голый, весь испещрённый незамысловатыми татуировками и курил калюмет, выпуская священный дым-поквану в небеса. Я приклеил фото на плотную картонку, а на обратной стороне написал по памяти корявую индейскую молитву, что-то типа:
О, Гитчи Маниту!
Ты — сильный, я — слабый.
Помоги мне на тропе войны!
Дай мне силу Мише-Мокве (медведя),
Ловкость пумы,
Глаз орла,
Ярость волка,
Гибкость змеи.
И замотал в полиэтилен, чтобы она не раскисла от пота.
Помню, в 1986 году, зимой, окончилось двухмесячное перемирие, заключённое с моджахедами Ахмед Шаха «Масуда», из-за которого наш боевой полк вынужден был сидеть в пункте постоянной дислокации и не дёргаться.
Офицеры мучили нас бесполезной муштрой и мучились сами. Кто-то от безделья ставил брагу и, ужравшись, бил морды комсоставу, опосля отбывая в карцере на армейской «губе», кто-то, грустя и тоскуя от вынужденного спокойствия, резал вены, а кто-то (основная масса) курил душистый афганский чарз, громко хохоча и тихо тупея.
Но всё враз закончилось, когда «духи» сбили наш военно-транспортный самолёт Ан-26 с гражданскими на борту из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер» штатовского производства.
Разведку бросили на место крушения почти что мгновенно, ибо они вообще «РД-54» (ранец десантника) не разбирали, а нам сказали готовиться к выезду на броне в район Дисхабс.
Я заметно мандражировал, хоть и рвался в бой (зря, что-ли, в учёбке четыре месяца стрелял как ковбой и бегал как его лошадь).
Вечером того дня, перед выездом на «боевые», я отошёл к периметру полка.
За бетонной стеной была колючка и МЗП (малозаметное препятствие в виде тонкой спиральной проволоки), за колючкой минное поле и Кабул, враждебно затихший в ожидании заслуженной ответки «шурави».
Там я раскурил сигарету «Памир» (мы звали её «нищий в горах» из-за рисунка на пачке) и, выпуская дым на четыре стороны, к небу и земле, обратился к Силе.
Я просил То Что Вьёт Нити Человеческих Судеб, чтобы мне была оказана магическая помощь. Я хотел стать настоящим воином и глянуть на всё происходящее своими наивными (по тому времени) глазами, и чтобы на мину не встать, и пулю душманскую не схватить.
В тот момент, когда положил дымящуюся сигарету на бетонный забор, чтобы ветер смог её додымить, я услышал Тишину. Время остановилось, звуки зависли, свет перестал прорезать враждебную тьму, а надо мной будто распахнулись незримые два крыла и сомкнулись вокруг защитным куполом.
Покой. Уверенность. Благодарю, Маниту!
На тех боевых я был в охранении комполка Борисова, грузного дядьки, которому уже осточертела за долгие годы эта война. Ночью по нашему костру прицельно шмальнул душманский снайпер, обдав нас пеплом и огненным снопом искр, напоминая десантный закон: «Не расслабляйся — выебут!»
Тогда гвардии прапорщик Андрей «Макар» Макаренко из Ростова подорвался на мине и потерял ногу, а вместо неё обрёл плечи друга, который и нёс его всю ночь до самой брони. Это был тоже ростовчанин с улицы Портовой, легендарный и отмороженный прапорщик Олег «Ганс» Гонцов, один из основателей нашей полковой группы «Голубые береты».
Когда я смотрел, как на рассвете вереница разведчиков, запылённых, уставших, но гордых, перевязанных пулемётными лентами и ощерившихся разнокалиберным оружием, медленно спускалась по горной тропе, то понял: я должен быть там!
С той самой «войны» не пропустил ни одного рейда нашего прославленного волчьего полка.
Был в Бамиане, где величественные многометровые Будды, вырубленные в горе, вещали магометянам, кто здесь был первым пророком.
Был на Санглахе, где мы участвовали в кровавой и изнурительной охоте за «Стингерами».
Был на Вардаке, где наш вертолёт сбили и в отместку мы артой уничтожили целый кишлак Бадан-Куль.
Был в древнем Газни, где погиб мой земляк Юра Болтай из Амвросиевки и все семь десантников, кто тогда был на БМП-2.
Был в Гардезе, где на перевале высится сложенный из камней 30-метровый столб Александра Македонского, коим он отметил свой путь, совершая легендарный поход в Индию.
Был в Калате, где спал среди посадок опиумного мака.
Был на Хосте, где нас бомбили фосфором и атаковали спецы из арабского батальона наёмников «Чёрный Аист».
Много ещё где довелось побывать, и везде было жарко, в обоих смыслах этого слова. Товарищи уходили в Вечность, душа черствела, а тело приобрело воинскую чуйку. На чужой земле всё враждебно: и вода (гепатит, тиф, амёбиаз), и насекомые (яд и малярия), и горы, и люди.
Но в кармане моего десантного комбеза курил свою игрушечную трубку носатый Сат-Ок, а надо мной были распахнуты, незримые иным, защитные крылья Гитчи Маниту.
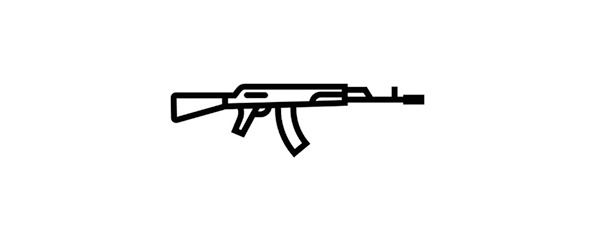
Эсперанто по-индейски

До самой армии я читал и собирал информацию о северо- американских индейцах, объезжая все книжные магазин, выменивая у знакомых полюбившиеся книги и вырезая из журналов статьи, которые были тогда многочисленны, благодаря восстанию индейцев-сиу и активистов ДАИ (Движение американских Индейцев) в местечке Вундед-Ни, что в резервации Пайн-Ридж, штат Южная Дакота.
Это восстание произошло в далёком 1973 году, в самом центре капиталистического жиреющего мира. Красные братаны здорово тогда напрягли холёный и сытый мир США, борясь за свои ущемлённые права.
В странах соцлагеря (да и не только) вмиг они стали героями, олицетворением свободы духа.
Так вот, из этих книг и заметок мы с моим тогдашним «братом по крови» Серёгой Лютым (все звали его «Лютик», так больше подходило) выписывали индейские слова, которые заучили наизусть, чтобы в несведущей компании нас никто не разумел.
Потом мы разлетелись по местам срочной службы, он — в желдорбат, в Эстонию, я — в ВДВ в ДРА.
Говорить об Афгане и боевых операциях строго запрещалось — военная тайна и всё такое; а уж, тем более, писать в письмах и отсылать фото. Письма выборочно шмонал особый отдел полка, выискивая среди личного состава туповатых и наивных «шпионов».
Мать целый год думала, что я в Монголии служу, так ей написал (и тайну не выдал, и нервы её жалел). На конверте вместо адреса стояла фамилия и пп в/ч 35919 (полевая почта, военная часть) и буквочка алфавита, которая шифровала подразделение.
А писать-то было о чём! И я писал Лютику, русскими буквами, но индейскими словами, выдавая напропалую всю гнилую изнанку знойно-кровавой войны.
Как-то раз меня вызывает дневальный по штабу полка в штаб.
Удивлённый, я прополоскал чайком из фляги ротовую полость (фляги с чаем носили все, дабы не пить сырую воду, напичканую паразитами и вирусами), сбил сушнячок, и ленивой походкой «фазана» (боец второго года службы) неспешно побрёл в штаб, пиная носком берца невесомую и вездесущую афганскую пыль.
Пришёл.
— Куды?
— Сюды.
— Разрешите войти?
— Входи, боец, присаживайся.
Так я попал в святую святых, великий и ужасный кабинет начальника особого отдела полка. Что ты! Их, людей, которые даже форму редко носили, боялись все, от переборщившего с неуставняком орденоносного «дембеля», до боевого, покрытого шрамами и загаром, офицера. Ещё бы — «Контора»!
Я не боялся, вчерашний чарз ещё действовал, распространяя по мои упругим десантным жилам тёплую волну безмятежности и чахломы.
— Как служба, товарищ сержант? — улыбаясь, спрашивает меня мужик в неуставном сером свитере и с нетрадиционно длинными для военного волосами.
— Хубасти — отвечаю я и моментально понимаю, что говорю на диалекте «дари», родном для Афгана, и служившим бойцам полка устоявшейся феней.
И он понимающе кивает, взгляд на стол опустил, а перед ним папка с моим личным делом лежит — распахнута, как ноги площадной девки.
— На разведчика учился в Литве? — бурчит он, читая досье.
— А то! Ой, звиняйте, так точно! — опять этот форс разведческий сработал, кичиться и пыжиться за престижную службу. Разведка была доминирующей субстанцией всего полка и от гордости у бойцов случались вывихи шеи, когда они шли мимо других, высоко задрав волевые подбородки.
— Хорошо, хуб. — молвит задумчиво особист. — Как во взводе, никто не обижает?
Громко и презрительно фыркаю в ответ:
— Обижать меня! Да я ещё по гансухе (молодых и неопытных солдат звали «гансами») бился с «дедами» из других подразделений, когда они пересекали начертанную на полах мелом линию (опасная зона, непосвящённым вход запрещён).
— Ясно. — улыбается военный психолог. — А какими языками вы владеете, товарищ сержант?
— Французский в школе изучал, так, на троечку.
— И всё?
— Да, в общем-то, всё… — отвечаю, и пытаюсь разогнать остаточную вибрацию счастья от вчерашнего чарза, столь неуместную в таком суровом месте.
— А это как вы мне объясните? — он подвигает мне по столу листок бумаги. — Что здесь написано?
В его голосе звякнули непререкаемые стальные нотки, а в воздухе зловеще запахло грозовой пиздюлиной. Уверенно-дрожащей рукой беру листок, фокусирую взгляд на каракулях и читаю: «Хау, нинимуша…» — и далее всё такое в нашем с Лютиком индейском стиле. Мехец!
И, глядя прямо в рыбьи сверлящие глаза особиста, я начинаю безудержно ржать, разбрызгивая остатки скупой слюны по его свитеру. Грёбанный чарз! Шайтан, карамба, азохен вей, доннер веттер!
Вот она силища-то какая в этих, исковерканных переводчиком, словах свободолюбивых и гордых индейцев!
— Скаяс, скаяс! Пить дайте, уайтчичуны позорные!
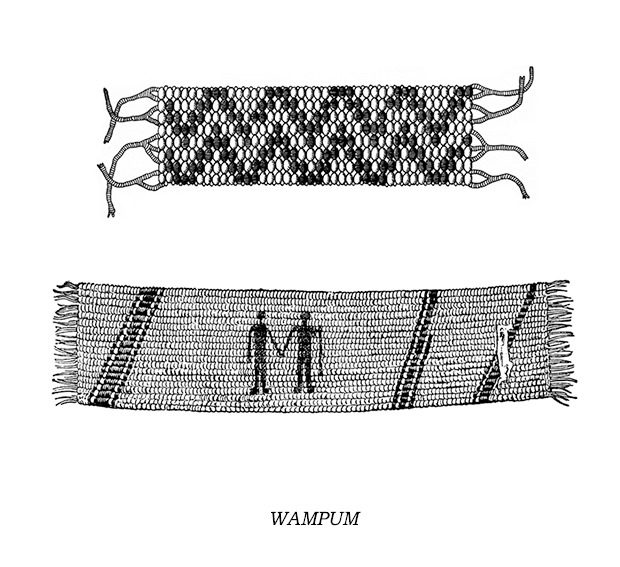
Ассинибойны
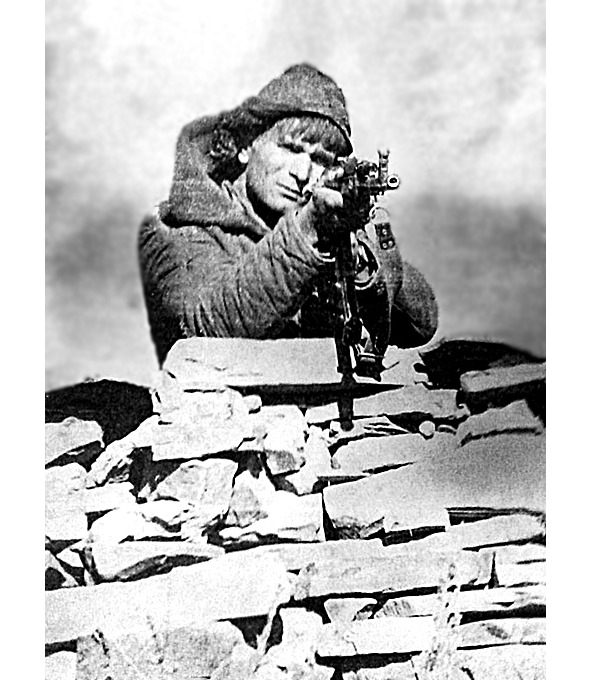
В школе мне довелось познакомиться с творчеством Джеймса Шульца.
У моего одноклассника Витольда Муравьёва была синяя книжка с тремя его повестями и называлась она «Ошибка Одинокого Бизона». На обложке был изображён индеец, который, укутавшись в одеяло, стоял у костра и печально на него взирал. Думается, что так иллюстратор и представлял упрямого и самовлюблённого Одинокого Бизона, изгнанного из племени за неподобающие для родича косяки.
Шульц не был индейцем, просто женился на скво и жил среди черноногих-пикуни, или пиеганов. Он не был воином, но зато был отличным рассказчиком захватывающих индейских историй. Его индейцы, в отличие от фениморовских и сат-оковских, были настоящими. И хотя они не были дакота, но были всё же прерийными конными кочевниками, и этот факт весьма меня радовал, как коренного жителя донской степи. Я прекрасно представлял безлюдные просторы бескрайних прерий, описываемых Шульцем, и от этого погружение в сюжет было наиглубочайшим.
Сами черноногие были ещё теми изнеженными лентяями. Торговали с белыми, выменивая на шкурки всякие блестящие невиданные цацки, воевали в тёплую сухую погоду, не гнушаясь в виде подвига снять скальп с женщины шошонов, справляющей нужду в кустах.
У них было много врагов из различных племён, но самыми крутыми мне показались именно ассинибойны. Когда толстые черноногие снежной зимой обжирались мясом бизонов и травили друг дружке героические байки о проведённом в походах лете, ассинибойны могли пробраться в их лагерь и увести лучших коней, привязанных возле шатров, без единого выстрела. А наутро пухлогубые пикуни удивлённо хлопали глазами, уставившись на стрелу, оставленную им ассинибойнами в центре большого лагеря. Это был их фирменный знак, типа: мы вам стрелу, а вы нам коней. Некая символическая печать, подтверждающая их воинскую славу.
И вообще, ассинибойны предпочитали самую плохую зимнюю погоду для своих военных рейдов, в которую ни один уважающий себя черноногий не вышел бы из типи даже для оправления нужды.
Врезалась их молодецкая удаль в мою детскую память своей лихой отмороженностью.
В 1987—88 г. наш 350-й десантный полк участвовал во всеармейской операции «Магистраль», задачей которой было освободить от влияния бандформирований перевал Сатукандав и разблокировать автомобильную горную трассу в провинцию Хост.
Мы ушли в горы 22 декабря 1987 г., а спустились 22 февраля 1988 г. За эти два жёстких месяца афганской зимы мы спали по четыре часа в сутки, потому что ночью несли караулы на постах, называемых просто «дырка». Спали мы на восточной стороне высоты 3065, а с запада располагались огневые укреплённые точки, частично вырытые, частично выложенные кладкой с бойницами из плоских камней. Два часа на «дырке», два часа спишь (если ночь) или совершаешь развед-поисковые рейды (если день).
Однажды погода люто испортилась, подул ледяной ветер, перед которым человек был беззащитен на такой высоте. Мы с Витьком Зинченко, верным моим односумом из Казахстана, отстояли свои часы и отправились в палатку. Я тогда был старшим всего отделения из 10 огнемётчиков и нёс ответственность за личный состав и чётко выполняемую ими службу.
Замёрзли мы, конечно, и спать хотелось, поэтому без лишних разговоров залезли в свои спальники. Я был счастливым владельцем трофейного спальника «US ARMY Arctic» на гагачьем пуху. Он был лёгким и тёплым — в отличие от вечно сырых и тяжёлых стёганых ватных спальников. Вес был важным фактором в горах, многие даже еды по-минимуму брали и скидывали всё, что можно, кроме боекомплекта. До этого у меня был лёгкий пакистанский спальник, в котором я мёрз под утро даже летом, ибо перепад температур в высокогорье был значительным.
Вроде всё норм, тепло, и спать бы уже пора, но — не могу, тревожит что-то. За хлипким трепещущим брезентом палатки завывает снежная вьюга. И так лягу, и сяк, и одноклассниц вспомню, и дни до ДМБ посчитаю — не спится! Сердце колотит, на душе рябь тревожная неясного происхождения.
И тут вспомнились мне ассинибойны: уж эти красавцы такую бы погоду не пропустили и воспользовались сей милостью духов горного ветра для своей неоспоримой воинской доблести. Я схватил свой «АКС-74» и, даже не надевая бушлата, выскочил наружу и полез через гриву на западный склон.
Подхожу к нашим огневым позициям, где мои доблестные бойцы несли свою «дырку» и должны были окликнуть меня цифрой, на которую я обязан был ответить другой — в сумме этих цифр получался пароль на эту ночь.
Иду, пригибаясь от ветра и сжимая в руках «Калаш» — нет никакого отклика, тишина. Только ветер враждебно свистит и видны тёмные пятна бездонного ущелья внизу.
Подхожу к кладке и вижу, что мои часовые накрылись плащом от ОЗК и присыпают, стойко и мужественно перенося лишения воинской службы.
Такого залёта я вытерпеть не смог, с разгона прыгнул на них и давай охаживать со всей силы прикладом автомата их спины.
Сплоховал, конечно: чуть Тришин меня гранатой не подорвал, с которой спал в руке с надетым на пальце кольцом. Типа, не боялся душман, потому что героически подорвал бы себя вместе с ними.
— И что же ты, чадо (самое презрительное прозвище в полку) кольцо не выдернул, когда я на вас прыгнул?! — зло поинтересовался я, и врезал ему кулаком в глаз.
Утром на построении личного состава для постановки боевых задач командир полка полковник Попов увидел фингал на тупом лице Тришина.
— Тааак!.. — строго сказал он. — Дедовщина процветает?! Не позволю, сгною на «губе»!!!
Начал разбираться, и я признался в содеянном, описав предысторию применения грубой физической силы к сослуживцу первого года службы.
Узнав о таком вопиющем косяке бойцов, и Попов тоже по-отечески тяжело и мощно заехал в виноватую морду Тришина.
Этот наглядный пример вмиг выправил ослабившуюся было дисциплину всего нашего блокпоста, и с той поры я спал спокойно (насколько позволяло состояние войны).
Хорошо, что я читал в детстве книжки Шульца и знал про ассинибойнов.
Ещё долго я, уже имея семью, видя какое-нибудь нешуточное ненастье за окном, говорил своей жене:
— Эх, погодка-то нынче суровая — в самый раз для ассинибойнов!
Сало
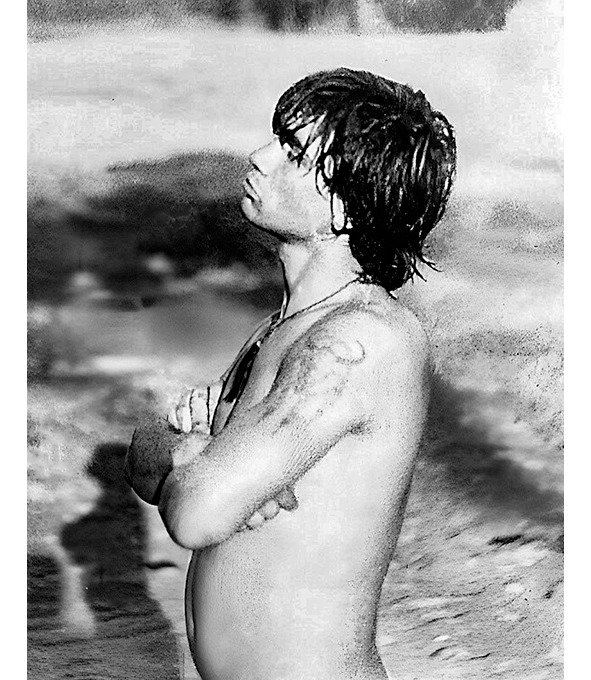
Когда служил срочную в Афгане, мне попалась статья в «Комсомолке» про «индейцев из Верх-Кукуи» (до сих пор храню). В ней рассказывалось про молодых людей, которые съехались со всего СССР на Алтай и там создали индейскую общину «Голубая Скала» (так переводилось название Коккайя с алтайского языка), жили себе традиционной индейской жизнью, и в ус не дули. Надо же, я с детства о таком мечтал! Братья по Красной тропе, по духу! Я взлелеял мечту, что если выживу, то после демобилизации уеду к этим людям, чтобы жить в гармонии с природой и скакать на коне по диким горам Алтая. Статейку ту аккуратно вырезал, да матери в Союз отправил, наказал строго, шоб сховала в надёжном месте.
Война окончилась через два года и гражданка закружила меня в круговерти из женского полу, пацанских пьянок и постылой работы. Страна, ввергнутая горбачёвской перестройкой в хаос и беспредел, находилась на грани выживания. Менялся политический строй, рушились традиционно-братские отношения, ломались понятия, судьбы и люди. В этой адской круговерти мне, хапнувшему адреналин войны, срывало крышу, и я кидался в самые авантюрные дела — лишь бы не было тоскливо и скучно. Бесконечные гулянки, потасовки, разборки, грабежи и кратковременные работы. В общем, по сути, мне не было места в той жизни.
Однажды я натыкаюсь на журнал «Смена», в котором на обложке были те самые индейцы из Кукуи. А в статье было написано, что они поднабрались житейского опыта и собираются продвигаться в дикие горы для автономного существования. Ого, офигенно как: то, что доктор прописал!
Дома я откопал сохранённую статью, присланную с Афгана, перечитал и неожиданно понял, что должен быть там! Моя боевая подготовка по выживанию в горно-пустынной местности должна пригодиться им. Когда созрело чёткое намерение, я написал индейцам в общину, а так как адреса не знал, то написал просто: «Алтай, Верх-Кукуя, индейцам». Через время мне ответил Орлиное Перо, основатель и лидер общины. Задал пару тестовых вопросиков о моём познании индейской вселенной, а после моих ответов во втором письме написал просто: приезжай.
Я стал собирать денежные средства и тут, неожиданным магическим образом, обрёл индейского попутчика. Это был паренёк с новозаселённой улицы Жмайлова (нам, кстати, враждебной) — некто Вова, с погонялом «Мопед». Ему было 17 лет, и он двигался с враждебной нам уличной группировкой, занимался боксом, от которого имел два тяжёлых нокаута и боготворил Тайсона. Как-то он к нашей братве приклеился, смешной такой, с золотой фиксой и лопоухими ушами. Хотя, если честно сказать, в мой стереотип книжно-киношного индейца не укладывался. Он меня уважал тогда за ходившую за мной славу безжалостного уличного бойца, и это было мне непонятно: ну, разбил пару наглых нюшек, и что?..
Как-то, помню, разоткровенничался и говорю ему:
— Вот лазите вы по моему району, гопота шкодлявая, дурью маетесь, а мы в детстве в индейцев играли.
— И я! — отвечает неожиданно мне Вова, жизнерадостно сверкая фиксой.
И оказалось, что он тоже страстный фанат свободолюбивых краснокожих воинов и даже имеет книгу «Схороните моё сердце в Вундед-Ни», за которой я бесплодно гонялся который уж год.
Так и завязалось наше парное предприятие. То типи построим зимой на левом берегу Дона в пойменном лесу (и задыхаемся в нём угаром от неправильной вытяжки), то облавную рыбалку устроим в затопленной роще, то жопы проезжающему поезду покажем в Танаисе, то мацанки душистой накуримся и вместе мечтаем, как будем жить в дикой тайге.
Я работал всю зиму, пахал как каторжанин, продал дорогую музыкальную аппаратуру, коллекцию виниловых зарубежных дисков, фотоаппарат «Зенит-ЛМ» и много чего ещё, ибо думал, что обживусь в тайге и не вернусь домой. Вова тоже готовился: выстрогал десяток стрел и сделал к ним наконечники. Парень он был неплохой, но врачи отсрочку ему дали от армии по статье 7"Б» — тугоумство, а уж советские врачи диагнозы умели ставить… Армия также была причиной, чтобы удрать к индейцам, так как уличным жиганам со Жмайлова служить было западло, не по понятиям.
Настала весна, долгожданная и будоражившая. Мы собрали в рюкзаки пилы, топоры, котелки, провиант на месяц, тёплые шмотки. Вова отдельно вёз длинный пакет с луком и стрелами. Устроили проводы для старших и уличных товарищей, которые до самого конца не верили, что мы махнём чёрт знает куда. Пили сухое вино ящиками целую неделю, балагурили и курили, Вовка прям во дворе на лавочке спал, не находя сил дойти до дома.
Когда я понял, что деньги катастрофически убывают, а мы ещё даже с района не выехали, то сказал:
— Харэ! Баста! Едем!
Нас провожали в аэропорт Серый Хохол, Балудик и Вовчик Яблонский, старший плановой товарищ. Вот перед проверкой багажа он нас и раздул не по-детски, аж звон в ушах стоял, и у Вовки рот до ушей от улыбки растягивался.
Засовываем в рентген рюкзаки и пытаемся изо всех сил не заржать, а тут тётенька проверяющая говорит:
— А что это у вас, хлопцы весёлые, такое длинное и железное? А ну-ка, давайте сначала.
«Блин, — думаю, — ушан хренов, обдолбыш Жмайловский, стрелы свои калёные в аппарат сунул!»
Маякую ему взглядом и случается невероятное: он всё понимает, кладёт рюкзаки в аппарат рентгена, а стрелы нагло вешает на плечо.
— Странно… — говорит тётка. — Только было — и нет?
Тут менты вокруг нас настороженно сгрудились и недоверчиво так взирают.
— Так нет ничего. — фиксато улыбается Вовка. — Ошибочка вышла!
Прокатило, магическим образом, и мы садимся в самолёт. Вова на измене лютой сидит: первый раз летит, дурь штырит, подлокотники кресел гнёт, бедолага, и зеленеет на глазах. Жалею, начинаю хохмить и прикалываться над всем, чтобы, как Вася Тёркин, дух его сникший поддержать. Зря я это сделал, пусть бы лучше боялся, тише было бы. Ржёт, как не долечившийся в дурдоме имбецил, а люди напряжённо и укоризненно так на нас посматривают. Типа, как вы, засранцы удутые, так можете беззаботно ржать, когда самолёт упасть может в любую секунду и перестройка по стране свои жертвы кровавые собирает?
— Поспи немного. — успокаиваю я его. — Проснёшься, а мы уже в Барнауле.
Затих, вот чудненько и мне бы…
Бах-тара-бах! Вове снится сон, он в испуге вздрагивает всем телом и переворачивает раскрытые нарды (ими отвлекались в полёте), по всему салону разлетаются шашки и зарики. Полузаснувшие и успокоившиеся было пассажиры возмущаются, когда у них между ногами лазает по всему салону ушастый хихикающий паренёк, блестя жиганской фиксой.
— Да сядь ты, наконец! — срываюсь я уже злобно и он мирно затихает, вспоминая про мой уличный авторитет.
Сидим тихо и тупо смотрим меж сидений перед нами. А там любящая дородная жена кормит немного нервничающего мужа, и то ему даёт вкусненькое, и это. Глотаем слюни, потому что люто пробивает на хавчик. Женщина услужливо протягивает мужику кусочек хлеба с аппетитным шматом сала — как раз меж сидений проносит, — и мы это видим. Я ёрничаю, показываю, типа, что вдыхаю аромат сала и облизываюсь. Вова не выдерживает неимоверной для него нагрузки серьёзного вида и дико ржёт. Из его открытого рта вылетает кусок зелёной бронхиальной сопли и точнёхонько так (о, эти магические мгновения!) прилипает к салу поверх бутерброда. Время движется очень медленно, как в хорошем уличном бою. Мы затыкаемся, шуганувшись содеянного, и, не веря своим глазам, смотрим, как бутерброд, поданный заботливой супругой, исчезает во рту мужа!
— ХАХАХААААААААААААА!
Представляете теперь, как мы ржали и какой адский полёт был у пассажиров. Хорошо хоть, что с самолёта не ссадишь!
Совершив быстрый автобросок Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск — Черга, мы наконец-то, к облегчению всех пассажиров всего нашего пути, вышли на открытый горный воздух.
Не веря в происходящее, я полной грудью вдохнул плотно-разнотравный и целебный воздух Хана Алтая, а выдохнул только через долгие и полные индейских приключений 5 лет!

Маленькое крыло
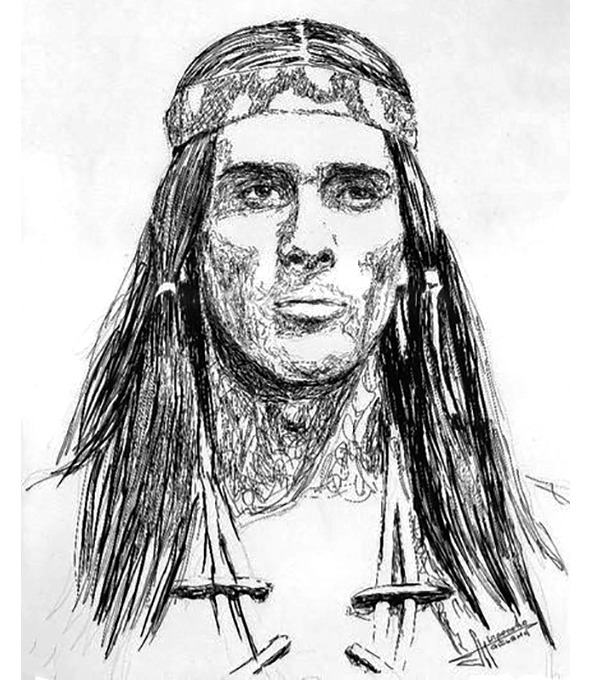
Как правило, конец одного пути является отправной точкой для последующего.
В первую ночь по прибытию в Верх-Кукую я почти не спал.
Мы просидели её вместе с Пером, перебирая ящик, полный фотографий индеанистов со всей страны и зарубежья, нынешних и былых общиников, и сочувствующих им.
Тогда, в далёком 1984 году, в отдалённую и затухающую деревню Верх-Кукуя приехала группа единомышленников с разных городов страны с твёрдой уверенностью построить индейскую общину, которая будет служить форпостом для дальнейшего продвижения в дикие места, чтобы там существовать в гармонии с Природой и жить по-индейским традициям. Все они были горожанами и суровая алтайская жизнь сбила позолоту книжной романтики. Они осели там надолго, вызвав волну репортажей в прессе и на телевидении, благодаря чему к ним со всего Союза и стран соцлагеря потянулись сочувствующие люди и мечтатели всех мастей.
Верх-Кукуя вмиг стала Меккой для разномастной публики: художников, музыкантов, беспонтовых халявщиков хиппи, всеразличных искателей смысла жизни, Шамбалы и нирваны. Так переплелись не одни нити судеб и нашлись многие индеанисты, считавшие себя одиночками. Сам я тоже узнал про общину индейцев через печать. Как рассказывал Перо, летом там собиралась огромная тусовка, но к зиме все разъезжались по домам, и только истинные творцы Мечты оставались зимовать.
Вот так, в одну из зим в Кукуе появился Вращающийся Томагавк.
Не помню, откуда он был родом, но приехал он вовсе не для оседлого деревенского прозябания. Его цель была: подготовиться за зиму к натуральной жизни, и ближе к лету уйти в дикие горы. Жить там, как дикий индеец из прочитанных книг, добывать дичь из лука (имелся таковой) и искать тайные места для новой стоянки общинников.
К тому времени матёрые общинники уже обзавелись семьями, детьми и скотом, который нужен для прокорма. У них были дома, уважение, известность и вес в неформальной индейской среде. Они писали магнитоальбомы с песнями заезжих и местных музыкантов и, в общем, привыкли к такой жизни.
Дерзкий мечтатель Вращающийся Томагавк, бродящий по пояс в снегу по окрестностям, вызывал у них скорее смех, чем сочувствие. В один голос все твердили ему, что ничего не выйдет, он не сможет — и всё в таком духе, позабыв, что и сами приехали на Алтай отыскать тот самый индейский Эдем для осознанного братского существования. Никто уже не верил в его силы и мечту, даже наоборот, его упорные усилия вызывали необъяснимую злость и раздражение. Может быть, на подсознательном уровне общинники чувствовали, что Томагавк — это они, пробы 1984 года, ярые романтики и энергичные фанаты своей Мечты.
Томагавка им переубедить не удалось, и он стал не очень угодным в общинной тусовке изгоем. Потешаясь над его наивным рвением, они смеялись и над собственной мечтой, заваленной газетной славой, заглушённой восторженной лестью сезонных отдыхающих, приземлённой молоком и закваской, сеном и дровами, любовными интрижками, детскими пелёнками и чувством собственной нужности и значимости. Их вера замёрзла в торосах ежедневной бытовухи, как папанинская экспедиция на Северном полюсе, попривыкли уже за долгий деревенский дрейф, и никто не звал на помощь отважного лейтенанта Шмидта.
В общем, несмотря на всеобщее недоумение и явное неодобрение, Вращающийся Томагавк собрал припасов на пару месяцев и, сжимая в уверенной руке тугой лук, отправился куда-то в сторону Усть-Коксы, подальше в тайгу. И хоть вера его была надломленна насмешками «бывалых индейцев», а Мечта покрылась ржавчиной зависти, он всё равно продолжил свой обречённый Путь. Потому что именно так поступил бы настоящий мужчина, сдержал бы своё слово. Так бы поступил индейский воин, отправившись в неизвестность на поиски своей Мечты.
Общинники вяло отреагировали на его уход. Он был непризнанным, изгоем, отрицавшим мнение большинства, а посему заведомо приговорённым на провал.
Через пару месяцев лесники и егеря Усть-Коксинского района нашли Вращающегося Томагавка.
Его тело вращалась на ветру, повешенное за шею на кожаном ремне. К дереву был прислонён исправный верный лук, рядом находились рюкзак и сумка, наполненные припасами и пара убитых змей со снятой кожей. Признаков насильственной смерти не обнаружили, из вещей ничего не пропало.
Общинники пожали плечами: мы же предупреждали!
Так прервалось жизненное вращение Томагавка. Так ржавчина сомнений, заложенных окружающими, проела гибельную брешь в его Силе. Он не смог отказаться и не пойти, верный какому-то внутреннему голосу чести, а может, упрямству и глупости — это уж как кому угодно рассматривать сию ситуацию.
Трудно представить, что творилось в его душе, когда он, освежевав вторую пойманную змею, одиноко смотрел в глубь дикой тайги, не ощущая за спиной хотя бы сочувственного одобрения.
Ведь зачастую, чтобы взмыть над бренно-обыденной землёй, не хватает лишь слабого взмаха маленького крыла понимания и поддержки близких.
Вождь
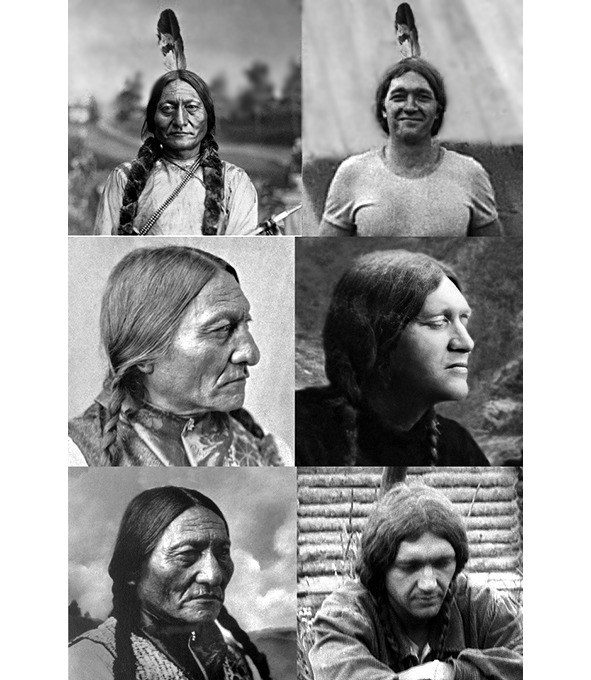
Орлиному Перу, духовному лидеру общины «Блю Рок», вождю и человеку.
Есть такое понятие как «индеанизм» — это движение увлечённых людей, очарованных героическим прошлым индейцев, их материальной и духовной культурой.
Человек, вообще, строит себя с какого-либо образа — и что плохого в индейских воинах?
Скажу больше, это даже не увлечение, это какая-то неведомая магия и магнетическая сила, которая заставляла неистово стучать сердце и чувствовать упоительный восторг лишь при одном упоминании слова «индеец».
Движение это международное, то есть всемирное, даже в экзотических странах, имеющих свою заковыристую культуру, есть индеанисты.
Наше советское, а затем и российское современное движение началось с Большого Совета в 1980 году, куда съехались увлечённые представители с разных регионов СССР. Там-то и порешили: движению индейцев быть! И укрепляли связи, обменивались информацией, находили новых братьев на ежегодных съездах Пау-Вау и по переписке. Как и у любого микросоциума, у индейцев были свои законы, понятия, традиции, язык, фольклор, история и легендарные лидеры.
Если бы на моём теле осталось немного чистой кожи, то слева, на груди, по всем индейским понятиям, я выколол бы профили трёх вождей: Сат-Ока, Гойко Митича и Орлиного Пера. Сат-Ок обнаружил во мне месторождение Красной Силы, Гойко Митич добыл и выплавил, а Перо выковал, придав форму, закалил, наточил и отшлифовал.
До встречи с Пером я чувствовал что-то неясно-интуитивное, какие-то обрывки информации, пазлы дум, клочки наблюдений, лоскуты чувств и романтизм эмоций. С ним эти пазлы сложились в единую, чарующую и величественную картину, с лоскутов скроилось моё мировоззренческое одеяло, спасшее меня от холода сухого прагматизма мира. И поэтому я до сих пор уважаю его авторитет и благодарю за совместно прожитое время. Мы вместе с ним осваивали Камлак, мёрзли по пояс в снегу, заготавливая дрова, голодали-зимовали, совершали военные набеги в сытый мир белых людей, и много-много беседовали.
Перо (того времени) был категоричен и несгибаем. На него тоже удручающе подействовал распад общины, он быстро поседел, но не прогнулся. Его борьба за Мечту и железная логика были несгибаемы. Перо не верил в фантазии, мир его был строг и понятен. В магию он тоже не верил, но безусловно, в ней жил. Он имел все собрания сочинений В. И. Ленина и на досуге их перечитывал. По своему маленькому опыту я понял, что читать Ленина может каждый, но осмыслить и применить прочитанное в реале — здесь нужен недюжинный ум и развитый интеллект.
Перо служил в десанте, причём именно в 103-ей гвардейской Витебской воздушно-десантной дивизии, в которой впоследствии служил и я. Тогда все индейцы делились на тех, кто служил (в десанте и других войсках) и тех, кто усиленно косил от армии на дурке, но общее увлечение объединяло всех в органичный и весёлый маленький народец.
Перо не стриг волосы с прихода на «гражданку» и это уже было «ку». Скажу вам, что в те годы ходить с длинными волосами по улице было довольно экстремально. Тех, кто хоть как-то отличался от серого монолита социума, прессовали жёстко и нещадно, а тут — длинные волосы! Как и подобает воину дакота, Перо носил косы.
Иногда Перо сидел и задумчиво молчал, глядя куда-то: то ли в славное прошлое, то ли в предсказуемое будущее, и я украдкой на него смотрел. Свет, падающий на него, преломлялся и модифицировал его лик, и я узнавал в нём Ситтинг Булла, Сидящего Быка, вождя хункпапа-сиу, времён его канадских скитаний. Уже нет родины, земли предков и многочисленного народа, но остались непреклонными авторитет и внутренняя сила.
Перо вёл здоровый образ жизни с 30 лет, не пил спиртное, не курил, занимался бодибилдингом и моржеванием. Отсюда у него было трезвое, незамутнённое сознание, честь и праведная ярость. Он знал, для чего живёт, и как надо жить, и что ещё нужно сделать. Ну, разве такой человек не может стать авторитетом для меня, выросшего на опасных своим примитивизмом улицах Ростова?..
Перо являлся основателем и бессменным лидером музыкального проекта «Red Power», где не только играл музыку сам, но и помогал осуществлять другим свои творческие начинания. Может, оно на сегодняшний день и выходило не очень профессионально — с музыкальной точки зрения, — но очень душевно и поэтично. Созвучно с каждым открытым индейским сердцем.
Таким я видел тогда Пера.
Желаю доброй Красной Дороги, вождь!

ЧК
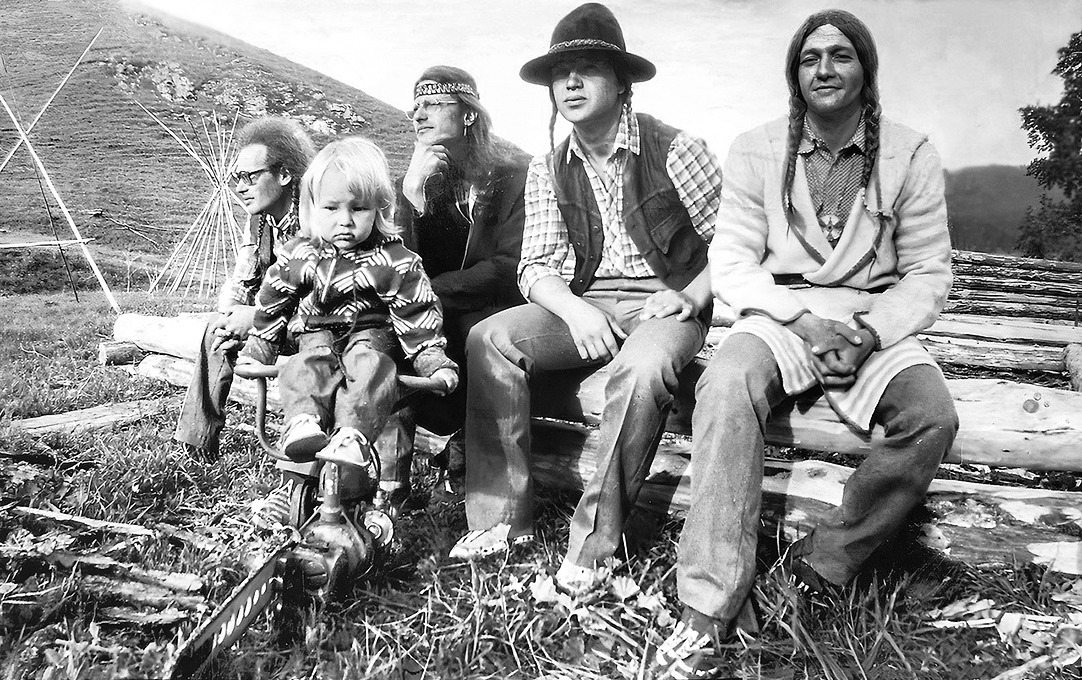
Когда я приехал в Верх-Кукую, то община уже находилась в глубоком кризисе и мне это было печально слышать. Ведь именно община и была моей целью — компания людей, соединённых одним мировоззрением и увлечением.
Конечно, мне и всякие индейские фетиши нравились — одежда, перья, вышивка бисером, но не они меня сподвигли в дальнюю дорогу. Мне хотелось полностью изменить свою жизнь, обрести явную цель и ясность сознания. Да, внешние атрибуты индейской культуры были интересны, самобытны и уважаемы мной за кропотливую трудоёмкую работу над ними. Особенно меня поразили вышивки на рубахах и леггинах не бисером, а разноцветной изоляцией от проводов. В те года бисер не всегда можно было достать, а вот проводов вокруг навалом. Из них вытаскивали медный стержень, нарезали на маленькие фрагменты размером с бисер, и потом вышивали узоры, подсмотренные в фильмах или доступных книгах. Тот ещё труд… Сколько же запала было у тех мастеров, сколько усидчивости, находчивости и незаурядного мышления!
Бисер бисером, но меня больше интересовали причины развала алтайской коммуны — что именно послужило пробоиной, от которой корабль общины дал течь и в итоге затонул. Говорил об этом и с Пером, и с другими общинниками, у всех был, конечно же, свой взгляд на это, вытекающий из персонального опыта, личных обид и эмоциональных переживаний.
Начало краха общины, как ни странно, произрастало из пика всесоюзной популярности, раздутой телевидением, газетами и журналами. Эта звёздность сыграла злую роль в отношениях между членами общины и в собственных самооценках, и в планах и целях. Некоторые уже имели семьи, детей, хозяйство, которые требовали всё больше времени. Поначалу совместными усилиями были построены пара срубов для общего пользования. Так называемые «повэр» (студия звукозаписи) и «блокгауз» для новоприбывших кандидатов и заезжих гостей. Были совместные поездки с концертами по Алтаю, участие в фестивале алтайской национальной культуры «Элойын», и многое другое. Но в то же время курс общинного «Пилигрима» сбился с первоначального: быт, словно топор, подложенный под компас, поменял полюса реальной цели на зыбкие миражи.
В языке индейцев лакота нет личного местоимения «я», они всегда говорили «мы». Например, спрашивают человека, кто он, а он им отвечает: «lakota oyasin miyelo» (мы — народ лакота). Как только уходит понятие «мы», исчезает магия единства, скуднеет эгрегор, вянет любая идея, затухает сила. Личность, конечно, остаётся такой же интересной и оригинально-специфической, но корабль ведь плывёт не только по желанию одного капитана, есть ещё матросы, лоцманы, боцманы, коки, наконец. Вот именно на риф персональных «Я» и напоролся вольный фрегат общины. Ну, а что, все мы живые люди и жизнь дана нам в дар, чтобы учиться порой на своих или чужих ошибках.
Местные кукуинские аборигены тоже немало докучали — уж очень им не нравилась вся эта суета вокруг их отдалённой полузаброшенной деревни и надменная обособленность индейцев, ведущих здоровый образ жизни и стремящихся к чему-то, им совсем не понятному, а значит — опасному. Криминальный образ жизни и приземлённая ограниченность доставляли общинникам много проблем. Нередки стали нападения и драки, угрозы членам семьи и издевательство над детьми общинников.
Только Мато Нажина побаивались, потому что, в отличие от миролюбивых общинников, в случае наездов или разборок он сначала бил, а уж затем выяснял, зачем пожаловали. Что-что, а силу в деревне уважали беспрекословно. Закон «клыка и дубины» рулил не только на «книжном» Юконе Джека Лондона, он, похоже, всемирно присущ человечеству.
Я тоже был участником одной кровавой массовой стычки. Это когда вся деревня пришла отбирать полдома, где раньше жил Мато Нажин, а теперь жила семья Пера — Верка с детьми, Игорем и Светкой. Невзирая на крики детей, пьяная кодла пыталась проникнуть в дом через выломанную дверь. Там-то мы и дали им отпор — в узких сенках, где толпой не попрёшь, а можно было наступать лишь по одному. Индейская тактическая хитрость в действии!
Незадолго до моего приезда, весной, случилась страшная трагедия. Маленькая дочка Гордого Орла и Аллы утонула в ручейке, который пробегал через территорию общины. Гордый Орёл тогда уже чувствовал, что скоро уедет с семьёй на родину и не хотел оставлять тело ребёнка на мрачном холодном погосте во враждебной уже Кукуе. Они кремировали тело на священной горе, соорудив погребальный костёр. Трудно даже представить, как чувствовали себя тогда убитые горем родители. Местные тут же воспользовались этим и настучали в милицию. Власти среагировали моментально и жёстко, чуть до уголовного дела не дошло. На весь Алтай было громкой шумихи и примитивных слухов, хорошо, что дальше Республики это не вышло, ибо тогда можно было ожидать самых суровых последствий.
Власти в СССР всегда интересовались всякими неформальными объединениями, не обошли стороной и индеанистов. Перо рассказывал, как на заре первых слётов Пау-Вау к ним под видом новых индеанистов засылали всяких комсоргов или сексотов разных служб. Некоторые из них даже выезжали в ГДР и ЧССР для контроля тамошних индейцев, пользуясь подвернувшейся возможностью и отмашкой свыше. Один такой «казачок» стал потом очень знаменитым и часто мелькал на экранах телевизоров, снимая авторские шоу, программы с путешествиями, и потом даже репортаж об индеанистах сделал.
Вскоре и в алтайской общине появился тайный осведомитель…
Верка, жена Пера, тогда работала на почте и развозила письма по всей дремучей округе. Однажды на адрес общины пришло письмо с обратным штемпелем МВД. Нет ничего сильнее в этом мире женского любопытства, именно оно помогло в разоблачении осведомителя и в дальнейшем провале его миссии.
Кто читал про революционные годы Ленина, знает, как следует тайно аккуратно вскрыть письмо, подержав его над паром от кипящего чайника. Сначала Перо с Веркой выявили личность шпиона, завербованного правоохранительными органами, а затем они перехватили уже его письмо с подробным донесением о последних делах и отношениях в общине. В конце этих докладов всегда стояла подпись или, точнее, шпионский псевдоним: «Рассел Минс».
Стоит, однако, отдать должное этому тайному агенту: он никогда не выдавал никаких настоящих индейских тайн или дел с разговорами, которые могли бы нести за собой угрозу общинникам от беспощадного молота власти. Так, писал ни о чём: выдуманную чушь, или описывал рутинные сельскохозяйственные будни общинников и откровенно глумился над «органами».
Завербовать могут любого, каким бы идейным, крутым и непреклонным он себя не считал. Кого деньгами и выгодой прельстят, кого угрозой и шантажом стращают.
Этот осведомитель попал под жёсткий пресс МВД, но они не смогли сломить его гордый индейский дух, подобно тому, как не сломлен был знаменитый борец «ДАИ» из народа оглала-сиу Рассел Минс.
Он реально доказал этим сраным ментам, кто здесь настоящий ЧК — Чистокровный Краснокожий!
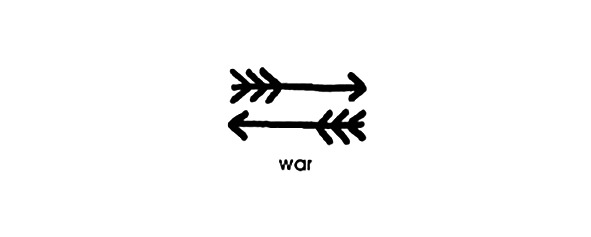
Уллагаччи
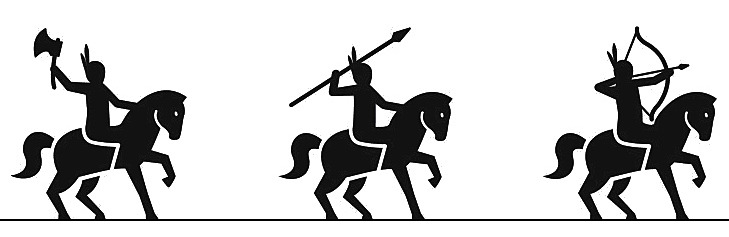
Помню, в начале 90-х, когда я приехал на Алтай, про Улаган (район Горного Алтая) ходила эта байка. Перо рассказывал мне про улаганских апачей, криминальную историю в стиле Дикого Запада с печальным концом.
Улаган — это высокогорное село, где живут преимущественно теленгиты, древний народ, дикий и гордый. Тогда, в 90-х, если ты приезжал в Улаган, то сначала тебя кидались бить, потом просили денег или закурить, а уж потом спрашивали, к кому приехал. Теленгиты считали себя хранителями тех мест и поэтому вели себя заносчиво и непримиримо.
Плато Укок, с его древними захоронениями, где в 1992 году нашли «алтайскую принцессу» и пазырыкские курганы ко многому обязывали. Местные чувствовали, что живут рядом с какой-то священной тайной, и поэтому их пыжило от ответственной миссии, суть которой утерялась от них в веках. Высокогорье, труднодоступные места, близость границы Монголии, дикость и недружелюбие местных отнюдь не способствовали развитию туризма и сопутствующей ему цивилизации.
Так вот, в конце 70-х начале 80-х на экранах страны шли вестерны студии ДЕФА с Гойко Митичем, и на фильмы про индейцев ходили толпы молодёжи. Случилось так, что и в Улаган приехал фильм про апачей. Местные подростки, впечатлённые насыщенной приключениями жизнью индейцев, сбились в дикое племя и стали совершать дерзкие нападения на колхозные табуны. Они с диким гиканьем угоняли в горы коней, чтобы потом продать в Монголии.
Когда такая весть дошла до правления республики, то были приняты жёсткие меры для пресечения правонарушений. Надо заметить, что тогда сильно боялись всяческого проявления национализма меньшинств, идущего вразрез с политикой партии и целями всего социалистического сообщества. Всякие бунты-протесты подавляли с категоричной жестокостью, отбивавшей желание у других повторять такое. Надо ли говорить, что кучка подростков, играющих в индейцев, сразу стала местными героями сопротивления непонятно чему. В Улаган стянули милицию, пограничников и даже суровых чекистов. А так как улаганские апачи понатворили много всяких душегубств и всякого преступного беспредела, то загоняли их даже вертолётами.
Финал истории произошёл в каком-то посёлке, куда заманили уставших от преследования конокрадов. Власти сделали там засаду и когда отряд «апачей» въехал на центральную улицу, их просто расстреляли из автоматического и другого служебного оружия.
Так погибли последние апачи Улагана, но память об их свободной «индейской» жизни была на слуху и будоражила дух во время моего пребывания в Республике Алтай.
Колодец

Когда мы заселились в дом на Чистом Лугу, нам выделили землю под огород почти на границе тайги. Река Сема была далековато от огорода, и Верка, жена Пера, резонно заметила, что с поливом будут проблемы. Но Вэша, который выполнял на лугу функции завхоза, обнадёжил нас, сказав, что духи помогут ему найти воду поблизости.
Взяв в руки лозу, он, тихо бурча заклинания, побрёл искать воду. Я тихонько, чтобы не нарушить таинства, наблюдал за ним, а Перо скептически хмыкнул и отправился восвояси. Ну, не верил он во всякое мракобесие! Долго ли, коротко ли бродил Вэша, бурча магические куплеты и тут, наконец, духи подали знак.
— Здесь и надо копать! — утвердительно сказал Вэша, указывая на воткнутый в землю шест.
От огорода, в принципе, было недалеко, но почти у подъёма на горную гряду Медвежья Грива.
— Вот и копай! — лаконично сказал Перо и опять ушёл восвояси.
Это не смутило напористого кудесника и он при помощи Макаса и такой-то матери, а так же под чутким моим наблюдением, с утра до вечера выковыривал камни и почву, углубляясь в царство Эрлик-хана.
Сначала перестал каждый день ходить смотреть на колодец Перо, потом и мне надоело любоваться работой лозоходцев, а после и Макас покинул Вэшу. Тот ещё недельку поковырялся, вырыв яму в два человеческих роста, но по-прежнему сухую, да и нашёл себе дела поважнее.
А колодец остался, как памятник человеческим несбывшимся надеждам и лукавству горных духов. Мы с Пером прикрыли его ненужным тёсом, да и позабыли как-то о нём. Была у нас проблема поважней!
Коровы местных камлакских жителей, ведомые матюкливым пастухом, частенько пробирались сквозь ветхие заборы ботсада и топтали копытами лекарственные травы, посаженные трудолюбивым Палычем, за что нам перепадало. Мы были вынуждены прерывать умные беседы о мировом развитии индеанизма и гонять тупую скотину по большой территории Чистого Луга.
Перо преуспел в этом занятии, так как вкладывал в него всю свою душу, которой люто ненавидел любопытных, но туповатых коров. Ненависть эта насчитывала десятилетия, и корни её уходили то ли в те времена, когда они с Мато Нажиным, Рысёнком и Чаком работали скотниками, гоняя колхозный скот в Жандаре, то ли в самое загадочно-неизведанное детство вождя. Завидев любопытную и совершенно беззлобную скотину на нашей территории, черты его лица обострялись, губы плотно сжимались, готовясь выпрыснуть такие страшные ругательства, от которых даже местный пастух стыдливо краснел, в глазах Пера появлялась лютая ненависть, как у Крэйзи Хорса перед битвой у Малого Большого Рога. Однажды я был свидетелем, как он прижал к забору зазевавшуюся корову серо-украинской породы, да так дал жердиной ей по рогам что и рог свернул книзу — эка силища-то!
Контуженная кормилица чьей-то семьи, дико мыча и опустив голову, разъярённо ринулась почему-то на меня. Я, увидев, что глаза у неё налиты кровью, а в углах рта течёт слюна, отважно отскочил в сторону, уступив дорогу глухо мычащему монстру.
В общем, коровы для нас были напастью и бедствием, в отличие от местных. Для них они были кормилицами и надёжным вложением капитала, а также показателем состоятельности и достатка.
Как-то я засобирался в Камлак, чтобы закупить хлеба, крупы и прочих припасов для нашей прожорливой общины. В Кукуе за индейцами закрепилась нехорошая слава: мол, воры, негодяи — и к тому же не пьют! Поэтому первое время, чтобы обжиться, мы шифровались под добропорядочных граждан, пряча длинные волосы под шапки, вытаскивая кольца из носа и замазывая тональным кремом зататуированные лица.
Захожу в сельмаг — который и поныне стоит в Камлаке на Центральной улице, без особых изменений в дизайне — и встал в очередь. А там тётки и бабки местные отовариваются, косо на меня посматривая. Начинаю забирать покупки и тут слышу за спиной чёткий и громкий бабий голос:
— Слыхала, Маня, в Камлак-то индейцы приехали!
— Да ладно?.. — якобы удивляется Маня. — И что?
— А то, что, говорят, коровы пропадать стали! Говорят, они на их с копьями охотются! Понаприехали тут! Пусщай в свою Индию едут, американцы проклятые!
Оборачиваюсь, но тётки упорно на меня не смотрят. Ну, и хрен с вами, деревенщина брехливая. Перу рассказал эту сплетню деревенскую, посмеялись от души: ну, вот — опять началось!
А на следующий день побрёл я забор обходить, чтобы новые дыры от коров залатать. Иду, дышу свежим таёжным воздухом, слушаю птиц сладкозвучных да разноголосых. По небу плывут вальяжно облака, предвещая небольшой дождик после обеда. В общем, полный кайф! Прохожу мимо колодца, и тут дёрнул меня чёрт вездесущий заглянуть в его тёмное нутро сквозь раздвинутые тесины.
УХ!!!
Там, внизу, я увидел нечто бесформенно-белое, которое смотрело на меня огромными глазищами. Сразу захотелось сходить по-большому, и, если бы не воздушно-десантная закалка и индейская выдержка, клянусь, так бы и поступил. Но упругие ягодицы железной хваткой сжали испуганный сфинктер, уберегая от малодушного проявления позора.
Раздвинув тесины, я глянул вниз: там, переминаясь с ноги на ногу, топтался телёнок приятной масти «кофе с молоком» тоскливо и с надеждой взирая вверх. Тогда-то я и допёр, о чём судачили тётки в магазине, именно об этом пропавшем телёнке. Думали, что его троглодиты-индейцы сожрали.
Перо сообщил пастуху о находке, и чуть позже угрюмый хозяин забрал телка, всем своим подозрительным видом показывая, что всё это — не просто так.
Колодец Вэшин заложили прочными досками и огородили.
А по деревне разнёсся новый слух, что индейцы в охоте своей первобытной поапгрейдились и «теперяча коров в волчьи ямы ловют».
Дружба народов
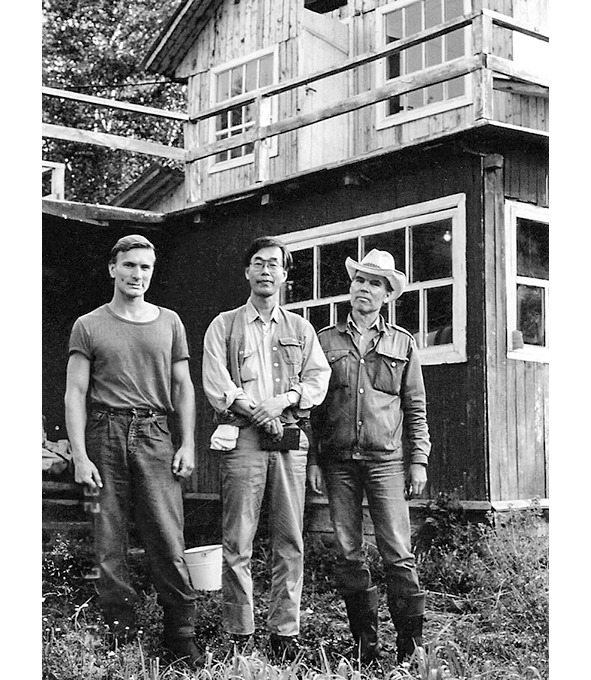
Ботанический сад «Чистый Луг» был родным детищем профессора Василия Павловича Орлова, которого мы по-простому звали Падлыч.
Это был его творческий проект, который курировало Сибирское Отделение Академии Наук СССР. По задумке там должны выращиваться всякие редкие таёжные коренья и лекарственные травы, типа женьшеня, родиолы розовой, маральего и красного корня, элеутерококка и прочих дорогих забористых кок.
На деле же на огромной территории рос только зверобой, малина вдоль забора, пятаки огромной дикорастущей конопли, и в конце урочища, в строну Шишкулара, за оградой, дикорастущий девясил.
Академия всегда уверенно поддерживала Падлыча в его начинании умным словом да добрым советом, выделяя невероятно скудное денежное довольствие.
В штате работников был Перо и тракторист дядя Миша Петров, сварливый и жадный житель Камлака, вселенная которого имела строгие границы и заканчивалась ровно там, где кончались границы его личного хозяйства, скотины и покосов. Мы с Мокасином и бригадир Георгич были за штатом как наёмные сезонные рабочие, но деньги нам всё же платили и мы трудились, сбивая ладони в мозоля и надрывая спины на столь непривычной для нас, городских, физически трудной работе.
Так, мы первым делом выстроили слева от дома огромную сушилку для трав, многоярусную — пять метров высотой и длиной метров в десять. Все столбы мы готовили, ставили и закапывали вчетвером, так что хлипкоруким и тонконогим компьютерным конспирологам, утверждающим что египетские пирамиды строили инопланетяне, мой пламенный профессионально-строительный привет.
По пути к бане было костровище и лавочки, там мы впоследствии выстроили удобный навес для вечерних посиделок у костра и назвали его «форт Шур-Шир». Был с нами тогда какой-то заезжий парень, которого так звали, не помню почему, и кто он вообще был, только запомнил это прозвище и всё.
Зимой Чистый Луг пустовал, жили только мы с Пером и иногда приезжали гости из Новосибирска и других городов. Летом же всё оживало и было довольно-таки многолюдно. Орлов привозил своих студентов из Бийска и Горно-Алтайска для прополки зверобоя, его же покоса, сбора и сушки.
Иногда посещали ботсад высокопоставленные начальники и диковинные заморские гости.
Перестройка, сломавшая культурно-моральные скрепы советской страны, сломала также и железный занавес, который сдерживал не только иммигрантов, диссидентов и евреев всех мастей от бегства из страны, но и предохранял страну от тлетворной заразы извне, словно спасительная ватно-марлевая маска от коронавируса. Границы дрогнули, стали полупрозрачны и в девственную сознанием страну потянулись зарубежные ушлые коммерсанты, всякие авантюристы, бездарные артисты, жадные учёные, которые, как мне сейчас думается, вполне могли быть завербованными агентами вражеских разведок, желающих выведать последнюю военную тайну русских и узнать, почему мы так счастливо и беззаботно жили без общепризнанных законов капиталистического рынка.
Помню, работая на базе отдыха «Иволга», встречал там маститых немцев из ФРГ, которые зачем-то приезжали на Чуйскую ГЭС, типа для обмена опытом и бла-бла-бла. Я первый раз тогда живьём настоящих фрицев увидел, да ещё и выпил с ними шнапса, который Вова Норильский сразу зачмырил:
— Годи, годи, гансы! — сказал он. — Дуся у меня самогона нагнала, счас принесу, выпили по-вашему, теперь алаверды будет!
Он мухой слетал в Усть-Сему и вернулся с бутылкой сэма и соленными огурцами. Дородные бюргеры достали было маленькие походные рюмочки из своего походного чемодана-бара, которые были враз категорично забракованы Вовой:
— Тута вам не тама! Пить будем по-русски, и капут!
Налил он до краёв в гранёные стаканы своего термоядерного высокотоксичного спиртосодержащего эликсира, дал им по солёному огурцу в руку и, подняв свой стакан, произнёс тост:
— Выпьем, кореш, выпьем тут — на том свете не дадут. Ну, а если там дадут — выпьем там и выпьем тут!
Закинул стакан в горло, занюхнул огурчиком, удовлетворённо крякнул и показал рукой тупой немчуре, чтобы они повторили за ним. Бюргеры сомнительно переглянулись, вяло улыбнулись и большими глотками отправили Дусин эликсир в свои баварские глотки. Я видел, как Вова Норильский внезапно застыл, затаив дыхание, ожидая реакции немцев, и ощутил тревожный сигнальчик подвоха, который мог обернуться для нас неизвестными обострениями в сложных ещё международных отношениях.
Когда немецкие инженеры (або шпийоны бундесвера) поставили пустые стаканы на стол, то попытались не выдать тех мук, которые явно испытывали от неимоверной крепости выпитого. Лица их сразу стали пунцовыми, они задышали, словно бежавшие солдаты вермахта, отступающие после проигранного сражения на Курской дуге, глаза их налились кровью и излучали панический испуг. Наверное, подумали, что Вова им цианида добавил и они умрут, как те верные приспешники фюрера в берлинском бункере. Конечно же, яду там не было, но крепость напитка была сверхмощной, даже не представляю, как стекло бутылки не разъело по дороге.
Видя такую бабскую реакцию уважаемых зарубежных гостей, Вова заржал во всё горло, обнажив рот, полный золотых зубов, что вконец добило корчащихся в муках германцев.
Сконфуженный Филимоныч, извиняясь, под руки вывел их наружу, на ходу показывая Вове кулак за спиной.
— Вот это фраера нежные попались, мля буду! — презрительно сплюнул Норильский. — Как ещё они, падло, до Сталинграда дошли?!
В первое моё лето работы на Чистом Лугу профессор Орлов привёз в ботсад делегацию японских учёных ботаников. Они ходили по территории, слушали лекции Падлыча и скрупулёзно записывали услышанное в свои записные книжицы.
Местные смотрели на них как на пришельцев из космоса и подходить не решались, страшась подхватить заморскую хворь, какую-нибудь зловредную «хиросимонагасаку». Я же не мог упустить такой редкий шанс пообщаться вживую с потомками гордых самураев.
Старший делегации, худощавый японский профессор, был открыт для бесед, он всё время кивал и улыбался, обнажая ровные и здоровые белые зубы. Ему было 56 лет, но он совершенно не выглядел старым (по тем моим понятиям такого возраста). Сейчас мне 57 и я не могу похвастаться ни белыми зубами, ни поджарой фигурой, ни натянутой, как у молодого юноши, кожей лица. Он при расставании подарил мне высокоточное чудо японской технологии — маленький калькулятор, складывающийся как книжица и работающий от солнечной батареи. Растроганный таким, невиданно дорогим по тем временам подарком, я в ответ вручил ему большое и красивое перо орла:
— Орёл! Игл, игл! — сказал я ему громко, как обычно говорят глупому или слабослышащему человеку, и замахал руками, имитируя крылья величественно парящего небесного хищника. Профессор опять улыбнулся и благодарно кивнул головой, и от этого кивка явственно повеяло духом самураев, ронинов, сёгунов, сенсеев и прочих камикадзе.
Второе лето в ботсаду получилось богатым на гостей. Тут были и студенты с Горно-Алтайска, и приезжие индеанисты с Новосибирска.
У нас гостил Коля Хотанкайя с Мариной, Юра Ишнала, Таня Мясоедова с худграфа, Бетти с Хабаровска, Ира с Таймыра, и Карора, работающий лесником. Было много веселья и бесед возле костра, купаний в студёных быстрых водах Семы и походов по горам с захватывающими приключениями.
И вот в один из таких дней на Чистый луг пожаловала большая делегация учёных-биологов с самой Америки. Американские мужчины и женщины были с разных штатов, с разных университетов, объединённые страстным желанием изучить богатый животный и растительный мир заповедного Алтая.
В первый день они развесили по тайге вокруг урочища хитроумные фото-ловушки, чтобы фиксировать на камеры живность, населяющую данную местность и отметили места ловушек красными приметными ленточками. И зря.
На следующий день почти все ловушки стырили местные пастухи, гонявшие мимо нас деревенское стадо на пастбище у подножья Катаила. Это был дикий конфуз для Падлыча и он поднял все свои административные связи, чтобы основную часть вернуть американцам. Местные без сожаления их вернули. В быту такая одноразовая камера могла пригодиться лишь для колки кедровых орехов, а за содеянное можно было свободно заехать на зону лет эдак на пять.
Вечером у американцев был релакс, они томно бродили по темнеющим окрестностям, попивая баночное пиво и устало слушая заумные лекции Орлова.
Когда совершенно стемнело, американцы постепенно подтянулись на отблески костра к нашей развесёлой компании в форт «Шур-Шир». Общение было сложным, что-то переводила переводчица, что-то Юрик Ишналыч, но мы понимали друг друга.
Один профессор, огромного роста и атлетического телосложения, (шпийон стопудово) опрометчиво предложил нам выпить за американо-советскую дружбу. Ну кто, вот скажите, в здравом уме предлагает индейцам спиртное?.. Он принёс литровую бутылку бурбона «Джим Бим» и, произнеся какую-то дружественную речь, пустил её по кругу, предварительно прихлебнув с горла.
Ё-моё! Так в моём понимании у нас в Ростове только дворовые конченые алкоголики пили.
Но никто — кроме Пера, конечно — от такого, известного лишь по книгам и фильмам в видео-салонах, легендарного пойла не отказался. Бутылка быстро пустела, к великому недоумению американского учёного-гиганта, а беседа перешла на оживлённый уровень, где иногда даже не требовалась помощь переводчика.
Сначала все стали интересоваться у этого американца: а не коп ли он, часом? Уж больно фактурный он был в сравнении с нашими, обычно тщедушными телом, гениями наук. Американец серьёзно ответил, что киношный образ мускулистых копов это лишь стереотип, выращенный в Голливуде. Это нас совсем не убедило, мы решили оставить эти разборки на потом, стадия выпитого ещё не позволяла откровенно бычить, выявляя правду.
Потом степенный Хотя задал вопрос, который, в принципе, хотели задать все из нас:
— Вот пошто, — протяжно говорит он, — вы, поганые империалисты, изничтожили индейцев и захватили их земли?
Американец ответил почти сразу:
— А разве в вашей Истории не было подобного? Например, завоевание той же Сибири?
Хотя не смог достойно парировать сей подлый выпад со стороны американских колонизаторов и вежливо съехал с темы. Мы с Каророй ощутили великий облом, будто нас предали и бросили на растерзание штатовским выкормышам. Так как английским мы не владели, а ответить по-индейски всё-таки было необходимо, мы в отместку выпили половину их баночного пива, ибо знали, где оно находилось — лежало для охлаждения в нашем роднике.
Конечно, утром американцев этот успешный индейский рейд-реванш шокировал, но они предпочли вежливо промолчать, так как не были хорошо осведомлены насчёт местных традиций и, скорее всего, благоразумно приняли это за древний алтайский обычай гостеприимства.
К нам навязчиво прибился один из них, увильнув от поучительного похода по окрестной тайге всей американской делегации под предводительством беспрестанно бубнящего Орлова. Это был невысокий мужчина лет 40 с лишним, по имени Боб. Он жил и преподавал в каком-то университете Калифорнии. Видя, как мы достаём овальные сигареты без фильтра «Астра», он возбуждённо затрясся, и, тыча в них пальцем, стал повторять:
— Каннабис, каннабис!
Мы переглянулись и спросили его, курил ли он вообще в своей жизни дурь.
— Йе, йе, — закивал радостно он. — Вудсток!
Ого, ничего себе!
— Джанис Джоплин, Джимми Хендрикс, Джефферсон Аэроплейн?.. — спросил я
— О, йе! — ответил Боб и глаза его затуманились от сладких воспоминаний обшарабашенной хипповской юности.
Я торжественно вручил ему целую пачку «Астры» в подарок, но он засопротивлялся, утверждая, что это дорого стоит.
— Бери, бери, — настаивал я, — у нас в любом магазине такое можно купить!
— О! Легалайз?!..
— Легалайз, легалайз, — заверил его я, — причём полный!
Растроганный таким дорогим подарком, Боб едва не прослезился от счастья и спрятал заветную пачку в нагрудный карман, поближе к сердцу.
Мы не могли не заметить, что Боб не сводил своих голодных похотливых глаз с Ирки, которая выделялась своей экзотической внешностью. Высокая, с длинными чёрными волосами, она была плодом любви матери долганки (Таймыр) и отца-прибалта. Она магнитила взгляд американского профессора Боба и он бы даже пустил слюну, если бы не возложенная на него миссия хранить честь Америки перед лицом советских аборигенов.
Стояла дикая жара и мы пошли купаться на речку, вежливо пригласив Боба, и он, конечно же, не отказался. С купальниками у нас была тогда большая проблема, и поэтому мы купались голяком, ныряя возле впадения родника в Сему, и выплывая аж на повороте перед утёсом. Боб тоже оголился, оно и понятно было, ведь он был заслуженный кислотный ветеран самого Вудстока!
Короче говоря, в один из таких заплывов мы вылезли на берег под утёсом и стояли там, согреваясь и болтая. Боб тоже был рядом, но болтал лишь своими гениталиями, крутясь вокруг смеющейся Ирки и пожирая её глазами.
Случайно я посмотрел вверх на утёс и к смеху обнаружил там всю американскую делегацию, застывшую от неожиданного зрелища: голого пухленького Боба, их респектабельного коллеги из престижного Калифорнийского университета. Некоторые профессора женского пола даже снимали его, нервно взводя затворы фотоаппаратов:
— Боб, Боб! — позвал я его.
Он отвернулся от созерцания прелестного тела обнажённой Ирки и посмотрел, улыбаясь во весь рот, на меня:
— Туда смотри! — и я показал пальцем на утёс.
Когда он проследил взглядом за моим жестом, то улыбка мгновенно исчезла с его блаженного лица, он резко побледнел и нервно задёргался, стараясь скрыться от настырных глаз коллег.
Больше мы его не видели, но получили охрененно весёлую сатисфакцию, ибо не стоит выпячивать хвалёную сексуальную американскую озабоченность рядом с нашими женщинами. Если фотографии его завистливых (в этом мы не сомневались, зная наш научный мир) коллег получились, то, скорее всего, эти ностальгические нудистские купания а-ля Вудсток стоили Бобу его университетской карьеры.
Американцы, тихо собравшись, поспешно отчалили, а мы прятались от негодующего профессора Орлова, испепеляющего нас взглядом за то, что мы вбили такой постыдный клин в зарождающуюся дружбу народов.

Камень Тэмуджина

Эзен уюре!
В конце лета 1992 года случилось невиданное чудо: в сельский клуб Камлака привезли фильм «На тропе войны», боевик про современных индейцев Америки!
Ликованию нашего краснокожего клана не было предела.
Я знал его сюжет наизусть — после живописных и жестикулярных рассказов Глешки. Кстати, да, надо было его известить об этом событии, потому что он как раз дежурил в Усть-Семе на базе «Иволга». Перо согласился, что так будет правильно, и посоветовал взять у Вэши велосипед, типа, так будет быстрее смотаться. А туда в одну сторону 13 км, если по Чуйскому тракту, или 10 км — если через тайгу, мимо Катаила и Шишкулара. Я выбрал второе: и короче, и тайга!
Вэша тогда жил на Центральной улице Камлака, в доме Ревенко, который был директором фирмы «Золотая Долина», занимавшейся сбором и отправкой целебных алтайских трав прямиком в Швейцарию. У директора был спортивный велосипед, с гнутым бараньим рулём и ручными тормозами. Мужики и дети на Алтае особо не жаловали такую двухколёсную диковину: с 5—7 лет они уже передвигались на конях или тракторах.
А мужики там, надо сказать, такие суровые таёжные горцы. Когда узнали, что я на коне не ездил верхом, ваще засомневались во мне, как в мужчине:
— Раз мужчина, значит, на коне — и баста!
— Самокрутку с газеты свернуть ловко не могёшь?
— Ты кто ваще такой-то?!
С топором в тайге любой мужик не только выживет, но и сруб смастерит и хозяйство обустроит. В общем, те горцы не чета нашим городским, писающим стоя, инфантильным эстетам. Они многому меня научили и пробудили во мне генную память предков. Быйан болзын!
Захожу в дом к Вэше:
— Хау кола! Дякшилар!
— Хау, хау, — отвечает озабоченный оджибве. — Что пожаловал? Проходи, что стоишь?
Прохожу из сенок в дом, там везде верёвочки растянуты, на них пучки разных трав сушатся. Вэша перехватывает мой взгляд и загадочно молвит:
— Вот видишь, травы у меня — ШАМАН Я!
Я сдержанно соглашаюсь, ибо предстоит мне выпросить велик у этого мага-травника и целителя.
— Так, мол, и так, — говорю я, потупив взор, — кино привезли, Глешку надобно оповестить, а то не по-индейски как-то синема бачить, когда друже печалится на службе. Дай, в общем, велик Ревенко к нему на базу съездить.
Шаманы, они ваще все жадные и скряги, ну, а уж оджибвейские всем нос утрут своей плюшкинской прижимистостью. И мне стоило невероятных усилий всей своей дипломатической магии, чтобы наконец услышать в ответ:
— Ну, надо — так бери… Только смотри, аккуратно: он не мой, а директора, вещь дорогая. Осторожней там!
— Да что я — маленький?! Всё будет — дякшы!
Дёлыгар ырысту болзын!
И, радостно схватив велик за бараньи рога руля, я закрутил педалями по правому берегу Семы, по старой конокрадской тропе. Проехал урочище Чистый Луг, где мы жили, работали и сушили травы. Поднялся на крутой берег, проскочив поляну, поросшую девясилом. Внизу ревела Сема, впереди высокие горы и могучее небо. О, хвала тебе Тэнгри!
Остановился возле родника, текущего с запретной горы Катаил, хлебнул целебной и прохладной крови гор…
На Алтае много запретных мест, куда не стоит ходить, если беды не хочешь. Люди обходят их стороной, не желая играть с загадочными и мистическими силами тайги. Был свидетелем, как два великих и отважных воина — Вэша и Мокасин — презрев алтайские суеверия, полезли на эту гору, дабы схоронить землю с могилы отца Макаса в священном месте.
И что?
Макас прибежал, бледный от страха, и, заикаясь, сказал, что они и на 200 шагов не поднялись, как у Вэши сердце встало. Ну, мы с Пером, схватив полосатые «индейские» одеяла, ринулись спасать оджибвейского знахаря, невзирая на традиционную вражду между сиу и оджибве. Мы нашли Вэшу в зарослях борщевника, жалкого и зелёного, покрытого кусачими паутами и многочисленными надоедливыми мухами. Думали: всё, мехец! Выжил, однако, и тащили мы его довольно упитанное тело, усираясь, до самого дома.
Вот так вот было. Стоит уважать знания и традиции людей, которые не один век прожили в тайге, где грань между нашим материальным миром и миром духов очень зыбкая.
…Живительная влага подзадорила меня и я, круча педали, дал газу. Проехал Усть-Сему и, подъезжая по тракту к Верх-Баранголу, думаю так: «Сейчас как разгонюсь и перед сторожкой — по тормозам, и юзом-юзом, как в детстве делали, велик на бок завалю и гордо предстану перед радостным Глешкой, неся великую весть!»
Спуск к базе был крутой до самой Катуни. После сторожки дорогу обычно перегораживал полосатый шлагбаум из труб, а слева от него был проход для пеших, шириною в метр. Дальше стояла вековая сосна, под ней небольшой обрыв метра 2—3, и надо было сразу повернуть на дорогу, ведущую прямо на берег Катуни.
Вот так вот, думая про сюрприз и распевая победные песни, я стал набирать скорость прям от трассы. Лечу, как пикирующий на добычу сокол, ветер шумит в ушах и развевает волосы, по бокам сосны сливаются в сплошной зелёный мазок. Ух, лихо-то! Тёмен-тёмен!
Вот и открытое место уже, сквозь деревья вижу срубы базы, сторожку, шлагбаум, перегораживающий дорогу. Наклон усиливается, а с ним и скорость. Хоть я отважный и бесстрашный воин-сиу, но думаю: «Пора, тормози!» И жму педаль в обратную сторону, она спокойно так прокручивается и я за долю секунды ясно понимаю:
«Тормозов дёк!!!»
Адреналин сокрушительным цунами бьёт в мозг, сердце рвётся наружу, конечности дрябнут, время замедляется.
Есть ещё шанс — пытаюсь успокоить себя — проскочить в метровый проём меж шлагбаумом и сосной, и скатиться до берега Катуни, гася скорость.
Проскочить-то я проскочил (хоть и очень очковал), но вот не рассчитал огромную скорость и вывернуть на дорогу уже не смог… Время — кисель, тянучее и плотное, позволяющее всё увидеть, запомнить, обдумать, но не позволяющее ничего предпринять.
А на краю обрывчика камень большой покоился, созерцая бесцельное мелькание человеков, видать ещё со времён Чингизхана. Болушканаар учун быйан болзын!
Вот именно в него я и врезался передним колесом.
Дрэнгь!
Пошло смертельное сальто:
«Одно.., — считаю я в застывшем времени, — второе..»
Земля! Бац-тарабац!
Воздух вышел из лёгких, вдохнуть не могу — шок!
А тут сверху оджибвейский велик, как напутственное проклятие шамана, на голову — тресь! Умри, дакотская собака!
А следом, потревоженный моим ударом и вылетевший из тысячелетнего гнезда, древний камень Тэмуджина по башке моей индейской — бум!!! Татарский кровь горячий — умри, урус-шайтан!
Думал: усё, помру, так и не увидев «На тропе войны» — вся жизнь насмарку!
Ан, нет — выжил… Встаю и гордой шатающейся походкой иду к сторожке, откуда на шум и грохот выходит зевающий Глешка — спал на вверенном ему посту, шогодайя!
А мужики, которые трактор чинили, и кажут:
— А мы всё гадаем: встанет-не-встанет… Ишь ты!
И головами удивлённо качают от невиданной картины, теперь им на полгода пересудов хватит. Подхожу к Глешке, он говорит:
— А ты пошто приехал? — и зевает во весь свой дакотский рот.
«Вот, — думаю, — я тут, как космонавт Джанибеков кувыркался, а он всё проспал!»
— Мен дёпсиибей дядым! — говорю.
И, видя изумлённо-непонимающий взгляд Глешки, падаю оземь. Свет гаснет, снова горит, опять гаснет, нокдаун!
Чуть погодя, отсидевшись, я вспоминаю про велосипед — увы! На переднем колесе не просто «восьмёрка», а 88. Вот жопа-то! Подхожу к трактору, где мужики курили самосад и цокали языками, смотря на меня:
— Меге болушсаар деп сурап турум!
И они помогли мне, попрыгали на колесе, попинали кирзачами обод, и, в принципе, колесо могло потом крутиться в вилке. Только цепляло её с обеих сторон, сдирая краску и стирая шину, и издавало жалобно ноющий звук.
— Болушканаар учун быйан болзын!
Поблагодарил их, да и в путь обратный направился, так как Глешка дежурил и не мог приехать смотреть фильм.
— Ну, что, — сказал я велику, — барахтар?
И мы уныло заскрипели обратно по трассе в Камлак.
Блин, не буду рассказывать, как я, краснея от стыда, вручал велосипед-инвалид оджибвейскому шаману Вэше и сколько ужасных проклятий послал он на меня.
…Фильм примирил всех нас и местных с нами.
Он был дублирован на русский и последний боевой клич тоже, поэтому звучал не очень, но в целом было всё так, как и рассказывал мне Глешка. Точь-в-точь. Мне показалось даже, что я его второй раз смотрю.
После фильма, выйдя из клуба, мы шли, гордо подняв головы, а местные завистливо смотрели нам в след и говорили:
— Вот они, индейцы!
А ночью мне приснился Эрлик Хан, он грозил мне своим серебристым пальцем и качал кудлатой головой.
— Эртен, эртен! — зловеще предрекал он.
— Что завтра-то?.. — недоумевал я.
А завтра я поехал в Шебалино продлевать временную прописку в паспортном столе, и там на вокзале встретил симпатичную алтайскую девушку Астаму Попошеву, чей горящий взгляд говорил мне:
— Мен сени сююп турум! Сен Бьурю.
Ударившись об мой крепкий башка, камень Тэмуджина не только нокаутировал меня, но и передал знания родного для этих мест ойротского языка, любовь к загадочной тайге и целебному величию Хана Алтая.

Восемь бутылок минивакан
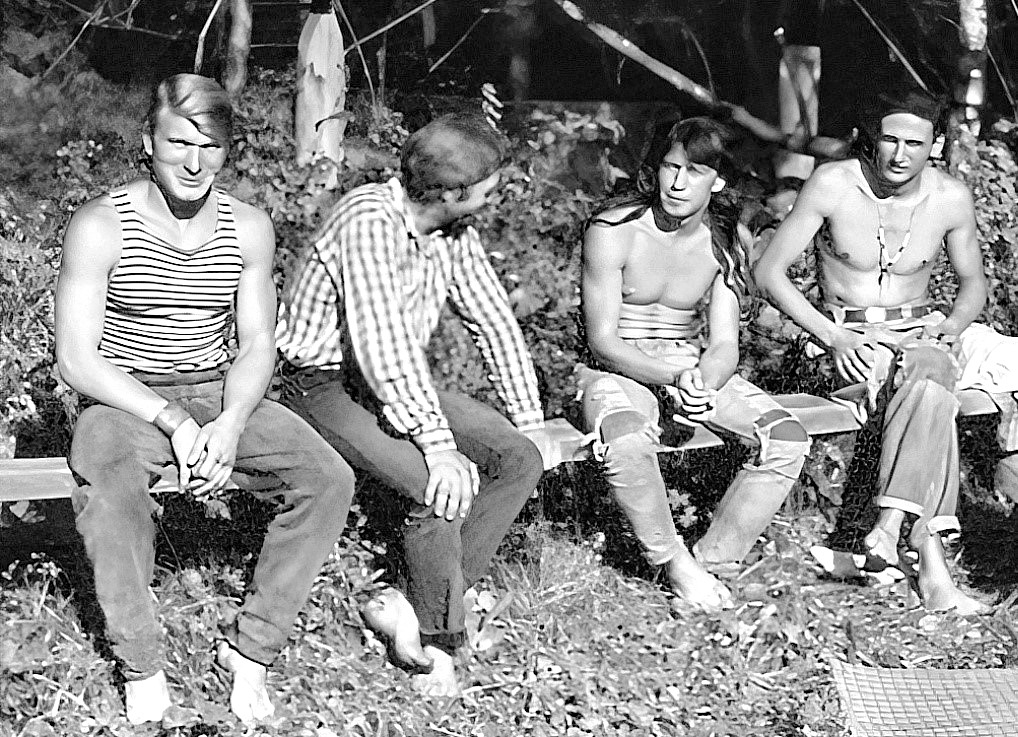
С Хокши Глешкой я познакомился на Алтае у камлацких индейцев.
Звали его так потому, что иногда в межсезонье или когда он сильно нервничал, у него на локтях и шее появлялись маленькие пятна псориаза. Поэтому Пятнистый Мальчик — и никак иначе.
Он любил своё имя, самое индейское и настоящее. Кто-то называл его Хок, кто-то величал Хокшила, но в резервации «Чистый Луг» все его знали, как Глешку.
Глешка родился в Рубцовске, городе зон, лагерей и блатных понятий. Пахан его был смотрящим на зоне и спуску детям не давал. Руки Глешки были покрыты неумелыми синими наколочками: глаз какой-то, буквы всякие, точки и прочая неумелая уличная пиктография. Поэтому мы с Макасом сразу признали его за своего, хоть он и не был с Ростова.
Глешка пел. Он любил недавно почившего тогда Цоя, и Кобэйна с развороченной выстрелом башкой. Он пел их и свои песни, которые были всё равно похожи на их по манере исполнения. Но мне больше нравились его индейские песни, особенно «Chankusha».
Он первый посвятил меня в магическое обаяние языка лакота-сиу, на котором мы пели и балакали. Это была наша индейская феня, некий тайный арго нашего маленького племени.
Помню один смешной случай, связанный с этой феней.
Приходит как-то бодрый Глешка с Усть-Семы на Чистый луг и прямо в дверях спрашивает у Пера по-лакотски:
— Нитуве хво?
Перо от непонимания вопроса разозлился и отвечает:
— Хуехво!
И тут мы с Глешкой дико заржали, потому что в переводе на русский, он спросил у Пера: «Ты кто?»
Глешка был стройным, с длинными прямыми волосами, которыми очень гордился (а я ему по-дружески завидовал). Ходил, гордо задрав подбородок и обладал любовной магией Коня, от которой млели все девушки индейской тусовки.
Он научил меня воровать и гордиться этим — индейцы же воровали! Да ещё и песни победные пели, когда с награбленным возвращались в лагерь. И мы воровали и грабили (окончательно теряя генную христианскую память и социалистическую мораль) всё, что плохо лежит. В основном, еду — голод был постоянным спутником жителей Чистого Луга. Воровали всегда нужные одеяла, посуду у сплавщиков на байдарках и спящих туристов, зазевавшуюся скотину и много чего. При подходе к воротам Чистого Луга мы начинали петь победные индейские песни и нас встречал Перо с распахнутыми объятиями, приглашая к своему столу, ломившемуся от наших трофеев.
Именно Глешка мне в мельчайших подробностях рассказал фильм «На Тропе Войны». Когда он, изображая как патлатый Луис из фильма опрокидывает на бильярдный стол зарвавшегося рэднека я понимал, что он и есть этот Луис.
Перо его по-отечески любил, но ставку как на потенциального общинника Чистого Луга не делал, ибо Глешка каждую осень внезапно вспоминал, что дома в Рубцовске его ждёт добрая тёплая скво с выводком детишек. Он начинал тосковать и всегда уезжал в пункт своей постоянной дислокации. В очередную осень я с надеждой в голосе спрашивал его:
— Останешься, брат?
— Поеду… — задумчиво отвечал он.
— А как же Красная Тропа, все песни-то твои? — пытался укоризненно спровоцировать его я.
— Понимаешь, Волк, когда выпадает снег, он засыпает Красную Тропу и её плохо видно!
Эта фраза, как и многие другие, навсегда стали всеиндейским духовным достоянием.
Была в нём одна слабость, как в настоящем американском краснокожем.
Глешка пил, бухал, синячил, квасил. Не то чтобы постоянно (в резервации Чистый Луг был сухой закон), но редко отказывал себе, если подворачивался шанс. И совсем этого не стеснялся: а что, индейцы же пили, а я что — ляжка куриная?!
В этом наши с ним интересы расходились. Я не понимал сомнительного кайфа алкогольной интоксикации; мало того, был агрессивен, а в определённых дозах превращался в пассивный овощ с ватными руками и ногами и ситуацию не контролировал. А после контузии, употребляя огненную воду, мой мир сужался до триплекса танка «Т-72», через который я взирал на мутный мир и наносил превентивные удары по казавшимся мне враждебным целям и противникам. Иногда подбивали и мой танк, а посему пить я не особо любил — но пил.
Глешка работал всё лето на базе отдыха «Иволга», что стоит на живописном берегу Катуни между Усть-Семой и Верх-Баранголом. База принадлежала Бийскому химкомбинату и была для индейцев культовым сооружением. Кукуинские общинники — Перо, Рысёнок, Орёл и Чак — вложили в срубы базы свой титанический труд. Потом там работал Глешка, а после него всё досталось мне. В общем, базу мы называли «индейской» и дружили с Филимонычем, тогдашним директором. Однажды я даже видел там олимпийского чемпиона Карелина, которого привезли на вертолёте вместе с толпой бритоголовых крупномасштабных борцов вольного стиля, они тогда держали пол-Энска, а остальным городом довольствовались бойцы из клуба боевых искусств «Мангуст» и криминальные элементы.
Так вот, однажды заботливый Глешка договорился об устройстве меня на работу в «Иволгу» и утром мы должны были выдвинуться с Чистого Луга на смотрины к Филимонычу. Надо сказать, что местные зажиточные крестьяне и начальство ценили индейский труд. Считалось, что индейские гастарбайтеры не бухали, не воровали (чушь, конечно) и достойно управлялись с поставленными задачами. Утром, собирая свой рюкзак, я услышал, как в котомке Глешки что-то подозрительно звякнуло. Я в вопросительной надежде взглянул на него. Он, улыбаясь, утвердительно ответил глазами: «Да!»
Сердце взлетело к небесам, подобно орлу, впереди нас ждали великие приключения в парах огненной воды и это не могло не радовать! Я протянул страждущие руки к его котомке.
— Шниело! Каго! Не трожь! — праведно возмутился он. — На территории резервации не пьют!
Но, как только мы зашли за шлагбаум Чистого Луга, он резко остановился, запустил руку в мешок, достал бутылку плодово-ягодного вина и высосал половину. Протягивая её с остатком мне, торжественно сказал:
— Вот именно так индейцы и пили! — что было довольно-таки весомым аргументом для утреннего возлияния, ибо индейцев я всячески уважал.
Мы вышли из тайги в Камлак и стали на трассе ловить попутку. Солнце засветило ярче, птицы запели переливестей, неотразимо красиво зеркалился поток ретивой Семы, а в душе тепло потягивался, пока ещё ручной, зелёный змий.
Поворачиваю голову, а Глешка уже вторую располовинил и мне тянет. Негоже отказывать, когда брат даёт! Буль, и нет её.
Доехали до Усть-Семы, где на пересечении Шебалинского и Чойского направлений была культовая столовая, в которой не только можно было отведать алтайские национальные манты, но и купить выпивку. Сидя на высоких ступенях столовой мы вдруг осознали, что времени ещё дуром, и я купил ещё пару бутылок вина на оставшиеся деньги.
Выпили и их. Мир становился всё ярче, Глешка всё веселей, а я боялся шевелящегося в мозгу змеиного клубка. Пришли на базу и, попинав песок на берегу Катуни, вдруг одновременно осознали:
— Мало!
У меня имелся карманный калькулятор на солнечных батареях, который мне подарил улыбчивый профессор из японской научной делегации, когда они жили на Чистом Лугу и изучали флору и фауну Алтая. Именно этот подарок я и пытался теперь продать местным, но они глубокомысленно взирали на калькулятор, затем на меня и вопрошали:
— А на хера он нам?..
И они были правы. Денег в тайге водилось мало, в основном проводился товарообмен натурпродуктом. Ну, вы мне сена зарод, а я вам — две «беленьких» и четыре «красненьких».
И тут-то я обратил свой мутный (уже к тому времени) взор на колонну «КамАЗов» с казахами, стоявшую вдоль трассы. Тогда Назарбаев (новый президент уже не советского Казахстана) дал клич по всей Сибири и Алтаю, чтобы этнические казахи возвращались на родину и вместе строили новое светлое и прогрессивное будущее. И казахи откликнулись, стада скота погнали в Казахстан через Чуйскую долину, а сами, загрузив в выделенные «КамАЗы» юрты, женщин и нехитрый скарб, через Алтай двинулись на зов своего вождя.
Подхожу я к одной машине и говорю толстощёкому и бронзовокожему казаху:
— Тьяк шлар батор! Купи калькулятор! Батареек не надо, от Солнца заряжается, японский!
— На што он мэнэ? — хитро щурится казах.
— Дык, Назарбай вам теперь богатую жизнь устроит! Станешь баем сам, деньги пойдут, а считать их как?..
— Давай, однако, куплю, — одумался будущий бай.
Деньги сразу же были пущены на четыре бутылки.
Очнулся я у Глешки в утлой каморке, которую всем сторожам выделял щедрый Филимоныч. Бодун дикий, вкурить не могу: кто здесь и где я? Глешка недолго думает и всовывает мне в горло початую предпоследнюю бутылку. Пью через тошнотные позывы, легчает, вспоминаю начало светлого дня.
— Которая это?.. — осведомляюсь я у него.
— Седьмая! — отвечает мне гордо. — Одна на ночь осталась. Прикинь, этот день войдёт в индейские летописи как «День Восьми Бутылок»!
— Да уж… — рассеяно отвечаю я, ибо понимаю, что проспал свой танковый приход и сейчас нахожусь в ватной и тормозной стадии опьянения. Её я не любил, несмотря на мою закалку в десанте и уличных драках; в этой стадии я был беспомощен и жалок, как сопливый ути.
Мы перебазировались в сторожку к шлагбауму на въезде базы. Надо правду сказать, что дальнейшее я помнил урывками до самого интересного момента ночи. Вплывал в реальный мир, а потом зелёная Унчехила-змея, обвив меня, тянула на мутное дно сивушного бреда. За эту стадию я и не любил спиртное, а потом и вовсе от него отказался в пользу жаждующих.
Очнулся я от возмущения Глешки. Оказывается, на базе были гости и довольно таки уважаемые и авторитетные. Из самого Бийска приехала какая-то криминальная группировка и менты. Сейчас они гуляли на берегу в беседке и чинили свой бандитский передел города Бийска.
— Бледнолицые васичу! — возмущался угашенный Глешка. — Они что, озверели, что-ли?! Уже 11 часов ночи, а они музыку крутят!
По всей территории базы расставлены были плакаты с предупреждением сохранять тишину после 23.00. Но этот случай был особый, даже мой ватный мозг понимал это.
— Оставь их, — вяло возразил я.
— Я не стану спорить из-за одного столба дыма на моей священной земле! — распалился синий Глешка. — Застроим их!
И мы, допив последнюю, восьмую, бутылку, отправились к беседке, где мусорское начальство и бандитские паханы отмечали свой криминальный передел города. Я шёл как зомби за своим хозяином и мне было уже всё равно что будет — как Бубе из фильма «На Тропе Войны». А впереди, раздув руки, как у заправского качка и набычась, злобно пыхтел Глешка, вгоняя себя в боевой транс.
Пришли, стали напротив беседки, смотрим. Там сидят с одной стороны чахоточные урки, а по другую сторону — румянощёкие полнотелые мусора. Во главе стола по пояс голый пахан, вор, наверно. Было темно, но я увидел, что всё тело его от кончиков пальцев до лица покрывали воровские татуировки, короче, полный мундир был на нём. И звёзды, и купола, и перстня — всё по понятиям и положению.
— Алё, бля! — слышу голос Глешки. — А ну, гаси музон, так вашу растак!
Все, и менты, и урки разом ошеломлённо обернулись к нам. Через ватную слабость я почувствовал, как похолодело у меня внутри, когда нас резко окружили какие-то агрессивно настроенные крупные люди. Один майор-афганец признал во мне братскую афганскую душу, почуял это как-то, и пытался отправить нас восвояси, говоря, что всё решено с директором, что и нам взгрев будет, но Глешка был непреклонен!
— Я сказал, — закричал он, заглушая разумные доводы майора, — вырубай шарманку — и баста!
Тут этот вор расписной слово молвит:
— Эй, вы чё за бакланы такие? Сказано же, что всё порешали с начальством полюбовно!
Глешка медленно, как и положено достойному сыну рубцовского смотрящего, поворачивается на голос, смотрит прямо тому в глаза, и его длинные волосы ещё колыхаются, пока он говорит вору:
— А ты ваще пасть закрой! У тебя шкура не так расписана!
Мехец! Картина в моих глазах замирает, вор пытается вылезти из-за стола, шестёрки его придерживают, справа устремляются к нам менты, слева взбешенные урки. «Всё! — думаю я. — Сейчас нас будут бить, и, возможно, ногами (а я даже пальцем пошевелить не могу). Изобьют и в Катунь бросят, будем плыть до Бии, а потом наши распухшие трупы выловят где-то в Обском море.»
Промелькнуло всё это у меня в пьяном мозгу и мерзко повеяло смертью.
Спас нас майор, который ещё лейтенантом в Кандагаре духов гонял, не дал в обиду, не предал афганское братство. Мало того, отослал с нами своих огроменных быков и непочатую бутылку водки «Суворов» выделил. Быки посидели немного с нами, чтобы удостовериться, что мы водку выпили и успокоились, да и пошли шашлык жрать.
Наивные бледнолицые собаки! Разве могла бутылка водки остановить Глешку от дальнейших разборок?!
И мы пошли опять — рубцовский жиган и ростовский зомби, коим я уже воистину являлся. В темноте мы немного блуканули, потерявшись спьяну. Я споткнулся и пал ниц, прямо в лужу с грязью, даже не выставив руки для самостраховки. Просто упал, как подгрызенное бобрами дерево — плюх! Глешка стал меня подымать. Всё помню, слышу, но не могу пошевелить ни одной мышцей. Обидно, понимаешь! Вот он пытается закинуть моё обмякшее тело на плечи, но получается бросок через грудь, как у заправского кавказского борчука, не рассчитал и — плюх! Опять лицом, и в ту же лужу.
— Индейцы своих не бросают! — торжественно глаголет Глешка, берёт меня за ноги и волочит по дорожке в сторожку. При этом он поёт военные индейские песни, вдохновляющие его, а моя голова отбивает им такт об ухабы и рытвины тропы.
Утро, блин…
— Где я, и почему на мне серая майка? (грязь засохла, выкрасив майку в серый цвет) Что было-то?
— Ты, вот что, — говорит улыбающийся Глешка, — водочки выпей, попустит.
При слове «выпить» чувствую тошноту, но всё же беру протягиваемый заботливым другом стакан и в этот самый момент входит Филимоныч. Видя нас, застывает в дверях с немым вопросом на лице.
— Да всё ваштэ! — говорю я и понимаю, что мышцы лица как-то слабо двигаются. Смотрю в зеркало и вижу, что вчерашняя грязь засохла ровным слоем на лице и я похож на героя Шварценеггера из фильма «Хищник».
Вот так миф о «всегда трезвых индейцах» разбился, как «Титаник» об айсберг, но на работу всё же взяли. Филимоныч отвёз нас, ещё пьяных, на Чистый Луг в коляске своего мотоцикла.
Целый день Перо, молча глядя на нас, излучал волны негодования и презрения. Ну, а хрена там — никто не любит пьяного индейца!
Нет больше Глешки.
Покинул этот мир, застрял где-то посередине между христианским раем и индейской Страной Вечной Охоты. Там и поёт проникновенным голосом свои чарующие индейские песни, вспоминая былое и «День Восьми Бутылок».
Набег
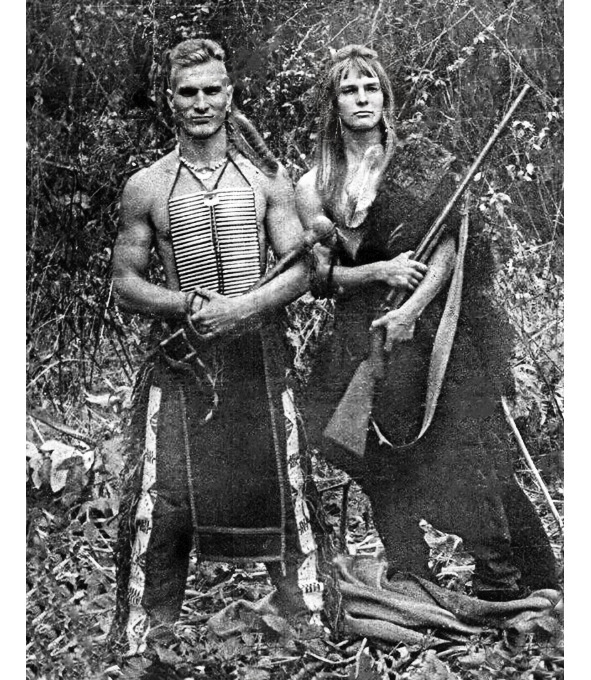
До того, как Глешка поведал мне свою культовую доктрину «О сути индейского воровства», я тоже чуть-чуть воровал, но всегда мучился от угрызений совести и стыда, корни которого уходили в счастливое детсадовское детство.
Однажды мать привела меня к калитке детсада «Золотая рыбка» и, подтолкнув в нужном направлении, ушла. Я послушно пришёл в садик и постучал в дверь. Здание, такое громкое от детских криков, в этот раз было зловеще молчаливо, ибо был праздничный день — 7 ноября. Поохав от такой неожиданности, дежурная воспитатель оставила меня в тишине игровой комнаты и ушла по делам. Все игрушки, такие желанные, когда их приходилось ждать или отнимать у других, казались уныло скучными теперь, когда я был единственным их обладателем.
Меня привлёк стол воспитателя, и в одном из выдвижных ящиков я обнаружил кучу не надутых разноцветных воздушных шаров. Это было настоящее сокровище, желанное, перед которым не устоял бы ни один ребятёнок. Непреодолимое искушение, прям как повидло для Мальчиша-Плохиша. И я не устоял, стырил один, потом ещё один и ещё, пока не набил ими карманы своих шорт. Однако не хватило выдержки дождаться вечера и я стал надувать шарик, за этим занятием и был застигнут врасплох.
Беседа с воспитателем была ужасна. Применяя все тонкости педагогики Макаренко, воспитатель быстро вывела меня на чистую воду, как я не пытался юлить и наивно отмазываться. Нет, она меня не ругала, но её проницательно-презрительный взгляд выжег тогда в моей маленькой душонке позорное клеймо мерзкого вора.
Доктрина же Глешки залечила эту детскую психическую рану, как мумиё — порез на пальце, даже шрама не оставила.
Он с вдохновляющей уверенностью утверждал, что мир белых (система) украл не только нашу свободу, историю, жизнь, но также посягнул на наше сознание и мечты. А посему обязан нам по гроб жизни всем тем, чем был в изобилии богат. Воровать у системы было подобно восстановлению справедливого баланса и считалось подвигом, как у индейцев.
А уж индейцы — это святое! Именно этого мне и не хватало по жизни, и я давай совершать подвиги налево и направо, доказывая себе и всем, что я настоящий краснокожий.
С Глешкой мы совершали рейды на огороды местных в Баранголе, беря в плен картошку и тыквы. Всегда изымали достаточное количество, не жадничали.
Когда Перо был в состоянии войны с Вэшей, мы, руководствуясь доктриной, обелили свою совесть тем фактом, что между сиу и оджибве всегда была вражда, и, стало быть, выкапывать ночью картошку у него в огороде — это самый что ни на есть подвиг. Раскрасив чёрным свои лица, мы пробрались в его участок на Центральной улице и при тусклом свете луны ковырялись в земле, ища заветные клубни. Оказалось, что тогда у Вэши гостили все враждебные нам элементы, и как раз парились в бане. Вот из неё они неожиданно для нас и выскочили, паря разгорячёнными телами в прохладе алтайской ночи. Пришлось прибегнуть к проверенной воинской магии и притвориться увядшей ботвой. Надо отметить, что адреналин зашкаливал в тот момент и ощущение было очень даже ничего.
Когда закончилась моя временная прописка, то Филимоныч вежливо попросил меня покинуть рабочее место на базе «Иволга». Стояла ранняя холодная и голодная весна, денег не было даже на хлеб. Тогда я предложил Перу совершить героический набег на другую половину дома Чистого Луга, где за стеной находился склад с материалами, который он же и охранял. И мы ночью, дрожа от непривычного возбуждения, отогнули гвозди рамы, и Перо залез внутрь. Там он набрал гвоздей, отмотал полиэтиленовой плёнки, отлил олифы, и много ещё чего, а утром, чуть свет, я партизанской тропой ушёл с трофеями к Филимонычу в Усть-Сему. Обменял всё это на картошку, сало, лук, сахар, табак и, ликуя, вернулся на базу. Это был прям индейский подвиг: спас голодающее стойбище, как Сат-Ок в своё время — настоящее «Ку»!
На второе лето мы плотно сдружились с легендарным могиканским воином Стрелой (Карора). Он не был знаком с Глешкиной доктриной, но тоже считал воровство вполне достойным индейским промыслом.
По весне, когда Сема разливалась от тающих снегов Семинского перевала, на ней проводились ежегодные спортивные сплавы на байдарках и катамаранах. Съезжались туда сборные со всей Сибири и никакие жертвы, периодически всплывающие утопленниками в низовьях Катуни, не могли нарушить ежегодной традиции. Лагерь сплавщиков находился возле поворота дороги в Усть-Сему, на большой поляне рядом с Шишкуларом.
Скука — это самое страшное, что может произойти с индейцем в мирном лагере. Скука и размеренный сельский быт. Поэтому, чувствуя все тревожные симптомы её приближения, мы с Каророй решили в виде превентивных мер совершить набег на лагерь счастливых сплавщиков, дабы расшакалить отягощающие их излишки вещей и припасов, мешающих ощутить всю полноту сурового отдыха в алтайской тайге. Выбрали время, чтобы при луне успеть дойти по контрабандной тропе к их лагерю, а в наступившей тьме пробраться в их палатки.
Стыда я тогда уже не испытывал, даже наоборот, был вдохновлён надвигающимся приключениями. Но ссыкотно всё же было: а что, если жилистые спортсмены-сплавщики нас застукают? Можно испытать на себе нестерпимую боль от ударов обоюдолопастных байдарочный вёсел или даже лишиться жиденького хайерка, коим я уже обзавёлся к первому году алтайской жизни. Однако присутствие рядом знаменитого безбашенного могиканина заставило избавиться от таких дум, и я всю дорогу всячески пыжился и бодрился, вводя себя в боевой индейский раж.
…Когда мы под покровом темноты подошли к лагерю, то спрятали свои волосы под кепки, чтобы не выдать себя перед сплавщиками. Вопреки нашему ожиданию лагерь ещё не спал. Где-то кто-то выпивал (что было, опять же, опасно для нашего здоровья в возможной драке), бренчали ненастроенные гитары и слышалась там и сям различная возня.
Помолившись духам, мы по одному проникли внутрь территории и стали шнырять по палаткам. Карора был меньше, юркая внутрь и оттуда передавая всё, на что натыкались руки в темноте. Я складывал строфеенные предметы в рюкзак, стараясь не звякать мисками и кружками, которые попадались чаще всего.
Под конец нашего отважного рейда Карора так вдохновился, что решил залезть в крайнюю палатку. Оттуда он тут же, похихикивая, задом вылез обратно.
— Я чуть было не обломал влюблённой паре их очень романтический момент! — весело шепнул он.
Да, на байдарках сплавлялись и смелые девушки, чем покоряли стальные сердца сплавщиков-мужчин. Нам повезло, что страсть этой пары была всепоглощающей и нас не застукали…
Так, с полным рюкзаком посуды, одеял и съестного мы, торжествуя, отправились в обратный путь.
Он оказался не из лёгких. Одно дело шариться по тайге при луне, другое дело — пробираться в кромешной тьме. Идёшь вроде как по дороге, а потом бах — и ветка в глаз! Так со мной и случилось. Тогда от такой неожиданной ветки у меня аж искры из глаз посыпались, осветив на мгновение местность и предательски демаскируя наше тайное отступление. Я даже подумал, что они могут воспламенить старую сухую хвою и запалить тайгу, истосковавшуюся по дождю.
Остальной путь я, как безумный, шарил впереди себя руками, опасаясь других веток, а самые сложные участки пути мы подсвечивали себе спичками.
Когда мы подошли к Чистому Лугу, то заголосили победные индейские кличи, возвещая Пера о своём торжественном возвращении. На столе в сенках мы разложили всё трофейное добро и долго слушали поощрительные хвалебные речи вождя.
И ни стыда тебе, ни угрызений совести…
Спасибо тебе, о Хокши Глешка!

Машка
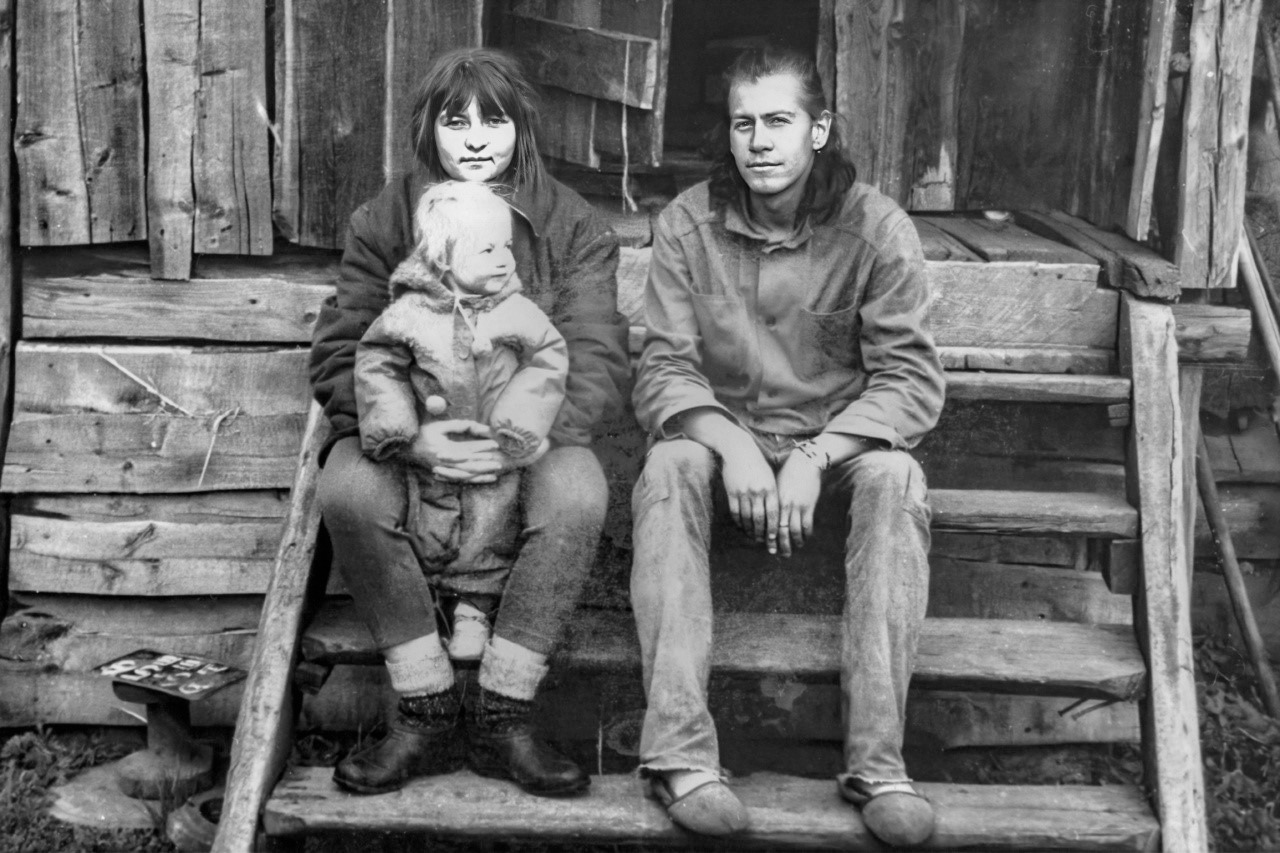
В июне 1992 года я пребывал в урочище Чистый Луг, что возле села Камлак в Горном Алтае.
Именно туда мы переехали с Пером из Кукуи, по официальной версии — для возрождения общинного движения. Макаса же отправили в Кукую, дабы он помогал Верке в её нелёгком сельском быте. Тогда его ещё просто Вовкой звали, это Вэша дал ему такое имя, когда он заснул возле костра и спалил в очередной раз подошвы своей обуви:
— Рваный Мокасин, однако, будешь.
Ну, что же, как каноэ назовёшь — так оно и поплывёт!
Макас имел много разных талантов.
Он мог спать в абсолютно неподходящем месте и в невероятной позе, при этом пуская длинную вязкую слюну из уголка рта.
Мог в самый разгар философской беседы у костра задать неуместный и тупой вопрос на совершенно другую тему, отчего беседа сразу стопорилась и затухала.
При физической работе он кряхтел, стонал и охал как столетний дед.
Ещё он мог зычно и задорно пукнуть в самый серьёзный момент.
Естественно, Верка так и не дождалась от него никакой помощи. Он целыми днями тусовался с Чаком, проколол ухо, и всячески индействовал, потряхивая отрастающими хайрами.
Мы в Камлаке готовились к летнему Солнцестоянию. Приехали гости из Новосибирска: Коля Хотанкайя, Аня, Марина, Вова Игнатьев, Юра Одинокий Человек и Глешка из Рубцовска. Перо собирался проводить обряд инипи-потельни, которому его в прошлом году обучил проезжий индеец-черноногий из Монтаны, Ричард Скай Хок.
Глешка отправился в Верх-Кукую, чтобы попытаться раздобыть мяса к праздничному пиру.
Вот 20 июня они вместе с Макасом объявились на Чистом Лугу. Макас шёл довольной припрыжкой, излучая неимоверную гордость, Глешка шёл сзади и мрачно покачивал головой. Подойдя к Перу, Макас положил увесистый свёрток и сказал, что он теперь охотник и обеспечил праздник мясом. Глешка злобно хмыкнул в стороне.
— Что случилось? — интересуемся мы.
И тут Глешка нам рассказал подробности ночной охоты на яманов (козлов свободного выпаса):
— В общем, собрался я на охоту, а Вовка за мной увязался. Идём мы по горной тропе, добычу высматриваем, видим: яманы лежат, жвачку жуют. Тут Вовка влезает на скалу, что над ними, и оттуда огромным камнем как шарахнет! Одного, вижу, подбил. Тихо шепчу, что надо добить. Ну, Макас хватает его за рога и голову сворачивает. Готов! И тут он встаёт на край скалы и орёт во всё горло над спящей деревней: «Я — ОХОТНИК! О-ХОТ-НИК!» — и фикса зловеще блестела в его рту при лунном свете. Я аж обомлел, и говорю: «Ты чё, дурак, орёшь, сейчас местные алтайцы прибегут и тебе за козу голову открутят!» Оказывается, тот подумал, что подбил дикого козла, а они все местным принадлежали. Ну, думаю, линять надо, пока поножовщина не началась!
Перо равнодушно хмыкнул (у него не раз скот местные воровали) — добыча есть добыча, и мясо нашей маленькой общине не помешает!
Целый день Макас мездрил шкуру, довольно кряхтя, очищая от её остатков сухожилий, мяса и жира. А затем торжественно распял гвоздями на стене веранды. Все поглаживали мягкий мех и хвалили Макаса, а он упивался честно завоёванной славой удачливого охотника.
После обряда Инипи, где с паром вышли наши телесные и духовные хвори, мы плавно переместились к костру и торжественно принялись поедать мясо. Один за другим уставшие городские люди, наевшись до отвала, шли спать, и только мы с Пером и Глешкой сидели у костра, надеясь встретить Солнце. Когда рассвело, я обнаружил, что наполнен до предела. Имапиело!
Откинув в сторону кость, попробовал отойти ко сну, но что-то было не так. Мясо козы лежало в животе тяжеленным камнем и мне снилось, что я до сих пор обгладываю кость.
Утром приехала Верка из Кукуи, Перо встречал её на веранде где все уже пили чай.
Поговорив о том, о сём, Верка вдруг увидела шкуру, распятую на стене:
— Перо, а что это Машка тут делает?..
— Какая Машка?! — удивился Перо и сытая довольная улыбка сползла с его лица.
— Да Машка, коза наша, — говорит Верка, — то-то я её не видела!
Все, как один, вопрошающе уставились на Макаса. Ещё вчера он носил лавры добытчика и победителя, а сегодня оказалась, что он накормил народ и Пера его же собственной козой!
Видя, как желваки заходили от злости на лице у вождя, Макас засуетился, вспомнив о недоделанных делах и прошмыгнул в дверь, оставляя за собой шлейф удушливого шептуна.
В ту ночь я спал ещё хуже. Бок давила рогами непереваренная Машка и в урчании живота мне явственно слышалось её жалобное блеяние:
— За что-о-о?!..

Небесный Ястреб

В 1992 году в республике Горный Алтай случилось сбыться моей невинной детской мечте и встретиться с настоящим американским индейцем. Как заболел в десять лет индейским вирусом, так и жил, хронически трясясь лихорадкой при упоминании где-либо магнетического слова «индеец».
Так сложилось, что в 1992 году я приехал в общину «Блю Рок» в республику Горный Алтай. Общины уже не было, но в Верх-Кукуе ещё жили бывшие общинники: Гордый Орёл, Чак Поднимающий Мустанга, Орлиное Перо, Серая Сова, Сергей Верхошапка, Ольга Собака и Витя Голубая Скала. Наездами обитали также Нона Одинокая Птица, донецкие могикане и Хокши Глешка с Рубцовска. И мы тоже плавно влились в индейскую тусу — Мокасин и я. Так я стал на шаг ближе к наивной детской мечте о дикой жизни среди настоящих индейцев.
А осенью того же года к нам в Камлак забежал целый Пробег во главе с шаманом Ричардом Скай Хоком. Он был огромного роста, коричневый как индус, с пухлыми губами и с косой из чёрных курчавых волос, толщиною в конский хвост. Тело его было бочкообразным; видать, его предки из черноногих и уматилла были знатными бегунами. Шея была не особо видна и казалось, что голова прям из туловища растёт.
Скай Хок жил в штате Монтана и прошёл обычный путь американского краснокожего. Служил в морской пехоте, играл в НБА, много пил огненной воды, бузил по-пьяни и за это сидел в тюрьме. Вот именно в тюрьме к нему пришло откровение и духи предков позвали его. Выйдя на волю, он уехал в родовую резервацию на границе Монтаны, где старики обучили его знахарским премудростям и связали его дух с древом рода. После этого Скай Хок нёс мистическую миссию во спасение Человека и Мира.
Прошлый год он уже заезжал к алтайским индейцам, курил священную трубку из красного камня и глубокомысленно покачивал головой, отвечая на вопросы общинников. Он провёл обряд Потельни, которая очистила души и сердца многих обиженных бывших братьев. Этот обряд плотно вошёл после него в алтайскую жизнь.
Вместе со Скай Хоком в этот раз приехал целый караван индеанистов и просто неравнодушных людей. Из Германии, Бельгии, Эстонии, Москвы, Питера, Пензы, Новосибирска и Бердска, поэтому подойти к шаману близко практически не было возможности. Вокруг него всегда был спасательный круг из переводчиков, операторов, почитателей и лидеров Пробега.
Ну, я особо и не лез. Человек я в тусе был новый и малозаметный, не чета маститым индеанистским вождям, и посему соблюдал тактичную субординацию. Курил его трубку вместе со всеми в большом кругу, периодически выпадая из реальности этого мира, наверное, от переизбытка нахлынувших чувств и остроты момента.
Скай Хок планировал добежать до Тибета, связав тем самым мистический обруч мира своим магическим Пробегом. Но пограничники Монголии повернули вспять пухлогубого шамана и его огромную разномастную свиту. У потомков Чингисхана был свой взгляд на магию, что тут скажешь?
И тут совершился некий казус, который позволил мне войти в личный контакт с индейским кудесником. Вышло так, что олдовые советские индеанисты попросили его бежать и ночью.
— Гуд! — качнул утвердительно головой Ричард. — Гоу!
— Только мы, — пояснили основатели индейского движения в СССР, — хотим бежать исключительно своим, узким кругом. Ну, типа, только посвящённые.
Скай Хок удивлённо заблымкал карими очами.
— Моя твоя не понимай! — гутарит удивленно он. — Земля один, Мир одна, Бег для всех! Бегут все! Хау, я всё сказал.
Ну, или как-то так было. Вышел разлад в стройных рядах спасителей Человечества и Мира. Индеанисты дуются на Скай Хока в одной комнате, он с подругой Мелиндой в другой, чернее тучи, чернее Чёрного Котла при резне у Сэнд Крик.
Мы с Веркой и Юрой Ишналой решили как-то поддержать чужеземцев, которых так негостеприимно бросили на чужбине. Ишналыч шпрэхал трохи на английском наречии.
Сидит набыченный Скай Хок за столом, Верка ему супца подливает, а он цыбулю держит, отведать пытается.
— Смотри, — говорит, заикаясь, Ишнала, — картина: «Индеец с луком»!
И мы дружно ржём. Скай Хок поднимает на нас насупленный взгляд и потихоньку так складки и морщины на его лбу разглаживаются. Глядя на нас, он сверкает ослепительной белозубой улыбкой. Посмеялись, поболтали с ним, через Ишналу, о том и о сём. Имена спросил наши индейские, и с моего нагло поприкалывался.
— Ах ты, краснокожая морда! — разозлился было я. — Какого хрена скалишься! Я тебе не подхалим какой-то, могу чё не то сробить! Впоследствии оказалось, что Юрик перепутал немецкий с английским и получилось так, что моё имя Mad Wolf он на немецкий манер произнёс, и оно прозвучало как «Безумная Вульва». Но тут оживший заново шаман и знахарь племени черноногих вдруг говорит вдохновенно:
— А не хотите ли вы, полубелые братья, пройти обряд сатаринный индейский? Дабы магией целебной преисполниться и сердца свои чёрствые и души циничные очистить?
— А давай! — отвечаем дружно-испуганно мы под его пристальным ястребиным взором.
И ночью мы прыгаем в их автобус-дом «Мерседес» и катим сквозь тьму и лихие ненастья в самое логово алтайского индеанизма, дикую и промозглую Кукую. На сон глядя магистр церемонии наказывает нам строго-настрого не кушать с утра, ибо магия не любит полных животов. Ложимся в блокгаузе, стены которого расписаны незатейливыми пиктографами украинских могикан, ныне отсутствующих. Поутру, едва успев справить малую нужду и уложить хайра в сиукский пробор, мы видим громадную половину Скай Хока. Так как блокгауз был небольшой, он только частично в него проник верхней частью туловища и сказал:
— Гоу маунтин! — Многозначительно так и таинственно сказал.
Ну, мы и пошли. С утра до обеда мы с Ишналычем таскали камни от подножья горы на её верхушку и дрова из соседнего леска. Всего этого и так было навалом, ещё с прошлогоднего инипи на месте лежало, но мастер сказал:
— Так не гоже! Чтобы Силу получить надо и вложить немало силушки.
Ну, мы и пахали с Ишналой вдвоём, под чутким руководством индейского наставника, который объяснял, что к чему и как будет правильно обряд сей магический сварганить.
Когда мы всё сделали и утирали пот, трясущимися от напряжения руками, начали подтягиваться полусонные индеанисты со всех краёв и весей нашей страны. Пора уже пришла очищение положенное им получать и наполняться всяческой магией.
Набилось в потельню человек пятнадцать, в два ряда сидели. Всяк хотел к целебной силе индейской прикоснуться. Чувствовал мандраж от церемонии и клаустофобный панический страх. Помню, затянул Скай Хок унылую ритуальную песню:
— Хо пита вамбли…
И сознание моё затуманилось вместе с паром от воды, плескавшейся на раскалённые, светящиеся во мраке, камни. Помню, ухо прокалывал он Блэкфуту из Бердска, прям там, в потельне — потому что тому сон был такой.
Потом Скай Хок дал нам пожевать что-то, похожее на чернослив, может, яство какое черноножское, а может, пейот, — только остальные раунды церемонии мой дух витал где-то очень далеко от тела. Времени не стало, как и жара, и пространства, и всех остальных.
Очнулся я, лишь выйдя в промозглую кукуинскую ночь. Впечатлений эмоциональных была уйма, как и достойной информации к размышлению. В общем, ощутил я необычайную светлость рассудка и чудодейственную индейскую магию в полной мере — спасибо, мастер.
Побыв ещё один день в Кукуе, Скай Хок укатил прочь в своём автобусе, стянутом швелерами по корпусу русскими умельцами, дабы не развалился по дороге надвое, ибо не был предназначен к разухабистым сибирским дорогам и дал трещину.
Небесный Ястреб уехал нести другим людям древние мистические знания американских индейцев, а его магия навсегда осталась в моем сердце, своей вечной связью между Землёй и Небом, растениями и животными, и старыми единомышленниками.
Митакуе Оясин.

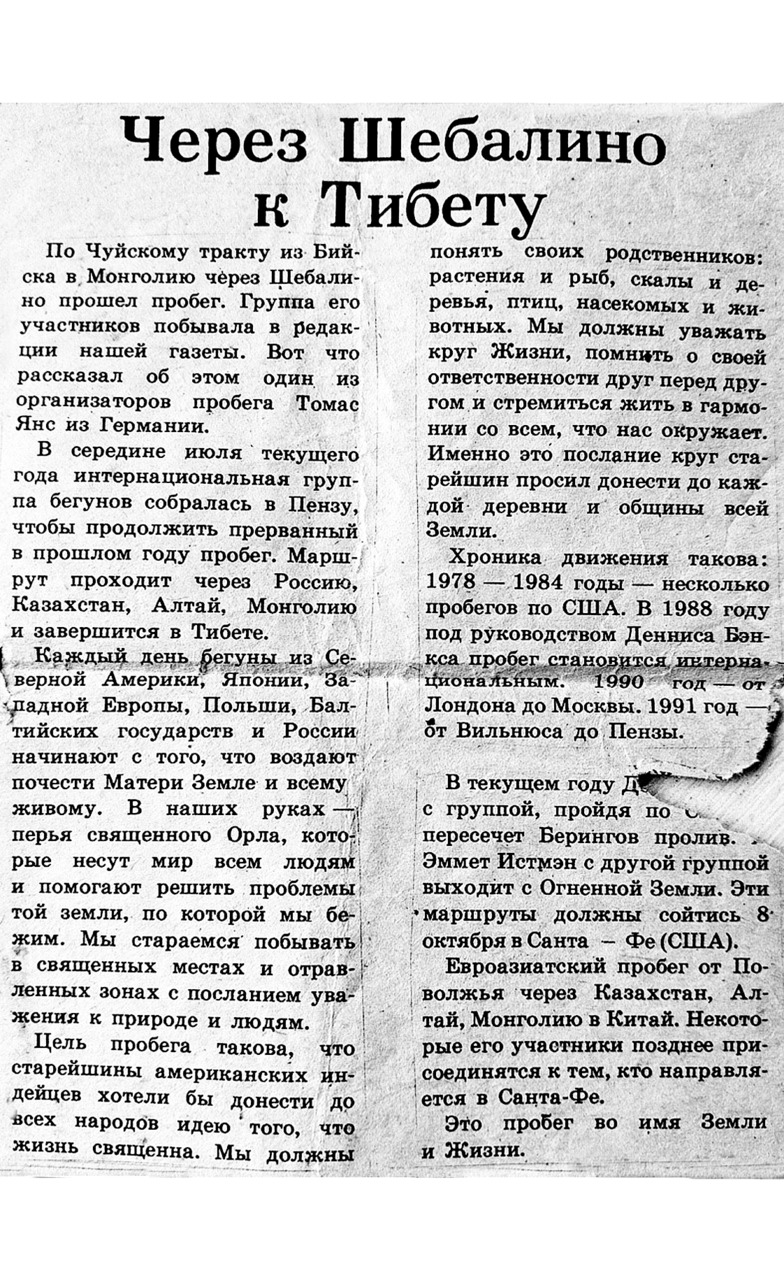
Чёрная стрела
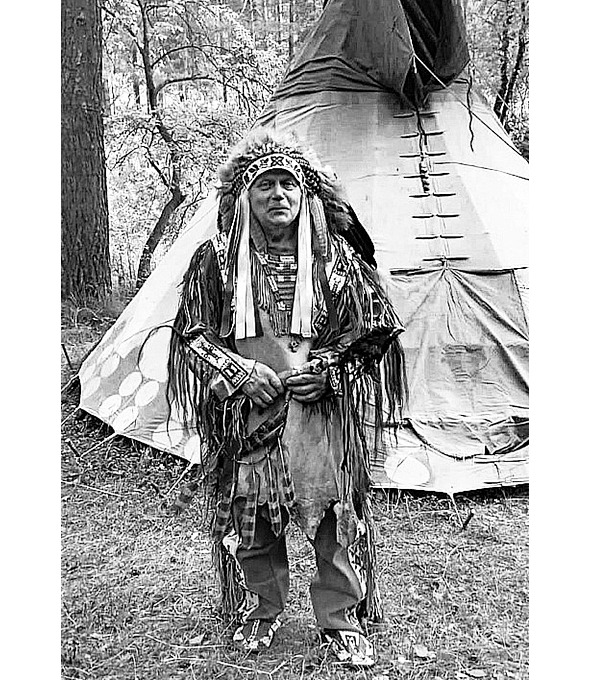
Опыт житейский отмечает занятную метаморфозу и устойчивый парадокс: злая магия получается быстрее и лучше, чем добрая. Может, суть людская всё же во зле растворена, может, ветвь Каина не затухла, а наоборот — размножилась. Так или иначе, но всякие там порчи, зависть, обида, приворот, сглаз и злоба в магии рулят — в отличии от более человечных желаний.
Всё началось с книг про Средние века — ух, и лютое времечко было! Разврат, мор, чума, стяжательство, инквизиция, бессменная династия Валуа и их блюдолизов, крестовые походы, тамплиеры, ведьмы, оборотни, колдуны и костры, на которых их всех сжигали. «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера и «Проклятые короли» Морриса Дрюона — ну, вот кто такие книги подсовывает советскому пионеру?.. Что можно там вычитать, окромя исторических фактов и эротических сцен? Конечно же, азы чёрной магии и оккультизма!
В классе шестом-восьмом была у нас такая училка в школе, по фамилии Тарадайко — невысокая, кругленькая, с выпученными от базедовой хвори глазами. Дюже поганого и пакостного характеру была. Поймает на перемене зазевавшегося школьника и заставляет на доске примеры писать, вместо положенной уставом школы безудержной беготни по рекреации. Все её называли «Мганга», как мрачного африканского колдуна из фильма «Пятнадцатилетний капитан». Кто первый увидит её в коридоре, так сразу и орёт на всю школу:
— Идёт ужасный Мганга!
И все терятся кто куда. В сортир, в другой класс — лишь бы с глаз долой. Тарадайка эта была ещё и «классухой» у моего индейского друга детства Лютика. Как-то он мне рассказал, что она его поймала, заставила писать на доске примеры вместо перемены и всячески унижала перед классом.
Срочно надо было отомстить за индейского брата по крови. Как вычитал в книжке, так и сделал: вылепил из воска куклу, вместо сердца бумажка с именем и давай её иголкой тыкать, всю обиду туда вымещать.
Недели через две приходит Лютик и говорит довольно:
— У нас теперь лафа в классе, Тарадайка заболела, мы теперь без классухи!
— А что с ней? — интересуюсь.
— Да, на уроке она внезапно голос потеряла, сказать ничё не могла, только глазами лупала.
Оказалось, что врачи не смогли найти причину пропажи голоса, списали всё на нервы и дали два месяца отпуска. А вот я струхнул не на шутку: всё ведь из-за куклы этой восковой и чёрной магии, проклятый Моррис Дрюон!
Прошло много лет, я приехал с Орлиным Пером из Верх-Кукуи в Камлак, строить новую индейскую общину. Тогда он был на смурняках, в депрессухе жёсткой из-за развала индейской общины «Голубая Скала», детища всей его жизни. Он отрезал общение с бывшими общинниками и строго наказал им не появляться на Чистом Лугу, где мы тогда плотно забазировались.
Но Вэша дружил со всеми, и как-то на Чистый Луг привёл Чака Поднимающего Мустанга — табуированного вождём бывшего общинника. За это Перо подстерёг его на таёжной тропе и ударил по оджибвейскому лицу.
Вэша совсем не испугался, он искренне не понимал, за что сие возмездие — короче, по мнению Пера, не сделал должных выводов.
И тогда Перо затаил на него лютую злобу, в неё влилась и обида на общинников, и злость за крах идеи общины, и проблемы со здоровьем и приближающаяся старость. Он скрежетал в праведном негодовании оставшимися зубами, мечтая люто отомстить врагу, и вот дёрнул же меня чёрт за язык рассказать ему ту историю про Тарадайку.
Прихожу как-то с Усть-Семы после суток на базе «Иволга» на Чистый Луг, а Перо отжимается весь вечер от пола.
«Похвально, — думаю я, — всё же лучше, чем злость генерировать.»
— Тысячу раз отжался! — говорит Перо — Зарядил!
— Шо?! — не понял я сказанного.
Перо разжимает ладонь, а в ней стрела чёрная лежит. Оказалось, это он с ней отжимался тысячу раз, передавая в стрелу всю свою злость.
И уболтал меня своим авторитетом именитого вождя эту стрелу Вэше подкинуть в дом! Тот тогда ещё на Центральной улице Камлака жил, в доме Ревенко, ушлого бизнесмена с двумя сыновьями и мамой.
Я и подкинул — в щель меж полами… Повёлся! — авторитет Пера тогда много для меня значил.
Прошла пара месяцев — и тут началось!
Вэша подвязался с красноярской фирмой «Золотая долина» скупать лекарственные травы и корни у населения, аванс взял на закупку.
Вот тут-то чёрная стрела и пронзила начинавшийся бизнес насквозь….
Попёрла чернуха: долги, рэкетиры, пьяные местные — короче, каша заварилась невиданная. Вэша выкручивался как мог, спасая своё здоровье и свою семью от угроз, тумаков и ножей. Перо получил свою сатисфакцию, а я не находил покоя от угрызений совести:
— Какого хрена подбросил ему эту стрелу?!
И вот, когда Вэша уже совсем отчаялся разрулить ситуацию, я пришёл к нему с повинной. Он, конечно, не поверил, что дело в стреле, но всё же я её нашёл под полом и вынес из дому, красный от стыда за содеянное. Унёс далеко по дороге к пасеке, повернулся и забросил за спину в кусты двухметровой конопли на тырле у коровника, с мысленными пожеланиями всё исправить, и ушёл, не оборачиваясь.
Как только Луна стала спадать, так с ней и чёрная магия улетучилась.
Вэша, наконец, кое-как разрулил опасную ситуацию — без всяких тяжёлых последствий.
Перо был искренне возмущён моим поступком.
— Ну, не по-пацански это! — говорил я ему. — Нельзя так человеку жизнь портить и семье угрожать, просто из-за нелепой обиды. Ну, морду набить — это ещё по-мужски, а такое…
Тогда я осознал, что чёрная магия — это скорее слабость и подлость.
Если нет сил побороть в себе обиду и злость, или нет смелости всё в глаза сказать, разъяснить по понятиям, тогда приходит время всяких иголочек, куколок, могильной земли и чёрных стрел.
Много было в моей жизни глупостей, но эта — одна из самых постыдных.
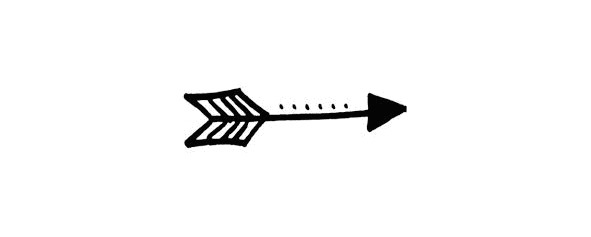
Топор войны
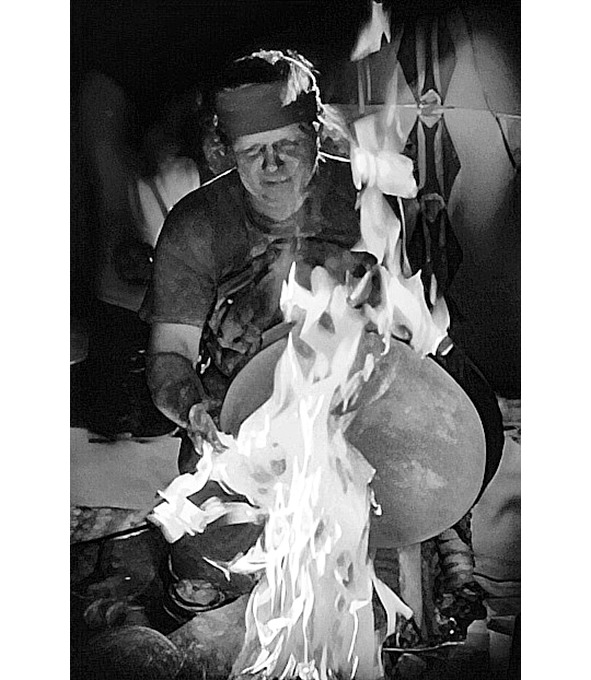
Войны начинаются по разным поводам.
Кто-то скорлупу яиц с тупого конца разбивает и считает это правильным, кто-то с острого и тоже уверен в своей правоте. Схлестнулись в споре, поругались, защищая каждый своё эго, да и затаили злобную вражду. Ацтеки так вообще вели «цветочные войны», договорные сражения каждые двадцать дней, им не нужна была земля и территории, а лишь пленники и жертвы богам.
В целом, любые войны начинались из-за амбиций тех или иных лидеров или народов и всегда были бессмысленны по своей глубинной сути.
Не избежали тропы войны и алтайские индейцы, самой настоящей междоусобицы, и поводом были, конечно же, амбиции Пера.
При переезде в Камлак бывшим общинникам было поставлено условие, что никого из них там не будет. Типа, это будет новое объединение людей, правила которого уже снова писались Пером.
Я тогда находился в некой эйфории от гор, тайги, индеанистов, но всё равно должен был выбрать какую-то из сторон. Ответил на мои письма именно Перо, пригласил меня тоже он, и так как я не имел общения с другими общинниками, то, особо не раздумывая, встал на его сторону.
Авторитет вождя был для меня высок, и незаметно я попал под воздействие его хитроумных манипуляций для достижения какой-то призрачной личной выгоды. Но тогда я был ослеплён его авторитетом и попросту не заметил этого сразу, хотя нестыковки с моими собственными правилами и понятиями были.
Так случилось, что однажды Перо подстерёг Вэшу (работающего тогда заместителем директора ботсада) на пути в Чистый луг и ударил в челюсть, якобы за то, что тот стал таскать в Камлак старых общинников, и приказал вообще свалить с Алтая — на что Вэша ответил категорическим отказом.
Неудача силовых воздействий огорчила Пера. Надо признать, что он не был драчуном и насилие это было просто порождением какой-то ревности или ущемлённого эго.
Он подбил меня на военный рейд, ловко вставляя в свои доводы индейскую доктрину воровства и войны, созданную и применяемую Глешкой. А уж того-то я обожал, как краснокожего брата и боевого товарища.
В общем, мы должны были спустить по реке Семе брёвна сруба, который купил Вэша и собирался строиться, чтобы плотно здесь осесть. Вся эта чепуха казалась мне детской игрой, но я незаметно для себя стал в неё играть.
Вечером мы прокрались на поляну (на которой и поныне стоит ранчо Серой Совы) и стали таскать тяжеленные, размеченные цифрами и буквами бревна сруба, и бросать их в речку. По задумке быстрое течение должно было их унести в Катунь. В целом это было не так уж бесполезно — с точки зрения бескровных боевых действий, словно тактика диверсионных подразделений в тылу противника. С другой стороны, я не испытывал к Вэше никаких враждебных чувств (кроме внушённых Пером), понимая, что поступок этот можно расценивать как низменную подлянку.
На следующее утро, окунаясь в роднике, я заметил, что пара-тройка брёвен застряла на отмели возле поворота, под утёсом, и сказал об этом Перу. Мы пошли на реку и стали сталкивать эти бревна в воду.
Когда я посмотрел на утёс, то неожиданно увидел там Вэшу и Мокасина, которые враждебно за нами наблюдали.
Упс!
После этих событий отношения резко обострились и обе стороны затаились, коварно обдумывая следующий ход.
К Вэше подтянулись из Кукуи Витя Скала и Собака, и их стало вдвое больше.
Вэше надо было уехать по делам ботсада в Новосибирск. Он решил предостеречь молодых горячих воинов (Мокасина) от необдуманных поступков и собрал Совет на площадке перед пещерой, что была на скале, возвышавшейся на Камлаком. Там горячий хлопчик Мокасин, истово стуча колотушкой в барабан общины «Блю Рок», вводил себя в боевой транс, обещая спуститься и урэкать нас с Пером. Вэша же просил всех дождаться его приезда из командировки.
Как молодые, ищущие воинского авторитета сиу не слушали мудрого Красного Облака, так и Мокасин не внял советам старшего товарища-миротворца.
На следующий день он, работая на рубке зверобоя, вёл себя по-скотски, излучая неприкрытую ненависть, чем спровоцировал меня, и я пригласил его на разговор в ближайший овражек за территорией.
Мне были совершенно не ясны мотивы его злости и поведения, ведь мы приехали вдвоём с Ростова и знали друг друга дольше, чем всех остальных. Что его так перекроило, чем так жёстко оболванило — было мне совершенно не понятно.
Когда мы спускались в овражек, Макас неожиданно напал на меня со спины, нанося удары топором, которым мельчил зверобой. Я успел подставить под топор предплечье и защитить голову.
— Я буду убивать! — орал Мокасин, дико вращая безумными глазами и плюясь пеной берсерка. — Убивать!
Тот я — не нынешний я, конечно же. Тогда я отвечал за свои слова и обещания, ценил дружбу и верил в людей, вечное, доброе, светлое.
В тот момент я, конечно же, растерялся от внезапного нападения парня, с которым мечтал об индейской жизни в Ростове, и с которым вместе приехал в общину на Алтай.
Перед отъездом его мать отвела меня в сторону и попросила меня поклясться, что я буду присматривать за ним, всячески беречь и охранять, потому что он ещё несовершеннолетний — и я, блин, поклялся! Так я оказался между словом пацана, данным матери, и собственной честью.
Честь пришлось засунуть куда поглубже и Макас, считая себя победителем, рассказывал впоследствии всем, что Волк — не такой уж и волк.
Поздней осенью Перо опять натравил меня на Вэшу, который занимался сушкой корней в бане Чистого Луга.
Когда Вэша отказался от ультимативного условия уехать с Алтая, я вызвал его на дуэль.
Мы отошли немного вверх по тропе, ведущей к утёсу, и остановились…
В целом я ощущал, что не испытываю к этому трудолюбивому жизнерадостному человеку никакой ненависти, а то чувство, толкнувшее на дуэль, было внушено мне довлеющим авторитетом искусного манипулятора Пера. Мне даже было интересно, как такой миролюбивый человек, не особо крупных размеров, может так мощно противостоять страху, который мы с Пером вокруг него нагнетали. Мне не хотелось быть чьей-то торпедой, которой сказали «фас», а злость внутри была искусственно взращена мной.
…Вэша сказал, что готов биться, но не здесь, а на нашем утёсе, и если я выиграю, то должен сбросить его с утёса — типа, несчастный случай.
Такой ответ благородного воина ни в одной индейской книжке не прочтёшь!
Это было очень смело и чертовски круто! Уважение — вот какое чувство, наверное, я ощутил тогда к сильному духу этого невысокого человека, идущего к своей Мечте.
И там, у подножья нашего утёса, мы заключили мир, который длится и поныне (благодарю Вэшу за мои открытые глаза разума) и раскурили Трубку Мира. Вернее, я сбегал в магазин Камлака и купил две бутылки красного, попивая которое мы поговорили по душам, и мне открылась другая сторона проблемы и взгляды остальных общинников на суть происходящих тогда событий.
Там-то, за столом, расчувствовавшись и мучаясь угрызениями совести, я и поведал Вэше, что по просьбе Пера подкинул ему в дом зловещую колдовскую чёрную стрелу, злобно сварганенную Пером.
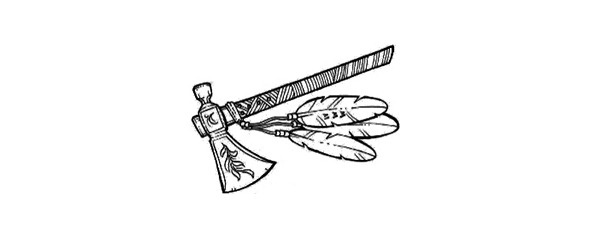
Двойной прыжок

Первый раз я услышал про Кастанеду на Алтае в 1992 году.
Тогда он был чрезвычайно популярен в около-индейской тусе. Закатывая загадочно глаза, люди с эйфорией рассказывали про его книги и делились своим, часто надуманно фантазийным мистическим опытом.
Мне, выросшему среди хулиганов и злобных гопников Западного микрорайона, было весело за этим наблюдать. Хрена изучать непознанные реальности, когда эта ещё совсем не изучена?.. К тому же было в разгаре моё первое алтайское лето, жизнь среди природы и индейцев затягивала своей простой живительной магией.
До его книг я дорвался лишь зимой, когда устроился охранником на базу отдыха «Иволга». Точнее это была даже не книга, Перо хранил толстые подписки журнала «Наука и религия», черпая там вдохновение для долгих философских дискуссий с заезжими тусовщиками о существовании Бога и всякой мистической чепухе. Помню, попалась мне статья какого-то умника, где была одна глава из пресловутой книги Карлоса Кастанеды об учении дона Хуана Матуса, индейца из племени яки. Она называлась «Путь воина» и уже само название подкупало, но ещё больше сработал рефлекс от прочтения слова «индеец». И как же было такое не прочесть?!
Не помню уже, о чём она была, эта статья, помню лишь главу из книги, в которой рассказывалось о входе в тело сновидения и о путешествиях в нём.
Зима на Алтае замораживает реки, ручьи, водопады и чувства. Очищает своим снежным покрывалом горы, луга и умиротворяет душу. Делать мне особо было нечего, управился по хозяйству у директора базы Филимоныча — и до утра свободен.
Вот и начал я практиковать выход в тело сновидения, ну, тот, что с рукой.
Через пару недель в одну из ночей у меня это в первый раз получилось! Неожиданно, жутковато и невероятно чудесно. Целую неделю я ходил в эйфории, окрылённый успехом и отменным физическим самочувствием. Перо не особо верил в мои рассказы, думал, что это моя фантазия подыграла. Но никакой скептицизм уважаемого индейского авторитета не мог сравниться с тем, что осознал мой разум и ощутило тело в тот первый незабываемый раз. Те чувства и ощущения были столь же реальны, как и любые другие в обычной жизни.
С того самого момента начались мои путешествия в теле сновидения. Иногда они получались, иногда нет, но всегда это были яркие эмоции и вдохновляющий опыт. Я упорно занимался каждую ночь перед сном, как завещал великий Хуан Матус.
Нет границ алчности человека, ни в материальных благах, ни в духовных изысканиях.
Чётко помню ту ночь, когда я решил, что стал великим сновидцем. Зарвался, ушёл за допустимую грань и почти пропал.
Я пришёл на Чистый Луг в гости к Перу, мы поговорили, как обычно, порубили дрова, потопили полночи печь и легли. Перо у себя в комнате, я же на топчане в кухне перед жерлом русской печки, мерцающей прогоревшими углями. И, как обычно, я стал думать про руку, как ключ ко входу в сновидение.
АААУУММ…
Я вздрогнул и проснулся. Вокруг лишь уместная ночью темнота и необычно зловещая тишь. Что-то странное происходило вокруг меня, какие-то перемещения в темноте, неосязаемые телом, а скорее на интуитивном уровне. Незамедлительно проснулся страх, стало как-то не по себе, тревожно, что-ли. Так почти всегда было в начале моего сновидческого пути.
Рука! Мне надо посмотреть на руку!
Рука появляется почти сразу, сквозь одеяло. В кромешной темноте я пытаюсь изучить белеющую ладонь и тут алчный дух моего эго подал свой голос:
«А что, если я засну во сне, — подумалось необдуманно-самоуверенно мне, — а потом опять проснусь?..»
И, особо не медля, я засыпаю в теле сновидения.
ААУУММ…
Я открываю «глаза», а тела нет — ничего нет! Но что-то, что является мной, висит в невесомости в прямоугольном столпе ярчайшего света. Он льётся откуда-то с бесконечного низу, куда-то вверх, тоже в бесконечность. А вокруг этого яркого светового «стола» кромешная тьма. Мои чувства начинают работать, точнее одно. Страх, глубинно-древний, неописуемо-бесконтрольный, генный звериный ужас. И тьма вокруг оживает, уплотняется, будто что-то невидимое и охеренно зловещее приближается по спирали к центру, а в этом центре — я на столе из света. И нет у меня сил терпеть этот страх, он как цепная реакция в уране рвёт меня изнутри. Я перестаю дышать, смотреть, чувствовать, быть. Страх взрывает моё сознание, как тротил рвёт чугунно-ребристый корпус гранаты.
ААА…
Меня качает, открываю с трудом глаза и вижу испуганное лицо Пера, он трясёт меня за плечи.
— Что с тобой?! — слышу его голос сквозь полуобморочную вату. Не могу дышать, просто открываю рот как рыба на берегу. Сердце не бьётся. Пауза. Перо трясёт меня сильнее, включает свет.
Тук.
Тук. Тук.
Тук-тук-тук.
Сердце тяжело запускается.
— Фуухх! — я с жадностью вдыхаю воздух, как Жак Майоль после долгого погружения в океанскую бездну без акваланга.
— Ничего се… — выдавливаю из себя слова, чтобы Перо успокоился. — Ты чего прибежал?
— Проснулся, — отвечает он, — потому что ты хрипел громко, стрёмно так, будто задыхаешься. Угорел, что-ли?..
Я посмотрел в жерло печи, угли давно выстыли.
— Ага, наверно…
Долго потом не мог надышаться, тревожно было как-то. Понял, что зашёл за грань небытия, почти крякнул. Больше так необдуманно я не рисковал.
Алчность — опасная мотивация.
Саша Лоботомия

Он появился в 1992 году в урочище Чистый Луг, что недалеко от села Камлак в Горном Алтае. Появился неожиданно и подло, как гнойный прыщ на носу озабоченного подростка перед дискотекой.
Перо, который был старшим и неоспоримо уважаемым главой нашей маленькой коммуны, принимал в гости всех. Разницы не делал ни для идущего в босоножках на Тибет поздней морозной осенью мужчины из Челябинска, услышавшего голос, который это ему приказал, ни для странствующих эмиссаров деструктивной секты «Белое Братство», ни для банально инертных халявщиков хиппи (коих я втихушку заставлял работать на благо общака и выставлял за дверь в любую погоду, если они упорно отказывались нам помогать). Перо любил поговорить со всеми, устраивая философские баталии, выявляя гниль и нестыковки в описании их мироздания. Сидеть зимой в тайге по шесть месяцев порой было скучно.
Но Саша был другой. Знакомясь с Пером, он протянул руку и сказал просто:
— Саша Лоботомия, панк! — и пустил мерзко зловонного шептуна.
В этих тошнотворных миазмах чувствовалась безумная анархия, всеразлагающий хаос и свободолюбивый похуизм. И с этим всем нам так или иначе довелось столкнуться, что прибавило седин в дакотские косы Пера.
— Панк — это ничего, — ответил тогда снисходительно Перо, — панк в переводе с «ирокезского» значит «пепел», а стало быть, это наше, входи, Смакованайту.
И он впустил в наш маленький, не всегда дружный, но с индейским кодексом чести коллектив, ужасающе неуёмное панковское торнадо — сам того не ведая…
Про панков я в первый раз увидел по ТВ в 1984 г., в политической передаче «Бунтари и фараоны».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.