
Бесплатный фрагмент - Бесконечная мысль
Философский роман
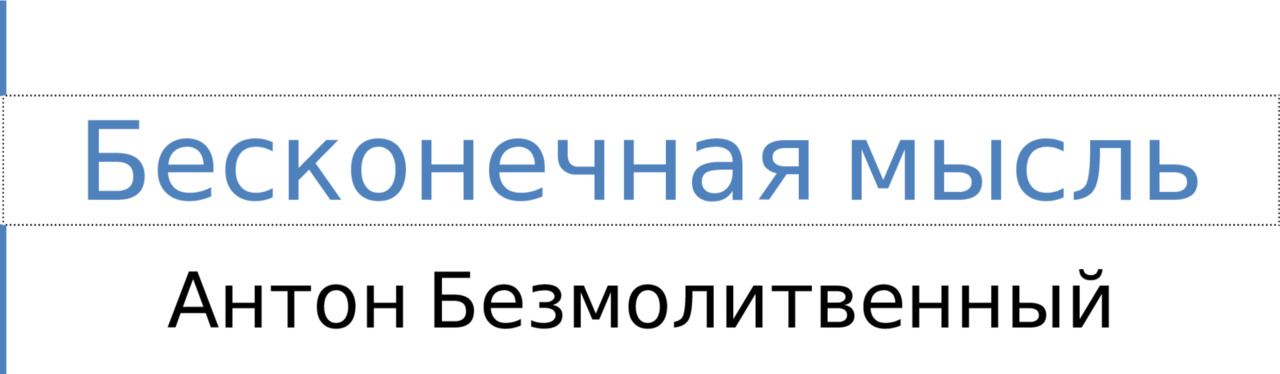
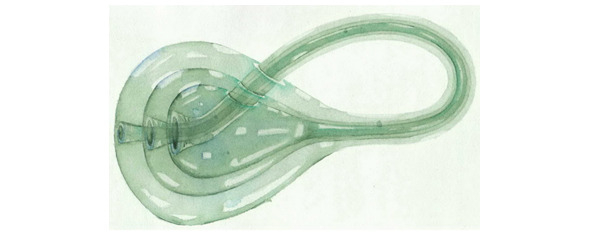
Восхождение

Обвивая невысокую лесистую гору, извилистая дорога поднималась к статуе Биг Будды — высотной доминанте острова. Артур, худощавый молодой человек в майке с психоделическим принтом, шел по обочине пешком, оставив своего железного коня у подножия. Подобно другим представителям «космополитической элиты бедноты» на Пхукете, Артур подрабатывал гидом у крупного туроператора, поэтому проделывал путь до вершины уже десятки раз — в основном, на туристическом микроавтобусе, проводя экскурсию. Назвать такое времяпрепровождение приятным было трудно. Хотя иногда случались веселые моменты. При мыслях об этом в сознании всплыла поездка недельной давности: восходящее солнце, изливающееся сквозь задернутые авто-занавески под его монотонный экскурсионный речитатив «посмотрите налево, перед вами уникальный храмовый комплекс, настоящая сокровищница современного буддизма тхеравады…», поддерживающий здоровый мирный сон большей части группы… И внезапно разорвавшее степенную утреннюю проповедь громкое причмокивание пробудившегося алкотуриста, вяло покачивающего сизоватым после обильного возлияния мурлом в попытке сфокусироваться и обрести потерянное душевное равновесие. Рассеянный взор его остановился на чем-то за окном, мутные глаза округлились — и из глотки вырвался вопль, окончательно разбудивший всю группу: «Йопта, слоны! Братух, ты посмотри, какие у него яйца. Или что это? Как висит-то. Да это же баба. Мляяя…»
Да, в работе «групповода», как это называлось среди своих, определенно были свои плюсы. Но сейчас Артур шел один. Пешком. Не потому, что по-другому было нельзя, а потому, что решил таким образом придать особый смысл и наполненность редкому для него выходному. Мысль об этом восхождении вызревала давно и пришла к нему далеко не случайно.
Несколько дней назад, в процессе распития кратомного чая с друзьями, с ним произошло нечто странное. Как обычно, в конце рабочей недели гиды расслаблялись в заведении «Freedom» к северу от Патонга. Кто-то курил травку, кто-то пил чай. Текла неспешная беседа. На секунду отведя глаза от однообразно волнующегося ночного моря внизу и посмотрев на коллегу Юрика, Артур вдруг заметил, что тот как-то чересчур определенно набухает эмоцией, очевидным образом желая транслировать свою нежность сидящей рядом Аделе, напарнице по выездам на Симилановы острова. Но почему-то все никак не решается этого сделать, пряча за стеной намеренно придурковатой шутливости. Переведя взгляд на девушку, Артур понял, почему: прямо на его глазах Аделя выстраивала целую превентивную противотанковую линию обороны от любых эмоциональных проявлений, настороженно-улыбчиво выжидая возможности поймать Юрика на случайно проскользнувшей нотке проявления чувства — с тем, чтобы и дальше балансировать на тонкой грани, не давая ему возможности понять, принимает она эту нежность или нет. В то же самое время внутри самой Адели нежность буквально пенилась и бурлила, закисая и бродя в рамках старательно выстроенной дамбы. Местами даже начиная зацветать. Именно это подспудное внутреннее чутье, обитающее на каких-то глубинных уровнях перцепции, прорастало в Юрике желанием откликнуться — и новыми приступами нежности, разбивавшимися, как об скалы, о заградительные дамбы Адели.
Все это воспринималось как-то удивительно легко и четко в том состоянии, в котором Артур находился после двух выпитых чашек кратомного чая. Ни тени сомнения в характере полученных откровений не было. Казалось даже странным, что несколько минут назад он мог не замечать таких самоочевидных вещей.
Повернув голову, Артур обратил внимание, что и Владик с Тасей, составляющие давнюю пару, находятся в похожей ситуации: Тася не дает Владику проявить нежность потому, что обижается на него из-за вчерашнего — «вчерашнее» воспринималось чем-то наподобие размытого сгустка эмоций, которые, подобно клубку ядовитых змей, предназначенных для извлечения яда, сам владелец предпочитает на всякий случай не трогать. Владик же обижается на Тасю из-за того, что она такая дура — и не хочет понять его искренних порывов загладить вину, которую — вообще-то — он мог бы и не признавать. Постепенно внутри Владика также начинало прорастать плотина эмоционального заграждения.
Вдруг до Артура стало доходить, что и он испытывает в этот момент рассеянную нежность ко всем этим людям, так же не решаясь ее проявить. Ибо опасность наткнуться на жесткий и холодный барьер неиллюзорно маячила на горизонте всех подобных проявлений: если прицельная межполовая нежность еще как-то соответствовала ожиданиям окружающих, а значит, вызывала молчаливое понимание, то будучи рассеянной и направленной на всех и каждого, эта эмоция попахивала чем-то совсем уж не тем…
Выходит, — думал он, — любой человек для обеспечения собственной эмоциональной безопасности должен дожидаться некоего намека от окружающих, который бы позволил эту нежность легитимно проявить или получить — и неважно в чем: в заботе, прикосновении или ободряющих словах. А если дождаться не получается? Тогда, поскольку желание нежности очень сильно, придется всеми способами создавать контекст, в котором такие проявления были бы уместными, формируя для этого обстоятельства. И получается так… — тут мысль дрогнула, промотав несколько оборотов на холостом ходу, но затем зацепилась за что-то глубокое и надежное, продолжив свое движение, — что для формирования этих удачных обстоятельств проявления нежности человек в целом и совершает большую часть поступков в своей жизни.
Почему-то именно таким образом до этого на вещи он не смотрел.
На поверхность сознания, изрядно расслабленного кратомом, выплыла следующая отчетливо-вопросительная мысль:
Получается, возможность испытывать и получать нежность является разменной монетой? Своеобразными деньгами в отношениях? И тот, кто управляет эмиссией нежности, управляет другими, определяя их поведение?
Артур начал непроизвольно вспоминать прошлое: детский сад, когда в порыве нежности он полез обниматься к девочке из соседней группы, а его за это пребольно пнули в коленку и пожаловались воспитательнице; юношество, когда возможность найти человека, которому можно было открыться, ничего не опасаясь, воспринималась как недостижимый предел мечтаний; молодость, в которой большая часть роковых жизненных поступков была обусловлена подспудным поиском ответной любви… Каждый раз выходило, что ощущение значимости, принятия себя и окружающего мира возрастало от намека на возможность невозбранно проявить нежность другому. И почувствовать ответ. Вполне определенный ответ.
Но, к сожалению, по жизни этот ответ слишком часто бывал неопределенным — или отрицательным. Причем происходило это по неясным причинам, и изнутри воспринималось как бессмысленная и глупая растрата. Что-то большое и мягкое в нем стало медленно шевелиться от этого потока мыслей, разворачиваясь как крылья ската при всплытии, колебля возведенные на поверхности защитные построения. Чтобы решить судьбу этих построений, Артур задумался над тем, что же мешает людям принимать нежность. Однако после первого смутного движения размышление как-то не шло. То, чем он обычно осмыслял всё до этого, сместилось и уплыло куда-то вслед за потоком, оставив его в приятном кратомном замешательстве, выходить из которого определенно не хотелось.
Покачав головой, Артур повернулся к своей соседке Вике и начал разговор на какую-то несущественную тему, твердо решив дать себе время, чтобы разобраться во всем этом позже. Взгляд его зацепился за огоньки на вершине горы, очерчивающие верхушку статуи Биг Будды.
Буддизмом Артур интересовался давно. Обнаружив еще в студенчестве, что под этим собирательным лейблом скрывается целый ворох разных вещей — от слепой религиозной обрядовости до феноменологически-отточенных психотехник — он решил при случае чуть глубже изучить второй, рационально-психотехнический, полюс. И после приезда в Таиланд такие случаи мало-помалу стали представляться. Однако почему-то в основном не посредством прямого общения с монахами, из-за языковой пропасти почти невозможного, а через русскоязычные переводы «Абхидхаммы» с бесчисленными комментариями и изучение тхеравадинских форумов. До личной медитативной практики и даже попыток связать полученные при чтении отрывочные сведения в целостную картину пока как-то не доходило.
Почему бы и нет, — подумал он. — Пусть будет Будда…
Так зародилось решение превратить путешествие на самую высокую точку Пхукета в личное восхождение — несколько часов, посвященных честному, направленному размышлению о природе ума. Оказалось, что решение это в корне меняет восприятие будущей прогулки, да и ближайшего куска жизни в целом, добавляя ко всему происходящему трудноописуемый привкус отдающего чем-то родным и одновременно сакральным внутреннего путешествия. При такой настроенности на самосозерцание каждый взгляд на деревья, море и облака намекал на возможность отследить привнесение себя во все эти объекты — не для того, чтобы отказаться от этого «себя» в пользу непонятно чего — это совершенно не ощущалось возможным, — а для того чтобы лучше понять природу того, что привносится.
И вот, по прошествии нескольких дней решение, наконец, претворялось в жизнь…
Как только мотобайк был припаркован у подножия и первые шаги сделаны, стало ясно, что идти до вершины в таком темпе придется не двадцать-тридцать минут, а несколько часов. Артур глубоко вдохнул и улыбнулся. Его это полностью устраивало.
Мартышка, привязанная цепью за ошейник к столбику возле кафе для туристов у подножия, завидя его, принялась протягивать маленькие цепкие лапки и звучно, во весь голос кричать, привлекая внимание. Понятно было, что руководят ей примерно те же эмоции, что и у людей, но распознать родственные движения нежности в маленьком блохастом создании было настолько сложно, что Артур старательно обогнул обезьяну по периметру невидимого круга, образованного радиусом поводка, и отправился дальше.
Позорное отсутствие чуткости к несчастному примату вернул его к воспоминаниям того «кратомного вечера», заставив задуматься о причинах неожиданного обострения внутренней тонкости и наоборот — ее притупления. Начиная восхождение, Артур продолжил цепочку размышлений самоанализом того, что же мешало лично ему распознавать и откликаться на эмоции других людей. И даже животных.
Шаги по обочине дороги постепенно привели его к давнему детскому воспоминанию о хомячихе по имени Джильда, которую ему подарили на день рождения в восемь лет. Джильда была вытаращенным гиперактивным созданием, настоящим комочком бессмысленного пучеглазого энтузиазма, и успела провести в квартире всего пару дней до того, как упала с занавески, на которую ей зачем-то позарез нужно было вскарабкаться. Просто сломала себе позвоночник и умерла. Артур неожиданно четко вспомнил, какое щемяще-неприятное ощущение возникало при взгляде на отчаянно дергающееся перекрученное пополам тельце, пытающееся встать на лапки. Вспомнил, как оцепенело, замерев, смотрел на эту сюрреалистичную картину, предпринимая инстинктивное внутреннее усилие, перекрывая, отрезая сопереживание умирающему на глазах пушистому созданию. Просто потому, что сопереживать было больно.
Итак, одна из причин эмоциональной закрытости, выстраивания внутренних плотин — обычная душевная боль, — думал он, вписывая это рассуждение в размеренный ритм шагов по обочине. — В общем-то это всегда было понятно. Но кажется, есть что-то еще.
Как барражирующий над посадочным полем пассажирский лайнер, он зашел на второй круг обдумывания ситуации с умершей хомячихой, вспоминая реакцию матери. Отреагировала она подчеркнуто безэмоционально, деловито и сдержанно, быстро завернув трупик в тряпочку и выбросив в мусоропровод. Для нее это был просто очередной грызун, которого «без потери качества» легко можно было еще раз купить на рынке, а для него — ребенка — целая маленькая жизнь, прожитая за два дня: он вмысливал, вливал, вчуствовал целое новое эмоциональное измерение во всё, что было связано с этой маленькой зверушкой. Большой пласт внутренней реальности успел сформироваться под эгидой заботы о хомяке.
Дети еще способны из каждого произошедшего события создавать… — здесь мысль немного пробуксовала, но затем зацепилась за недавно прочитанное у Хайдеггера слово «экзистенциал» и за неимением лучшего отождествила то, что хотелось передать, с ним, — новый экзистенциал, способ восприятия, остающийся на всю жизнь. И во взрослом состоянии мы в основном занимаемся тем, что проигрываем старые теплые ламповые записи детских экзистенциалов, пытаясь натянуть их на новые жизненные обстоятельства. Умение выстраивать их осознанно — это ключ к детской пластичности сознания, его творческой яркости и новизне. Ключ к открытым плотинам, постоянному обновлению и радости в жизни. К пребыванию в состоянии потока, позволяющему лететь высоко над поверхностью, по которой в обратном случае приходится вяло тащиться. Но что задает саму эту способность создания новых экзистенциалов и затем забирает у нас?
Проехавший по серпантину туристический автобус внезапно просигналил ему сзади. Артур резко вскинул голову и споткнулся о малозаметный камушек у дороги. Восстановив утраченное равновесие, он продолжил восхождение, пообещав себе впредь быть внимательнее к внутренним процессам и игнорировать раздражающие внешние события, насколько это возможно. Мысль, озадаченная тем, как это сделать, сделала неожиданный пируэт, увенчавшийся пониманием: для избавления ото всех раздражителей надо сначала их опознать. А это уже предполагает внедрение в себя, инкорпорацию именно тех ощущений и впечатлений, от которых хочется избавиться.
Но ведь так и работает любая травма. Она оседает внутри ненужным и навязчивым отягощением, постоянным внутренним усилием по отслеживанию и опознанию тех ситуаций, в которые ни в коем случае нельзя попадать. Как раз это и не позволяет быть таким беззаботным, как в детстве, так же радостно смотреть в окружающий мир как в зеркало, свободно играть и экспериментировать со своим восприятием. Сложно сохранять веселый, бесшабашный разгон, зная, как больно бывает врезаться на большой скорости. В результате движение осуществляется ползком, а большая часть времени занята отслеживанием и предвосхищением потенциальной опасности, подстерегающей на каждом углу. Получается, что первоначальному наивному порыву к свободному скольжению по гребню волны реальности, берущему разбег со младенчества, препятствует опыт множества ушибов, переломов и ран. Накопленный негативный осадок боли, унижений и предательств, накапливается и оседает в самом способе ощущать и впитывать — в экзистенциале. Закрытость и черствость оказываются всего лишь формой превентивной защиты от потенциальных невзгод, способом скорректировать детскую наивность. Но при этом частенько с водой выплескивается на асфальт и сам ребенок.
Неожиданно Артур вспомнил еще одного знакомца из детства — Мишу, от которого в пятом классе услышал поразившее тогда до глубины души выражение: «говённый мирок…» Произнося эту пропитанную сумрачным апофатическим эсхатологизмом сентенцию, Миша обычно подчеркнуто сокрушенно покачивал головой из стороны в сторону, очевидно, надеясь восполнить таким немудреным телодвижением все невыразимые смысловые пласты. Этот эпизод привел в движение еще одну — полузабытую — цепочку воспоминаний, тоже касающихся Миши, но совсем другого, на четыре года старше его, в деревню к которому Артур как-то раз был отправлен на лето. Деревня была классической: покосившиеся, наполовину рассохшиеся домики, разруха, алкоголизация и запустение. Доживающие свой век бабки и немногочисленные, находящиеся в вечном подпитии мужички лет 45. Будучи нормальным городским ребенком, Артур несколько ошалело взирал на все эти признаки деградации и упадка, раздумывая, как приспособиться к нескольким месяцам существования в таком социальном контексте.
Гостили они в домике бабушки Миши — 70-летней старухи Октябрины Михайловны, жилистой, жесткой и черствой, как сама русская жизнь. С самого начала, исподлобья покосившись на вновь прибывших, она как-то по-особому невзлюбила «городских», очевидно, поставив себе типичную для таких случаев цель «научить их жизни». Апофеозом этого противостояния явился грандиозный скандал, устроенный по случаю упорного нежелания Миши идти пропалывать сорняки в огороде бабки второй раз за день. Вдоволь накричавшись, Октябрина Михайловна, видя, что за неделю все к такому стилю попривыкли, перешла к другой тактике:
— «Ааа», — укоризненно-раскатисто произнесла бабка, искоса поглядывая на провинившегося внука. — «Ты себя любишь…»
И столько проникновенного разоблачительного презрения было в этом ударении на слове «себя», что Артур невольно поежился. Получалось, что сам факт любви к себе уже был чем-то зазорным и глубоко неправомерным, эгоистическим. Миша, конечно же, отчаянно пытался запоздало оправдываться: «что же, я себя ненавидеть должен? Я ведь, в конце концов, сегодня сделал…», но все это соцветие в высшей степени логичных аргументов увядало под железной пятой наступательной «житейской» агрессии бабки. Ощущалось, что со всей своей «заумью» на каком-то глубоком эмоциональном плане старухе он безнадежно проигрывает… Первый раз в жизни Артур видел со стороны воспроизведение своей обычной жизненной ситуации с такой безоглядной отчетливостью и запредельной простотой. Становилось ясно, насколько часто он бывал на месте Миши. Отыгрывал сценарий последнего донкихотствующего рыцаря, беззаветно отстаивающего никому не нужный образ идама внутренней утонченности и красоты перед лопастями беспощадных эмоциональных мельниц реальности.
Он так и не сказал ни одного слова в защиту Миши в тот раз. По какому-то странному ощущенческому наитию вместо этого он предпочел молчаливо сдаться, а значит — присоединиться к укоризненно покачивающей головой победительницей… По какому? Почему ее заскорузлое неодобрение в этой борьбе казалось более значимым, чем возможность эмоциональной победы? Что за внутренний наблюдатель незримо присутствовал в нем, заставляя принимать ничем, по большому счету, не обоснованные «бабкины экзистенциалы»?
Ухватившись за краешек этой мысли, Артур разматывал весь клубок, постепенно приходя к выводу, что дело тут в чем-то глубоком и необычайно важном: установки, идеалы и жизненные ценности совсем не нейтральны и не безобидны. Некоторые из них, с точки зрения социума, просто нельзя исповедовать. Поскольку для общества в целом они прямо вредны или, в лучшем случае, бесполезны. Все это аккумулировалось в чрезвычайно глубокой и судьбоносной бабкиной установке «Нельзя таким быть…», которую Артур впоследствии не раз слышал от разного рода людей. Осталось только понять причины ее действенности — и не только для окружающих, но и для самого объекта нападок.
Допустим, — рассуждал Артур, — человек потратил несколько десятилетий на то, чтобы прийти к определенной личностной цели — скажем, стать художником. В результате, если его картины не пользуются особым спросом, и он голодает или живет на деньги других людей, он не просто не преуспел по жизни, но вдобавок еще и сконституировал себя как набор «неэффективных» экзистенциалов, задающих магистральные направления всех жизненных практик — определенную «упертость», мешающую пойти работать, например, обычным сейлз-менеджером или дворником.
Эта упертость поначалу обусловлена личностным выбором, а затем уже начинает определять в человеке все, вплоть до физиологии. Ведь после достижения определенного возраста нейропластичность, позволявшая в юношестве легко менять убеждения и перестраиваться на ходу, утрачивается. Соответственно, гораздо более сложным — а часто и почти невозможным — становится изменение поведения, стереотипов и образа жизни, «переобувание экзистенциала» под другую цель. Тем самым «нельзя быть таким» — это социальная установка, с самого начала блокирующая подобную возможность развития событий для зарвавшегося ребенка-мечтателя, дающая ему «щелчок по носу». Что-то наподобие классического «Самый умный, да?» Показывающая, что спектр социально приемлемых и полезных окружающим идеалов и вытекающих из них допустимых экзистенциалов для человека на самом деле гораздо уже, чем ему самому представляется.
Более того, вдвойне обидна эта ситуация еще и потому, что такая установка указывает и на «социальный ранг», доставшийся от рождения. Почему? Потому что, например, сыну депутата по факту «можно быть любым» — деньги и положение, унаследованное им, позволит иметь какие угодно убеждения, ценности и состояния в жизни. Получается, что какая-то часть бессознательного постоянно занята «социальным маркетированием» — неотступным фоновым просчетом шансов и возможностей пресловутой «реализации» в жизни. Именно этот внутренний наблюдатель «от маркетинга» и формирует такую мощную психологическую зависимость от мнения окружающих.
Подъем пошел круто вверх, и направление его мыслей несколько изменилось:
Не скрывается ли этот наблюдатель прямо сейчас в недрах моей психики? Не отказываю ли я себе в реализации собственных экзистенциалов? Если да, и поверхностная рефлексия не распознает его сразу, получается, что «чужой» коренится в психике очень глубоко, угнездившись в самом взгляде, в эмоциях, которыми сопровождается каждый поступок и событие в жизни…
Выходило, что в действительности сам он был чем-то отличным от того, чем привык себя считать. Но не решался это признать, систематически вытесняя значительный спектр своих экзисетнциалов «бабкиными», что и порождало глубочайшую внутреннюю неискренность, мешавшую, например, тонко чувствовать состояние окружающих. Однако, это была уже слишком глубокая мысль для размышления на ходу…
Остановившись, Артур присел на сказочный по очертаниям пенек, оставшийся от баньяна на самом краю обрыва, и погрузился в созерцание великолепного вида на море внизу. Он уже поднялся достаточно, и с такой высоты были прекрасно видны красноватые крыши домиков северной оконечности острова, пролив, отделяющий Пхукет от континента и даже берег материка. Статуя Биг Будды высилась совсем близко, буквально нависая над плечом.
Мысль струилась по намеченному руслу удивительно легко и свободно, вплетаясь в ткань дыхания и размеренный ритм волн, накатывающих на далекий берег:
Неискренность — вот что мешает проживать свой экзистенциал, блокируя нативный — самый приятный и естественный — способ восприятия. В первую очередь, применительно к самому себе. Если насчет окружающих действительно могут возникать вопросы — уместно ли это? — то уж насчет себя, наверное, вопросов быть не должно? Так почему же не стать чутким и внимательным к себе? Во всех возможных проявлениях?
Подул ветер, почти магическое последействие от созерцания моря стало постепенно рассеиваться, а ответ всё не всплывал на поверхность сознания. Артур встал, на некоторое время решив отложить повисший вопрос, с благодарностью взглянув на уютный пенек, и собрался двинуться дальше — как вдруг его взгляд упал на остроконечные шляпки грибов, растущих прямо из-под корней. Выглядели они как небольшая флотилия космических кораблей, нацеленная обтекателями в небо под разными траекториями. Преодолев секундное колебание, он удержался от соблазна сорвать их и продолжил свой путь. Рассуждение потекло дальше:
Итак, собственный экзистенциал, нативный способ эмоционального восприятия предположительно есть у каждого изначально, с рождения. Некоторое время человек удерживается в нем, однако почти всегда рано или поздно внешние события выбивают его из этого состояния, заставляя впускать в себя жестокую и чужеродную логику смещений и самоограничений. Для сохранения и поддержания этой логики требуется изменить саму «качественную текстуру» восприятия. В итоге в зрелом возрасте оно подобно лоскутному одеялу, сотканному из обрывков детского мироощущения с прорехами и дырами, скрепленных металлическими нитками чужих, внешних убеждений и ограничений. Что же делать со всей этой чересполосицей? Можно ли достичь целостности, если покрывало в некотором смысле и есть я?
Посмотрев на оставшийся небольшой участок пути, в конце которого возвышалась статуя Биг Будды, Артур вспомнил о своих собственных откровениях, транслированных однажды девушке после безумно красивой ночи, проведенной на пляже под светом звезд и травкой:
— Знаешь, — говорил он, проводя рукой по ее пышным волосам, — Иногда возникает впечатление, что мы — просто маленькие машинки по сохранению удивительных мгновений в какой-то вселенской копилке памяти. — Изнутри ощущалось окрыляющее воздействие расширяющих и теплых эманаций травки, и поток речи будто сам по себе струился дальше. — Мы копим эти мгновения всю жизнь, запоминаем их, придаем им важность и значимость. Но в действительности — какое значение они имеют? Каждый этап жизни запечатлен в этой маленькой милой свинюшке с очаровательной деталистичностью, свойственной кукольным домикам, каждая мелочь и каждый маленький нюанс учтены и тщательно прописаны. Каждое мгновение имеет свой собственный привкус и аромат. Но однажды копилка будет разбита…
И кому нужны тогда будут эти маленькие, заботливо сохраняемые всю жизнь, впечатления, разлетевшиеся в разные стороны? Может быть, именно поэтому копилки так отчаянно стремятся к объединению, надеясь благодаря этому иллюзорному слиянию каким-то образом избегнуть потери внутреннего содержания?
Что характерно, девушка в тот раз отреагировала на подобные откровения достаточно своеобразно: оглушительно чихнув, а затем переключившись на бесконечный трёп о своих проблемах на работе. Артур подумал о том, что надежда достичь счастья в результате объединения двух несчастных сознаний чем-то подобна попыткам создать правовое государство усилиями нескольких вороватых чиновников. Мысль двинулась дальше:
Получается, что человек стремится достичь проявлениями нежности впечатления устойчивости, поддержки своей жизненной копилки другим существом, хотя бы иллюзорного понимания и одобрения своего экзистенциала — для того, чтобы перестать на мгновение ощущать бессмысленность и краткость жизни. Что равносильно глотку счастья. Ощущение осмысленности приходит от возвращения хотя бы малой части внутренней детской целостности. Но внутри — сплошные заплатки, целостность давно в прошлом, открыться страшно, воспоминания о неоднократно и безжалостно порванном эмоциональном одеяле сильны, и для того чтобы получить шанс на шанс пережить шанс, человек продумывает, бесконечно продумывает как добиться нужного, безопасного и разделенного другими контекста. Со временем безопасность и контекстуальная защищенность становятся приоритетом, превращаясь в самоцель. Для достижения этого защищенного положения человек и выстраивает в итоге все свои действия. А реальная экзистенциальная цель просто забывается из-за недостижимости.
Разумеется, это путь в никуда. Выходит, что задача заключается в том, чтобы развернуть эту логику, расходующую время жизни на достижение иллюзорных целей. Направить ее к истоку. Так, чтобы пребывание в своем собственном экзистенциальном потоке было фундаментом и источником всех действий.
Под впечатлением этих размышлений Артур еще раз окинул мысленным взором свое детство — и оно показалось ему удивительно типовым, невзрачным и заскорузлым, как советские облупленные контейнеры для мусора. То, что он считал жемчужной россыпью своего личностного своеобразия, на поверку оказывалось ворохом всякой всячины. Более того, как он теперь отчетливо понимал, еще и вторичной свежести — отнюдь не заготовленным в некой небесной канцелярии специально для него, а просто доставшимся в качестве отходов жизнедеятельности от предыдущих поколений. Все это, абсолютно случайное, могло быть совершенно другим, породив совершенно другой — но столь же мало осмысленный — набор эмоциональных прорех на его покрывале.
Впереди уже показалась статуя Смолл Будды, красиво подсвеченная начавшим заходить в море солнцем. И тут, как органическое завершение всей цепочки размышлений, Артуру пришло воспоминание о мускусном олене, подслушанное им у коллеги-экскурсовода во время посещения парка «Олень поворачивает голову» на Хайнане:
«Во время гона весной мускусный олень испускает особый запах из пупка — это его возбуждает и он бегает по лесу в поисках того, что же является причиной такого состояния. Он находит олениху, срабатывает инстинкт узнавания, и олень думает: вот, теперь понятно, в чем дело. Самое интересное, что олениха думает примерно то же самое, — Артур еще вспомнил, как удивился прозорливости рассказчика: тот доподлинно знает, о чем думают олени, очевидно, одинаково легко проникая как в логику самца, так и самки. — Через некоторое время мускус перестает выделяться так резко — и „любовная лихорадка“ оленя спадает. Охладев к своей избраннице, он окончательно отходит и устремляет благородную поступь копыт в лес…»
Артуру подумалось, что это хорошая метафора не только любви, но и жизни в целом. Он бросил взгляд на статую Биг Будды, помпезную, плохо обработанную, стоящую в строительных лесах. По-настоящему хорошо она смотрелась только издали. Затем развернулся и подошел к располагающейся совсем рядом с ним изящной, миниатюрной, исполненной внутреннего смысла и благости статуе Смолл Будды — и прикоснулся рукой к тонкой гравировке ее поверхности. Внутри перекатывалось приятное чувство определенности. Он понял, что его восхождение успешно закончилось.
Догорал фиолетовый закат, обмакивая позолоту статуи в красновато-оранжевый цвет, у подножия храма размеренно сновали монахи, о чем-то переговариваясь со строителями, и над всем этим разваренным маревом жизни витал вечерний стрекот цикад, гармонично вплетая нотки человеческого муравейника в симфонию упоительной полноты вечерних грез тропического побережья.
Артур стоял, глядя на шар солнца, неспешно погружающийся в океан. А внутри росло и ширилось удивительное и неуничтожимое, как улыбка Чеширского Кота, ощущение своего экзистенциала…
Индивидуальный язык

Буквально через несколько дней после восхождения случилось кое-что непредвиденное: туроператор, на экскурсиях которого подрабатывал Артур, перестал существовать. Как раз подходил к концу срок его рабочей визы, и все еще оставался шанс успеть продлить её в Пенанге — шанс, которым грех было не воспользоваться. Управившись с получением заветного штампика за два дня, Артур отправился обратно в Таиланд…
Соседями по микроавтобусу, в котором он возвращался из Малайзии, оказались пожилые французы, парочка итальянцев и невесть зачем отправившийся в это путешествие одинокий таец. Русскоязычные, вопреки ожиданию, в салоне отсутствовали. Совсем. В действительности он был рад этой возможности побыть наедине со своими мыслями, и поэтому с какой-то трогательной, слегка неуместной радостью смотрел в окно на склоняющиеся под дождем пальмовые листья и флегматично мокнущих вдоль дорог буйволов.
Печальные тропики, — подумалось ему. — Прямо-таки воплощенный фантазм Леви-Стросса…
Почти вся дорога от Джорджтауна до Пхукета должна была пройти на этом месте в автобусе. Артура такое положение вещей вполне устраивало.
Традиционная для водителей этого региона «гонка на маршрутках» приближалась к границе Таиланда, а внутри, вторя ритму тропического ливня за окном, текли и струились мысли, вычищая всё недодуманное, застарелое, забившееся в ментальные поры.
Когда я смотрю на этот участок леса за окном, восприятие всего, что фиксирует сетчатка глаза, конечно же, недоступно мне напрямую: и дело даже не в том, что я вижу сразу объекты, а не набор цветовых пятен, из которых они состоят — всё воспринимаемое в это мгновение сливается в определенную целостность, как в зип-архив. Перцепций попросту слишком много и меняются они слишком быстро для того, чтобы я мог параллельно галлопирующему восприятию выделить и отметить вниманием каждую. Вот и приходится воспринимать всё как единое целое — просто, чтобы успевать ориентироваться в ситуации. Можно назвать этот целостный «сенсорно-эмоциональный» конгломерат «фантазмом», значительно отступая от лакановской интерпретации этого понятия. Но и фантазм это еще не конец пути — на экран сознания выводится чаще всего не он, а его «карта», структурный каркас, выделяющий из этой целостности отдельные объекты по лекалам языка. Это происходит в результате структурирования, разбиения воспринимаемого на отдельные «глоссы», осуществляемого с помощью сетки категорий. Получаемое таким образом дискурсивное описание ситуации основано на кодах конвенционального языка и поэтому, сохраняя для меня возможность вернуться к схеме воспринятого еще раз и даже передать ее другим, при этом неизбежно огрубляет и «пикселизирует» живой перцептивный опыт. В результате, когда я сейчас пытаюсь выстроить это рассуждение посредством дискурсивных мыслей, я, конечно же, фиксирую в нем не действительную феноменологическую реальность своего восприятия, а некий грубый, созданный средствами языка структурный набросок. Произвожу процедуру расчленения целостного опыта, воспринимая его как набор достаточно четко отделенных друг от друга объектов, каждый из которых может быть описан определенным словом или выражением. Это помогает решать некоторые практические вопросы, например, при покупке билетов или заказе еды, но становится бесполезным или даже мешает в случае попыток серьезной медитативной практики по честному рефлексивному наблюдению своего ума.
С другой стороны, каковы альтернативы? Привязывать всю цепочку дальнейших актов не к семантике, выражаемой в мысли, а к чему-то другому? К эмоциям? Перцепциям? Но без внутреннего языка, специально созданного когда-то в качестве операционной оболочки, позволяющей более-менее произвольным образом перемещать луч направленного внимания, смогу ли я удержать сам акт рефлексии и направить его на нужные проявления ума? Есть ли иной — внеязыковой — способ обеспечения того, что обычно называется «произвольностью»?
За окном мелькнул резной контур традиционного для этой части Таиланда тхеравадинского храма, и размышление Артура, несколько подзавязшее в трясине неконцептуализируемого, изменило направление и двинулось вбок:
Может быть, в акте рефлексии имеет смысл обратить внимание на различие между смыслом и структурами языка, в которых он воплощается? Детализировать эту дистинкцию и тщательно их развести? Соответственно, один из самых значимых вопросов — как именно сохранить по возможности точный смысл, способный запечатлеть и сохранить то, что я в действительности воспринимаю? Ведь в процессе медитации важно иметь дело с самой внутренней реальностью, а не с иллюзорными и редуцированными ее отображениями. Значит, если я захочу отразить то, что происходит со мной сейчас, с помощью одной длинной и точной мысли, эта мысль должна быть с очевидностью невербальной. Но при этом — наделенной отчетливым, сохраняющимся смыслом. Чтобы обеспечивать возможность для последующего возвращения к нему. На одних перцептах и эмоциях ничего столь стабильного и подконтрольного не построить.
Возможно ли такое в принципе? Наверное, да. Но для этого мысль должна стать бесконечной, постоянно идущей параллельно опыту. Значит нужно вычистить все мешающие этому затруднения, связанные, в основном, с языком. И создать другую систему архивации смысла. Своеобразный «индивидуальный язык», позволяющий отказаться от сомнительного посредничества подпорок естественного языка при разворачивании мысли. Но как это сделать? Один из способов — последовательно, шаг за шагом, проанализировать, как я докатился до текущего положения вещей в сфере рефлексии? Что было стартовым триггером в детстве, и по какой траектории дальше эволюционировал синтаксис моего сознания?
Артур надолго задумался, и, в очередной раз изменив направление, углубившаяся в воспоминания мысль подбросила ему яркий фантазматический образ:
Едва начавшись, жизнь безжалостно колошматит спидбот моего тела о жесткие волны реальности. Первый же удар — рождение — вдребезги разбивает всю виртуальную целостность, смещает внутренние позвонки восприятия, разбивая надежду на безупречность. И затем вся жизнь проходит в попытках вернуть хотя бы отблеск былой гармонии и целостности. Однако собраться не так просто — ведь проблема в том, что я уже некоторым образом собран. Но с неизбежностью неправильно, ведь сборка происходила в вынужденном, безумном порыве. Поэтому сначала надо разобраться, а затем собраться заново, по другим лекалам — и все это не покидая палубы спидбота, бешено вспарывающего волны штормового моря жизни. Кто способен на эту отчаянную и невероятную экзистенциальную эквилибристику — собраться на полном ходу так удачно, чтобы любые волны стали источниками захватывающей радости и окрыления, а не ужаса, надрыва и отчаяния? Только просветленный…
Как ни странно, Артур удовлетворенно улыбнулся — хотя данное размышление ничего утешительного в себе, в общем-то, не содержало. Микроавтобус как раз подъезжал к границе с Таиландом, и надо было выходить для того, чтобы отыграть все ритуалы погран. контроля…
Первым вернувшись обратно в салон, Артур, не успевший даже толком промокнуть, отработанным движением сунул паспорт в карман брюк-карго и вновь уткнулся взглядом в окно, продолжая размышление:
Обычный язык — это что-то наподобие экзоскелета для травмированных жизнью детей, позволяющего хотя бы немного адаптироваться после удара и начать как-то двигаться, собирая себя в кучку. На определенном этапе он необходим, но в дальнейшем именно его жесткий каркас мешает пересобираться…
С тайской стороны границы все выглядело несколько иначе. За окном пронеслось стадо слонов, направляемых погонщиком-махаутом, — очевидно, под навес, чтобы защититься от дождя. Ход мыслей на несколько секунд сбавил темп, забуксовал, но, сделав несколько холостых оборотов, возобновился:
Итак, проблема обыденного сознания в том, что дискурсивное мышление, реализованное с опорой на экзоскелет языка, принципиально неполноценно. Полноценная рефлексия, способная запечатлеть реальную картину происходящего в психике, не выстраивается, застревая в беспомощной полурабочей фазе. Образ себя, выстроенный с ее помощью, неизбежно неполон, фрагментарен. Представляет жупел, бесполезную и грубую поделку, пригодную только для того, чтобы отвращать от попыток действительно честного самоописания.
То есть для дальнейшего продвижения придется улучшать и детализировать стратегию восприятия тонких аспектов устройства своей внутренней реальности, постепенно осваивая недискурсивное, но синтаксически согласованное самоописание, которое и будет являться основой для более удачной сборки индивидуального языка. Медленный, поэтапный процесс отвоевывания посредством ежесекундного осознавания каждого фрагмента описания мира у глубоко въевшихся категорий естественного языка…
Артур перевел взгляд на своих попутчиков: большая часть о чем-то оживленно переговаривалась.
Хорошо. Может ли синтаксис, на основе которого выстраивается новый язык, быть таким же целостным, как «естественно-перцептивное» восприятие? Учитывая, что перцептивный пласт дан мне уже разделенным на отдельные объекты, наверное, может: это проявляется, например, в тех случаях, когда режиссер продумывает «сильную» последовательность сцен, которая должна произвести определенное впечатление на зрителя, или когда музыкант, читая партитуру, представляет себе, как будет играть отдельные пассажи. Такого рода мышление обычно принято называть творческим. Интересно также и то, что ни режиссер, ни музыкант в большинстве случаев не способны выразить в словах, как именно они в этот момент думают. Почему? Потому что в обыденном конвенциональном языке слов для этого банально не хватает. Хотя их мышление безусловно реализуется синтаксически, далеко выходя за пределы смутных «эмоционально-состоянческих прикидок». Соответственно, необходимо дополнить эту стратегию, реализовать именно то, что не получается у них — схватить в рефлексии сам процесс творчества.
То есть желанная рефлексивная сборка предполагает такое же несомненное, точное, но «бессловесное» созерцание разворачивающейся в этот момент внутренней реальности. Интроцепцию…
Достаточно глупо было радоваться небольшим лингвистическим находкам после подобного «антидискурсивного» рассуждения, однако найденное слово Артуру определенно понравилось. В отличие от «интроспекции» оно отдавало коннотациями, наводящими на мысль о самоощущении в самом простом и тривиальном — а потому ощупывательно-точном — сенсорном смысле, являясь хорошим «внутренним» аналогом ориентированной на восприятие внешнего мира «перцепции».
Получается, что существует некий критический порог детализации рефлексивного самонаблюдения, которого необходимо достичь, чтобы этот индивидуальный язык «собрался», достиг согласованности и полноты, интроцептивной точности, позволяющей использовать его в повседневной практике. Одно дело — трогательная мечта о полете, другое — стоящий на взлетной площадке и полностью заправленный вертолет, готовый к старту…
Всё это прекрасно, но я вынужден начинать не с такого привилегированного состояния, а с текущей кургузой сборки по лекалам естественного языка. Именно с его помощью мне придется осуществлять все дальнейшие изменения. Поэтому важно понять, в чем конкретно заключаются его ограничения — что именно мне предстоит перестраивать?
Артур на некоторое время задумался, неподвижно глядя в окно. Затем, наблюдая за тем, как мелькают тайские придорожные домики духов, продолжил цепочку размышлений:
Во-первых, временность. То, что я воспринимаю, когда занимаюсь самонаблюдением, постоянно меняется. Описание же тяготеет к тому, чтобы фиксировать навечно в монолите понятия пластичную внутреннюю реальность. Кроме того, проблемой является также и скорость описания — чаще всего она значительно ниже скорости описываемого.
Во-вторых, скетчевость. Из-за встроенного в естественный язык механизма расчленения воспринимаемого в дискурсивной мысли может содержаться только весьма приблизительный набросок того, что она силится описать. Соответственно, уровень детализации такого наброска может быть — а чаще всего и реально оказывается — недостаточным для эффективной психонавигации.
И наконец, собственно синтаксичность, знаковая, символическая природа языка. Будучи символом — да еще и позаимствованным, не изобретенным самостоятельно — слово постоянно отсылает к другому: другому слову и другому человеку — тому, кто его придумал и ввел в дискурс. А значит, к его неизвестному мне внутреннему опыту. К чему-то, чего я не знаю и не смогу узнать в принципе. Более того, символ в естественном языке гипостазируется, образует свою собственную виртуальную реальность, которая, конечно же, имеет крайне проблематичный онтологический статус.
Постоянно длящаяся фоновая интроцепция, необходимая для начала успешного самоизменения, просто невозможна, если не преодолеть эти три ограничения. Значит, «индивидуальный язык» должен обходиться без них. Однако это предполагает невероятную нагрузку на сознание, которое должно стать гораздо более «ёмким», чтобы его «потянуть». Естественный язык дает возможность «экономить мышление», архивировать в одном слове массу предполагаемых промежуточных мыслеактов, что избавляет от необходимости «разворачивать» и воспринимать каждый из них. «Индивидуальный язык» не предназначен для такой «экономии», скорее наоборот.
И существовать он может только в зазоре между сформулированным смыслом и не выраженным еще с помощью какой-то конкретной семантики переживанием… То есть в потоке постоянного, непрекращающегося творчества по осознаванию.
Артур попробовал представить себе, с помощью какого «индивидуального языка» можно было бы по возможности точно ухватить текущее состояние, и надолго застыл, ощущая странные, нефиксируемые в слове аспекты вязкости пропитанной восприятием дождливого серого неба отстраненности осознающей мысли, вплетающейся в ощущение тонкого и невыразимо прекрасного аромата теплого тропического дождя…
Робинзонада

Экскурсии на Симиланские острова, проводить которые Артур решил устроиться после исчезновения предыдущего работодателя, обещали быть непыльным и достаточно прибыльным способом заработка.
В первой попавшейся пхукетской туристической компании, занимавшейся организацией морских прогулок, хмурый и малоприветливый молодой человек провел с ним короткое собеседование, оценил англо- и русско-язычие, с кривой усмешкой поинтересовался целью подработки, а потом, заглянув в какие-то списки, просто сказал: «Отлично, вы нам подходите».
Домой Артур возвращался, держа подмышкой кипу буклетов и распечаток с информацией об островах архипелага, которой предстояло потчевать туристов. Уже на следующий день его ожидала первая «пристрелочная» прогулка на катере — для того чтобы осмотреть и опробовать все самостоятельно.
В восемь утра он стоял на пирсе, ожидая отправки. Утро выдалось достаточно пасмурное — тучки заволокли небо, но дождя не было. Тайцы из команды о чем-то долго переговаривались с капитаном, с сомнением поглядывая на потемневший горизонт, но в конце концов катер с Артуром и еще шестью туристами на борту благополучно отчалил.
К середине дня вроде бы распогодилось, и экскурсия в целом прошла нормально. Однако возле последнего на их маршруте острова Ко Мианг образовалась настоящая пробка: из-за небывалого наплыва суденышек с китайскими туристами катер долго не мог причалить к берегу, затем, стоя в очереди местной столовой, пришлось больше часа ждать своей порции ужина — в результате, когда их катеру удалось поднять якорь и отойти от острова, над Андаманским морем уже начинал сгущаться закат.
И был он явно недобрым: тяжелые черные тучи наплывали с запада, образуя над горизонтом многоярусный плотный клобук, в недрах которого время от времени мелькали быстрые вспышки молний.
Туристы с некоторой опаской посматривали на грозные штормовые тучи, но доверяли опыту улыбчивого тайского капитана, рассчитывая на его многолетний опыт. Однако, как только катер тронулся, стало очевидно, что капитан тоже нервничал: видимо, он недооценил скорость приближавшегося шторма и просчитался со временем, — поэтому гнал свой четырехмоторный болид на максимальной скорости, близкой к 90 км/ч.
Усилившийся тем временем ветер начинал поднимать всё более высокие волны — и с определенного момента происходящее на палубе по ощущениям стало напоминать даже не гонки по стиральной доске, а просто методичные удары с разгону об стену.
Столпившиеся поначалу на носу с селфи-палками туристы, с восторженными криками комментирующие на видео свое экстремальное приключение, при первом же серьезном столкновении с волной попадали на палубу, один за другим скатившись в заднюю часть катера, где удары ощущались не так сильно.
Улыбки и веселые смешки, которыми вначале сопровождались обильные морские брызги, постепенно сменились настороженным молчанием — а потом и откровенным страхом. Капитан уходил от бури, и маневрировал как мог, идя под углом и стараясь не попасть под особенно высокие волны, но это не очень помогало. Вода уже вовсю заливала палубу, с головы до ног окатывая смертельно испуганных, вжавшихся в сиденья туристов; катер несколько раз серьезно качнуло, подняло и подбросило.
Нарастающее напряжение достигло наивысшей точки, и тут тайцы из команды, сгрудившиеся возле капитанской рубки, подняли отчаянный крик, показывая пальцами куда-то вперед. Артур поднял туда взгляд — и ощутил холодок, змейкой пробежавший по позвоночнику. Прямо на них шла огромная волна.
Инстинктивно почувствовав, что сейчас последует сокрушительный удар, он резко поднялся с места и рыбкой выпрыгнул за борт. Уже когда руки коснулись поверхности, волна накрыла катер, и тот перевернулся, невероятно больно чирканув его краем корпуса по левой ноге.
Боль горячим покрывалом обожгла задетое место. И тут же волна припечатала его, буквально вдавив под воду — к счастью, из-за шока челюсти судорожно сжались, и каким-то чудом удалось задержать дыхание и не захлебнуться.
Дальнейшее осознавалось плохо: постоянно барахтаясь, ему удавалось на секунду всплывать на поверхность, отчаянно глотая воздух, — за мгновение до того, как сверху обрушивалась следующая волна.
Огни катера мелькнули где-то вдалеке — только почему-то уже сбоку-снизу, в толще воды. Ёкнуло сердце, и холодными коготками сжала горло пронзительная определенность: катер утонул — и теперь вокруг нет никакой надежной опоры, только разыгравшаяся стихия.
Что с остальными, было неясно, поэтому Артур просто старался удерживаться на поверхности, мотаясь на волнах вверх-вниз. Мысли начали лихорадочно путаться. Он оказывался в штормовом океане первый раз в жизни: прилив собранности, который помог продержаться первые несколько минут, постепенно уступал место подкатывающей растерянности; мысль дребезжала, соскальзывала — перспективы дальнейшего были неясны, и с каждой волной накрывал с головой густой вязкий страх.
По ощущениям прошло около часа такого барахтания, когда случилось невероятное — его ноги коснулись песка. Следующая же волна отнесла его назад, но теперь он знал, что земля где-то рядом, и отчаянно искал ее. Тут произошла вторая неожиданность — Артур внезапно налетел на что-то твердое, пребольно стукнувшись челюстью о ствол дерева. То, что это дерево, он осознал чуть позже, рефлекторно обхватив препятствие руками — и уже больше не расцеплял их.
Для того чтобы спастись от волн, он пополз вверх по стволу — и довольно быстро добрался до кроны пальмы, полусев на нее так, чтобы могли отдохнуть сведенные судорогой от постоянного напряжения руки. Там он и оставался несколько часов, озябший и насквозь промокший под дождем, но счастливый от своего неожиданного и чудесного спасения. Серьезно болела ушибленная нога. Понемногу шторм стал стихать. Пальма, которая поначалу серьезно раскачивалась под ним, больше не колебалась — и Артур задремал, насколько позволяла неудобная поза.
Проснулся он от ощущения, что сползает — и, заполошно взмахнув руками, что есть силы вцепился в ствол. Было уже утро. Первые лучи солнца, пробившиеся из-за туч, сразу прояснили картину: вокруг, насколько хватало глаз, была вода, а прямо под ним желтело маленькое пятнышко песка: он оказался на крохотном, абсолютно плоском островке с тремя пальмами. Раньше Артур даже не знал, что такие бывают, причисляя их к категории виртуальных бэкграундов для рабочего стола. Оказалось, что баунти-картинки бывают вполне реальными. Настолько реальными, что могут даже неиллюзорно спасти.
Шторм затих, но волны всё равно время от времени заливали песчаную почву, всего на несколько сантиметров возвышавшуюся над поверхностью моря.
Спустившись вниз и с наслаждением размяв онемевшие руки, Артур задрал голову и обнаружил, что большую часть кокосов с пальм смыло во время шторма: на ветках остались висеть только шесть. Это означало, что провести на острове можно было от силы пару дней — наперегонки с жаждой, которая уже становилась достаточно ощутимой. Тем более что кокосы еще предстояло чем-то вскрывать.
Внезапно его взгляд привлек странный предмет, выброшенный волнами на берег. Подойдя поближе и внимательно рассмотрев находку, он просто не поверил своим глазам — это был кинескоп старого ЭЛТ-телевизора, густо обросший ракушками.
Кинескоп черной дырой археомодерна зловеще поблескивал сквозь матовые проплешины, остававшиеся между колониями облепивших его моллюсков. Эта промышленная чернота чудовищно диссонировала с окружающей морской пасторалью начинающегося тропического утра. Однако для того, чтобы колоть кокосы, такой артефакт подходил в самый раз.
Артур залез на пальму и сбросил один кокос вниз. Зажав его в ложбинке между стволов, он обрушил весь вес кинескопа на зеленую скорлупу. Удар! Кокос треснул, обнажив белую мякоть. Схватив его, Артур жадно припал к отверстию, запрокинув голову. Сок оказался горьковатым и слегка вязал рот, но пить было можно.
Пронзительный и терпкий вкус слегка прояснил сознание, оказав почти магическое воздействие на состояние. Мысль снова заработала быстро и четко. Приободрившись, Артур отправился на поиски — и, быстро обойдя свой крошечный остров по периметру, обнаружил только одинокий кусок каната, сиротливо плавающий возле берега. Немного потрудившись, он соорудил некое подобие гамака из этой находки и двух крепких пальмовых листов, безжалостно выдранных с верхушки. Надежно привязав его между двух стволов, он опробовал новинку, накрывшись сверху от солнца третьим пальмовым листом. Лежать было крайне неудобно, да и вообще гамаком назвать получившееся язык с трудом поворачивался, но провести в нем ночь, не рискуя оказаться захлестнутым волнами, казалось вполне возможным.
Никакой паники или томительных размышлений о будущем теперь не было — наоборот, почему-то на поверхность экрана сознания выплывали на редкость оптимистичные мысли.
По сути, — думал Артур, закинув руки за голову в своем гамаке, — структура желания моего экзистенциала определяет всё. Вот сейчас я нахожусь в классической экстремальной ситуации, но добившись какой-то минимальной иллюзии безопасности, спокойно лежу и не могу настроиться на то, чтобы всерьез, по-настоящему думать о выживании. Почему? Потому что привычная схема работы желания направляет мысли в первую очередь на самоосознание, а выживание воспринимается просто как само собой разумеющееся рамочное условие.
То есть я даже не могу подумать ни о чем без того, чтобы предварительно не захотеть этого. Любой мысли предшествует желание этой мысли. Поэтому именно структура желания, задающая эмоциональный бэкграунд каждому мгновению моей жизни, является настоящим «производителем Я». Что же из этого следует?
Артур тоскливо посмотрел на кокос, висящий над ним, — прикидывая, как именно вскоре будет его сбрасывать.
Из этого следует, что осознанность — это, в первую очередь, способность управлять структурой своего желания. Однако задача по её развитию сродни попытке вытащить себя за волосы из пучины: чем более «пусто», чем менее направлено на конкретный объект желание, тем оно сильнее; чем оно более наполнено и конкретно, тем более управляемо. Получается, что важно научиться желать сильно, то есть «пусто», но структурированно, то есть «наполненно»; определенно желать неопределенного. Классический парадокс…
Но ведь это и есть парадокс желания самоизменения, всегда разворачивающегося по схеме «хочу того, не знаю чего». Будущее «Я» как проект, которым хотело бы руководствоваться «Я» настоящее, и определённо, и неопределённо одновременно. И как-то ведь на практике иногда удается этот парадокс разрешать. Так что остается только исследовать эту пресловутую «практику».
Артур ёрзнул, устроившись поудобнее в своем импровизированном гамаке, слегка сместив пальмовый лист, тень от которого успела сдвинуться за время возлежания, и продолжил размышление:
А что представляет собой структура желания? По сути, вечную задержку, откладывание реализации, зазор между желаемым и действительным. Я живу в бесконечной задержке воплощения того, что хочу. И конкретный способ организации этой задержки определяет всю мою так называемую индивидуальность. Можно ли представить себе структуру психики вообще без этой задержки? Так, чтобы желание было представлено сознанию сразу вместе с его реализацией? В одном ментальном акте?
Артур надолго задумался, перебирая в памяти все самые далекие выходы за пределы привычной организации структур сознания, которые были в его жизни:
Очевидно, да. Но такой тип психики будет… нечеловеческим. Может быть, обладание им как раз и является отличительной особенностью буддийских архатов и небожителей древнеиндийского пантеона?
Раздражающе саднила левая нога. Артур поднял ее и воззрился на ссадину, красующуюся на лодыжке. Неприятно, конечно, но не смертельно. Просто гигантский синяк, серьезных повреждений, к счастью, нет. Мысль продолжила свое продвижение:
Возможно, именно из-за того, что, воспользовавшись этой задержкой, можно изменить структуру желания, человеческое рождение считается в буддизме особенно благоприятным для практики. Надо только знать, что и как именно менять.
А изменять, разумеется, следует экзистенциал, структуру, по которой выстроено желание. И вместе с ней, инвертивно, по принципу дополнения — изменится так называемое «Я». Скажем, сейчас, когда я намереваюсь основательнее продумать все это, желание выстраивается таким образом, что формирует «меня-намеревающегося». Если я всё хорошо продумаю, создам план и перейду к конкретным актам по воплощению намерения, то уже в конфигурации «себя-реализующего». Изменение структуры желания означает изменение желающего. «Я-пишущий стихи» отличаюсь по структуре от «Я-перетаскивающего холодильник». Значит, для обретения устойчивых изменений необходимо приучиться планировать заранее конфигурацию желания, необходимую для достижения поставленной цели — подобно тому, как мной учитывается расположение предметов комнаты для того, чтобы добраться до пресловутого холодильника ночью. Индикатором успешности в этом случае будет ощущение стабильной и бесперебойной мотивации на выполнение любого действия, так называемая «психическая гибкость», обещанная традицией в качестве законного плода медитации. А поскольку удовольствие возникает как результат успеха в общем цикле реализации цели, такая мета-позиция по отношению к своему желанию должна давать столь же постоянное удовлетворение. Или даже, если быть точнее, вывести за пределы удовольствия и неудовольствия, поскольку они оказываются под контролем…
Это рассуждение показалось Артуру наилучшим объяснением того, зачем занимались аскезой бесчисленные поколения йогов, христианских отшельников и захидов. Дальнейший день прошел без особенных приключений, в попытках медитации на структуры желания в гамаке. Солнце вышло из-за туч, начав яростно опалять открытые участки кожи, до которых сумело дотянуться через просветы листьев пальм, спустя некоторое время усилилась жажда — и к закату он был вынужден расколоть предпоследний кокос…
Лежа на своем импровизированном гамаке и наблюдая за звездами, мерцающими в просветах между туч, Артур мягко и плавно погрузился в сон. Как ни странно, в этом сне не было ничего, связанного с пальмами или морем. Вместо этого он всю ночь бегал по коридорам космической станции, прячась от Чужого в настенных шкафчиках, как в игре «Alien: Isolation», которую когда-то давно проходил. Всё происходящее воспринималось сквозь тонкую, покрывающую экран сознания, пленку страха, однако ценой какой-то удивительной ментальной эквилибристики к концу сна ему все-таки удалось добраться до выхода, не попавшись ксеноморфу.
К утру ночные впечатления рассосались не до конца, оставив после себя странное ощущение пост-присутствия, похожее на то, что бывает после дня, проведенного за рулем — когда даже во сне продолжаешь ехать, опасаясь задремать и компульсивно удерживая готовую к действию ногу рядом с педалью тормоза. Странность же заключалась в том, что на этот раз все было в точности наоборот: на реальность распространилось пост-присутствие из сна.
Открыв глаза и увидев тучи, сдавившие восходящее солнце, Артур неожиданно вспомнил вырванное из-под носа Чужого сновидческое откровение, написанное кем-то с обратной стороны одного из шкафчиков: «страхи — это негативные желания».
Страх — это желание «как бы не»: «как бы не произошло этого, как бы не случилось того». В структуре экзистенциала позитивные желания достижения цели сличаются с негативными и накладываются на них как маршрут на карту — в совокупности это и формирует «ландшафт желания», в рамках которого впоследствии реализуется действие. Итак, страхи — это стены, а позитивные желания — путь движения между ними. И позитивная и негативная составляющие этой «внутренней карты» безусловно иллюзорны, однако до определенного момента такая схема работы желания может быть достаточно продуктивной и действительно способствовать выживанию. Но что произойдет, если стены, соответствующие страхам, будут смещены, «перекручены», не оставляя ни единой лазейки для дальнейшего прохождения?
А ведь эта ситуация блокирующих ложных страхов и соответствует double bind, — подумал Артур. — «Двойное послание» случается, когда «стены» самоограничений, соответствующие страхам, перекручиваются настолько, что исключают любую возможность проскользнуть к своей цели. Это искажает, искривляет всю механику желания, делая ее дисфункциональной, вводя иррациональные ограничители там, где они только мешают. И дальше человек вынужден нести эту сломанную структуру желания через всю жизнь, потому что, по сути, ей и является.
Артуру вспомнились дикие вопли «когда ты уже наконец вырастешь, станешь самостоятельным — и будешь делать то, что я тебе говорю, бестолочь!», которые доносились из комнаты его соседа по коммуналке Павлика в детстве. Мать Павлика, оставшегося без отца, частенько порола его и сопровождала этот процесс подобными double bind-конструкциями, чем немало веселила прочих обитателей коммуналки, коллекционировавших эти выражения как своеобразные мемы. Не смешно было только самому Павлику, который вырос в итоге забитым, тихим алкоголиком.
А если «стены страха» не перекручены, а просто причудливым образом деформированы, сужены, все-таки оставляя шанс на реализацию желаемого, но каким-то пока неизвестным способом? Тогда произошедшее выбрасывает психику в ситуацию необходимости занятия рефлексивной позиции по отношению к структуре собственного желания, выявления того, как именно «я желаю» — чтобы найти способ изменить, перестроить это. А значит, трансформировать так называемое «Я».
Такое стечение обстоятельств дает выход за пределы double bind, подводя психику к следующему уровню рефлексии, при котором часть структуры желания направляется на отслеживание того, как именно эта структура реализована. Желание знать, «что там у меня с желанием?» становится постоянным, фоновым, а главное — ежесекундно реализуемым экзистенциалом. Появляется что-то наподобие «карты желания», маячащей в углу экрана сознания. С помощью этой карты и осуществляются в дальнейшем микроусилия по постоянному подправлению структуры «Я». Что это если не зачатки искомого «индивидуального языка», позволяющего отслеживать свое состояние?
Однако для этого нужно обладать здоровой и функциональной структурой желания, способной преодолеть потенциальный double bind. Встретить его однажды лицом к лицу — и выйти победителем из этого противостояния.
По всей видимости, именно такая здоровая структура была нормой для жителей Древней Индии времен Будды. Ватерлинией, ниже которой «благородный человек», как правило, не опускался. Сегодня же общество в целом находится «под водой», значительно ниже этой ватерлинии. Причем, настолько ниже, что обычный человек просто не способен реализовать полный цикл от порождения собственного, не инспирированного маркетингом, желания до его полноценной реализации. Оказавшись один в лесу или вот… на необитаемом острове, он банально умрет. Потому что не сможет справиться с выживанием.
Кто в современном мире обладает этой здоровой структурой? Тот, кто никогда не попадал в ситуацию double bind потому, что рос в стерильных условиях? Нет, это как раз пресловутый хайдеггеровский типаж «das Man» европейской цивилизации. Наоборот, он опасается выходить за пределы своей социальной барокамеры, клетушки экономического статуса в обществе потребления. Ближе всего к позиции, с которой можно начинать восхождение, сегодня находится именно тот, кто неоднократно оказывался в ситуациях потенциального double bind, но сумел преодолеть их. Выжить и победить. Но ведь это про нас, русских. Ведь в России из-за того, что почти вся жизнь состоит из череды сменяющих друг друга кризисов, человек либо превращается в окончательно раздавленного психотика, либо преодолевает эти кризисы и выходит в рефлексивную позицию по отношению к своему желанию. Становясь универсальным «выживатором» — символом чего и является сибирский мужик. Будучи заброшенным в тайгу, он не только не погибнет, но и срубит себе избушку, насобирает ягод, грибов, добудет рыбу и зверя, обзаведется припасами, найдет жену — в общем, оставит надел для следующих поколений.
С таким умонастроением Артур встал с гамака и разбил кинескопом об основание пальмы последний кокос. Допив его содержимое и разглядывая сколотые на углу экрана ракушки, он с какой-то обостренной трезвостью осознал, что никакая поисковая команда в ближайшие дни на остров не приплывет и ему не поможет. А дальше мысль сама развернулась в нужном направлении: полученные накануне экскурсии раздаточные материалы содержали карту — и Артур достаточно внимательно её изучил.
Учитывая, что расстояние между Симиланами и материком около 50 километров, и часть его была гарантированно преодолена на катере, разумнее просто самому доплыть до берега. Вода теплая, опасных для человека акул в Андаманском море скорее всего нет — главное верно удерживать направление на восток, и не давать себя сбить течению, которое почти наверняка есть в проливе.
Больше ни секунды не раздумывая, Артур разбежался, оттолкнулся от берега — и, погрузившись в воду, поплыл в сторону восходящего солнца. Через некоторое время верхушки пальм его робинзоньего островка скрылись за горизонтом, солнце зашло за плотные тучи, и ориентироваться стало сложнее. Однако желтый оттиск всё равно проступал сквозь серую завесу — и, как казалось Артуру, направление удавалось выдерживать. Дождя не было.
По ощущениям прошло уже несколько часов, когда далеко вдали показались очертания большого катера. Артур кричал и размахивал руками, не особенно, впрочем, рассчитывая, что его заметят. Так и произошло — катер вскоре исчез из зоны видимости. Оставалось только плыть дальше.
Через некоторое время что-то коснулось его ноги. Липким комком к горлу подкатил было страх, но опустив взгляд, Артур увидел под собой всего лишь косяк мелких рыбешек и успокоился.
Солнце вышло из-за туч, и стало ощутимо припекать. Плюс ко всему ссадина на левой ноге снова начала достаточно болезненно жечь и саднить — морская соль въедалась в ткани, и, очевидно, сделать с этим ничего было нельзя.
С некоторым усилием он попытался сконфигурировать свое внимание так, чтобы меньше ощущать боль и больше думать. На какое-то время это удалось, и мысль двинулась по своей рефлексивной траектории:
Воображение — это и есть своеобразный «психический орган» по самоизменению. При том, что интроцепция — сенсорный орган «самоощупывания» психики. Звуки мелодии, которые я воспроизвожу в своем сознании, визуальные образы, созданные фантазией, фиксируются на том же сенсорном уровне, на котором осуществляется обычное восприятие. Однако они способны оказывать воздействие на эмоциональное состояние: удача и неудача в придумывании новой композиции или нового сюжета вполне реально поднимают настроение или не дают этого сделать.
Значит, один из самых простых и действенных путей для развития способности изменять свои состояния — это развитие воображения. Прокачивание его как мышцы. Формирование надежных «психических органов» создания нового, на которые можно положиться при создании всех возможных форм: образов, звуков и кинестетических ощущений, фантазмов и концептов. Самоизменение это то, что обязывает находиться в состоянии постоянного творчества. Творчества по создания нового, желанного образа «Я» — «Я+». Поначалу попадание в этот режим похоже на моментальный проблеск. Для закрепления и устойчивого пребывания там необходимо поддерживать достигнутый уровень с помощью индивидуального языка: синтаксической надстройки, которая обеспечивает «внутреннюю навигацию» творческого акта, позволяющую все точнее создавать не случайные, а вполне определенные, осознанные образы. Как экзоскелет, как поддержка для ментальной мышцы, поначалу этот внутренний синтаксис абсолютно необходим. Затем становится привычным и фоновым спутником — как в свое время стал им обычный, естественный язык. С помощью этого «рабочего органа воображения» можно перебраться от текущей конфигурации психики к другой, более гибкой и гармоничной…
Артур надолго задумался над возможными формами индивидуального языка, и уже спустя несколько минут, проведенных под палящими лучами солнца в открытом море, это размышление стало плавно перетекать в фантазматические образы — где-то через полчаса бесконтрольного дрейфа по этому океану бессознательного Артур поймал себя на том, что упоенно представляет белку Рататоск из Старшей Эдды, снующей по Мировому Дереву Иггдрасиль вверх и вниз посланником между орлом Хресвельгом и змеем Нидхёггом. Однако почему-то в этом сне наяву экзистенциал белки был пропитан отнюдь не стремлением побыстрее доставить послание из верхнего мира в нижний, а постоянной озабоченностью на тему того, замечают ли высшие силы, как она умудряется потихоньку подъедать при этом кору.
«Да уж, действительно the medium is the message», — подумал Артур, ощущая, что уже серьезно перегрелся.
На горизонте показался угловатый силуэт корабля. Артур погреб к нему с удвоенной энергией, стараясь время от времени размахивать руками над поверхностью воды, чтобы быть замеченным. Но это не дало никаких результатов — и примерно через полчаса отчаянного марш-броска корабль скрылся за горизонтом.
Внезапно впереди слева он увидел что-то похожее на туманные контуры гор — и изо всех оставшихся сил поплыл туда. Через некоторое время действительно обозначились холмы с характерными ложбинками между вершинами, напоминавшими спину диплодока. Артур видел их раньше — это было побережье провинции Пхангна к северу от Пхукета. Спустя час он, усталый и пошатывающийся, выполз на прибрежный песок — и буквально наткнулся на семейство отдыхающих на берегу тайцев. С трудом представимой в другой ситуации искренней радостью Артур едва ли не полез к ним обниматься. Уже через два часа он был дома. Робинзонада закончилась.
Ментальная брезгливость
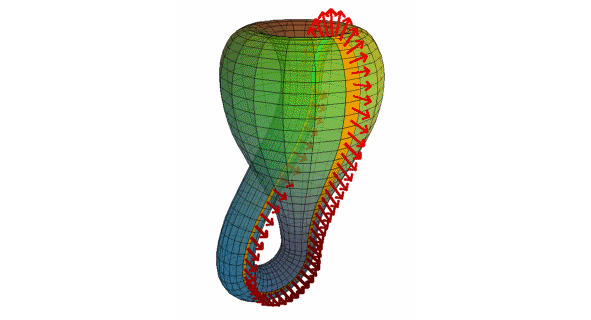
После возвращения на Пхукет выяснилось, что за молчание о маленьком симиланском инциденте новоявленный работодатель готов выплатить некоторую компенсацию. Артур не возражал — тем более что других денежных занятий в ближайшей перспективе не вырисовывалось. В результате экскурсии надолго исчезли с его феноменологического горизонта: полученных денег вполне хватало, чтобы спокойно прожить несколько месяцев. Посчитав это подарком судьбы, Артур решил воспользоваться освободившимся временем и поискать продвинутое «психоделическое сообщество», которое помогло бы нащупать дальнейшие шаги в практике. Буддийская традиция тхеравады, повсеместно распространенная в Таиланде, была интригующей, но труднопостижимой из-за почти непреодолимого языкового барьера. Когда-то на Пхукете проходил англоязычный ретрит Алана Уоллеса, но, к сожалению, это осталось в прошлом. Реклама остальных медитативных мероприятий для иностранцев, которые удалось найти в интернете, оставляла впечатление классического «шизо-лохо-инфо-бизнеса». После нескольких дней безуспешных поисков, когда впереди уже отчетливо замаячила перспектива и дальше продолжать вечернее чтение «Абхидхаммы» с комментариями как наиболее доступного способа постижения структуры ума, Артур буквально наткнулся при выходе из своего бунгало на объявление о занятиях йогой, висящее на банановой пальме, под которой он обычно возлежал вечерком в гамаке. Распечатанная на обычном струйном принтере картинка демонстрировала иссушенного и почему-то безголового абстрактного мужика, в медитативной позе отрывающегося от земли и воспаряющего к сияющему символу Ом, как будто силясь компенсировать слиянием с ним отсутствующую часть тела. Мысль о том, что обычная «йога», ставшая своеобразным ширпотребным отстойником нью-эйджа, может оказаться источником откровений, конечно, не выглядела особенно правдоподобной, но… было что-то такое — лапидарно-притягательное — в этом изображении. В любом случае, интуиция подсказывала, что при отсутствии адекватных альтернатив попробовать стоило.
Самым необычным и интригующим во всем этом было то, что проходило обучение, как уверяло объявление, даже не на Пхукете, а на Пангане, т.е. по другую сторону Малаккского перешейка. Каким образом попала на местную пальму листовка, было совершенно непонятно. Артур, давно мечтавший сменить дислокацию и покататься по Таиланду, решил ехать.
Однако по дороге его ожидало еще одно приключение: как раз на полпути между Пхукетом и островами Сиамского залива располагалось легендарное озеро Чео Лан с плавучими домиками, куда он уже несколько месяцев хотел заглянуть. Таким шансом преступно было не воспользоваться…
Плавучая деревенька встретила Артура традиционным для тропиков ранним закатом и удивительно полной луной над горными вершинами. После на редкость приятной ночи, проведенной под убаюкивающе-размеренное покачивание кровати, с утра он направился к хозяину этого местечка с тем, чтобы взять инвентарь и покаякать несколько часов в своё удовольствие в живописных проливах между вертикальными островами.
Уже оттолкнувшись веслом от мостков причала, Артур обратил внимание на пожилую тайку, которая, вытащив откуда-то из подсобки ведро со шваброй, собралась мыть и без того мокрые доски. Однако, резко повернувшись на неожиданный оклик сзади, опрокинула его.
И вот, глядя на мутноватую дорожку, вытекающую из-под опрокинутого ведра в зеленоватые воды озера, Артур неожиданно вспомнил, почему ему всегда было не по себе, когда мать убиралась дома. Затевала уборку она всегда с утра в субботу, подчиняясь властному императиву, доставшемуся ей от её матери. Неприятные запахи чистящих реагентов, надолго воцарявшиеся после этого в помещении, постоянно исходящее от матери раздражение и угрюмая, глухая злоба, вызванное тем, что она не должна, но делает — а этого никто не ценит; чувство вины, которое мать из-за этого стремилась бессознательно и отчасти всегда безуспешно ему навязать — все это сплеталось в тугой, плотно сбитый эмоциональный клубок из мокрых щетинок веника и мелких волосков, прилипших к подсыхающему линолеуму, постоянного фонового опасения подскользнуться и нагрязнить, щедро сдобренного брезгливостью. Именно этот слипшийся в клубок экзистенциал с течением времени мало-помалу и стал ассоциироваться у него с обыденной реальностью — неотвратимой и отвратительной.
Однако, глядя вдаль, на мягкие облачка, неспешно плывущие по небу, и солнце, отражающееся в спокойной глади озера, Артур не мог не признать, что в настоящий момент реальность совсем не кажется ему такой уж невыносимой и обыденной. Скорее, напротив — аспект гадливости и отторжения в последние годы, проведенные за рубежом, проявлялся всё реже, постепенно уступая место расслабленной благостности и спокойному, взвешенному отношению ко всему происходящему. Отчасти это, конечно, было обусловлено местом проживания, отчасти — длительной внутренней работой по сознательному исправлению доставшихся способов восприятия, а еще — редкими, но яркими моментами проблесков, задававших ориентиры для этой работы. Один из таких моментов воскрес в памяти при взгляде на показавшиеся впереди вертикальные острова:
Детский сад. Старшая группа. Свежий летний вечер. Постепенно сгущаются сумерки, а он все еще остается на территории «площадки для выгула», в то время как почти всех остальных детей уже разобрали родители. Идет дождь — поэтому они с воспитательницей и собратом по несчастью Алешей прячутся под типовым для советских садиков большим, открытым с двух сторон навесом с длинной скамьей вдоль стены. Бегающие в щелях деревянной скамьи сороконожки вызывают отвращение. Однако если устают ноги и хочется посидеть, то приходится рисковать и хотя бы ненадолго с опаской усаживаться на неровную дощатую поверхность. Воспитательница, заняв место в самом углу, подальше от брызг дождя, посматривает на часы, читает какую-то книгу и никак не реагирует на детей. Похоже, сороконожки нисколько её не беспокоят. Родителей всё нет. Но вот дождь прекращается, и неожиданно на небе появляется радуга, чуть в стороне от багряного закатного солнца. Они с Алешей выбегают из-под навеса — и оказываются возле рабицы, ограждающей периметр их участка для выгула. Сквозь неё проступают ярко-зеленые стручки гороха — почему-то абсолютно сухие, несмотря на капли, покрывающие все вокруг. Алеша, радостно хохоча, отрывает один стручок за другим, пытаясь сделать из них дуделки. А Артур, замерев, неотрывно смотрит на удивительно ровные и твердые ряды горошин в приоткрытых стручках, вестниками какой-то высшей упорядоченности оформившиеся внутри аморфной и эластичной зеленой оболочки. Что-то очень важное происходит внутри него в этот момент. Что-то, что он будет способен сформулировать и описать лишь значительно позже. Понимание принципа, по которому из текучего месива внутренних состояний может возникнуть нечто и устойчивое и структурированное.
Получается, — думал Артур, размеренно работая веслом, — что моя сегодняшняя способность к направленному интроцептивному размышлению основывается на внутреннем открытии, которое я тогда сделал. И так называемые «произвольные» мысли по поводу самонаблюдения возможны только благодаря постоянно осуществляемой и ставшей уже автоматической, почти незаметной, операции свития вечно текущих эмоциональных состояний в тугой стручок экзистенциал рефлексии. Значит, для развития и усовершенствования этой способности необходимо разобраться в тонкостях этого процесса — понять, из чего конкретно он состоит и как именно протекает.
Продолжая раскручивать нить размышления дальше, Артур вдруг с какой-то парадоксальной, вопиющей отчетливостью пришел к ошеломляющему своей лучезарной простотой откровению: «Брезгливость — вот базовый для эволюции моего сознания экзистенциал. Брезгливость, а не страх или гнев. Если верить современной нейробиологии, выводящей каждый следующий сегмент «трехчастного мозга» из переразвитой части предыдущего, и искать в недрах лимбической системы то эмоциональное состояние, из которой выросло всё сложное и дифференцированное здание сознания, реализованного на неокортексе, — этим состоянием, вполне вероятно, будет именно брезгливость.
Из-за того, что брезгливость относительно нейтральна, в отличие от сильного страха или гнева, можно пропускать через ее фильтр всё в мире: начиная от разлагающейся тушки животного, сбитого на обочине дороги, и заканчивая льющимся из репродукторов «творчеством» Филиппа Киркорова. Причем, брезгливость эта может иметь невероятные степени утонченности, соответствующие реальному уровню сложности жизни. Не знаю, возможны ли другие базовые эмоции для первичной сборки — например, страх или радость, — но в моем случае реализовался именно этот, условно-эстетический, сценарий. И по всей видимости, не только в моем…
Артуру подумалось, что все наблюдаемые им в жизни «плотины», которые окружающие выстраивали против возможных потоков нежности, были нужны для того, чтобы не допустить проникновения внутрь вместе с этими потоками частичек чужой эмоциональной «грязи» — и тем самым формирования double bind’ов. Встроенный императив брезгливости буквально заставляет их поступать так — частенько без рефлексивного осознавания причин.
Ведь то, что я называю на своем внутреннем языке «брезгливостью», далеко выходит за пределы чисто физиологической или эмоциональной сферы, и прорастает в ментальную, давая начало эстетике. Она формирует коридор пристрастий, определяющий, какими видами можно любоваться весь день, а какие не достойны и поверхностного взгляда, какие запахи приятно вдыхать, а какие — вообще не стоит, какие звуки можно завороженно слушать часами, а какие вызывают отторжение с первой секунды. Внутри этого коридора приятия брезгливость воспринимается как что-то наподобие эмоционально-вестибулярного ощущения приближения к стенкам. Вываливаясь за его пределы, я ощущаю отвращение. Примерно так же воспринимается удержание равновесия и отклонение от него. Если я плыву на каяке по бурной воде, и меня качает — как сейчас, — то до отклонения определенного уровня это воспринимается просто как довольно нейтральное в эмоциональном плане нарушение равновесия. А после «вываливания» за пределы коридора «условной вертикальности» — уже как неиллюзорная тошнота, приводящая в самых запущенных случаях к опорожнению желудка. Этот принцип, самозамыкаясь и воспроизводясь на следующем уровне, может быть применен к эмоциональным переживаниям, а затем — и к мыслям, приводя к особому инструменту «ментальной вестибуляции», позволяющей удерживаться в коридоре «ментальной брезгливости».
Лежащий в основе этого восходящего тренда принцип развития через самоочищение, недопущения эмоциональной и ментальной грязи, заболоченности, прекрасно известен всем традиционным культурам: индийские брахманы, китайские мандарины и даже европейские интеллектуалы до наступления фазы интенсивного модерна были буквально помешаны на чистоте — причем, никогда не только «внешней». Такое выражение как «неряшливое мышление» в противовес «чистому» свидетельствует именно об этом.
Артур подумал о том, что в таком аспекте даже «Критика чистого разума» Канта имеет вполне ощутимые физиологические коннотации.
Брезгливость, определяя и развивая ментальную сферу, фильтрует не содержание мысли, а сам способ, посредством которого она воспринимается сознанием. А мыслить выбранным — эстетичным и «чистым» с моей точки зрения, а значит, отвечающим критериям ментальной брезгливости — способом можно о чем угодно. Вероятно, поэтому, — отметил мимоходом Артур, — каждый человек достаточно точно определен дистинктивностью и «чистотой» своего мышления…
Если смотреть на дело таким образом, ничего, кроме ледокола брезгливости, окаймляемого отвалами эмоциональных и ментальных нечистот, для наблюдаемого в реальности развития сознания и не требуется. Действительно, если попробовать всерьез представить, какие именно ресурсы нужны психике для того, чтобы точно в каждый момент жизни определить, к чему испытывать брезгливость, а к чему — нет, то окажется, что одна только эта задача вынуждает строить всё сложное и детализированное здание картины мира, над которой ежесекундно заботливо корпеет сознание, формируя самые прихотливые извивы убеждений и изящные завитки ценностей, возникающих, чтобы уверенно ответить себе на вопрос: эстетично это или нет — отвечает ли критериям притязательного, утонченного до уровня человеческой сознательности вкуса?
В этом случае прочная несущая основа дальнейшего развития сознания заключается в понимании принципа «генетической преемственности» и повторения на новом уровне, с помощью которого реализовано то, что можно назвать ментальной сферой. Однако какая именно инстанция задает критерии этой магистральной линии, формирующей сознание? Бессознательное? Другой человек?…
Мерно подгребая веслом то справа, то слева, Артур с удовольствием обратил внимание на то, насколько приблизились контуры маячащих впереди вертикальных островов в процессе этого размышления. Которое после небольшой паузы благополучно продолжилось:
Вероятно, этой инстанцией может быть сам нативный экзистенциал: подобно тому, как горошина, вызревшая в стручке, определяет строение будущего побега, который из него вырастет и породит следующее поколение горошин, экзистенциал обуславливает вырастающую на его фундаменте картину мира. И многое, невообразимо многое в жизни зависит от того, сумел ли человек однажды взять под контроль критерии этого роста: метафорически говоря, это и есть условие раскрытия его экзистенциального стручка.
Однако, если оглянуться вокруг, придется признать, что в большинстве случаев этого не происходит, статистически люди очевидным образом не реализуют свои жизненные проекты, утрачивая нативный экзистенциал. Из этого можно сделать вывод: критерии формирования «Я+» — образа себя в будущем — находятся не под их контролем. Человек не является полноправным хозяином самого себя. Что же мешает этому?
Тучки набежали на солнце, сделав жаркий день чуть более прохладным. Постепенно стал ощущаться отклик мышц на размеренную, сбалансированную работу веслом. Артур оглянулся –плавучая деревенька уже была едва различима — и продолжил цепочку мыслей:
По всей видимости, источник помехи надо искать на самых ранних этапах формирования психики. Которое никогда не осуществляется в социальном вакууме. Наоборот, только наличие других людей и делает возможным его появление, то есть всегда есть множество сложных и запутанных факторов, привнесенных окружающими. А кто, собственно, окружает? В первую очередь, конечно же, мать.
Задача матери — в первую очередь, обеспечить выживание ребенку. То есть не только организовать физиологическую инфраструктуру: еду, тепло и т.д., но и «инсталлировать» такое мировоззрение, которое убережет его от возможных проблем в будущем. В качестве одного из своих полюсов внедряемый матерью экзистенциал, безусловно, будет включать страх. Страх, который поможет ребенку отшатнуться от края крыши и не полезть с кулаками к полицейскому на улице. Но это еще не всё. Вторым полюсом «охранительной» картины мира безусловно будет брезгливость. Брезгливость, не позволяющая, подобно собаке, играть со своими экскрементами или попробовать на вкус свежий трупик мышки во дворе. Как минимум. Как максимум — не мочиться прилюдно и не вызывать у окружающих отторжения своим внешним видом, поступками, запахом и эмоциональным состоянием. И вот эта вторая область «социальной брезгливости», возникновение которой нужно заранее предугадать у других людей как отклик на свои действия, — и вынуждает картину мира расти и усложняться. Заставляет «протосознание» ребенка невероятно утончаться и при этом расширяться, последовательно вбирая в себя описание целого мира.
Получается, что мать поначалу в некотором смысле почти вынужденно контролирует ребенка, выступая в роли вершителя критериев правильности картины мира. Произвольным и не всегда понятным ребенку образом задавая, что приемлемо, а что — нет. И одна часть людей в ходе рефлексивной работы впоследствии проясняет критерии этой «приемлемости», а другая — нет, просто принимая ее как данность.
Артур продолжал грести, направляя свой каяк слегка влево, взгляд его рассеянно блуждал по фантасмагорическим контурам приближающихся вертикальных островов, а мысль перестраивалась, совершая обходной маневр.
Если подойти к тому же с другой стороны, становится в еще большей степени ясно, почему так нелегко сохранить необходимый для самонаблюдения уровень глубины и детализации интроцепции. Ведь если посмотреть на жизнь обычного человека с перспективы более детализированного уровня сознания, пытаясь поставить себя на его место и по-настоящему представить, как он воспринимает мир… первое, что возникает внутри — это брезгливость.
Но не представлять себе этого хотя бы на каком-то уровне — и продолжать жить в обществе, нормально общаясь с людьми, — невозможно. Именно по причине необходимости поддержания обязательных нормативов «социальной брезгливости». Вот и возникает постоянная «дилемма толерантности»: как не утратить нативный экзистенциал, удерживая и сохраняя те тонкие измерения восприятия, которые никак не поддерживаются окружением, а подчас даже агрессивно под его воздействием схлопываются? Какие невероятные настройки критериев брезгливости — эмоциональной, ментальной и даже физиологической — помогут пройти по лезвию этой бритвы, удерживая равновесие между социальной адекватностью и возможностью для внутреннего развития?
Артур с усмешкой подумал, что если перефразировать Ницше, окажется, что человек — это узкий канат брезгливости, протянутый между обезьяньим стадом и сверхчеловеком. На внутреннем экране всплыла визуальная метафора того, как это возможно в современных реалиях: странный аналог «Джентльменов Удачи», в котором доктор филологических наук попадает на зону, постепенно осваивая тонкое искусство поддержания конвенционального дискурса с окружением посредством таких понятий, как «мусорок», «зашквар» и «параша».
Примерно в таком же положении оказываются люди, имеющие эстетически утонченные критерии сборки картины мира, предполагаемые их нативным экзистенциалом: либо они формируют микросообщество, которое позволяет поддерживать необходимый для рефлексивной жизни дискурсивный уровень, либо вырабатывают сложные внутренние механизмы построения своего индивидуального языка для «существования в одиночку». Либо… их «нативные измерения восприятия» просто схлопываются, и они без следа растворяются в общей массе.
Впрочем, — подумалось Артуру, — есть еще одна крайне неприятная возможность. Безумие. Вполне вероятно, что некоторые сумасшедшие пытаются во что бы то ни стало удержать эти «схлопнутые» измерения смысла, даже ценой потери нити конвенционального дискурса — такую высокую субъективную ценность они для них имеют. В результате на какое-то мгновение до схлопывания их сознание прорывается в желанные измерения и испытывает экзальтацию легкости и полета — а потом, после так или иначе выраженного столкновения с социальной реальностью и поражения, его сплющивает, размазывает, перекручивает. Просто потому что не удается выстроить надежный каркас целостного и согласованного «индивидуального языка», препятствующий этому. Так, что часть сознания остается придавленной в таком сжатом «недоизмерении», подобно прищемленной и раздробленной конечности, попавшей под промышленный пресс. Возможно, это и является одной из причин сумасшествия.
От детального представления подобной картины Артура слегка передернуло, несмотря на жаркий день и потоки мягкого солнечного света, изливающегося на одинокий каяк с прояснившегося неба. Очевидно, глубинного обдумывания феноменологии сумасшествия его личные критерии брезгливости пока не выдерживали.
Итак, требуется создать себе настолько тонкую и главное — гибко и динамично меняющуюся — систему экзистенциальных настроек, которая позволила бы пройти между Сциллой всеобщего отупения и Харибдой сумасшествия. Ежесекундно удерживая постоянно смещающуюся точку равновесия. Только такая ментальная эквилибристика, открывающая путь к постоянной осознанности, позволит поддерживать нуминозные измерения восприятия несхлопнутыми, задавая динамику рекурсивного развития.
И в чем же основная проблема поддержания этого баланса? Одна из причин, конечно, заключается в тонкости нити, на которой всё держится в настоящий момент. То есть, в глубине, «ёмкости» осознавания. Примеры этого встречаются каждый день. Когда кто-то окликает меня во время сложного действия и говорит «осторожно!», велика вероятность, что именно из-за этой реплики я и совершу ошибку. Почему так? Потому что в противном — идеальном — случае надо было бы продолжить делать то, что я делаю, услышать то, что говорят, понять смысл предупреждения, скорректировать свою стратегию — и всё это параллельно. В режиме онлайн. Но параллельный процессинг такого уровня совсем не просто развить. Именно из-за ограничения ширины «горлышка» осознавания момента актуально настоящего. Это «узкое место» сознания и является основной проблемой.
Однако проблема еще глубже: ведь сложные мысли всегда предполагают несколько параллельно присутствующих измерений глубины, которые в принципе нельзя схватить, воспринимая их последовательно, разворачивая в одномерную линию, свойственную проговариванию — ведь речь это линейный процесс.
Затронутая мысль была глубока. Артур ощущал, что не сможет сейчас строго и детализированно ее продумать. Поэтому в качестве компромисса она выплыла на поверхность осознания в виде метафоры:
В условной топологии психики трехмерный тоннель осознавания является чем-то наподобие «горлышка» четырехмерной бутылки Клейна, одним из ее «срезов». Этой «бутылке» постоянно приходится пропускать через себя многомерные мысли. Чем сложнее и оригинальнее мысль, тем большее количество несхлопнутых измерений восприятия она содержит.
Более того, чтобы не ломаться под натиском жизни и её властного требования действовать сейчас, в этой конкретной ситуации, мысль, порождаемая «индивидуальным языком», вынуждена быть геометрически полноценной, замкнутой структурой. Устойчивой к возможным ударам и деформациям. Ведь для того, чтобы соответствовать сложной и быстро меняющейся реальности, схватывающая её мысль должна быть столь же масштабной и многомерной. Учитывающей все структурно значимые аспекты.
По поверхности воды мелькнула тень. Артур поднял голову и проследил взглядом полет большой птицы. Мимоходом возникла мысль, что найденная им метафора позволяет понять, почему весь цикл взаимодействия мира и сознания именуется просвещенными буддистами «то-это», а не, скажем, «субъект-объект». Просто потому что у четырехмерной бутылки Клейна нет «внутренности» и нет «наружи», она одновременно полностью обращена вовнутрь каждой своей частью и целиком «вывернута» во внешний мир — и это странное положение вещей достаточно точно характеризует ситуацию сознания.
Поскольку сознание никогда не имеет дела с реальностью как таковой, «вещью в себе», нельзя, не искажая существенных для понимания общей картины аспектов, утверждать, что оно оперирует с «внешними» объектами, до которых якобы дотягивается внимание. Можно говорить только о разнесенных полюсах «то» и «это», задающих условные координаты «внутри» и «снаружи» в метафорической Бутылке Сознания.
Такое описание также помогает понять, почему нельзя сразу перейти к недвойственному восприятию реальности — и не морочиться всеми промежуточными стадиями. Сделать так не получится примерно по тем же причинам, по которым нельзя сэкономить на стрелках часов: нужны как минимум две, никак не выйдет ограничиться двумя сторонами одной стрелки для того, чтобы отображать раздельно часы и минуты. Как в анекдоте о маркерах: «Если у вас есть один маркер, можно изрисовать им всё, кроме этого маркера. Если у вас есть два маркера, можно изрисовать ими вообще всё».
Ощущая, что расплывчатые метафорические рассуждения заводят его уже слишком далеко, Артур подумал, что это адвайтно-«бутылочное» описание сознания прекрасно дополняет концепцию Метцингера относительно туннеля Эго:
Поскольку наблюдатель всегда находится «внутри», а гипотетическая реальность — постоянно «снаружи», от первого лица она всегда выглядит не как Бутылка, а как ежесекундно меняющийся срез туннеля воспринимаемого. Этот туннель возможен только потому, что стенки его «прозрачны» для наблюдателя, частью оптики которого они являются — чтобы сознание смогло без особых проблем «видеть» сквозь структуры, поддерживающие его постоянную работу. Если же сознание переходит к рассмотрению самих этих структур в ходе рефлексии, они становятся «непрозрачными» — и, разумеется, так просто сквозь них уже не посмотришь.
Одним из ухищрений, позволяющих сделать эти стенки полупроницаемыми, но не растворить их окончательно, очевидно, и является медитация — она отрезает массу паттернов автоматического восприятия и реагирования, позволяя достичь контакта со стенками своего туннеля, интроцептивно «запеленговать» их, одновременно сохраняя проницаемость, достаточную для поддержания жизнедеятельности сознания. В отличие, например, от сна, при котором сознание перестраивается полностью и прозрачность исчезает.
За этими рассуждениями Артур успел обогнуть островок, являвшийся крайней точкой его путешествия, и начал движение обратно по живописному проливу между двумя большими, вытарчивающими из воды утесами, между которыми ухитрились расположиться еще три маленьких.
Итак, если что-то делать с размером «горлышка», узкого места сознания, станет очевидно, что корень проблемы — в количестве измерений, которые Бутылка способна сквозь себя пропускать. Ведь для составления реально действенного плана самоизменения требуется — по крайней мере в общих чертах — структурно отразить все измерения психики ее собственными средствами. Прямо по ходу работы, «в режиме онлайн». Именно для этого по большому счету и нужны «сложные», многомерные, «тонкие» мысли — и как следствие, основанные на них «сложные», многомерные и «тонкие» медитативные техники. Очевидно, всё это — ухищрения для преодоления паритета между уровнями сложности описываемой и описывающей структур. И достижения «баланса полупрозрачности», который позволяет сознанию узнать о своей структуре что-то по-настоящему ценное в ходе интроспективного самонаблюдения.
Этот баланс ощущается как «удержание на канате», состояние творчества по созданию себя, «Я+», своих ментальных структур в будущем: когда есть возможность произвольно изменять отдельные фрагменты восприятия и интерпретации мира, при этом сохраняя в относительной неизменности всё остальное. Но этот баланс и задаётся развитой, утонченной ментальной брезгливостью. Именно она формирует и удерживает коридор развития, приводящий к созданию индивидуального языка, способного на такое.
Судя по всему, достижение этого состояния именуется вхождением в «дхьяну» в «Абхидхамме» и сопровождается фоновым эмоциональным осознанием тонкой радости, значимости происходящего и желанием его удержать. К сожалению, удерживаться на этом «канате» долгое время очень сложно, поэтому через некоторое время, как правило, дхьяна теряется, и состояние ускользает.
Впереди показался причал плавучей деревеньки, до причала оставалось совсем немного. Мысль снова вернулась к своему предмету:
Итак, проблема заключается в том, как удержать достигнутое однажды — в качестве проблеска — состояние дхьяны, в котором можно было бы спокойно и уверенно заниматься самоизменением. Что в этом плане может дать «бутылочный подход» к репрезентации сознания?.. Понимание того, что для достижения дхьяны нужно будет, пускай и в общих чертах, учитывать всю топологию сознания: не только текущую позицию, но и тот путь, посредством которого она была достигнута. Если забыть эту «карту» — потеряешь ее. А как можно обеспечить такое запоминание? С помощью инсталляции рефлексивного индивидуального языка в стенки Бутылки, оптику, через которую я всё воспринимаю, — пришел к выводу Артур, поглядывая на приближающийся плавучий поселок.
Это, безусловно, надежный способ. Взгляд на мир невозможно забыть, он дан всегда, в каждом акте восприятия, в том, как я вижу это небо, эту воду, эти горы на горизонте. Проблема лишь в том, как закрепить, встроить в него такую постоянную «полупроницаемую» поддержку.
Для этого и приходится работать «против» жесткости существующего описания мира, преодолевать ограничения уже сложившейся жизненной «оптики». И поэтому так необычайно важны те редкие ситуации, когда получается менять ее, вплетая новые элементы в стекло Бутылки — в саму ткань взгляда. По сути, для этого и нужна медитация. Она позволяет начать строить сложное и устойчивое внутреннее здание: сначала из концептуальных мыслей, являющихся аналогом плана-проекта, затем из сформированных на их основе эмоциональных состояний, а затем уже окончательно закрепить, «седиментировать» эти состояния в самом взгляде на мир. Так, чтобы у нового способа восприятия уже не было возможности «расплестись». Но и это еще не всё: важно не ограничиваться отдельными достижениями, продолжая поддерживать баланс — чтобы то, что было прочным фундаментом и опорой для мыслепостроений вчера, стало проницаемым для взгляда материалом сегодня. И наоборот — чтобы то, что является проницаемым сегодня, окрепло, обретя твердость непробиваемого стекла завтра.
Именно такая постепенная работа и позволит расширить горлышко Бутылки настолько, чтобы оно перестало мешать…
На этой мысли каяк уткнулся в шины, огораживающие внешний периметр плавучего городка. Подхватив весло под мышку, Артур с веселым молодецким гиканьем выпрыгнул на доски причала и пошел, улыбаясь, к хозяину — сдавать инвентарь.
DOS’o-кратики
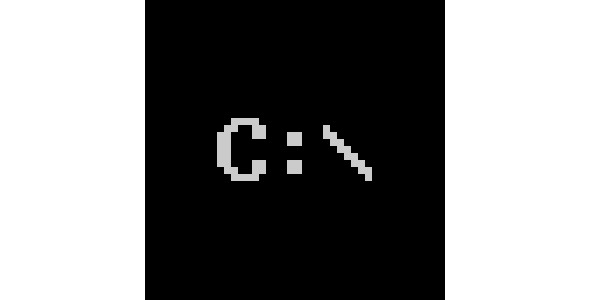
На закате следующего после отбытия из Чео Лан дня Артур уже осматривал свое новое жилище на побережье Ко Панган. Оно мало чем отличалась от старого, пхукетского — такая же скромная герметичная лачужка с кондиционером — только стоило чуть подороже.
Выяснилось, что привлекшие его сюда курсы йоги проводит осевший шесть лет назад в Таиланде украинец по прозвищу Ном.
Ном был жилист, подтянут, как и положено инструктору, и действительно напоминал чем-то мужика с приснопамятной рекламки — к сожалению, через некоторое время после знакомства укреплялось впечатление, что сходство это касается и головы.
Как оказалось, его группа состояла всего из 4 девушек, занимавшихся в основном совместным распеванием мантр с перерывами на длительные растяжки и шавасану в маленькой комнатке на втором этаже домика Нома. Было понятно, что систематически он кое-кого из группы потрахивал, а может быть даже и всех вместе, поэтому появление еще одного мужчины привнесло некоторое напряжение, обусловленное вполне ощутимой ревностью лидера и не менее ощутимым оживлением женской части коллектива.
Каждая из девушек, как и полагалось, обладала «духовным» нью-эйджевским прозвищем: в сообществе фигурировали: Шакти, Тара с Парвати и даже Изида. Поскольку все они были достаточно страшненькими и малоинтересными, желания выяснять их настоящие имена у Артура не возникло. Создавать Ному конкуренцию — тоже.
На самих занятиях все происходило почти в полном безмолвии, за исключением инструкций, которые Ном отрывисто, будто нехотя отдавал надтреснутым, скрипучим голосом.
После очередной практики, разминая растянутые сухожилия, Артур понял, что объяснений, по всей видимости, не предвидится, и пора наконец обратиться к гуру с озадачивающими вопросами по поводу состояний сознания. В ответ он получил только многозначительное хмыкание и традиционный в таких случаев ответ «у тебя очень беспокойный ум».
— Я полностью согласен с тем, что практика важна. Но неужели ничего больше, кроме практики дыхания, растяжек и асан, в йоге нет? — продолжал вежливо упорствовать Артур. — Например, инструкции для понимания того, как и что делать в шавасане; для формирования правильного мировоззрения?
— Ага… Значит, появился у нас еще один философ. Объяснений хочешь… Ну, я тебе мало что смогу объяснить. Ты с Митяем на эту тему общался? Нет? Вот уж у кого теории-то. Только просто так он тебе ничего не расскажет. С ним курить надо.
Ном открыл старомодную записную книжечку и выдал координаты Митяя, получив которые, Артур пожал ему руку, тепло попрощался с девочками и навсегда покинул эту юдоль хорошо темперированного харрасмента…
Митяй — неряшливый парень в гоанских шортах и с дреддам — при первом знакомстве также показал себя человеком достаточно немногословным и в дискурсивном плане никак не проявился. Однако что-то подсказывало Артуру — поверхностное впечатление в данном случае более чем обманчиво. Поэтому прямо при первом знакомстве, он, недолго думая, в лоб предложил новому знакомому раскурить «трубку мира» с раздобытой недавно на Pool Party хорошей травой. Митяй как-то по-птичьи искоса взглянул на Артура, усмехнулся, пожал ему руку и согласился.
После двадцати минут раскуривания и ничего не значащего смолл-толка он наконец дошел до нужной кондиции и решил поделиться своим взглядом на мир с новым знакомым.
— Понимаешь, — не спеша заговорил Митяй, делая очередную затяжку, — вся эта философия, о которой ты спрашиваешь, — просто способ обеспечить людям доступ к данным.
Выпустив очередное колечко дыма и так и не дождавшись реакции от собеседника, благоразумно решившего воздержаться до поры от выражения своей точки зрения, он решил инициировать продолжение самостоятельно:
— И откуда она выросла, философия эта, а? Вот ответь мне. Вообще?
Артур понял, что от него настойчиво ожидается некоторое участие в монологе, поэтому, ощущая по настроению Митяя аромат предстоящей интриги, послушно произнес:
— Из диалогов древних, так сказать, греков.
— А каких именно греков? Аристотеля? Платона? Сократа? Неееет… К этому времени всё уже было сформировано. А кем? Кем сформировано?
— Ну, получается, досократиками, — улыбнулся Артур.
— Вооот! Правильно! Досо-кратиками, — почти нараспев произнес Митяй. — Понимаешь? ДОС-о-кратиками! Как думаешь, зря их так, что ли, назвали? Нееет! DOS рулит! Чуваки врубались в метафизику на уровне чистого DOS’а. Это, конечно, чуть пониже скилл, чем у древних буддистов. Те-то вообще на ассемблере сидели. Ноль, единица; Бытие, Пустота — и все дела. Никаких тебе операционных оболочек, нейро-интерфейса и прочей фигни. Чистое программирование…
Артуру почему-то вспомнились самые первые игры, в которые он играл на ZX Spectrum у друга в начале 90-х. В них ощущалось какое-то трудновыразимое зияние первозданного компьютерного космоса, постоянно маячившего на бэкграунде хрупкой виртуальной реальности. Митяй, видя задумчивость, проступившую на лице собеседника, глубоко затянулся с хитрым ленинским прищуром — и продолжил:
— А отчего столько проблем в нашей сегодняшней жизни? Я тебе скажу, отчего. Операционку нам безбожно засирают с детства: ненужными программами, файерволлами, а то и просто откровенно вредоносными троянами и мейлверами. И прав у нас, как у юзеров, никаких. Только обязанности.
Сидим, покорно хаваем очередную рекламу, выплывающую между сериями ежедневной медиа-жвачки по внутреннему ютьюбу. И даже не сглатываем. И всё это оттуда, — тут он выразительно показал большим пальцем согнутой в локте руки куда-то назад, за спину, — из исходного кода. Досо-кратики его и сгенерировали. Затем Платон взял на себя оболочку и содержательную часть программирования, Аристотель — структурную. Так и заложили основы «парадигмы рационального самосознания», понимаешь. Потом запустили туда юзеров-христиан. Кстати, ты когда-нибудь думал, почему Наша Эра так называется? Нет? Так вот… До этого глючило всё основательно, чудеса всякие были, знамения, читы. Всё Древнее Время отладка шла. Ну там, бета-тестинг, доведение до ума. Будда вообще супер-хакером был, который, найдя один эксплойт, умудрился полностью систему перепрограммировать. А потом пришел Христос — как первоюзер, обнаруживший баг в операционке. И его подчистили, как и все предыдущие. Баг, я имею в виду. Ну и далее, по нарастающей — как только кто-то даже небольшой глитч находил, его тут же ликвидировали. Хотя христианский баг разветвленным оказался: все Средние Века Блаженный Августин, Фома Аквинский, Эриугена, отцы-каппадокийцы и прочие столпы святоотеческой мысли его вариации разрабатывали… Вплоть до Лютера, Кальвина и Мюнцера. И вот! Что же мы имеем к 16 веку? А?
Понимая, что Митяй уже набрал достаточные для дальнейшего изложения обороты, Артур счел необходимым лишь утвердительно кашлянуть в знак поощрения разворачивающейся на его глазах мысли.
— Имеем продвинутого юзера. Или рационального субъекта, живущего в условиях тотального отсутствия багов. Просто нормального человека, как его сейчас называют. Закрытой со всех сторон «коробочки», способной передвигаться, перетаскивать иконки и копировать контент. Современная система буржуазного права, морали, этики и негласных нормативов поведения основана только на этом субъекте. Не знающего ни чудес, ни знамений. Но главное, — тут он под торжествующий стрекот цикад воздел палец вверх, к темнеющему южному небу, — воспринимающего мир исключительно и только через окно этой операционной системы. Забывшего о том, что находится внутри игры. Именно массовость и кажущаяся успешность таких вот граждан и сделала в итоге эту допиленную операционку общеобязательной, монополизировав право на код, приведя к несчастному европеизированному сознанию современности, попавшегося в ловушку плавности графики и отсутствия глюков. Понимаешь? Даже зазора не осталось, по которому можно было бы определить, что находишься в виртуальности. По крайней мере, так кажется.
— И что же нам теперь с этим делать? — с неподдельным интересом поинтересовался Артур, оценивший мысль собеседника.
— А мы с тобой вот уже делаем, — Митяй с усмешкой выпустил еще одно колечко к звездам. — Перепрограммироваться, разумеется.
— Ну, знаешь. Можно же вообще психоделиками всю систему себе разнести. До синего экрана смерти.
— Ну и как — разнес ты себе? — усмехнулся Митяй.
Артур только отрицательно покачал головой и надолго задумался.
Митяй был действительно интересен. Своеобразная глубина его лубочно-кибернетического пост-хайдеггерианства приятно удивляла. Но было еще кое-что. Митяй, будучи абсолютно правым в своем анализе, будто бы не улавливал какой-то очень важной полосы реальности — аспекта нуминозности каждого восприятия, — и именно в общении с ним этот аспект, подобно зияющей прорехе на белой скатерти, становился очевидным. Вся эта его нарочитая вальяжность и небрежность формулировок проистекала — Артур отчетливо ощущал это — из-за неумения поддержать тот баланс, который и составляет скрытый источник эстетического удовольствия жить. Хорошо отработанный псевдо-базаровский тон позволял Митяю более-менее спокойно экзистировать, привычно вытесняя подобные вопросы.
Митяй казался адептом какого-то хитро стилизующегося под кибернетизм философского направления, поставившего своей целью обосновать окончательную неразличимость виртуального и реального. А отличие существовало — Артур сейчас явственно чувствовал это — и все попытки его нивелировать были возможны только из-за своеобразной оглушенности и ослепленности человека жизнью: подобно тому, как после долгого пребывания за компьютером резко снижается острота ночного зрения; теряется то самое, трудноуловимое, чувство реальности — и деревья, люди, собаки, встретившиеся в темноте, кажутся однопорядковыми с состоящими из пикселей персонажами видеоигр.
Но стоит только провести без компьютера неделю или больше, как постепенно возвращается притупленное метафизическое чувство реального — и кажется невероятным и нелепым подобное смешение иллюзий и действительности, вызванное всего лишь недостатком концептуального зрительного пурпура на сетчатке «интроцептивных глаз».
Оставалась, правда, возможность понимания компьютерной метафоры как отображающей некую псевдо-платоновскую сверх-реальность, по отношению к которой наша и была игровой, но тогда для поддержания такой картины мира Митяю необходимо было включить в свою концепцию уровни вложенности виртуальности и показать критерии отличия их друг от друга, чего он, по крайней мере, пока, не делал.
Артур задумался о том, на чем может быть основано его собственное пресловутое «чувство реальности», но мысль почему-то выскальзывала и никак не позволяла двинуться дальше в этом направлении. Вздохнув, он понял, что конопляно-иронический дискурс, выстроившийся у них с Митяем, сейчас просто не позволит перейти на такой глубокий пласт понимания.
Экзистенциальная вселенная Митяя, беспечно покачивающегося в гамаке и пускающего одно колечко за другим в окончательно потемневшее небо, вдруг представилась ему эдаким длинным и жестким металлическим рельсом, начинающимся где-то очень далеко внизу и уходящим ввысь. «Не таковы ли все математически и в целом дигитально ориентированные люди?» — всплыла на поверхность сознания результирующая мысль.
Этот простенький образ неожиданно стал своеобразным ключом к личности Митяя. Стало понятно, почему он сам, бравируя наплевательски-стоическим отношением к любым наименованиям, выбрал себе и поддерживал циркуляцию в сообществе такой странной для мыслящего человека клички, почему разговаривал о глубоких вещах только под травой…
— Кстати, на эту тему, — наконец вынырнул на уровень словопроизнесения Артур, и сразу двинулся в атаку, подстраиваясь под тон собеседника, — я тут полгода назад на Бали в Magic Shop’е был. И пришло мне там осознание: описанная тобой проблема увеличения наших прав и расширения доступа состоит в том, что у нас недостаточно длинные мысли.
— Сечёшь, — уважительно покосился на него из соседнего гамака Митек. — И чего надумал?
— Надумал, что надо удлинять.
— Это ясно. А как?
— Себя помнить, как завещал нам товарищ Гурджиев. Наращивать фундамент опоры самосознания.
— Во! Другими словами — расширять свои права в системе. До уровня 777 и получения root’a. В этом фундамент, а? — хитро приподнял бровь Митяй.
— Типа того. Я не скажу, что в программировании мощно ориентируюсь, но сейчас, подхватывая твой тред, усекаю, о чем ты. Действительно, ведь получается, что у нас по умолчанию уровень влияния на систему и свое окружение почти нулевой. Как посадили нас в детстве на какой-то узел телесного и социального механизма, так мы его до старости, как правило, и обслуживаем. «Где родился, там и пригодился». Даже удалить или переименовать что-то серьезное в себе и своей собственной жизни — и то прав нет.
— Ну, я смотрю, голова у тебя на плечах имеется, — протянул Митяй, раскуривая следующий косяк.
— Хорошо, но в какую именно сторону наращивать права? Куда расширять сознание? — не останавливался Артур.
— То есть куда? В сторону расширения прав. А еще лучше — возможности программировать под DOS'ом. Или вообще на ассемблере.
— В этом плане невидимо всё, зыбко. Визуального интерфейса нет. А расширять или менять систему можно ведь в любом направлении. Свернуть себе что-нибудь важное или удалить жизненно необходимое — проще простого…
— Зыбко, говоришь, и невидимо? — оборвал его собеседник, пристально заглядывая в лицо.
— Ага, — подтвердил Артур.
— Ты застрял в текстурах, — наконец, констатировал Митяй.
— Что?
— Застрял в текстурах. Система дала сбой при каких-то не совсем понятных ей обстоятельствах — наверное, ты пролез за пределы обычной игровой площадки. Знаешь, как в Doom’е или Quake бывает: войдешь как-нибудь неудачно в угол, застрянешь и ёрзаешь, чтобы выбраться. А потом перед глазами уже какое-то месиво из напластования одних текстур на другие — или чернота, окружающая карту. В результате ты находишься вообще хрен знает где. Чего быть, разумеется, не должно.
— Образно, ёмко, — кивнул головой Артур. — Может, и застрял. Только, наверное, еще очень-очень давно. И слабо помню, как это случилось. Но, полагаю, для реализации такой опыт выхода за пределы и прямого контакта с изнанкой реальности — самое то.
— А знаешь, что такое твоя реализация-то? — повесил вопрос Митяй, пуская вверх сизоватое дымовое колечко.
— Похоже, теперь знаю, — радостно отозвался Артур, ощущая, что получил ответ на свой недавний вопрос и ухватил концептуальный каркас кибернетического евангелия от Митяя. Прищурившись в звездное небо, он с улыбкой выпустил полностью идентичное митяевскому облачко. — Реализация это развиртуализация.
Остановка
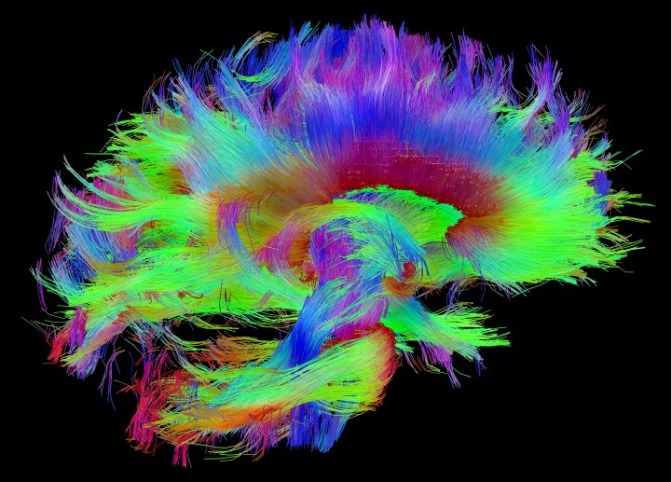
Проезжая на байке по второстепенной дороге, идущей вдоль берега, Артур решил остановиться из-за внезапно накатившего ощущения дежа вю: окружающий пейзаж откликался чем-то смутно знакомым внутри, как обложка полузабытой, но зачитанной до дыр книжки детства.
Повинуясь этому чувству, он спешился и решил осмотреться. Картина открывалась и впрямь живописная: в зажатой между двумя лесистыми холмами долине виднелись заросли каких-то папоротников, за которыми начинались поля для выгула буйволов с болотистыми заводями и неизменными белыми птичками-симбионтами. Поглядывая на солнце, уже начинавшее крениться к закату, Артур направился по тропинке к ближайшему холму. На краю поля он заметил грибы с обтекаемыми шляпками аэродинамической формы, в точности похожие на те, которые повстречал когда-то на Пхукете, поднимаясь к Биг Будде. На этот раз он их съел без особых раздумий.
Тропинка вела дальше, прихотливыми извивами приближая к морю, над которым уже разгорался удивительной красоты закат. Артур сел прямо на песок и минут тридцать медитировал, созерцая фиолетовый горизонт. А затем тьма опустилась на берег. Что-то ощутимо изменилось вокруг. Поднялся ветер, и прибрежные пальмы затрепетали под его порывами. Приливные волны нахлестом брали торчащие из воды камни.
Взошла луна, и, несмотря на сгустившуюся ночь, вдруг стало как-то необычно, невероятно светло. Наблюдая за темной лазурью небес, Артур отправился по берегу дальше и наткнулся на дорожку, уводящую вверх по склону. Как ни странно, она была асфальтированной.
Идя по ней, он раздумывал об остановке мира по Кастанеде.
Что это значит — «остановить мир»? Очевидно, войти на мгновение в такое состояние, при котором сборка реальности по привычным лекалам прекращается — и появляется возможность, воспользовавшись этой остановкой, реорганизовать восприятие. Как это должно ощущаться изнутри? Например, так, что вместо зарослей и кустов вокруг я наблюдал бы пятна и тени, цветовые неоднородности, возникающие на сетчатке, фиксируя их на этапе, предшествующем всякой интерпретации. Но это же должно относиться и к слуху, и к осязанию: обычная временная синхронизация всех сенсорных каналов в формочке текущего момента при остановке мира уступает место аморфной растопленности.
Мысль, с помощью которой это продумывалось, постепенно стала настолько объемной и сильной, что пресловутая растопленность из отдаленной теоретической перспективы буквально на глазах превращалась в реальность. Это пугало.
Насколько это опасно? Есть ли риск не собраться заново? Или попасть в какую-нибудь смертельную ситуацию в этом состоянии?.. Наверное, да. Но при соблюдении минимальных мер предосторожности попробовать в любом случае стоит.
Тропинка, между тем, уже давно вела по каким-то темным зарослям. Попытавшись напрячь глаза и сфокусироваться, чтобы лучше видеть, Артур вдруг поймал неожиданный эффект: в опустившихся на джунгли сумерках мир надвинулся, дрогнул и поплыл, детали укрупнились и стали более объемными. Даже светлячки, летающие по сторонам от дорожки, казались мелкими золотистыми волосками лоснящегося подшерстка реальности. Время приостановилось, пронзительно звеня натянутыми струнами мгновений. В такой странной темпоральной оптике всё окружающее стало удивительно напоминать танцпол в свете стробоскопов: воспринимаемое подавалось сознанию большими сгустками кадров, кое-как склеенными друг с другом. Внезапно впереди из темноты вынырнул одинокий фонарь, изливавшийся на дорожку уютно-желтым светом: теплым, ламповым, мягким, навевающем мысли об абажуре и домашнем диване. Мир под фонарем до неузнаваемости преобразился, всё вокруг излучало приглушенное сияние и по неизвестной причине казалось благоухающим. Откуда-то из глубины выплыло странное впечатление изолированности этого куска реальности: стало казаться, что кроме этого освещенного пятна под фонарем, окруженного со всех сторон тьмой, в мире больше ничего не осталось.
Артур поддался этому впечатлению и стоял так долгое время, неотрывно глядя на конус света, ниспадающий с фонаря на асфальт дорожки — и сгустившийся океан темноты вокруг. Неровности и трещинки освещенной асфальтовой ойкумены поблескивали, резко диссонируя с кромешной чернотой внешнего космоса.
Как это похоже на мой жизненный мир, — подумал Артур, наблюдая за пограничным рубежьем кустов, балансирующих на границе освещенного пространства. — Или уж скорее безжизненный…
Эта безжизненность, однообразная и монотонная рамка неизменного внутреннего ландшафта, в которой, как в экране телевизора, уже воспринималось всё остальное, теперь ощущалась таким застарелым и приевшимся стеснением, что, стоило только обратить на нее внимание, вызывала отчаянное желание одним внутренним рывком расширить это тесное пространство. Зацепившись вниманием за неестественную стробоскопическую раскадровку, еще больше усиливавшую эффект телетрансляции, Артур трудноописуемым усилием сделал что-то, похожее на переключение внутреннего канала: за ушами послышалось что-то наподобие щелчка — и все звуки исчезли. Но исчезли не только звуки. Приостановились краски, запахи и чувства. Внимание, подобно шустрой белке, обрело возможность свободно перебегать по всему дереву сенсорного восприятия, чем незамедлительно и воспользовалось: сознание, оставаясь таким же собранным, с удивлением наблюдало за флуктуирующим пространством визуальных и кинестетических не-форм, из которых уже складывались предметы, движения и само ощущение глубины.
Наверное, это и есть дхармы, первокирпичики феноменологической реальности, — пронеслась в голове мысль.
Артур попробовал слегка изменить правила сборки этого дхармического бриколажа реальности — и у него получилось: тени стали восприниматься как самостоятельные, живые и насыщенные объекты, а не как обычное шейдерное дополнение к основному визуальному контенту.
Вот она какая, остановка мира, — подумал Артур, — но ведь я спокойно размышляю. Почему-то она не касается движения самой мысли. Что если…
Но этому замыслу не суждено было развиться. Неожиданно внимание снова сфокусировалось — мгновенным бессознательным рывком: его привлек муравей, выползший под свет фонаря на асфальт. Что-то в нем было не так. Небольшое усилие восприятия — и картинка услужливо детализировалась, будто пятикратным зумом увеличив насекомое. Стало ясно: муравей заражен. Неестественно подергиваясь, он полз куда-то на противоположную сторону светового пятна, время от времени замирая и покачивая усиками.
Из глубины памяти всплыла публикация какого-то околонаучного источника о кордицепсе — грибке, захватывающем нервную систему муравьев. Спустя некоторое время после попадания в организм гриб заставлял насекомое покинуть муравейник, вцепиться челюстями в жилку на нижней стороне какого-нибудь листка и затем умереть в такой странной позе — для того, чтобы стать питательным субстратом грибницы. Пригнувшись и посветив мобильником в сторону, куда направлялся муравей, Артур обнаружил кустарник, представляющий собой импровизированное кладбище инфицированных насекомых.
Облепившие листочки муравьи, прямо из телец которых вытарчивала грибница, прорастая к стеблю, казались съемочной труппой из мира насекомых, участвующей в постановке очередного ремейка «Чужих». Сходство с фантасмагориями Гигера усилилось еще больше, когда Артур понял, что некоторые особи были живы и еще шевелились.
Отгоняя совсем ненужную в текущем состоянии волну ужаса, Артур достал мобильник и деловито вышел в сеть. 4G в Таиланде уверенно принимал почти везде, даже на островах. Гугл по запросу «кордицепс» выдал большое количество фотографий, напоминающих то, что он сейчас видел. Однако на пятой или шестой строке в выдаче было кое-что новое, привлекавшее внимание: заголовок «Гиперпаразит, паразитирующий на паразите».
Быстро пробежавшись глазами по тексту статьи, Артур узнал о существовании вида грибков, паразитирующих уже на самом кордицепсе — и способных, таким образом, стабилизировать эпидемию, которая могла бы в противном случае уничтожить всю колонию муравьев. Этот вид помогал муравейникам все-таки сохраняться, вопреки неумолимой воле ризомы, оплетающей своим мицелием нервную систему их обитателей.
«Учёные подчёркивают, что более или менее успешно сопротивляться паразиту муравьи могут только в присутствии второго паразита. Таким образом, два гриба и насекомые объединены в сложную равновесную систему, увидеть которую во всех тонкостях можно, лишь наблюдая за муравьями в их естественной среде».
Артур посветил фонариком на листья с муравьями, обнаружив, что цвет некоторых грибниц, прорастающих из их телец, отличается. Отличались также и торчащие из затылков насекомых выросты, делающие их похожими на пилотов, подключенных к неведомому бортовому компьютеру оптоволоконными кабелями. Очевидно, часть из этих сетей была ингибирована «гипер» -грибком, что знаменовало собой реконкисту традиционных муравьиных ценностей как ассиметричный ответ на постмодернистскую экспансию кордицепса. Повинуясь какому-то трудноописуемому наитию, Артур протянул руку, прикоснулся к одному из таких «гипер» -выростов, облепленному загадочно мерцающим в свете фонаря веществом, и облизнул палец, попробовав его на вкус.
Вкус был неожиданным и приятным.
Артуру пришло в голову, что похожую функцию «восстанавливающего мировоззренческий баланс» элемента в человеческом муравейнике выполняет буддизм, традиционно процветающий на остатках шаманизма, политеизма и теперь вот — нью эйджа. Выполняя компенсаторную интегрирующую функцию «возвращения к нормальности», он преодолевает элементы ризоматического разброда и шатания в убеждениях, помогая популяции обрести целостность и восстановиться. Однако из этого следовало, что для достижения нового баланса предварительно необходимо было пройти через «черную ночь души», психоделические джунгли…
В качестве любопытной иллюстрации к этой метафоре ему вспомнились расплодившиеся в последнее время youtube-записи российских конференций по махаяне, на которых неизменно можно было наблюдать пожилых бурятов, калмыков и некоторое количество странно контрастирующих с ними татуированных молодых москвичей и петербуржцев в дреддах и с ноутбуками.
И тут, в просвете между иронией и серьезностью сигнальной ракетой мелькнула мысль, осветив на мгновение то, что до этого таилось во тьме, окружавшей узкий конус сознания — концепт Теории. Теории, которая обещала объяснить столь многое, что захватывало дух…
Весь обратный путь до байка с фонариком, а затем и до дома Артур проделал в необычайно приподнятом настроении и глубокой сосредоточенности. Внимательно и осторожно.
Das Yablo-man

В очередной раз встретившись «покурить», Артур с Митяем заняли стратегически безупречную наблюдательную позицию высоко на холме, неподалеку от бара «Амстердам». С длинного бревна, которое они с разных сторон оседлали, открывался отличный вид на бесконечный зеленый ковер джунглей внизу, испещренный узором из дорог, — и, конечно, на море, сверкающим изумрудным градиентом окаймляющее это буйство цвета.
Однако Артура не особенно привлекал этот великолепный пейзаж — отвернувшись куда-то вбок, он склонился над малопримечательным участком земли рядом с бревном, сосредоточенно наблюдая за небольшим воинством муравьев, организованной колонной продвигающихся по тропе.
— Ты задавался когда-нибудь вопросом, — тихо проронил он наконец в сторону Митяя, — почему они так целенаправленно бегут по одной и той же тропинке? И откуда, в конце концов, знают, где именно она должна проходить?
Митяй усмехнулся и махнул рукой на дорогу внизу, по которой цепочкой ползли застрявшие в пробке автомобили в сторону Тонг Салы:
— Положим, у муравьев управление осуществляется химическими сигналами — это понятно. А вот посредством чего оно реализуется у людей?
— Может быть… — задумчиво протянул Артур, — с помощью культурного кода. Совокупности означающих и означаемых, поставляемых социумом для своих рабочих элементов. Как говаривал Теренс МакКенна: «Культура — это не твой друг. Это твоя операционная система».
— Громкое заявление. Которое необходимо чем-то подкрепить, — хмыкнул Митяй. — Твоя новоиспеченная теория на такое способна?
— Давай попробую, — кивнул Артур, переводя взгляд на горизонт, по которому проплывали паромы и круизные лайнеры. — Для этого надо будет подробнее рассмотреть триаду «влечение-желание-намерение»:
Влечение — это ощущение разницы между «Я», репрезентацией настоящего, и «Я+», представлением о будущем. Может фиксироваться либо как дискомфорт, подталкивающий к устранению вызывающих его причин, либо как порыв, устремляющий к потенциально светлому будущему.
Желание — это оформившееся представление, каким именно способом эту разницу устранить. Так, чтобы желаемое наконец совпало с действительным, «Я» с «Я+». У человека желание обязательно проходит через предварительную интерпретативную обработку для того, чтобы оформиться — и из неопределенного влечения становится желанием чего-то конкретного. Это похоже на вопрос «чего именно я хочу?» — и даже на вчерне полученный набросок ответа «каким образом этого достичь»?
Намерение — это чёткая целостная установка «что и как делать, чтобы то, чего я хочу, произошло». Можно сказать, что намерение — это желание, которое знает, как себя воспроизводить и реализовать. Намерение одобряется всей психикой, проходит согласование, своеобразный тест на когерентность, непротиворечивость и выполнимость. Например, когда я хочу взять палочку с земли, — проговорил Артур, наклоняясь и нарочито медленно поднимая небольшую веточку, — и делаю это, за доли секунды мгновенно простраивается вся триада: смутное влечение к устранению легкого эмоционального дискомфорта мгновенно оформляется в желание привести пример, убедительно иллюстрирующий мою мысль, а затем — в намерение, включающее гештальт мышечного действия, необходимый, чтобы взять палочку. В случае более изощренных и нетривиальных влечений всё может быть значительно сложнее. Разрыв цепочки возможен на каждом из этапов — и реально случается. В результате вся система мотивации дает сбой — и до результирующего действия так и не доходит.
— Хорошо. И какое отношение это имеет к социальной операционке?
— Рассогласование, являющееся причиной влечения, может приходить из разных источников: сенсомоторного, эмоционального и… скажем так, культурно-синтаксического. С возрастом и процессом оккультурации доля третьего элемента в структуре формирования влечений у человека неуклонно повышается, а доля сенсомоторного и эмоционального — сокращается. То есть представление о том, «что именно я хочу?» и возможность выделить желанную цель, обозначить ее, запомнить и удержать в процессе реализации, дается подрастающему человечку обществом. Таким образом, культура для него уже к 6—7 годам превращается в полноценную операционную систему, уровень жесткости установок которой ничуть не ниже, чем в муравейнике.
— То есть ты хочешь сказать, что собственное желание дано человеку только через культурные коды? Даже желание есть и пить? Вроде бы это инстинктивная вещь? — поднял бровь Митяй, раскуривая сигаретку.
— Именно. Культура через мировоззрение определяет, что именно ты захочешь съесть: бифштекс, чипсы или пророщенную пшеницу. И как: вилкой, палочками или руками. Надеюсь, эта мысль достаточно тривиальна — и не надо дальше ее развивать? — Артур посмотрел на Митяя, сохраняющего индифферентное выражение лица, и продолжил. — Да, собственное желание дано человеку через культуру. Представление о «Я+» приходит к подавляющему большинству исключительно из социума: отсюда странная тяга к дорогим машинам, брендовой одежде и другим признакам статуса. В частности — навязчивая потребность обязательно иметь Айфон последней модели.
И вот здесь начинается самое интересное: я полагаю, что это далеко не случайно, современный капитализм в целом основан на том же принципе, по которому коммерциализирован Айфон. Или, как небезосновательно называют его в русских селениях — Яблофон.
— А до этого? — усмехнулся Митяй. — До яблофонов. Было по-другому?
— До этого было слегка по-другому, — кивнул Артур. — Можно назвать сформировавшийся на наших глазах в начале нулевых очередной социальный апдейт капитализма «цивилизацией я-блокфона». Он базируется на весьма глубоком и нетривиальном принципе, который, кстати, отличается от конкурирующих идеологий Линукса и Андроида. И в основе его — блок, ограничение уровня доступа. То, что «залочивает» мировоззренческую прошивку юзера.
— О как ты загнул, — выдохнул дым Митяй. — Интересно. Разверни, плиз.
— Айфон славен не тем, что быстр или стилен — а тем, что посадил миллиарды юзеров на короткий поводок обновлений. Возможно это стало благодаря политике, по которой для избежания использования потенциальными хакерами уже известных эксплойтов системы, было принято решение постоянно выпускать всё новые и новые прошивки, постоянно вынуждая пользователей пересаживаться на свежую версию. А если этого не сделать? Тогда программы и приложения в определенный момент просто перестают фурычить. Более того, становятся морально устаревшими и неактуальными старые модели самих девайсов — хотя технически они всё еще прекрасно работают. Просто очередная прошивка однажды перестает их поддерживать — таким образом юзеров мягко, но настойчиво вынуждают купить новую модель.
Если через призму этой метафоры посмотреть на то, что происходит с мотивационным механизмом человека современности, то окажется, что отличий от Яблофона не так уж и много: психика субъекта залочивается социумом изначально — и вполне преднамеренно. Культура просто не выдает ему, как ты говоришь, «прав доступа» на самоизменение. Вступая в большую жизнь, человек ощущает себя не администратором, а юзером. Являясь не хозяином своего желания, а рабом, задача которого — придумать и воплотить как можно более эффективный способ достижения заветной морковки, не осмысляя «а почему я, собственно, хочу именно ее?» Не замечая, к чему именно эта морковка привязана.
В результате человек большую часть времени думает только о том, как оставаться up to date и заработать на новый социальный апдейт, не выпасть «из тренда обновлений».
Так что современный капитализм отличается от своих предшественников тем, что навязывает в качестве обязательного режим постоянных усилий измениться к лучшему — чтобы ни в коем случае не отстать от последнего апдейта. Поэтому человек постиндустриальной эпохи, «ябломан», или — вполне по-хайдеггеровски — das yablo-man, всегда озабочен и при этом беспомощен — то есть эмоционально и психологически максимально далёк от расслабленного спокойствия, необходимого для достижения шаматхи и реализации медитативных практик. Надо сказать, что даже застойный совок 70-80-х в этом отношении был значительно человечнее, поскольку не принуждал никого к бесконечному усилию по самоизменению. Может быть этим и объясняется феномен подпольного позднесоветского буддизма, проявившийся в таких текстах, как «Монограмма», творчестве Гребенщикова, а затем и Пелевина.
— Тебя послушать, так просто последние времена настали, — улыбнулся Митяй. — А как же хакеры? Люди, которые ищут новые эксплойты, уязвимости системы и разлочиваются. Они же есть?
— Есть, — согласился Артур. — Но капитализм кровно заинтересован в том, чтобы их популяция оставалась крайне ограниченной, и поэтому с помощью все новых апдейтов делает так, чтобы поиск уязвимостей, через которые можно было бы сделать само-джейлбрейк и анлок, отнимал непропорционально много времени и интеллектуальных ресурсов. Становясь, таким образом, непосильной задачей для рядового юзера. Над созданием таких заградительных апдейтов работает целая индустрия, состоящая из весьма неглупых людей. В прошлом — тех же хакеров.
Для того чтобы разлочиться, требуется желание разбираться со всем этим, мощное и довольно устойчивое — чтобы пробиться через намеренно возводимые барьеры и однажды все-таки добраться до эксплойта в интроспекции. А откуда это желание взять? Понимаешь? Это основной вопрос, замыкающийся в бесконечную петлю. В условиях современного общества его значимость только нарастает. Обычно мы сталкиваемся с ним в обличье бесконечных воплей «откуда взять мотивацию?», наводнивших психологическую литературу.
— Ага, — хохотнул Митяй. — Как захотеть хотеть? Популярная тема для тренинга. Мне иногда кажется, что скоро рынок завоюют инновационные программы «как вдохновить себя завязывать шнурки?» или «Порождение энергии сходить в туалет: 10 лайфхаков». То есть ты хочешь сказать, что нормальная система мотивации у современного… эмм… ябломана намеренно сломана — и в разрыв вставлен механизм дистанционного обновления прошивки? И в результате он не способен хотеть и достигать чего-то несоциального, не связанного с деньгами, статусом и новенькими гламурными апдейтами. Ну ок. Допустим. С этим я готов согласиться. А что, разве раньше было не так?
— Раньше, в традиционном обществе, было не так, — подтвердил Артур. — Нам даже трудно представить сегодня уровень социальной стабильности и психологической защищенности, который бытовал, например, во времена Будды в древней Индии. Родился — и никаких апдейтов. До конца жизни. Об обновлениях можно даже не думать. Посвящай свое время и намерение достижению других целей, предположительно более интересных и осмысленных.
В результате человек современности оказался в уникальных, исключительно неблагоприятных условиях для психопрактик — такого еще не было никогда. Таким образом, первая задача для ябломана — это элементарно разлочиться, осуществить реконкисту желания, обрести способность к самоуправлению. Хотя бы на таком уровне, который аналогичен умению завязывать шнурки в психопрактиках. Только после этого можно говорить о каких-то шагах к дальнейшему ментальному развитию.
— И что же необходимо для такого «джейлбрейка»? — поинтересовался Митяй.
— В первую очередь, понимание структуры триады «влечение-желание-намерение» — и того, как в твоей отдельно взятой психике она реализована сейчас. А затем с помощью этого понимания следует постепенно перехватывать контроль за отдельными ее элементами, обретая всё больше прав.
— Ага. Просветление в этой схеме, я так понимаю, соответствует достижению root’а?
— Что-то вроде того, — улыбнулся Артур. — Но это настолько отдаленная перспектива, что о ней даже сложно говорить. К счастью, не нужно ждать так долго, чтобы начать получать результаты. Если правильно выстроить систему мотивации, каждый шаг на этом пути будет сопровождаться ощутимым улучшением эмоционального состояния.
— Почему? — поднял бровь Митяй.
— Потому что знакомая тебе хаббардовская шкала состояний «от трупа до экстаза» — это последствия сличения «Я» и «Я+», происходящего на эмоциональном уровне. Если совпадение точное — и я получаю ровно то, на что рассчитываю — это дает спокойную уверенность, хорошее ровное состояние. Если расхождение в минус — и я получаю неприятные сюрпризы разного рода — извольте пожаловать в сегмент нижележащих эмоций: таких как гнев, страх, апатия и т. д. Если расхождение в плюс, то есть я неожиданно обнаруживаю, что получилось даже лучше, чем ожидалось — состояние поднимается выше, давая радость, энтузиазм, экзальтацию, эйфорию и экстаз. Если начать лучше понимать сам принцип эмоционального сличения — и хоть немного оказывать на него влияние — сразу же появляется возможность самостоятельно поднимать фоновое состояние. Собственно, это и есть эксплойт. Стоит только слегка изменить структуру этого сличения — так, чтобы получить шанс постепенно становиться ее хозяином, а не рабом. Перестать быть яблонавтом.
— Спасибо, — улыбнулся Митяй, докуривая сигаретку. — Теперь стало понятнее, чем я всю жизнь занимаюсь. Яблонавтикой…
Игройога

Уже глубоко за полночь Артур гнал байк к Митяю на север острова по раздолбанным панганским дорогам, высвечивая фарами и привычно объезжая притаившиеся то тут, то там в темноте ямы, а сознание заполнял набравший силу поток размышлений:
Вот сейчас я еду почти в полной темноте по безлюдной раздолбанной дороге в чужой стране, ежесекундно рискуя влететь колесом в яму. Казалось бы, это должно вызывать страх, однако, напротив — вместо него ощущается собранность. Более того, эта собранность еще и помогает мне параллельно думать о своем состоянии, не только не мешая, но и выступая ресурсом. Однако совсем ли я свободен от страха или что-то от него все-таки живет в ядре собранности, выступая для нее основанием?
Артур постарался честно ответить на этот вопрос, пробежавшись по себе вниманием: элементы напряжения, безусловно, присутствовали — не только в теле, сжавшем руль байка, но и в сознании. Определенно, состояние было далеко от медитативной расслабленности и безусильности. Общим фоном оставалась совсем не радость, а скорее опасение.
Итак, на примере страха можно разделить два принципиально разных типа эмоций: страх первичный, примордиальный, накатывающий на некоторых людей во время паники, и страх индикационный, семантический — например, как в случае опасения насчет ямы в темноте или полицейского, который вполне реально может остановить для проверки документов. Первый просто наваливается и блокирует сознание, являясь тотально негативным, второй же является рационально обоснованным опасением, выстраивая рамочные ограничения для деятельности и помогая не попасть в историю.
Возникают эти два вида страха по разным схемам, соответственно, совершенно по-разному надо и избавляться от них. Что касается панического страха, его следует сводить к рациональному опасению с помощью осознавания. К зрелому возрасту большинство людей успешно проделывают этот трюк — просто для того, чтобы нормально жить в обществе.
Но как разбираться с самим рациональным опасением? Оно ведь тоже неприятно. Да, в значительно меньшей степени, но с некоторого момента продвижения в практике даже такой уровень дискомфорта начинает мешать и становиться препятствием.
Очевидно, необходимо передоверить ту индикативную функцию, которая реализована с помощью легкого неприятного ощущения опасности, сознанию — так, чтобы она составляла одно из измерений мысли. То, что было неизменяемым эмоциональным ощущением, должно стать фоновым мыслеактом, значительно более гибким и подконтрольным. Почти по Фрейду: «Там, где было Оно, должно стать Я». Но для этого необходимо освоить сам навык такого «расширенного» мышления с еще одним дополнительным «измерением», посвященным тому, чтобы эффективно и рационально оценивать опасность без необходимости привычного эмоционального самонапоминания о ней. Вместо фонового ощущения «соберись, могут быть неприятные последствия!» должно прийти постоянное памятование об этом.
Само это рассуждение вызывало некоторую радость, и на губах Артура проступила улыбка — ведь удалось нащупать достаточно точный и внятный критерий для дальнейшей работы. Чуть более плавный и комфортный, чем обычно, объезд мелькнувшей впереди огромной ямы слегка усилил это состояние.
Очевидно, именно в этом, весьма специфическом, смысле идет речь о «памятовании» у Гурджиева-Успенского и в хороших переводах буддийских текстов, посвященных шаматхе и випашьяне. «Памятование» является своеобразным расширением схематики мышления, метафорически позволяющим схватывать как полноценный трехмерный куб то, что воспринималось до этого как несколько плоских квадратов; возлагающим на сознание те функции, которые до этого привычно и бессознательно реализовывались посредством эмоций. То есть «памятование» в терминологии «Абхидхаммы» — это пребывание в дхьяне некоторого уровня.
Такой взгляд на ментальную деятельность позволяет более точно определить, чем же в действительности являются «семантические измерения» индивидуального языка. Условно можно считать, что по умолчанию внутренний язык обычного социализированного человека «двумерен», предполагает удержание концептуального конгломерата смысла в двух измерениях: фронтальном и латеральном. А что же с третьим? Оно удерживается с помощью определенного эмоционального состояния, являющегося своеобразным внутренним напоминателем, своего рода монотонно повторяющейся «прото-мысли». Таким образом, в субъективном опыте присутствуют все три измерения, проблема лишь в том, что одно из них — представленное эмоцией — неподконтрольно и с трудом изменяемо. Получается, что невинно звучащее «памятование» на деле является вполне себе героической «внутренней реконкистой», возвращением под контроль сознания тех аспектов психики, которые привычно работают в автоматическом режиме с детства. Но для того чтобы эту реконкисту успешно осуществить, надо детально разобраться в том, как устроены эмоции.
Артуру подумалось, что фундаментальная проблема человеческого способа существования заключается в том, что эмоциональная сфера вынужденно совмещает в себе два разных аспекта, которые сливаются до неразличимости: «эмоцию-для-себя» — состояние, в котором человек себя ощущает на основе интроцепции — и «эмоцию-для-других» — установку, диспозитив, необходимый для того, чтобы быть готовым правильно отреагировать на окружающий контекст. Страх как честная констатация того, что я сейчас просто боюсь — и страх как готовность тела и психики к действиям типа «бей или беги».
А если их развести? А если их развести, то «эмоцию-для-себя» можно постоянно поддерживать на уровне, близком к энтузиазму и эйфории — от этого точно никому не будет хуже, а вся тяжесть «эмоции-для-других» просто переляжет на возросшую осознанность.
В сущности, эмоциональная сфера, как правило, устроена как своеобразная «машина желания». Почти в делёзовском смысле. В основе — операция сличения фантазмов «Я» и «Я+», в которой сливаются представления о сущем и о должном. Результатом этого сличения является диспозитив, который затем становится основой для действий, реализуемых телесно, с помощью моторики. Этот диспозитив и ощущается как одна из граней текущего эмоционального состояния, в котором я нахожусь.
Откуда берутся эти фантазмы? «Я» — на основе эмоциональной интроцепции, интегрированного самоощущения, касающегося состояния. «Я+» поставляется индивидуальным языком, выступающего в данном случае чем-то наподобие бюро по изготовлению чертежей желаемого будущего для «машины желания».
Индивидуальный язык структурирован у обычного человека по лекалам естественного. Поэтому так важна базовая лингвистическая операция, из которой индивидуальный язык возникает в раннем детстве — формулирование. Формулирование — это костяк для всех дальнейших ментальных паттернов, таких как планирование, расчет, продумывание. Они надеваются на него как на экзоскелет. Соответственно, каждый нюанс процесса формулирования, свойственный родному языку, на основе которого и осуществляется сборка целостного смыслового конгломерата, невероятно значим — потому что в дальнейшем, при разрастании сознательной деятельности, от него начинает зависеть на удивление много в психике. Почти всё.
И одним из базовых параметров ментальной стратегии является привычка формулировать мысль, состоящую из некоторого количества семантических измерений. Как можно увеличить «мерность» мысли? Только с помощью творчества, направленного на построение новых психических структур в медитации.
Творчество — это стратегия расширения индивидуального языка. Но, поскольку осуществлять его приходится всегда на основе текущей «языковой парадигмы», совокупность последовательных творческих актов напоминает что-то наподобие ёрзания на коврике. Усилие смещает самого ёрзающего и дает возможность продвинуться вперед еще чуть-чуть — для того, чтобы в последующем получить возможность ёрзнуть немного дальше.
Откуда приходит творческий акт? Из того, что раскинулось за пределами осознанного, «окаймляет» освещенное пространство привычно формулируемого. Чаще всего — из областей, которые находятся в эмоциональной и сенсомоторной сферах. Творчество переводит их из этой — неосознанной — области в область осознанного, произвольно реализуемого. То есть всегда реализуется на зыбкой границе с принципом «хочу того, не знаю чего… но все-таки слегка ощущаю». Это постоянное заигрывание с парадоксальностью и седиментация, оформление новых структур, вытекающих из осмысленного противоречия. Действительно, настоящая интеллектуальная реконкиста…
Фары выхватили из темноты обросший плющом заборчик, и, повернув налево, Артур разглядел знакомые по высланной через Телеграмм фотографии ворота резорта. Припарковавшись, он посигналил — и Митяй отчетливым силуэтом обозначился на фоне освещенного дверного проема своего домика.
— Добро пожаловать в мое скромное жилище, — распростер он руки в картинном жесте, открывая пошире дверь.
В одиноко стоящем бунгало, напоминавшем снаружи курятник, на стене висела плазменная панель, перед ней, на кровати, валялся Playstation последней модели. Рядом величественным монументом возвышался компьютер с неожиданно внушительным для здешних мест системный блоком. На подоконнике стоял термопот. Ничего больше в комнате не было. Такой кибернетический аскетизм в общем-то не явился для Артура неожиданностью, чего-то в этом роде он и ожидал. Немного удивлял только VR-шлем, обнаружившийся в складках одеяла рядом с Playstation. На контрасте с щелями, сквозь которые в бунгало беспрепятственно проникали комары снаружи, он выглядел артефактом какой-то иной цивилизации.
— Ого! Наверное, стоит целое состояние, — хохотнул Артур.
— Не обращай внимания, мне бесплатно досталось, как бета-тестеру, — беспечно махнул рукой Митяй. — Что пить будешь?
— Чайку, — скромно откликнулся Артур. — Я смотрю, ты тут времени зря не теряешь. На практике, так сказать, осваиваешь погружение в виртуальную реальность.
— Да куда уж глубже-то… — протянул Митяй, включая термопот, примостившийся на подоконнике. — И так в нее все уже погружены по самое не балуйся. Тут бы скорее наоборот, поближе к поверхности как-то всплыть. Для этого игройогу вот и практикую.
— Игройогу? — с неподдельным интересом переспросил Артур.
— Ну да, — невозмутимо ответствовал Митяй, закладывая чайные пакетики в кружки. Если исходить из того, что каждый из нас и так постоянно играет в какую-то свою внутреннюю игру, единственное, что остается — понять ее правила и начать по ним наконец выигрывать.
Некоторое время помолчали, слушая шипение закипающей воды и наблюдая за тем, как поднимается индикатор температуры. Щелкнул выключатель, Митяй залил кружки кипятком и продолжил:
— Победа в этой внутренней игре дает человеку бонус, позитивное состояние, а поражение — негативное. И то, и другое, разумеется, абсолютно иллюзорно, но кого это когда-либо останавливало? Проблема не в иллюзорности, а совсем в другом. К сожалению, мы плохо осознаем принципы, по которым собственная психика присуждает и то, и другое. Поэтому так и норовим подзастрять в монотонных или заведомо дебильных играх без возможности выигрыша. Так на них и сидим, не в силах слезть.
— Это да, — глубокомысленно кивнул Артур, отхлебывая из своей кружки. — У некоторых дело доходит до конкретной зависимости. До лудомании, например. А одной из самых неприятных форм является биржевая игра. Являясь прямым продолжением тотальной озабоченности обменными курсами, на которой основано всё в современном обществе, она подсаживает человека максимально глубоко, заставляя следить за скачущими индикаторами с замиранием сердца, вызванным противоестественной спайкой внешней игры и внутренней. При этом способов воздействия на то, куда именно пойдет график — вверх или вниз — у вспотевшего перед монитором трейдера нет. Но сам он редко это осознает, потому и подсаживается. У меня в России осталось несколько бывших знакомых, таких вот биржевых игроманов — жалкое зрелище.
— Воооот! С этим отождествлением в игройоге мы и работаем. Снимаем, так сказать, людей с иглы… то есть с игры, — улыбнулся Митяй.
— А как именно? — поинтересовался Артур.
— Давай покажу, — Митяй отставил кружку на подоконник и решительно потянулся к VR-шлему, подключив его к компьютеру специальным длинным шнурком. Монитор загорелся, и на экране проступили контуры интерфейса по управлению виртуальной реальностью. — Смотри, тут все дублироваться будет, — сказал он и отработанным движением надел свой гротескный космо-шлем и перчатки.
Артур погрузился в наблюдение. Похоже, Митяй запустил какой-то 3d-шутер: на дублирующем мониторе замелькали очертания коридоров, противников, текстуры фона… На мгновение проступил логотип Unreal Tournament. «Ого, оказывается теперь он и в VR есть», — всплыла на поверхность сознания мысль.
— Вот так я это и делаю, — донеслось из-под митяевского шлема. — Когда картинка, звук и даже вибрация с бешеной скоростью обрушиваются на мозг с идеально выверенной когерентностью и обратной связью, уровень погружения в VR, как ты догадываешься, критически близок к обычному жизненному. Вот тут-то и открывается простор для настоящей внутренней работы. Игровая ситуация всё время меняется и требует от тебя постоянной, молниеносной реакции. Вызывает ли это эмоции? Конечно! Если даже от обычного плоского фильма на экране кинотеатра у некоторых чувствительных личностей выступают то слезы, то еще что-нибудь, можешь себе представить, что происходит под опущенным VR-забралом. Особенно, когда речь идет о 3d-шутерах, кровно, генетически связанных с ощущением риска для жизни. И тогда, в пылу битвы, нахлобучивает конкретно. Ну вот, смотри…
Артур и так смотрел, не отрываясь. Действительно, назвать ситуацию на экране просто экстремальной было даже как-то неловко — то, что происходило на его глазах, относилось к экстриму так же, как тот относился к унылому и вялому существованию телевизионного овоща. Митяй, постоянно стрейфясь, отстреливаясь и подпрыгивая, продолжал, между тем, невозмутимо комментировать:
— Вот и созревают внутри «гроздья гнева»: «А сейчас мы по нему жахнем из шоки.. Ой, ёёё… А сейчас огребем флака…» Моя задача — как раз на пиках агрессирования и огребания со своим персонажем максимально растождествляться. Как ты понимаешь, чем лучше поработали программисты и VR-технологи, тем это сложнее. Попробуй сам… — с этими словами он снял и протянул Артуру шлем.
Тот с некоторым опасением надел его, нацепив следом предложенные Митяем перчатки. До этого у Артура в прошлом был один кратковременный опыт взаимодействия с VR, но то корявое демо-убожество ни в какое сравнение не шло с продвинутой митяевской техникой. Управление персонажем было организовано почти идеально: высокодетализированная и вполне трехмерная реальность, высокая чувствительность сенсоров, мгновенный и точный отклик. В общем, вхождение в игру было подкупающе быстрым и плавным, а интерфейс — настолько интуитивно понятным, что становилось даже немного не по себе. Поворачивая голову вправо-влево и отслеживая, как перестраивается игровое окружение, почти мозжечком можно было ощутить, что в реальности мозг просчитывает и собирает ее примерно так же. От этого ледяной акупунктурой по позвоночнику поднимался страх, который по сегодняшней классификации Артура имел уже третью категорию. Но тут все эти рассуждения были моментально сметены в сторону — на него налетел первый противник…
Когда-то в юности Артур был завсегдатаем интернет-клубов и даже стал однажды победителем районного чемпионата по Unreal Tournament. Но такой реалистичной бури эмоций за столь феерически краткий момент он определенно не испытывал.
Дело в том, что уровень сложности координационных структур на сенсомоторном уровне, которые необходимо было учитывать для успешной VR-игры, оказался значительно более высоким, чем это вообще представлялось возможным в обычной жизни. В так называемой реальности ты просто никогда так быстро и ловко не подпрыгнешь, не перевернешься и не отскочишь от стены — потрать хоть десять лет на тренировки. А шлем даровал это восхитительное чувство физической собранности и контроля сразу, с первых секунд. Становилось понятно, на что именно подсаживаются.
Противника он вынес почти сразу же, даже не успев спросить Митяя, как менять оружие — настолько интуитивно понятным был интерфейс. Следующего — буквально через несколько секунд. Каждая стычка доставляла массу положительных эмоций от осознания неожиданно проявившихся скрытых резервов собственной ловкости — и уже через пару минут уровень был пройден.
Артур сразу же сорвал с себя шлем и увидел улыбающееся лицо Митяя.
— Ну как? — спросил тот.
— Круто! — односложно выдохнул Артур. — И сразу ясно, о чем ты говорил, когда объяснял про игройогу. Только вот мне в голову сразу пришла мысль о том, как смастерить похожий эмулятор прокачки для ментальной сферы.
— Поясни, — коротко отреагировал Митяй, прислоняясь спиной к стене и отхлебывая чаек из кружки.
— Про мою теорию вкратце ты уже слышал, — начал Артур. — Так вот. В любом мыслеакте присутствует вся свернутая последовательность эмоциональных состояний, по которым он — этот мыслеакт — седиментировался в прошлом. Мысль, как зародыш, вынуждена проходить все стадии эмбрионального, так сказать, развития. Эта последовательность довольно прихотлива и обусловлена личной историей человека. Но в любом случае — непроста и извилиста. Соответственно, занимаясь любой деятельностью, требующей контроля, человек каждое мгновение воспроизводит всю эту цепочку состояний. Например, при встрече с противником: «страх — ощущение того, что не справишься — надежда — радость от того, что получается — небольшой откат в связи с корректировкой представления о границе успеха». Довольно громоздкая последовательность — но что поделать? Тем более что реализуется она за доли секунды: так быстро, что практически не доставляет неудобств — ведь задержка абсолютно не фиксируется. Насколько я знаю, в буддийских текстах эту последовательность обработки называют «джаванами». Отслеживание и исправление каждой из таких последовательностей возможно только в дхьяне, медитативном состоянии. Чем выше её уровень, тем масштабнее возможное изменение. Твоя игройога является своеобразной современной вариацией на эту тему. Если войти в тонкий режим отслеживания нюансов этих джаван — то есть, по сути, в дхьяну определенного уровня — при параллельной реализации эмоционально нагруженной деятельности, которой в данном случае выступает игра, то… можно ощутить сопротивление «организма сознания» — наработанных за жизнь автоматических паттернов реагирования. А затем, зацепившись за это сопротивление как за критерий, начать их менять. Да, такую випашьяну осуществить нелегко, но невероятно полезно. Ведь именно она может постепенно привести к формированию «идеального состояния», из которого не будет необходимости куда-либо выходить, поскольку оно совмещает в себе высшую точность и невероятную радость. Но это еще не всё. Разобравшись в целом с эмоциями, можно пойти дальше — и начать перестраивать способ мышления, это будет естественным продолжением, если он по сути состоит из осевших, седиментированных эмоций. Но как придумать такую игру, которая способна создать настолько тонкий и нюансированный коридор развития, причем, заточенный именно под твою психику?
— Ну ты даешь, — недоверчиво мотнул головой Митяй. — Это первая такая реакция на VR, которую я встречаю. Знаешь, сколько людей тут уже побывало? И, дальше ахов и охов дело обычно не шло. А у тебя прям план-проект от ведущего гуру игройоги.
— Если бы, — криво усмехнулся Артур. — Пока, кроме общей концепции, речь ни о чем не идет. Ведь тут очень важно правильно организовать последовательность заданий, выстроить из них своеобразную лестницу, по ступеням которой, как по главам хорошего романа, можно будет добраться до катарсиса ближе к финалу. И если нет знающего сценариста, в роли которого в рамках традиции выступает учитель, разработать такой сюжет — непростая задача.
А без понимания последовательности этих ступеней бездумное и неконтролируемое просиживание в игре действительно может привести к зависимости. В общем, как и в случае с наркоманами и психонавтами, необходимо провести четкое разделение между лудоманами и игронавтами — и постоянно удерживать на прицеле осознания эту дистинкцию. Кроме того, как учесть в геймплее хитросплетения и извивы психики конкретного игрока? В общем, учитывая невероятную сложность и разнообразие типов человеческой психики, я бы, например, за роль такого сценариста-психонавигатора сейчас просто не взялся. Остается только надеяться и уповать на высшие силы…
— Как известно, упования, молитвы и прочие воззвания к высшим силам работают только у тех, кто проживает лицензионную версию жизни. А мы-то с тобой, как ты понимаешь, на пиратке сидим, — иронично согласился с ним Митяй. — Если хочешь, могу тебя с одним таким «лицензионщиком» познакомить. Никодимом-проповедником кличут…
Бог — это принцип

Для «серьезного разговора» с Никодимом, носившим в местном эзотерическом подполье кличку «проповедник», Митяй пригласил Артура в Mellow Mountain bar. Обстановка бара, высившегося на скале на самом краю лагуны, внушала настороженный оптимизм: в сгустившихся сумерках на пуфиках вокруг кальяна расположилось несколько молодых людей — некоторые из них лежали, расслабленно млея под мягкий хаус, льющийся из колонок; другие сидели, обхватив колени руками и завороженно глядели на фонари Хаад Рина и далекие отблески корабельных огней на горизонте.
Митяй с Никодимом возлежали на похожих пуфиках в самом углу, возле деревянного парапета, за которым глухо рокотало море, разбиваясь о прибрежные скалы внизу.
— О, привет! Присаживайся, мы тут специально для тебя место приберегли, — встретил его Митяй, протягивая руку и подвигаясь для того, чтобы пропустить Артура в угол.
Никодим, сидящий напротив, чуть привстал, ознаменовав знакомство рукопожатием, неспешно раскурил кальян, однозначно попахивающий ТГК, и выпустив в воздух бесформенный клуб сизоватого дыма, начал:
— Митяй говорит, ты у нас парень продвинутый, вопросами разными интересуешься…
— Интересуюсь, — с улыбкой кивнул Артур.
— И образование профильное у тебя, говорит, есть, — так же неторопливо продолжал Никодим, передавая чубук.
— Есть, — подтвердил Артур, принимая его.
— А вот скажи, ты в Бога-то веришь? — неожиданно спросил Никодим, пристально глядя собеседнику в глаза поверх кальяна.
— Это зависит от того, что понимать под Богом, — не проявив особого удивления, ответил Артур, выпуская в воздух пряно пахнущее колечко дыма.
— Да? — иронично хмыкнул Никодим. — Тогда слушай. Когда я жил на юге Индии, частенько наблюдал мартышек в разрушенном храме. Они прыгали и бесновались на священных статуях, как выродившиеся потомки тех, кто утратил свою религию — и вместе с ней возможность быть человеком.
Артур перевел вопросительный взгляд на Митяя, передавая ему чубук, — но тот в ответ лишь невозмутимо пожал плечами.
— Как это похоже на современное общество, подумал я, — продолжал Никодим. — Повсюду обломки былого величия, по которым скачут выб..дки постмодерна, ухая и засирая всё, что еще не успело развалиться. Как ты думаешь, есть ли для обезьян Бог? — вопросил он, так же пристально глядя в глаза.
— Скорее всего, да, — ответил после некоторого размышления Артур. — В некотором эмоциональном смысле. При этом, полагаю, они совершенно точно не задаются вопросами по поводу определений.
— Умничать ты силен, вижу, — отодвинувшись, протянул Никодим. — Ну и как, по-твоему, можно определить Бога?
— Очень по-разному, — спокойно ответил Артур. — В индуизме, например, почти так же, как и в греческом пантеоне, бог — это принцип.
— Принцип? — переспросил помалкивающий до этого Митяй.
— Да. Принцип. Например, Афродита — принцип красоты, Марс — принцип войны, Лакшми — принцип изобилия, и так далее.
— Ну а в христианстве? — продолжал вопросительную линию Митяй.
— В христианстве и вообще в монотеистических религиях ставится вопрос о принципе принципов — а потом и о всей восходящей иерархии принципов принципов принципов. Которая в итоге и приводит к представлению о монотеистическом Боге Библии: начав свою карьеру как один из локальных принципов, он не только довольно быстро достиг вершины иерархии, но и уверенно пересек трансцендентную черту, отделяющую катафатическое от апофатического — и с этого момента даже принципом быть перестал, заняв позицию абсолютной недосягаемости для любых определений.
Если до этого человек мог хотя бы отчасти воплощать собой — своим телом, жизнью, своими поступками и мыслями — некоторый принцип, скажем, красоту, доброту, стойкость, бесстрашие, то после утверждения монотеизма при всем желании сделать этого он уже был не способен. Абстрактный, запредельный над-принцип всех принципов по определению невоплотим — даже частично — в человеческой форме. Таким образом, монотеистический Бог — неопределимый и неописуемый — с точки зрения своей феноменальной данности человеку представляет собой чистый фантазм по Лакану.
— Слышь, ты это… не умничай тут. Бог — это вообще единственное, что есть. Это ты — по сравнению с ним… фантазм. И не существуешь, — жестко огрызнулся Никодим.
— Как угодно, — улыбнулся Артур. — Можно сказать, что и не существую. Только вот существует ли то, что ты в своем сознании приклеиваешь к словесному ярлычку «Бог»? И если да, то в каком смысле?
— Чё ты выё..? — вскинулся Никодим. — Самый умный тут? По щам получить захотел, мля?
— Э, э, э, полегче, так нельзя, — приподнялся на локте лежавший на соседнем пуфе Митяй. — Ты чего? В конце концов, он тебе ничего плохого не сделал. Даже слова грубого не сказал.
— Не сказал он, ага. Знаем мы таких, — тем не менее, осознав, что он не в большинстве, Никодим несколько поостыл и опустился обратно на место, поигрывая желваками.
— Так вот, — невозмутимо продолжал Артур, — я ведь даже не обсуждаю сейчас, есть Бог или нет. Я задаю совсем другой вопрос: а уверен ли ты, Никодим, что то представление, которое возникает в твоем уме, когда ты произносишь слово «Бог», действительно Богу хоть в чем-то соответствует?
— Бог вне всяких представлений, — безапелляционным тоном отрезал Никодим.
— Хорошо. Тогда как ты можешь знать, что прославляешь и возносишь молитвы именно ему, а не кому-то или чем-то другому? — продолжал Артур.
— Это кому? Дьяволу, что ли?
— Ну, например.
— Ты думаешь, я Бога от дьявола не в состоянии отличить, что ли?
— То есть все-таки ты как-то определяешь Бога в своем сознании и довольно уверенно проводишь границу между тем, что он есть, и тем, чем он не является? Значит, у тебя присутствует некоторое представление о нём — и ты уверен, что оно правильно, то есть хотя бы в каком-то смысле репрезентирует Бога? Хотя бы как знак, указующий на понятие?
— Слышь, чё ты мутишь, а? — заёрзал Никодим. — Весь кайф, блин, обломал этой своей х..ней. Короче, зае..ло, мне скоро в другом месте надо быть. До мероприятия полчаса. Митяй, ты со мной? — деловито вскинул он взгляд на компаньона. Тот лишь отрицательно покачал головой. — В общем, тогда я пошёл. А тебе, сучок, еще аукнется. Причем, быстрее, чем ты думаешь, — угрожающе накренился он в сторону Артура.
В молчании, разбавляемом только шумом моря и иностранной разноголосицей, доносящейся из глубины бара вперемешку с музыкой, Никодим победоносно поднялся с пуфика, и, отпихнув ногой подушку со своего пути, направился к выходу.
— Он всегда такой? — спросил Митяя Артур некоторое время спустя.
— Да как тебе сказать, — ответил тот, передавая обратно чубук. — Чем-то ты ему не понравился. Видать, постмодерн в тебе почуял. Подрыв основ, так сказать. Он это дело на дух не переносит.
— Очень странно. Я-то считаю себя скорее традиционалистом-неоклассиком, — покачал головой Артур.
— Да уж. Это особенно явственно проявляется в твоих тёрках относительно принципов, — улыбнулся Митяй. — Но меня-то как раз устраивает. В связи с чем я хотел бы задать пару уточняющих вопросов: если понимать под «богом» определенный принцип, как в индуизме, где этот принцип находится? На чем он реализован?
— Представь себе, — после некоторого размышления, заполненного раскуриванием кальяна, принялся объяснять Артур, — что некто сумел пережить смерть, сохранив своё сознание… Если уж ты вспомнил постмодерн, то, скажем, как небезызвестный тебе персонаж Кукловод из «Ghost in the Shell» в нейросети. — Митяй кивнул. Артур продолжил — Какие последствия это будет иметь? Во-первых, такое «распределенное по разным кластерам» сознание будет жить очень долго — пока не умрет последний носитель нейросети.
Во-вторых, такое сознание будет представать восприятию отдельно взятого носителя в виде некоторого, достаточно абстрактного принципа: добра, справедливости, радости; может быть, даже сложения, тождества, равенства и т. п.
В-третьих, сохранившееся таким образом сознание будет не до конца обезличенной сущностью — с ним даже можно в некотором смысле общаться, соответствуя ему в большей или меньшей степени. В таком случае от него даже можно что-то получать: например, посредством согласованных с твоим намерением действий других людей, ему причастных. Если устранить промежуточный этап нашего рассуждения в виде техно-прослойки, обеспечивающий поддержку и функционирование нейросети, получится что-то, отдаленно похожее на концепцию политеистического бога. Так понятнее?
— Да, что-то в этом есть, — задумчиво произнес Митяй. — Действительно, в таком ракурсе концепция бога и божественности вырисовывается… с какой-то неожиданной стороны. А кем же в таком случае оказывается человек? Терминалом? Устройством, с помощью которого бог получает возможность доступа к реальности?
— Что-то вроде этого. Ареной для борьбы разных божеств и полем их конкуренции. Если идти по этому пути дальше, раскрывая стоящее за ним мировоззрение, то становится значительно более понятной концепция духов. Дух с данной точки зрения — это не вселенский, а локальный принцип. Например, не принцип всеобщей красоты, а принцип красоты представителей конкретного рода. Скажем, по женской линии.
Или — что встречалось на практике чаще — даже отдельный психический паттерн конкретного человека. Или набор паттернов. То, что сегодня в массовой психологии называется субличностью.
— Ага, — задумчиво выдохнул дым Митяй. — То есть можно сказать, что человек — это тоже в определенном смысле дух. Как конгломерат паттернов? — Артур кивнул. — И как именно дух с человеком соотносится, если это одновременно он и не он?
— Примерно так же, как твоя тень с тобой. Как один из аспектов с целым. Это достаточно похоже на сложную геометрию соотношения пространств разных мерностей: в подобном смысле квадрат является одной из проекций куба. А сам куб — проекцией гиперкуба.
Так вот, сакральное семантическое пространство, в котором обитают боги и духи, с точки зрения человека прошлого — это то, проекцией чего мы являемся. Точнее, одной из граней чего выступает наше текущее сознание.
Дух при таком понимании имеет меньшую мерность, а бог — бóльшую, т.е. состоит из множества семантических измерений, и мы просто не способны представить себе этого целого, будучи лишь одной из его проекций. И тем более, являясь при этом полем битвы нескольких таких сущностей, желающих одновременно спроецироваться с нашей помощью в реальность.
— Интересно… — протянул Митяй, затягиваясь, — но даже если такое представление удастся получить, это будет означать, что реализовано оно с помощью одного из принципов. То есть, с точки зрения данной концепции, один из богов, или духов, на время восторжествовал, и обрёл возможность познавать других. И себя заодно.
— Поздравляю, — протянул ему руку через столик Артур для символического рукопожатия. — Ты только что тезисно описал суть шаманизма. Только в современной интерпретации это, скорее, похоже на кибер-шаманизм — представление о голографической и виртуальной природе сознания.
— Как же люди достигали таких необычайно странных высот в прошлом? Даже не имея представления о нейросети? — спросил, чуть погодя, Митяй.
— Думаю, в основном, так же, как и теперь — с помощью медитации и психоделиков.
— Ну не знаю… Говорят, раньше такие возможности были чуть ли не у каждой травницы, — протянул Митяй.
— Возможно, ты удивишься, но сегодня большая часть того, что стояло на полках избушки травницы, уже давно внесено в список А, в перечень прекурсоров… — улыбнулся Артур. Так что это ничему не противоречит.
Неожиданно музыка в баре резко оборвалась. Возле входа началась какая-то безумная суета, заметались лучи фонариков, раздались свистки и крики «Police! Police!».
— Стопудово Никодим, падла, натравил, — процедил Митяй сквозь зубы, бросая чубук на стол. Зная, что встреча с тайской полицией в таком месте и в таком состоянии однозначно не сулит ничего хорошего, Артур, не раздумывая ни секунды, крикнул Митяю «уходим!», одним движением перемахнул через ограждение и прыгнул в волны.
Мгновение полета — и последовавший за этим жесткий удар о воду. Несколько секунд погружения.
«Жив!» — промелькнувшая молнией облегчения в сознании мысль. Опасность не допрыгнуть и упасть на скалы в темноте была вполне реальной. Второго прыжка не последовало — Митяй не решился на такой безрассудный поступок.
Опасаясь того, что его могут заметить сверху и высветить в воде фонариками, Артур решил нырнуть поглубже и по возможности долго не показываться над водой.
Во время первого нырка в сознании уже сформировался план дальнейших действий:
Завернуть за скалы слева, доплыть до следующего пляжа — Secret Beach — и вернуться к припаркованному возле дороги байку кружным путем, не появляясь на Хаад Рине, где сейчас, скорее всего, свирепствует тотальная облава.
Проплыв несколько десятков метров под водой, он вынырнул. Наверху, под крышей возвышающегося на сваях бара, никого не было видно. Судя по всему, никто за ним уже не погонится. Внутри воцарилось неожиданное спокойствие. Приятно радовало то, что он не взял с собой на встречу паспорт и мобильник. Что будет с лежащим в кармане заламинированным пластиком прав и деньгами, он не знал. Однако адреналин от пережитого и ТГК в крови подхлестнули мысль, которая продолжала быстро и четко работать в намеченном направлении. Внимание будто разнеслось упряжками ретивых коней в разные стороны, высвечивая новые, более широкие, пласты реальности. По телу растекалась уверенность в своих силах.
Артур плыл по довольно спокойному морю в сторону Secret Beach и думал:
Итак, если развивать метафору голографической проекции разных «мерностей», то человеческое сознание предстанет чем-то наподобие трехмерной семантической конструкции, пытающейся выстроиться по лекалам сразу нескольких четырехмерных, ежесекундно достраивая недостающее измерение с помощью времени, последовательности мгновений. Получается, что лучшее, что человек может сделать в такой непростой и зыбкой жизненной ситуации — выбрать свой личный принцип, и четко следовать ему. Тогда, по крайней мере, есть какой-то шанс на последовательную сборку по одной модели — со всеми её достоинствами и недостатками — вместо хаотичных и разнонаправленных колебаний. То есть человек это принцип, пытающийся схватить, собрать самого себя.
Артур попробовал представить себе, что будет, если выбрать в качестве модели для этой сборки буддийский путь самопознания, и неожиданно разрозненные обрывки умопостроений на эту тему сложились в единый паззл: осмысленная жизнь, направленная на выход из череды перерождений, метафорически представилась ему чем-то похожим на стремительный прорыв Тай Лунга со дна пропасти к поверхности в «Кунг-Фу Панде». Глыбы, летящие сверху, играли роль временных и быстро опадающих опор — аналогов быстротечных перерождений. Локальная цель каждого из них виделась в том, чтобы успеть хорошенько зацепиться за отдельную жизнь, вскарабкаться наверх и, оттолкнувшись с её вершины, прыгнуть ещё выше, зацепившись за следующую. При этом стремительность продвижения обязательно должна быть выше, чем скорость падения вместе с глыбой. Иначе весь этот невероятный порыв просто теряет смысл…
Ощущая, как его относит течением в море, и слегка забирая к виднеющемуся вдали берегу, чтобы скорректировать курс, Артур подумал о том, что большинство людей намертво вцепляются когтями в твердую породу жизни и сидят на одном месте до момента окончательного падения. Другие просто не могут приложить достаточного усилия для того, чтобы основательно зацепиться, третьи срывают себе когти во время рывка. Четвертые никуда не трогаются со дна, полагая, что это просто бессмысленно. И лишь немногие узнают, что следующую глыбу видно только после достижения верха предыдущей…
Когда он, наконец, доплыл до Secret Beach и выбрался на берег, выяснилось, что пройти в темноте сквозь окружавшие пляж поросшие джунглями горы практически невозможно. Так что Артур просто решил переночевать здесь — и вернуться утром вплавь обратно на Хаад Рин, где к тому времени вся шумиха уже должна была рассосаться.
Обнаружив заботливо растянутый кем-то между пальмами гамак, он улегся в него и, глядя на выглянувшие из-за туч звёзды, неожиданно улыбнулся. Улыбка всё росла и росла в такт покачиваниям, пока, наконец, он просто не расхохотался от счастья и облегчения.
Спокойно качаться в гамаке и подсыхать на теплом ветру, ощущая, что всё позади и опасность миновала, оказалось приятно до такой степени, которая прежде была с трудом представима.
Артур засыпал под мерный шелест волн, ощущая, что сделал всё в полном соответствии со своим личным принципом.
Son of the beach

Как правило, сны Артура представляли собой напластование одних фантастически-нереальных эпизодов на другие. Поэтому особенно удивительным было то, что этот сон, явившийся ему в гамаке Secret Beach под шелест волн, до невероятия напоминал перепросмотр — цепочку последовательных погружений в реальные события прошлого:
День. Яркие лучи весеннего солнца заливают большой, оборудованный для танцев зал в подмосковном Пушкино. Спокойно струится негромкая музыка — «For you» от Dagda Плавно кружатся пары по паркету. Я лежу на боку, наблюдая за этим неслитным движением длинных шуршащих юбок и отстраненно-обрадованным выражением лиц танцующих. Лежу после техники «дыхание животного», в которой мне, вопреки корявым инструкциям, удалось ухватить тонкое состояние разливающейся по телу истомной детской радости — и, улыбаясь, обживаю его. Просто смотрю на узор из теней деревьев за окном, легкой вуалью покрывающий зал, смотрю сквозь пальцы своей правой руки, на предплечье которой покоится моя голова. Взгляд останавливается на ногтях, рельефно поблескивающих в солнечных лучах.
Это сочетание светлой, солнечной, возвышенной атмосферы и свежести, отблески, проступающие в дневном свете, льющемся из открытого окна, уводит в еще более глубокий сон-воспоминание о раннем детстве:
Морозный мартовский день. В детском саду тихий час. Ровный периметр из коек, опоясывающий спальную комнату. Одинокий анклав из четырех составленных вместе кроваток в центре. Даже не поворачивая головы, можно увидеть, как рядом на соседней койке мирно спит девочка Катя из моей группы. Да и остальные дети вокруг тоже спят. Не сплю только я, разглядывая ногти на правой руке. В памяти — недавний разговор: я стою одетый перед прогулкой, прислонившись лбом к холодному оконному стеклу коридора, за которым снег, снег, снег — и спрашиваю взрослых «а когда же весна»? Мне отвечают, что надо еще потерпеть, что тепло приходит значительно позднее — иногда вообще в мае. Рассеянный тусклый свет проникает в окно спальной комнаты, а я, глядя на кутикулу, нарастающую на ногти, размышляю над тем, как образовался этот странный зазор, из-за которого по календарю весна должна начинаться в марте, а в действительности приходит непонятно когда. Мне еще неизвестно, что месяцы и сезоны изобрели в Италии, где значительно теплее, и весна действительно приходит в марте, но подозрение о том, что за всем стоит какой-то фундаментальный подвох, уже начинает проникать в мысли.
Сон продолжает скользить по поверхности памяти гибкой сеткой солнечных зайчиков: будто рыбка, пойманная бреднем постепенно подтягиваемой к моменту настоящего эмоциональной сети, на поверхность сознания выплывает следующее воспоминание:
Начало марта, яркое солнце, теплое солнечное утро, Гоа. Я лежу на пляже и смотрю на море сквозь пальцы правой руки. Молодой, неглупый, самоуверенный и полный сил. Сумевший ухватить судьбу за хвост и оседлать тигра. Вчера со мной произошло событие, навсегда изменившее экзистенциальную траекторию. Удивительный и прекрасный, как прыжок дельфина, трип, рывком выбросивший меня в пиковое состояние, доступное в этой жизни. Сохраняя привкус этого состояния, перекатывая его, как карамель во рту, я отстраненно-расслабленно улыбаюсь и созерцаю отблески солнца на поверхности волн, осваиваясь с тем, как мне теперь жить со всем этим дальше. И отголоском абсолютной несомненности приходит ощущение, что жить мне дальше теперь — исключительно хорошо… Потому что я полноправный сын этого пляжа, этого неба и этого солнца.
Но это очевидное как день самоощущение зарастает хаотичной констелляцией жизненных событий — и надо время от времени очищать постоянно нарастающую пленку восприятия, как кутикулу на ногтях. Если не делать этого, то с возрастом ей затягиваются целые области восприятия, инфракрасные и ультрафиолетовые его аспекты, само собой разумеющиеся в детстве, но с годами отступающие вглубь памяти, теряющие жизненность, яркость и блеск. Чтобы они оставались, необходимо их предварительно осознать. Впитать, метаболизировать — так, чтобы уметь по желанию обращать на них внимание, вызывать с помощью внутреннего языка. И чем раньше это произойдет, тем более широкий спектр нативной полосы восприятия удастся сохранить в зрелом возрасте.
А что означает это осознание на практике? Что ежесекундно создаваемое ощущение «Я» должно стать управляемым прямо в процессе его реализации. А значит — содержать в себе парадоксальные элементы самоприменимости, бесконечную череду собственных отражений. Это означает бесконечное творчество по созданию этих самоощущений…
С этой мыслью Артур стал всплывать на поверхность яви. Отступающий как морская волна сон оставлял внутри ощущение мягкой неги, в недрах которой по мере пробуждения распускалось предвосхищение чего-то неизвестного, но заведомо и необратимо чудесного, как перед днем рождения в детстве. Утреннее солнце уронило свой луч на лицо сквозь пальмовую крону, заставляя сознание медленно вытекать из-под складок ночного покрывала через мякоть розовато-оранжевых всполохов на внутренней стороне век.
Первое, что предстало взгляду после того, как он окончательно открыл глаза, была повторяющая контуры улыбки светлая полоска попки, приятно контрастирующая с умеренно загорелой спинкой. И то и другое принадлежало девушке, избавлявшейся прямо на его глазах от остатков одежды. Отбросив на подстилку последнее, она медленно вошла в воду и поплыла.
Поневоле сомневаясь в том, насколько происходящее с ним сейчас реально, Артур залюбовался тем, как гармонично сочетаются отблески восходящего солнца, играющие бликами на поверхности моря, и золотистые волосы девушки, резвящейся в волнах.
Эта сцена продолжалось несколько минут, пока, наконец девушка не вышла на берег, очевидно, накупавшись, и не улеглась загорать на подстилку, прикрыв голову шляпой. Судя по всему, всё так же не замечая его. Название книги, лежащей рядом с ней, было написано по-русски.
Предчувствуя интригующий поворот сюжета, Артур решил выбраться из своего гамака. Оглянувшись на него со стороны, он выяснил причину такого беспечного поведения незнакомки: благодаря черно-зеленой расцветке, как оказалось, гамак сливался с зарослями на берегу почти до неразличимости.
— Простите. Не знал, что здесь нудистский пляж, — приблизившись к подстилке, отчетливо проговорил он, стараясь придать голосу как можно больше светского дружелюбия.
Девушка вскрикнула, вскочила и попробовала прикрыть наготу наспех подхваченной маечкой. Получилось не очень.
— Он не нудистский. И вообще — отвернитесь, — почти всхлипнула она.
— Хорошо-хорошо. Хотя я уже всё, в общем-то, видел, — примиряющим тоном произнес Артур, отворачиваясь. — Кстати, как вас зовут, прекрасная незнакомка?
— Олеся, — неожиданно быстро ответила из-за его спины собеседница. — Как же вы так незаметно здесь оказались?
— Приплыл вчера ночью и ночевал в гамаке, — с неподдельной искренностью ответил Артур. — Вот в этом, — на всякий случай показал он рукой. — А можно уже на «ты»? Кстати, я Артур.
— Ты приплыл сюда специально, чтобы подсматривать за мной, Артур? — с неожиданно проявившимися нотками заигрывающей иронии в голосе поинтересовалась Олеся. По её изменившимся интонациям можно было сделать вывод о том, что одежда уже обрела свое место.
— Видимо, да, — улыбнулся Артур, благополучно сделав этот вывод и поэтому разворачиваясь. — А…? — но договорить он не успел, потому что Олеся просто запечатала ему рот своим поцелуем. Как оказалось, из одежды она успела надеть только трусики на завязках, которые и были мгновенно сметены мощным движением. Затем воспоследовал быстрый и страстный секс на подстилке…
Потом, когда они плескались в волнах, обнимаясь и со смехом обсуждая произошедшее, выяснилось, что Олеся тоже далеко не каждый день посещает этот пляж.
— А ты невероятно смелая, — с уважением сказал Артур. — В хорошем смысле.
— Что ты, обычно я не такая. Просто… Не знаю, как ты относишься ко всяким мистическим предзнаменованиям, но мне сегодня приснилось, что я найду здесь свою любовь, прямо на этом пляже. Ну и представь себе — неожиданно появляешься ты. И выглядишь так… Интеллигентно, что ли. Застенчиво, несмотря на показную самоуверенность. Солнце играло в твоих волосах, — произнесла Олеся, заботливо поправляя выбившийся белокурый локон Артура. — В общем, совсем непохоже на обычного гопника.
— Да, это многое объясняет, — стараясь придать голосу как можно больше шутливой многозначительности, ответил он. — «А я милого узнаю по дискурсу».
— Ну а что ты смеешься? — наморщила носик Олеся. — По крайней мере, ясно, что высшее образование у тебя есть. А то и не одно. А я, между прочим, филолог. Граммар-наци, как сейчас принято говорить, да. Поэтому дискурс для меня крайне важен.
— И чем промышляют дипломированные филологи здесь, в тайской глуши? — поинтересовался Артур.
— В основном, экскурсиями… — несколько смущенно ответила Олеся.
— Ну, это очень даже достойно, — поддержал её Артур. — Гораздо лучше, чем то, чем зарабатывает здесь большинство соотечественников.
— Ты знаешь, вот сейчас ты произносишь всю эту чушь — а для меня важно только одно: ощущение, что ты на каком-то очень глубоком эмоциональном уровне хочешь поддержать нашу связь, не закрываешься, не ускользаешь в сторону. Ты ведь хочешь быть со мной дальше, я правильно чувствую? — спросила она, глядя ему прямо в глаза. Артур серьезно кивнул.
— Вот видишь, — Олеся прильнула к нему всем телом, обвивая под водой ногами. — Значит, сон может быть правдой. Значит, я тебя нашла…
Артур, расставив пошире ноги для устойчивости, крепко обнял её, чувствуя, как твердеет прижавшийся к плечу сосок.
— Ну а что удивительного. В конце концов, мы же на Secret Beach! — его рука подхватила её тело снизу, остановив начавшееся было медленное сползание — и начала нежные возвратно-поступательные движения.
— Ну вот кто ты после этого, а? — улыбнулась Олеся. — Я же серьезно.
— Как это кто? Son of the beach! — патетически пророкотал Артур, не прекращая своих манипуляций.
Full moon afterparty

Заходя в отель к Олесе, Артур пополнил свою копилку еще одним поучительным опытом соприкосновения с соотечественниками. В коридоре он был буквально вмят в стену безапелляционно шествующей массивной женщиной за пятьдесят с выражением лица «Крым наш!» Артур ничего не имел против Крыма, но такое выражение обычно сопровождалось массой неприятных побочных эффектов. Не реагируя на его вежливые попытки поздороваться по-русски, женщина, сохраняя индифферентно-агрессивную мимику и слегка потрясая при ходьбе жирными складками щек, патетическим жестом отодвинула Артура в своем победоносном и неумолимом продвижении к столовой.
Он уже начал думать, что безотказно работавший до сих пор инстинкт распознавания соотечественников на этот раз все-таки дал сбой, однако добравшаяся до столовой, тетка разрешила все сомнения протяжным выкриком: «Люююб! Там опять капусту дают?»
Артур давно наблюдал за повадками руссо-туристо за рубежом и даже составил что-то наподобие классификации — для внутреннего пользования. Экспансивный пенсионный типаж был достаточно распространен в отелях Паттайи и водился на Пхукете, но на Самуи и Пангане являлся относительной редкостью. С другой стороны, именно он был нарасхват у «групповодов», поскольку сочетал в себе все мыслимые для туриста достоинства: группировался стайками, был достаточно баблист, плюс ко всему склонен расставаться со своими деньгами по самым нелепым поводам. Это позволяло жить немалому числу его знакомых. Среди которых, как выяснилось, оказалась и Олеся, специализировавшаяся на экскурсиях в сафари-парк, фотосессиях с попугаями, водопадах и слоновьих обливаниях.
Олеся, как обычно в это время, сидела на ресепшн, уткнувшись в планшет в ожидании своей группы. Обогнув столовую, из которой всё еще доносились звуки перебранки теток, он устремился к ней и, приобняв руками сзади, чмокнул в поднявшийся к нему высокий загорелый лоб.
Вчера они были с Олесей на Shiva Moon Party. И почти сразу же достаточно неуклюже ускользнули с этого мероприятия — чтобы затем, после спонтанного бурного секса, обнявшись, несколько часов лежать под светом звезд на плавучем плоту в счастливо попавшемся на пути приотельном бассейне, рассказывая друг другу о глубоких переживаниях детства. Именно тогда он впервые ощутил, что смог передать кому-то в словах идею о том, как меняется с возрастом глубина восприятия реальности.
— Понимаешь, — говорил Артур, облизывая губы после долгого, невероятно сочного поцелуя, — жизненный мир каждого человека окаймляется воспоминаниями о пиковых, эталонных состояниях: радости, грусти, восхищения, боли. Обычно почти все они приходятся на детство. Для того чтобы узнать кого-то по-настоящему, самый надежный способ — услышать рассказ об этих маячках, отмечающих границы его эмоциональной ойкумены.
— Расскажешь что-нибудь про себя? — улыбнулась Олеся.
— В моем детстве был такой эталонный вечер: мы просто лежали теплым августовским вечером на зеленой лужайке в парке с приятелем после игры и смотрели на небо. А там… там догорал закат и носились стрижи. Несколько десятков маленьких, быстрых стрижей. Они постоянно верещали. Точнее, даже не верещали, а… ну, знаешь, как обычно это у них происходит. Попискивали… По-своему, по-стрижиному. Легко и напевно.
Вечерело, плавно заходило солнце, тихо работали поливальные машины, сбрызгивая невысокую зеленую травку, что-то неуловимо-пряное витало в воздухе, воспаряя своими неоднородностями к легким перистым облачкам — и всё это сливалось в такую упоительную, насыщенную привкусами детских надежд и мечтаний, квинтэссенцию летнего вечера, что, казалось, стоит только захотеть, помечтать чуть-чуть глубже, сильнее — и можно будет прямо так, не убирая из-под головы скрещенных рук, оторваться от теплой, напоенной ароматами лужайки и устремиться в это догорающее фиолетовым пурпуром небо, раскрывавшееся перед распахнутым детским сознанием смутным, но несомненным обещанием радости и счастья.
А главное — никаких подозрений в том, что обещание это может не реализоваться, в тот момент не было. То есть абсолютно. Было совершенно непонятно, что в этом мире может отнять у меня возможность переживать такие глубокие и наполненные моменты: завтра, послезавтра — каждый день. До конца жизни. Совершенно ясно ощущалось, что ни от кого больше они не зависят и ничего особенного не требуют. Для радости нужен только я — и мир. Наверное, в осознании этого обстоятельства и кроется большая часть загадки детского счастья.
— Красиво, — протянула Олеся. — У меня было что-то похожее, почти по тому же сценарию, только на стадионе зимой. Мы с подругой лежали на льду, прямо там, где упали, хохоча от радости – не снимая коньки, и смотрели, как снежинки падают с неба хлопьями, почти неотличимые от звезд в вышине. Мда… А уже через полгода трудно было вспомнить, реально ли вообще это было — или во сне привиделось. А через пять лет, к моменту окончания школы, при всем желании уже невозможно было пережить ничего похожего. Иногда я думаю, где предел этого внутреннего полураспада? Время неумолимо тащит меня дальше, проходят годы — и вот уже одноклассница, с которой нас объединяло это чудо, начинает выписывать газеты с заголовками «Свойства пророщенной пшеницы: о чем молчат диетологи» и погружается в затяжную борьбу с безденежьем, безмужеством и целлюлитом, а я вот всё не могу успокоиться, мотаюсь по разным странам, ныряю, прыгаю с парашютом… И ради чего? Ради того, чтобы пережить еще раз хотя бы близко то, что было тогда, на катке в детстве, таким простым и естественным.
— Думаешь, адреналин и другие страны действительно помогут это вернуть? — спросил Артур.
— Конечно, нет. Но надо же что-то делать. Не отращивать же филейные части, лежа на диване.
— А как по-твоему, кто-нибудь знает по-настоящему, что с этим, как ты говоришь, полураспадом можно сделать? Я имею в виду, по-честному. Навсегда.
— Не знаю. Наверное, психологи. Ты знаешь?
— Эммм… А если бы знал, как я мог бы передать тебе это? — состроил озадаченное выражение лица Артур.
— Ну, может быть, просто объяснить? — приподнялась над ним на локте Олеся.
— Ты можешь объяснить, как ты сейчас пошевелила своими прекрасными губками, произнося это?
— Просто захотела и пошевелила. Что здесь такого?
— А если бы я не умел шевелить своими и просил бы тебя растолковать, какое именно усилие надо предпринять, чтобы так здорово это делать?
— Ага… Вот ты о чем, — нахмурившись, произнесла Олеся. — То есть ты хочешь сказать: существует некое незаметное окружающим внутреннее усилие, с помощью которого можно вернуть в жизнь радость и яркие краски детства?
— Может быть. Однако в реальности всё гораздо сложнее. Для начала неясно даже, в чем именно состоит проблема: и было бы неплохо уверенно понять, что же отнимает у нас возможность просто воспринимать всю жизнь — так, как в детстве?
— Время. Время…
— Ну, время идет, а мир не особенно меняется. И стрижи, и лужайки, и зимние ночи прекрасно существуют себе до сих пор. Меняемся мы. Наше восприятие. И было бы здорово честно ответить себе, в чем и как именно.
— Я-то думала, ты сейчас просто скажешь, что делать — без теорий. Упражнение какое-нибудь дашь. Или мантру, — улыбнулась Олеся.
— Можешь считать мой вопрос мантрой, — парировал Артур. — Которую надо повторять. Без обзорного взгляда с высоты, который дает ответ на него, невозможно даже опознать проблему — что уж говорить о решении?
— Хорошо. И что же распадается в нас со временем?
— Ты правда хочешь сейчас поговорить об этом? Предстоит то, что ты называешь страшным словом «теория».
— А почему нет? Нам хорошо: не жарко, не холодно, свежая звездная ночь. До следующего секса все равно еще как минимум надо отдохнуть. А я уже сто лет не говорила ни с кем так умно по-русски…
После очередного поцелуя Артур переложил Олесю к себе на грудь головой и, поглаживая, продолжил:
— Хорошо. Тогда давай начнем с разницы между количественным и качественным описанием реальности. Вот скажи, какого цвета этот фонарь на крыше отеля?
— Красного. Хотя, может быть, немного отдает в оранжевый. Но скорее красный.
— Ладно, я согласен — красного. И учитывая то, что мы друг с другом полностью солидарны, как ты считаешь, одинаково ли мы воспринимаем этот красный цвет?
— Наверное, нет. Опять же, у каждого свои нюансы, оттенки. Оранжевый, наверное, не просто так у меня прозвучал.
— Давай проведем мысленный эксперимент. Представь на секунду, что на самом деле я вижу этот красный так, как ты видишь зеленый. То есть визуальное восприятие этого красного у меня полностью соответствует восприятию зеленого у тебя. Как ты могла бы это проверить?
— Задать тебе вопрос про цвет. И если у тебя будет «зеленый» там, где у меня должен быть — «красный», значит, вуаля! — с расстановкой произнесла Олеся.
— Но у меня все время будет звучать «зеленый» там же, где и у тебя. И «красный» тоже. Я не дальтоник и неплохо различаю цвета. Ответы каждый раз будут безошибочными. Честное слово.
— Ага. То есть мы оба будем смотреть на зеленый, называть его «зеленым», но видеть по-разному? — подняла бровь Олеся.
— Именно. Так же с красным, синим, черным и всеми остальными цветами. Как ты могла бы узнать о том, как на самом деле я их вижу?
— Хм… Наверное, никак. Если не смогу забраться к тебе в голову каким-нибудь чудодейственным способом. И ты хочешь сказать, что в реальности видишь красный так, как я зеленый?
— Совершенно необязательно. Я хочу сказать, что, не получив доступа к моим мыслям и восприятию, ты этого просто не узнаешь. Вполне вероятно, что я вижу красный так, как ты никогда и ничего не видела. Что само понятие «видеть» и понятие «цвет» для тебя имеют другое значение. То же верно и в обратную сторону. Я не могу с уверенностью представить твое восприятие самых обычных цветов.
— Интересно…
— Следующий шаг, — продолжал Артур. — Как ты полагаешь, всё это относится только к цветам, или также к звукам, запахам и ощущениям со вкусами?
— Наверное, ко всему относится. Получается, даже нюхая и слушая одно и то же, мы на самом деле чувствуем и слышим внутри совершенно разное?
— Проблема настолько глубока, что даже трудно определить, одинаковое или разное мы видим, чувствуем и слышим. Если нет одного субъективного лекала, которое мы могли бы прикладывать к сознаниям разных людей, то как это узнать?
— Действительно, сложновато. Но погоди, есть же разница в восприятии людьми картин, подборе одежды. Вот, например, Машка постоянно здесь, в Тае, носит зеленое с оранжевым. А мне это сочетание кажется дико аляповатым, — задумчиво протянула Олеся.
— Да, вопросы эстетики и вкуса — это косвенный способ убедиться в том, что отличия в субъективном восприятии — qualia, как это принято называть, — между людьми, по всей видимости, все-таки есть. Но, как ты понимаешь, не прямой и не до конца убедительный. А теперь еще один шаг вперед — а есть ли такое лекало для сравнения разных восприятий у тебя для себя? В рамках твоего, отдельно взятого, сознания? — задал вопрос Артур.
— Наверное, да. Это воспоминание. Я же могу вспомнить, как всё выглядело раньше — и сравнить с тем, как выглядит сейчас.
— Да? А ты уверена, что воспоминания эти реальны? И не содержат в себе искажений? Особенно относительно того, что не передается в словах, например, конкретного способа видеть цвета? Ведь, как мы выяснили, точное восприятие тобой цвета в понятие «красный» или «синий» запихнуть невозможно. Помнишь, что ты говорила про школу и ускользающие способы ощущать мир?
— То есть ты хочешь сказать, что мир, который я вижу, в действительности полностью создается в моей голове и не имеет никакого отношения к реальности? — вскинула на Артура взгляд Олеся.
— Ну почему, к реальности-то он как раз имеет определенное отношение. Важно лишь понять, какое. И что именно называть «реальностью». Если даже красный цвет мы можем воспринимать совершенно по-разному, представляешь, как все непросто с таким высокоабстрактным понятием?
— У тебя прямо-таки талант объяснять простые вещи через сложные… С другой стороны, и поспорить трудно. Как-то так оно всё и устроено. Удивительнее всего то, что ты это передаешь словами. При этом говоришь, что язык — постоянно подводит, и вообще ненадежный и постоянно обманывающий нас союзник. Не похоже ли это на противоречие? Как мы тогда сейчас понимаем друг друга? — чмокая Артура, промурлыкала Олеся.
— Опять же, полезно уточнить, что такое язык. И в каком именно смысле мы друг друга понимаем. Можно сказать, что существует несколько языковых уровней. На первом — наименее детализированном — язык используется для того, чтобы обеспечить бытовые взаимодействия. Это так называемый конвенциональный язык. Например, если бы мы с тобой переходили дорогу, и я бы сказал «красный», этого было бы вполне достаточно, чтобы обеспечить «деятельное понимание» и не умереть под колесами неожиданно налетевшей машины. При этом всем участникам коммуникации по большому счету не важно, что именно там видит или чувствует внутри другой. Поверхностное понимание достигнуто — и нормально.
На втором уровне — который у нас с тобой неплохо выстраивается сейчас — уже осуществляется попытка пробиться к «внутреннему языку» другого, то есть описать структуру эмоциональных состояний и восприятий. Настолько точно, чтобы можно было потом с помощью описания помочь другому пережить нечто, близкое к тому, что переживаешь ты. Правда, без особой уверенности в результате.
И наконец, язык третьего уровня — это сам внутренний, или «индивидуальный», язык твоих мыслей и состояний. В некотором смысле ты постоянно общаешься на нем с собой. Например, для того, чтобы вспомнить или представить что-то. Именно он дает тебе произвольность, позволяющую закреплять для себя смыслы, переживания — и потом возвращаться к ним. Внутренний язык настолько глубок и реален, но при этом незаметен и повседневен, что передача на нем означает прямое воспроизведение в твоем сознании того, что имелось в виду. То есть ты просто видела бы, чувствовала и слышала в абсолютной точности все транслируемые с его помощью мыслеформы. И, вполне вероятно, даже без возможности определить, твои это мысли или чьи-то, индуцированные со стороны. Но опыта достижения такой глубины у обычных людей просто нет.
— Ты опасный человек, Артур, — вздохнула Олеся, подгибая колени и поправляя пляжную подстилку, наброшенную на ноги. — Пойдем уже из бассейна, становится прохладно…
…Вот и сейчас, несмотря на то, что ресепшн после завтрака буквально оплывал от жары, на ее ногах, полулотосом сложенных на диванчике, лежало белое отельное полотенце — у Олеси под кондиционером постоянно что-то подмерзало. Каждая их встреча неизменно сопровождалась элементами борьбы с прохладой: то утренней, то ночной, то вечерней — при том, что сам Артур скорее радовался возможности избавиться от вездесущего зноя.
— Привет, солнце. Ты сегодня во сколько освобождаешься? — спросил Артур.
— В районе семи. У меня экскурсия на ферму слонов.
— Опять животноводство? — улыбнулся Артур. — Ко мне вечером заскочишь? Я уже к этому времени буду свободен.
— Постараюсь. Не знаю пока, как там после сложится.
— Постарайся. Ты ведь в курсе, что сегодня Фул Мун Пати? Поедем?
— В курсе. Очень-очень постараюсь. Ну всё, чмокки. Возвращается моя паства из столовой.
Лучезарно улыбнувшись возвращающейся из столовой группе тёток с детьми, Артур отошел — вот уже месяц они с Олесей время от времени встречались у него в домике, поскольку сама она жила с соседкой, но переезжать к нему по каким-то своим причинам насовсем не хотела. Пока Артура это устраивало.
За это время у них даже успела сформироваться своеобразная традиция — после секса гулять по берегу моря и беседовать о разных вещах под звездами. В основном, после общетеоретического начала, задаваемого Артуром, разговор плавно перетекал на непростые взаимоотношения Олеси с мамой и подругами и другие психологические заморочки. Эти прогулки на некоторое время приводили Олесю в сбалансированное состояние, позволявшее, в зависимости от степени удовлетворенности, относительно спокойно идти спать либо к Артуру, либо к себе.
Упорное нежелание Олеси окончательно переезжать до поры до времени было темой необсуждаемой. Поэтому Артур и не пытался её форсировать, решив, что всё так или иначе образуется само собой — к лучшему…
— Good luck! — сказал напоследок дилер, сверкнул белками глаз и удалился.
Стафф добывался на Ко-Пангане достаточно нетривиальным образом: надо было просто подойти к ближайшему парню в дреддах и улыбнуться. Присутствующая в больших количествах повсюду полиция как бы понимала, что Full Moon Party без веществ — всё равно, что Ленин без кепки, но смотрела на это сквозь пальцы, справедливо полагая, что не стоит подрывать основу туристического процветания острова. Подразумевалось, что веселящаяся молодежь на пляже ведет себя таким специфическим образом из-за пресловутых алко-«magic buckets».
При осуществлении всего комплекса мероприятий по добыче стаффа в Таиланде Артуру почему-то неизменно вспоминалась старая советская игра «Электроника ИМ-03: Тайны океана» про подводников, которые, ускользая от щупалец огромного кракена, потихоньку подворовывали глубоководное золотишко. Судя по выражению на пиксельной морде моллюска, ему и без акванавтов было непросто, да и щупальца отрастали слишком медленно для того, чтобы всерьез кого-то поймать. В общем, интернациональному психоделическому движению на Пангане на некоторое время удалось достичь определенного баланса интересов с правящей политической системой. К вящему коррупционному удовольствию каждой из сторон.
К сожалению, не везде кракены были так сговорчивы — на Гоа, по его наблюдениям в последние годы, наоборот, неуклонно нарастала обратная тенденция «давить и не пущать»: с каждым годом индийское государство становилось всё более и более милитаризированным, а полиция — все жестче и злее по отношению к иностранцам. В Таиланде же, несмотря на обилие американских фильмов, повествующих о жестокости и засилии полицейского произвола, эволюция скорее протекала в обратном направлении. Артур задумался, почему это так.
Действительно, в конце 90-х вышла целая плеяда голливудских муви — «Пляж», «Разрушенный дворец» и т. д. — цель которых, похоже, заключалась в том, чтобы отучить американское население от отдыха в Таиланде и переориентировать его на «родные» Гавайи и Филиппины. Учитывая, что до этого времени Тай был союзником США — достаточно вспомнить о том, что разврат и грязь, ставшие своеобразной визитной карточкой Паттайи, явились последствием дислокацией там военно-морских баз в 60-70-х, с которых стартовали вертолеты и корабли в период вьетнамской войны — должно было произойти что-то существенное, но, как и все серьезные события, малозаметное со стороны, что и охладило отношения между двумя государствами ближе к концу века.
Однако это охлаждение определенно пошло Таиланду на пользу: в отличие от тех же Филиппин, в которых молодежь поголовно мечтала свалить в Штаты, тайцы за пределы своей страны особенно не стремились — в стране действительно было хорошо, и уезжать отсюда совершенно не хотелось. В очередной раз благодаря мудрости тайских дипломатов Сиам сумел невредимым проскочить между щупалец мирового гегемона и сохранить обретенное золотишко. Вместе со своей нативной культурой, религией и расслабленно-созерцательным отношением к жизни…
То ли стафф оказался на этот раз каким-то специфическим, то ли физиологическое состояние как-то странно наложилось на внешнюю суету и неистовый хоровод огней, но Олеся, обычно любившая надолго зависать на подобных вечеринках, уже через 30 минут после начала танцев запросилась в тишину и уединение.
Отель, в бассейне которого они так удачно провели ночь в прошлый раз, на этот раз был заполнен людьми, ярко освещен и тщательно охранялся. В результате, потыркавшись некоторое время по шумным окрестностям Хаад Рина, они осели в кафе под названием «Better than sex», куда долетал только отдаленный «тынц-тынц» — выцветший отголосок безумия, творящегося на пляже. Зато из этого заведения открывался прекрасный вид на по-настоящему полную луну и всю тяжесть тел, вне зависимости от их состояния, были готовы принять на себя невероятно удобные пуфы.
Здесь Олесю и накрыло. Артур же напротив, ощущал традиционный в таких случаях эмоциональный подъем и бодрость мысли. Весело и искрометно подшучивая над окружающими их персонажами, он почувствовал, что Олеся начинает уплывать куда-то в тёмные и мутные глубины своих проблем и рискует совсем утонуть, если не поддержать словесными опорами слабеющий огонек ее мысли и не придать эмоциям правильный вектор.
— Помнишь, в прошлый раз в бассейне мы говорили о качественных различиях к восприятию реальности? — неожиданно-серьезно спросил он.
В ответ Олеся неопределенно, но скорее утвердительно боднула головой воздух.
— Так вот, я думаю, сейчас, в этом состоянии, тебе очевидно, что qualia отличают не только одно сознание от другого, но и разные состояния одного и того же сознания во времени.
Олеся перевела остекленевший взгляд на отблеск луны на поверхности моря, и Артур, ничуть не смущаясь, продолжил:
— Так вот. Я предлагаю для удобства называть то, что отличает именно это состояние, именно этот момент, нуминозностью. Нуминозность — это аспект восприятия мира, обладающий неповторимостью. Это определенный способ смотреть, чувствовать, вдыхать аромат реальности, по которому ты могла бы опознать, кому именно принадлежит восприятие, если бы каким-то чудом смогла оказаться в голове у другого. А находясь в своей голове ты опознаешь по нему конкретный момент, в который это восприятие имело место.
Получается, что способ восприятия является действительно непередаваемым с помощью обычного конвенционального языка и абсолютно запредельным для другого человека — в своей нуминозной части. А вот в структурной своей части он вполне передаваем — и это в действительности происходит: с помощью книг, фильмов, музыки. Искусства в широком смысле.
Олеся с трудом разлепила губы, стараясь сделать интонацию вопросительной:
— И?
— Нуминозным вполне можно также назвать сложный интегративный фон, который называется «духом эпохи». Например, научно-фантастические советские психоделические мультики 70-х или шпионско-патриотические фильмы 80-х выступают чистой нуминозностью для западного человека — потому что порождающая их структура восприятия построена на совершенно иных принципах, резко отличающих феноменологический мир homo soveticus от любого другого, и сами эти фильмы ее не проблематизируют, не стремятся объяснить, а просто подразумевают. А иногда и гипертрофируют, используя и доводя до художественного совершенства: ведь супервысокотехнологичный конспиративный совок, вполне вероятно, в реальности не существовал в восьмидесятых нигде, кроме сознания зрителя, в голове которого еще долго звучала музыка Эдуарда Артемьева после просмотра сериала «ТАСС уполномочен заявить». Это станет еще более очевидным, если рассмотреть особую трансцендентность советского космоса, составляющую фон мультфильмов наподобие «Фаэтон — сын Солнца». На примере структурной нуминозности такого рода, разделяемой некоторой группой, можно легче понять идею нуминозности личной, для которой нет общего языка и других средств передачи.
Артур коротко взглянул на молчащую Олесю и продолжил:
— И вот о чем я, собственно, хочу сказать: что если глубина и уникальность этой нуминозности определяет ценность отдельно взятого человеческого существования? Ведь именно она является абсолютным различителем, индивидуализирующим каждого. Всё, что сделано тобой в жизни, но не запечатлело на себе отпечатка твоей нуминозности, с таким же успехом могло быть сделано кем-то другим, а значит, не является по-настоящему и неоспоримо твоим, неотъемлемым от тебя вкладом в реальность. Понимаешь?
Олеся медленно кивнула. Остановившийся взгляд и расширенные зрачки говорили о том, что всё сказанное воспринимается достаточно глубоко.
— Продолжай, — прошептала она.
— Получается, что любой субъективно значимый смысл, способный индивидуализировать тебя как человека, неизбежно связан с запечатлением этой нуминозности, то есть… творчеством. А что такое творчество? Творчество — это создание новых структур. Нуминозность это основа любого творчества, его порождающий базис, который выражается в музыкальных, художественных, социальных и каких угодно еще структурах. Ну или не выражается — и тогда реализуется только внутри ума.
— Значит, по-твоему, жизнь всех, кроме творцов, бессмысленна? — Олеся на глазах оживала и приходила в себя.
— Конечно, нет. Бывает, она просто не является реализацией нуминозного проекта. И если это не так, то придание своим действиям уникального смысла и будет являться творчеством. Чтобы проще это понять, давай рассмотрим пример со строительством отеля. Вот, смотри, какой красивый стоит, — Артур показал рукой на ломаный, причудливо искромсанный прожекторами силуэт ближайшего крупного здания. — Скажи, что нового привнесли в мир, создали рабочие, которые его строили?
— Наверное, кирпичи, — предположила Олеся.
— Нет, кирпичи создавались на заводе. И рабочие всего лишь перекладывали их из одного места в другое, скрепляя раствором, который тоже произведен не ими. А бригадиры — что создали они?
— Не знаю.
— Хорошо, есть ли кто-то, кто гарантированно создал что-то своё, воплотив его в мир с помощью этого отеля?
— Архитектор?
— Да! Именно. Архитектор, — кивнул Артур. — А что именно он создал?
— План, проект.
— Умница! План-проект. И в том случае, если он не был слямзен под копирку у коллег по цеху, а действительно содержал в себе элементы нового — это и было проявлением творчества архитектора. В результате сейчас мы с тобой возлежим на пуфах и обсуждаем его. Итак, творческим при строительстве здания является создание нематериальной структуры — проекта, по которому оно затем возводится. Не перетаскивание кирпичей из одной кучки в другую — это уже действия по воплощению, — а именно акт появления нового, произошедший в сознании конкретного человека. В строгом смысле ни одной частицы материи мы не можем просто создать из ничего, мы способны только перемещать их и бесконечно рекомбинировать. Единственное, что мы можем сотворить по-настоящему, что целиком является проявлением нуминозности — это мысль, структура, план, проект. В общем, нематериальное. Абсолютно то же самое верно и в отношении жизни в целом.
— Тогда я себя чаще всего ощущаю не архитектором и даже не инженером-проектировщиком, а вахтершей на складе воспоминаний своей жизни, — с мрачной улыбкой пошутила Олеся.
— Что тут можно сказать? Значит, можно начинать с творчества по их каталогизации, — улыбнулся Артур. — А потом двинуться дальше, преодолев причину недоверия к своей нуминозности и страха её раскрыть.
— А как её раскрыть?
— Объяснить, тем более словами, при всем желании никто тебе не сможет — это же твоя нуминозность. Можно сказать, твой личный квест, и надо его просто взять и пройти. Однако один бессмысленный совет дать все-таки можно: попробуй представить себе жизнь как вдох. Невероятно глубокий, затянувшийся сладостный вдох перед неминуемым погружением в смерть. Упоительную попытку втянуть в себя, вобрать весь кислород, которого потом уже никогда не будет…
Олеся, забавно вытаращив глаза, начала со свистом набирать полный рот воздуха, по-хомячьи округлив щеки, а потом резко выпустила его и со смехом закашлялась. Это было настолько нелепо-точным соответствием метафоре и одновременно действительно содержало в себе неиллюзорное проявление пресловутой нуминозности, что Артур буквально растянулся на своем пуфе от хохота. Ржач и конвульсивные подергивания продолжались накатами у обоих еще несколько минут — афтепати определенно удалось.
Великий кадастр

После того, как вечеринка у бассейна закончилась, Артур и Олеся лежали на теплой крыше отеля, обнявшись и глядя на звезды. Настроение было приподнятым, безмятежным, располагающим к расслабленному ничегонеделанию с легкими обертонами возвышенности.
— Представь себе, как на эти звезды смотрели наши далекие предки… — начала Олеся.
— Мне кажется, для них это было совершенно другое зрелище, — с улыбкой ответил Артур. — Без огней вездесущего ночного освещения смотрели они на созвездия зоркими глазами, пурпур которых еще не успел выцвести от экранов, угадывая за каждой звездой свой особый мир. И делясь друг с другом догадками о том, какой он.
— Ну уж нет, — покачала головой Олеся. — Это сейчас мы видим за звездами миры. А они — вряд ли. Скорее всего, даже не подозревали, что это огромные расплавленные шары.
— О шарах — конечно, не подозревали. Зато это позволяло им выстраивать в воображении миры значительно более причудливые и изощренные, чем создаваемые обучающими сериалами BBC. Например, представлять себе, как Гераклит, что звезды — это дырочки в темной материи неба, приоткрывающие белую субстанцию подложки. А ты действительно веришь в научный прогресс? — достаточно неожиданно повернул к ней голову Артур.
— По крайней мере теперь мы не верим в богов, духов и прочих мифологических персонажей подобно тоже же Гераклиту, — откликнулась Олеся.
— Ой ли? — улыбнулся Артур. — Разве ты не замечала, что мифология давно перекочевала в министерства, ведомства и кабинеты, благополучно воспроизводя себя в административном аппарате? Божества архаики спокойно проникают в реальность через приоткрытую заднюю дверь коллективного бессознательного гос. образований. Самые важные события в жизни людей протекают под эгидой этих всемогущих метафизических сущностей. Например, ЗАГСа.
— А, ты об этом! Да уж, меня всегда удивляла эта странная казенная мифология, — подхватила мысль Олеся. — И примеров-то довольно много. Один только Главк чего стоит!
— Главк… — как бы пробуя на вкус и смакуя это слово, протянул Артур. — Прямо-таки древнегреческое божество… И ведь это только верхушка айсберга. Помнишь старый социалистический анекдот: «Раньше восклицали „Слава великому Августу“! Теперь — „Слава великому Октябрю“»!
— Это и впрямь странновато. Особенно, когда видишь табличку наподобие «проспект 60-летия Октября». В этом случае Октябрь самопроизвольно читается не как название месяца, а как имя мифического героя или, в крайнем случае, императора.
— Ага. И это далеко не всё. У нас же существуют целые региональные пантеоны. Только вдумайся, насколько богата мифология, в которой обитают ОКАТО, ОКУД, БИК, ОГРН, ЕГРЮЛ. КУДИР, в конце концов! До конца непонятно, то ли это названия божеств, то ли заклинания.
— Больше похоже на заклинания. Но если это примеры обращения к высшим силам в рамках серой магии, то существует еще одна ветвь — откровенно черные заклятия: МРЭО, ГИБДД, КПЗ, СИЗО, ШИЗО. Сюда же можно присовокупить ОМОН и ОБЭП, — немного подумав, внесла свою лепту Олеся.
— Не то слово. Есть еще и стигматизирующая ветвь: проклятия, которые определенные категории населения носят на себе как клеймо. Особенно повезло в этом плане адептам Минобраза, то есть учителям, я хотел сказать. Чего стоит сакраментальное: «Простите, я не педорг, а педобраз из МУДО»? При том, что расшифровывается эта мудреная сентенция всего лишь: «Я не педагог-организатор, а педагог дополнительного образования из муниципального учреждения дополнительного образования».
— Да, видимо на этом жизненном пути не обошлось без Педучилища, — хохотнула Олеся.
— Помню, был такой мультфильм «КОАПП» про мартышку и леопарда. Никогда не забуду слезы смеха, которые при просмотре этого мультика буквально лились из глаз пьяненькой главбушки Евгеши — знакомой моей матери, — задумчиво произнес Артур.
— И не говори. Кстати, само слово «главбушка» тоже относится к этой категории. Живущих под властью рока в виде Кодекса об Административных Правонарушениях. Неудивительно, что смех всегда был именно сквозь слезы.
— Но, согласись, венчает пирамиду этой иерархии локальных божеств Великий Кадастр! Я даже наблюдал в 90-е, как люди в министерствах и ведомствах поднимали за него тосты! Без шуток! Натурально чокались, далее звучало обязательное воззвание к Великому Кадастру и следовали обильные возлияния в его честь. Причем, со временем одни божества становились более популярными, а другие — менее. А Кадастр оставался. Видимо, название настолько звучное, что совершенно естественно занимает свою верхнюю полку в коллективном бессознательном.
Вообще, это самое коллективное бессознательное чиновников весьма любопытно эволюционирует: если анализировать смену аббревиатур при переходе от советской ментальности к постсоветской, можно сделать вывод о наличии определенного тренда в сторону многобожия. Отчетливо выраженная монотеистическая вертикальная иерархия, пронизывающая собой эпохальное противостояние «Ад. Центра и Рай. Центра» при совке, сменилась в девяностые и нулевые почти индуистской феодальной раздробленностью множества мелких и ведомств и комитетов регионального значения. Теперь же наблюдается обратный откат в сторону централизации, что совершенно четко коррелирует с наметившейся тенденции к установлению православия в качестве государственной религии.
Существуют еще и профанические «опилки», остающиеся от работы этой системы и знаменующие собой окончательную диссипацию верхних этажей коллективного бессознательного: например, неологизмы уровня «Бомж». Не все знают, но это звучное словцо произошло всего лишь от казенной аббревиатуры «без определенного места жительства». Или из совсем уж недавних изобретений — «пухто».
— Что? — переспросила Олеся.
— Пухто.
— Что это? Похоже на деда Пихто.
— Никогда не догадаешься. Пункт утилизации и хранения твердых отходов! — с тщательно имитируемым канцелярским торжеством провозгласил Артур, патетически воздевая палец к небу.
— Да уж. Как много в восприятии мира зависит от языка…
— Даже больше, чем принято полагать. Огромное количество малопонятных вещей вокруг нас объясняется достаточно просто, если знать лингвистическую историю их происхождения.
Например, традиционная для русской шизотерики «борьба с умом» объясняется достаточно изящно, хотя и несколько запутанно:
Дело в том, что английское «consciousness» — сознание — очень похоже по звучанию на «cautiousness» — опасливость, бережливость, настороженность. Именно поэтому англо-американский нью-эйдж, основанный на достаточно плоско понятых переводах с пали и санскрита, однозначно растолковал то, что делают правоверные буддийские монахи, как «борьбу с умом». В действительности же в нативном варианте борьба скорее должна вестись с беспокойством и омрачением ума, однако, поскольку существование не обеспокоенного ума просто не вписывается в англо-саксонский языковой менталитет, при переводах переводов с английского на русский этот аспект был уже попросту утерян.
Так изначальная буддийская работа с обеспокоенностью ума вследствие цепочки топорных переводов элегантно превращается… в борьбу с умом как таковым. При наложении же на русскую ментальность этот момент в наших шизотерических школах вообще стал самым главным, обретя прямо-таки исступленную беспощадность — поскольку выступил символом отчаянного сражения русского за свою идентичность с симулякром «чуждого», надуманного, западного. Так русский ум стал сражаться с самим собой посредством английских переводов буддийских текстов с пали через тибетский. Добро пожаловать в постмодернистскую современность.
— А что, изначально в буддизме действительно не было момента борьбы со своим умом? — поинтересовалась Олеся.
— Борьбы — однозначно нет. Ум воспринимался, да и воспринимается по сей день, говоря современным языком, как устройство, наподобие компьютера. И одна из задач, с ним связанных, заключается в обеспечении хорошей, устойчивой и бесперебойной работы всех схем и элементов. Беспокойство, негативные эмоции и прочие глюки, вызванные переданными по наследству вирусами, воспринимаются именно как помехи, а не как само существо компьютера. И это проявляется в нескольких значимых моментах. Фигурально выражаясь, помимо задачи деинсталляции вредоносных программ, прошитых глубоко в бессознательном практика, для достижения идеальной работы всей системы требуется еще и установить затем рабочее ПО, обрести полноценный доступ к арсеналу «умелых средств». Т.е. без послушного, отлаженного, корректно работающего ума достижение просветления крайне маловероятно.
— Какой-то прямо совершенно другой буддизм.
— Именно. Совершенно другой. К сожалению, насчет буддизма вообще бытует невероятное количество разнообразных заблуждений.
Например, относительно контроля над мыслями. На Западе при осмыслении психических процессов привычно используют следующую секвенцию: от неосознанной некомпетентности по отношению к чему-то — к осознанию этой некомпетентности, далее — к осуществлению осознанных действий по обретению компетентности, и затем — к переводу этих действий в режим бессознательной компетентности, что считается вершиной всей цепочки.
Для продуктивной же работы с уровнем осознанности, предполагаемым буддийскими практиками, должна иметь место другая последовательность: от полной неосознанности к бессознательному контролю, затем — к сознательному контролю, и наконец — к постоянному актуальному осознаванию.
— Довольно интересно. Можешь пояснить? — попросила Олеся.
— Это похоже на углубление навыка владения каким-либо языком. Сначала ты им вообще не владеешь, затем — в том случае, если речь идет о родном языке — владеешь бессознательно, но вполне уверенно, исключая только некоторые особенно заковыристые его аспекты, затем — пытаясь осмыслить эти аспекты и постепенно постигая скрытую за ними механику — начинаешь сознательно выстраивать новое, углубленное понимание языка, и наконец — переходишь к актуальному осознаванию того, как работают эти глубинные структуры в тебе прямо сейчас, параллельно с формулировкой высказывания.
Язык является хорошим примером именно потому, что само сознание является в некотором смысле реализацией внутреннего, индивидуального языка. Оно тоже структурирует мир по определенным правилам, реализуемым чаще всего бессознательно. Одна из задач медитативной практики — осознать эти правила. В той мере, в которой сознание произвольно, оно основывается на некоем самоизменяемом коде. Если этот код не осознан — нет самоизменения, нет произвольности. Соответственно, нет и устойчивых достижений. Есть только бесконечная борьба с умом: бессмысленная и беспощадная, — Артур улыбнулся.
— Почему же тогда так много людей настойчиво борются с умом, как будто не замечая и не ощущая этого? — задала вопрос Олеся.
— Потому что их выбило в несвойственный им, чуждый экзистенциал.
— Экзистенциал? — удивилась Олеся. — А можно об этом чуть поподробнее?
— Легче всего, наверное, подступиться к этой теме через «амбивалентные видео» — например, с вращающейся балериной. Знаешь такие?
— Да, это там, где показан набор пикселей, условно напоминающий тень девушки, — и вращаться он может в две разные стороны, в зависимости от установок того, кто смотрит… То есть экзистенциал — это способ видеть вещи?
— Не совсем. Видеть, слышать и в целом сенсорно воспринимать — это одно дело. Другое — эмоционально ощущать. Экзистенциал отвечает за второе. И теперь можно задаться вопросом: тот способ, которым ты сейчас ощущаешь всё окружающее, — твой или не твой?
— В смысле? А чьим же он еще может быть? — с некоторым недоверием спросила Олеся.
— Представь себе, что кто-то несколько раз в твоей жизни, пока ты была ребенком, поменял направление вращения внутренней эмоциональной балерины. Не спрашивай меня, каким образом, но это, условно говоря, и будет аналогично последствиям пресловутого вредоносного ПО. И теперь ты ощущаешь это вращение так, как ему было нужно, не в силах перестроиться на свой первоначальный, нативный, способ восприятия. Не в силах — потому что то, что произошло с тобой, невыразимо в словах. И не только в словах, самое страшное — оно невыразимо в ощущениях и воспоминаниях. Если бы ты могла вспомнить сами моменты перестройки — или как выглядел мир до них — тем самым ты смогла бы вернуть потерянный рай своего нативного экзистенциала. Но время идет, а мир-балерина все крутится, крутится, крутится… В одну и ту же сторону. И возможно — не в твою.
— А как понять, в мою сторону всё крутится или нет?
— Лучшим критерием здесь, как ни странно, будет ощущение смысла и глубины в окружающем мире, наличие постоянных приятных эмоций — таких, как радость, эйфория или экзальтация — ну и систематическое творчество, которое закономерно результирует все аспекты жизни. Если радость и творчество являются твоими ежедневными спутниками — волноваться в целом не о чем. Если же с этим напряжёнка — значит, что-то не так. Впрочем, люди частенько интуитивно это чувствуют.
— Ты знаешь, пока я тебя слушала, мне пришла в голову другая аналогия: есть последовательность тонов в музыке, которую тоже можно воспринимать двояко. И раньше жизнь казалась мне прекрасной мелодией. Но однажды кто-то толкнул меня или еще каким-то подлым способом прервал процесс безмятежного прослушивания. И я стала воспринимать мелодию «обратной», инвертированной стороной. Оказалось, что так тоже можно, но теперь она гораздо менее красива, эстетична и притягательна. Отсюда — общая демотивация, исчезновение интереса. Жить, вынужденно слушая такую мелодию, просто не хочется. А перестроить восприятие «на ходу», вернувшись к первоначальному способу, не получается.
— Да, — кивнул Артур. — Всё так. Метафора абсолютно верная. В реальности же всё усложняется тем, что вариантов для «слышания» этой мелодии жизни невероятное множество. То есть измерений ощущения мира невообразимо больше, чем эмоций, называемых словами. И обычный человек, с детства выбитый из своего экзистенциала, барахтается в этом чужеродном напластовании иллюзорного на нереальное, которое невозможно даже толком отразить в словах. Но от которого, между тем, зависит вся его жизнь. И открыть заново эту чудесную мелодию может только как невероятное дополнительное измерение, в существование которого ему уже даже не верится.
— Похоже на «плоскатиков» Эббота, — улыбнулась Олеся. — Существ, которые не осознают наличия третьего измерения, передвигаясь только в двух, хотя ничего, кроме отсутствия такого осознания, им это делать не мешает.
— Похоже, — согласился Артур. — Итак, для возврата в свою полосу один из самых важных шагов — прочувствовать и воспринять саму концепцию множественности экзистенциальных измерений восприятия. Так, чтобы можно было начать ориентироваться в этом пространстве — и даже приступить к его картографированию. Именно в этом благородном деле и помогает «внутренний язык», без которого все потенциальные состояния будут лишены якорей, позиций и ориентиров.
— Все-таки, несмотря объяснения про три уровня и всякие там невыразимые qualia, меня не покидает ощущение, что для тебя мой внутренний язык не такой уж и непроницаемый, — с нотками оптимистичного сомнения протянула Олеся. — По крайней мере, мы вот уже полчаса на нем говорим. И какие-то изменения во мне от этого определенно происходят.
— Ага. Мистика, — чмокнул ее в губы Артур, поглаживая рукой. — Говорим. Хвала Великому Кадастру! И мне уже не терпится перейти к действиям по углублению и расширению этих изменений. Пойдем уже в номер, солнце.
Heaven on Earth

Негромко щелкнув язычком, приоткрылась дверь номера, пролив полоску приглушенного желтого света на пол — и сладкая парочка, надолго замерев на пороге в страстном поцелуе, проникла внутрь единым клубком, не в силах расцепить объятия.
Мягко уронив Олесю в складки постели, Артур изящным движением скользнул к ноутбуку, нажал несколько кнопок — и из динамиков заструились плавные переливы Ethereal Murmurings от M-ziq, пропитывая собой пространство комнаты, взвиваясь пластичными тенями под потолок, просачиваясь в мысли, действия, ощущения…
Олеся полулежала на кровати и счастливо, расслабленно-приглашающе улыбалась, глядя на него — очевидным образом наслаждаясь всем происходящим.
И в отблеске, мелькнувшем в её сияющем взгляде, Артур прочитал отдаленное эхо Вечности. Но это была не вечность пролитых слез или выстраданных убеждений, и даже не вечность отстраненно-безличного молчания — ни одна из тех вечностей, которые он привык угадывать в глазах других людей. Это была Вечность солнца, радости, веселья — и сладких брызг, доносимых легким бризом с теплого океана: отражение его собственной Вечности.
И внутри, подобно шуму в ушах, выросло, достигло гула стабильно работающего механизма страстное, жгучее как порыв, желание: добежать, долететь, доплыть до этой пронизанной солнцем и всплесками радости теплого залива Вечности.
Волны экстатического опьянения подняли его и буквально поднесли к Олесе, выбросив как усталого пловца на спасительный берег. Повинуясь этому властному порыву, он буквально набросился на нее и принялся лизать сладкие уголки её губ, слегка покусывая их перед сочным поцелуем.
«Может быть, это мягкий, изящный контур носика делает её такой невообразимо-прекрасной и желанной?» — пронеслась в сознании пропитанная нежностью мысль. — «Да, тот самый завиток генокода, который на счастье появился на свет в результате удивительного и прекрасного множества случайностей. И теперь он принадлежит нам двоим».
Издав низкий, бархатистый стон, Олеся откинула голову, отбрасывая с лица длинные мягкие волосы, и неожиданно резко открыла глаза. И вот, погрузившись целиком в магический водоворот её взгляда, Артур вдруг увидел там себя — сияющим и лучезарным, на пике формы: таким, каким он отразился несколько лет назад на Гоа, в волшебном зеркале воспоминаний первого трипа юности. Её взгляд говорил «я вижу тебя идеальным — таким, какой ты есть». Это было удивительно красиво, глубоко и обнадеживающе. Настолько, что хотелось навсегда остановить, запечатлеть, сохранить эту неожиданно прекрасную констелляцию взаимных отражений. Вернуться туда, в это сказочное зазеркалье личного идама — но уже не как гость, робко пробующий ногой воду, а как полноправный хозяин. Ощутив легкое дуновение ветерка трансцендентного, доносящегося через щель «с той стороны», Артур трудноописуемым усилием рванулся в приоткрывшуюся на мгновение дверь неведомого, вложив в этот рывок всё, что мог.
Экраны его восприятия сместились так, чтобы идеальным образом отразить её влюбленный взгляд — и благодаря этому создать зеркальный фрактал, высвечивающий глубину её собственного идама. Показать «какой она может быть, идеальной», и самим этим актом сделать образ реальным хотя бы на мгновения его восприятия. И откуда-то из невообразимой дали этого фрактала внезапным отблеском запредельной космической удачи долгожданного узнавания донесся испущенный динамиками карнавально-упоительный, пронизанный отблесками Вечности прощальный гудок уходящего парохода Switch out the sun от Juantrip. И утонул в отголосках анфилады ревербераций смутным обещанием бесконечного счастья и радости. Самые глубокие обертоны внутренней мелодии сновидений и воспоминаний смешались в этом гудке с непоколебимой, ясной уверенностью: тайным, потусторонним, окончательным знанием о том, что всё неотвратимо случится — может быть даже быстрее, чем кажется; может быть сегодня, может быть совсем скоро… Да! Сейчас!
В эту секунду всё то, о чем он смутно мечтал; всё, что составляло окраинные, потаённые уголки пространства его фантазий, — всё это явственно, несомненно, со всей силой очевидности сбылось. Он был безусловно прав — прав в своих действиях, своих помыслах, своем упорстве, исканиях и обретениях. И наконец дошел до конца. Приоткрытая дверь распахнулась. Теплая лавина нежности беспрепятственно хлынула через открытые настежь окна глаз. Невыразимое мгновение контакта, ощущение легкого, поверхностного натяжения от соприкосновения — и мягкий, струящийся поток его внимания погрузился в распахнутое сознание Олеси. Мелькнула мысль о том, что частая метафора, сравнивающая мужчину с небом, а женщину с землей, верна лишь отчасти. По крайней мере, в их случае. Да, он был небом. Но она… она была морем. Морем радости. От каждого сознательно направленного в Олесю импульса удовольствия на размеренно-волнообразной поверхности её восприятия образовывалось что-то наподобие мгновенно возникавшего и медленно рассасывающегося водоворота наслаждения. Судя по счастливой улыбке, озарявшей в эти мгновения её лицо, каждый испущенный импульс прекрасно ощущался с другой стороны. Артур решил проверить это и добавил к перманентным турбулентностям нежности внезапный разряд молнии мысли, в результате чего Олеся застонала и распахнула глаза еще шире. Это было явным подтверждением, совсем уж выходя за рамки любой статистики случайностей. Ощущая себя счастливым первооткрывателем, он проделывал это еще и еще раз, каждый раз с возрастающей радостью убеждаясь в том, что Олеся реагирует на каждый из этих импульсов. «Это и есть тантра?» — внезапно пронеслась в его сознании испущенная ею мысль.
И, уцепившись за это сочное ощущение невероятной, трансгрессивной радости понимания и обретения, истомным усилием продлив острие породившего его намерения еще дальше, ввысь, в сторону воплощенного трансцендентного принципа, Артур с разбега нырнул в океан чистого счастья: триединства принимающей нежности, трепетно лелеемой утонченности и упоительной красоты. И это наполнило его до самых краев — спокойствием, глубиной понимания и необратимой уверенностью во всем происходящем.
А дальше была растянувшаяся на всё мироздание спелая, сочная мякоть вишневых губ, роскошный палантин коричневых волос, ямочка на грациозном изгибе шеи и воспламеняющий аромат её тела…
Утопая в упоительном океане изливающейся на неё нежности, Олеся погрузилась в размягченное и сладкое как патока состояние текучих эмоциональных грёз, легкой рябью покрывающих море чистого наслаждения.
В этом эйфорическом пространстве вспыхнувшая на мгновение метафора райской лагуны обрела удивительную полноту и силу, став в её восприятии ощутимой реальностью — теплым, ласковым морем. Шум прилива, загадочный и велеречивый, проникновенный, мощный и вкрадчивый вторгался под нежную, утончающуюся вуаль магического полусна вместе с накатывающими волнами наслаждения, побуждая продлить эту неожиданно приятную игру в обживание своего маленького идеального мира. Погрузиться в манящую текстуру деталей, бережно и заботливо наполняя каждую из них счастьем…
Счастье. Ощутимое, осязаемое и живое, бьющееся в груди — всё было наполнено им: счастье играло в висках, расширяло легкие при каждом вдохе, примешивалось к каждому звуку и аромату. Это чувство зарождалось где-то позади глаз и теплой волной разливалось по всему телу: как маленький ручеек превращается в бурный поток, струящийся по залитой солнцем равнине к изумрудным водам теплой лагуны.
Запах. Невозможно было устоять перед искушением и не вдохнуть в себя карамельно-истомный запах ярких цветов, распускающихся рядом с мангровыми деревьями у самой кромки прибоя; запах, пробуждающий пьянящее ощущение легкости и беспечного полета мысли — при попытке распахнуть закрытые от наслаждения глаза Олесе казалось, что его источают рассыпанные в воздухе серебристые искры счастья, оседающие на лице Артура, трудноописуемым, но несомненно прекрасным образом преображая каждую его черточку. Это смешение воображаемого и реального размывало границу между ними еще больше, и она удовлетворенно закрывала глаза, погружаясь как отважный пловец в совместно сотворяемый мир фантазматической неги.
Этот мир был одной бесконечно длящейся нотой властной, запредельно-нежной эмоциональной свежести: пропитанной тонким, трепетным ореолом, сотканным из отголосков счастливого детского смеха и щебетания птиц за окном. Она всегда любила этот ореол из далекого детства — приглушенную квинтэссенцию долгого, убаюканного ласковым солнцем дня и спокойной, умиротворяющей ночи: теплый ветерок, доносящий аромат радости из потаённых закоулков созвучий изящной, воспаряющей к небесам музыки; легкий, вкрадчиво нарастающий шум расслабленного мления верхушек деревьев в саду… По волнам этого потока воспоминаний мягко и напевно струились долгие, истомные, золотисто-ультрамариновые мысли, кувшинками распускаясь в такт тихой мелодии на поверхности их залива Вечности. И каждая из них таила в себе неразгаданное откровение наполовину оформленных очертаний воплощающейся на глазах мечты.
А внутри поднималось и крепло невероятно острое чувство пронзительной благодарности себе, Артуру, реальности за этот удивительный сбывшийся сон. Благодарности, достигшей звёзд и разлившейся океаном экстаза по бескрайнему плато ночного теплого неба. Благодарности за то, что где-то глубоко на донышке её глаз отныне навсегда поселилось счастье, а в уголках губ, если их облизнуть, ощущалось тонкое послевкусие Вечности…
Удовольствие и наслаждение
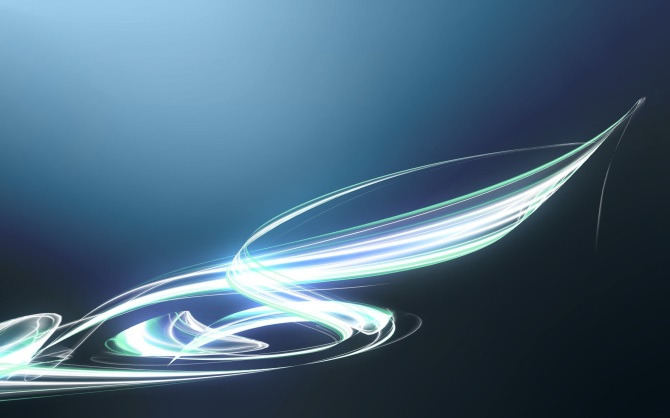
Лежа в гамаке на берегу возле дома, в который, они наконец переехали, Артур с Олесей, обнявшись, смотрели на звезды. Отныне такое времяпрепровождение стало их ежевечерней традицией. Размеренное покачивание широкого веревочного ложа, казалось, является частью единой мелодии, сплетаемой ритмом волн, стрекотом цикад и шумом ветра в верхушках пальм.
— Знаешь, — мечтательно протянула Олеся, — иногда в такие моменты наполненности всей этой красотой, глубиной и таинственностью мира вокруг хочется совершить что-то невероятное — сочинить прекрасную мелодию, написать гениальную картину. Но почему-то всегда не хватает энергии, чтобы встать и действительно начать что-то делать: записывать, рисовать, доводить до конца. А ведь потом — спать, а завтра начнется новый день, и я заверчусь в круге привычных забот — и конечно, так никогда и не найду время для воплощения в жизнь этого, единственно важного… Почему так происходит?
Артур помолчал некоторое время, с помощью малозаметных усилий поддерживая ритм раскачивания, слегка сбившийся во время монолога Олеси, и, наконец, ответил:
— Ты знаешь, я в таких случаях люблю задавать неприличные вопросы: например, «что такое энергия?»
Олеся улыбнулась:
— Да знаю. Поэтому и спрашиваю… Энергия? Ну, скажем, силы, желание и возможность что-то делать. Мотивация.
— То есть энергия и мотивация — это одно и то же? Или все-таки не совсем?
— Наверное, нет. Хотя они как-то связаны.
— Безусловно, — улыбнулся Артур.
— А надо ли вообще это прояснять? — нахмурив лоб, произнесла Олеся, непроизвольно усиливая ритм раскачиваний. — Главное, чтобы эта энергия в жизни была, разве не так?
— Если это всегда получается, то конечно. Ты знаешь, как сделать так, чтобы получалось?
— Если бы, — вздохнула Олеся, — скорее наоборот: постоянно думаю, как разорвать порочный круг, когда энергия на нуле — и поэтому нет сил заняться чем-нибудь, что могло бы ее принести. Так с чего начать, чтобы это изменить?
— Я думаю, — с шутливой серьезностью принялся излагать Артур, воздевая руку к серпику луны, — начать стоит с отказа от слова «энергия», раз уж мы согласились, что в действительности не знаем, что оно означает. И даже от слова «мотивация». Давай попробуем начать с более простых и феноменологически ощутимых вещей: например, таких, как «удовольствие» и «наслаждение». Как думаешь, а?
— Мне кажется, мы уже… И не раз… — хохотнула Олеся и чмокнула Артура в щеку. — А если серьезно, то выбор кажется довольно странном. У Лакана вроде бы эта оппозиция встречалась, но, насколько я понимаю, ты приписываешь этим словам другие значения. В любом случае надо бы их прояснить.
— Пожалуйста. Наслаждение — в противопоставлении удовольствию — эффект от открывшейся вдруг возможности впитывать, воспринимать более широкий поток льющихся на тебя из мира сигналов: ощущений, звуков, образов. Соответственно, наслаждение возникает как эффект изменения, «приращения» психической структуры и ощущается на контрасте с предыдущим состоянием. Более того, чем выше уровень наслаждения, тем больше потенциальных возможностей для изменения состояния дальше. Что может привести к эффекту положительной обратной связи и дать возможность для получения дальнейшего наслаждения — если грамотно оседлать этот самоподдерживающийся тренд.
Удовольствие же возникает просто в результате оптимального режима восприятия без дополнительного расширения восприятия — так сказать, в обычном режиме. К определенному удовольствию мы привыкаем, наслаждение же всегда оказывается чем-то новым и избыточным. Если говорить о позиционировании на эмоциональной шкале, то удовольствию может быть примерно сопоставлен уровень умеренного интереса, когда человек успешно получает именно то, на что рассчитывал, наслаждение же знаменует собой переход на более высокие уровни — такие, как эйфорию, экзальтацию и экстаз, — выливающиеся либо в необычайно приятные ощущения, либо в нуминозные экзистенциальные переживания, либо в творчество — если дело дошло до изменений на уровне семантики внутреннего языка.
Артур бросил взгляд на Олесю — та молчала, очевидно, обдумывая, — и продолжил:
— Текущее состояние сознания во многом обусловлено тем, как именно может возникнуть наслаждение в его структуре, и как будет утилизирован этот новый, дополнительный, поток психикой: распространит, седиментирует или распылит ли она его. В некоторых конфигурациях, кстати, наслаждение не может возникнуть вообще — это монотонно-шаблонные сборки, чье унылое существование подчинено одному и тому же неизменному ритму.
В других оно возникает на какие-то мгновения, но остается исключительно сенсорным. Т.е. человек просто испытывает некоторое время исключительно приятные ощущения — и всё. Потом постепенно возвращается к «родным берегам» — привычным паттернам восприятия и реагирования. В третьих оно уже ведет к перестройке экзистенциалов и диспозитивов — способов эмоционального реагирования, когда избыточный потенциал наслаждения сносит старые, не пропускающие многого, конструкции и формирует новые. В четвертых — наверное, самых интересных — это уже происходит на ментальном уровне. То есть изменяется сам способ осознавания, схватывания настоящего момента.
— Видимо, это с нами и произошло… И я так понимаю, здесь есть какая-то связь с разными уровнями творчества? — задала вопрос Олеся, внося свою лепту в процесс синхронизации раскачивания.
— Конечно, — согласился Артур. — Самая прямая. Я даже возьму на себя смелость утверждать, что этим конфигурациям соответствуют разные типы искусства: сенсорно-попсового, экзистенциально-эмоционального и, наконец, концептуально-символического. Как ты понимаешь, структура воздействия каждого из них базируется на разных способах получения наслаждения. Конечно, в реальной практике почти любое произведение искусства содержит в себе сразу все аспекты, но их пропорция в месседже и способах его донесения до реципиента сильно варьируется. Например, наслаждение от концептуального искусства во многом обусловлено внезапным осознанием нового аспекта восприятия реальности, пласта идей, которые прежде не рассматривались в такой перспективе или не осознавались с отчетливостью. Что, согласись, достаточно сильно отличается от порождения сильного эмоционального впечатления, являющегося техникой трансляции наслаждения в произведениях искусства, ориентированных только на эмоциональный отклик.
Но давай не будем забираться сразу в глубокие дебри — лучше разобраться сначала с базовыми вещами:
Один из самых сложных для практического разрешения экзистенциальных парадоксов заключается в том, что с наращиванием новых уровней сложности психики человеку всё сложнее распределить на каждый из них входящий поток удовольствия. Ведь именно на рукавах реки удовольствия эти уровни и появляются — метафорически можно сказать, что они расходуют её, как своеобразные внутренние ГЭС воду. Поэтому велик соблазн свернуть вообще все ментальные конструкции для того, чтобы попросту «убрать плотины» и не перегружать ими систему. Этой идеей одержимы, в частности, наши любимые шизотерики.
— Ага. «Выключи мозг! Выключи мозг!» — пискляво-дребезжащим голосом спародировала Олеся.
— Однако есть и другой путь: по фрагментам собрать с помощью крупиц испытанного за жизнь наслаждения новые элементы сознания, чтобы они, ничему особенно не мешая, позволяли работать с остальными структурами психики в новом режиме базового удовольствия. Причем, сделать это так, чтобы замкнуть всю конструкцию и постараться создать нечто наподобие «вечного двигателя наслаждения». В этом случае оно будет обеспечиваться не случайными поступлениями стимулов извне, а осознанным, целенаправленным усилием изнутри. Произвольно. По желанию. С помощью своего внутреннего языка. Тем самым реализуется положение вещей, при котором удовольствие, как вполне подконтрольный сознанию процесс, способно будет приводить к появлению прибавочного наслаждения внутри самой психики.
Артур снова покосился на Олесю, которая молча лежала, не отвечая и даже перестав раскачиваться. Ее расслабленный взгляд был устремлен в заполненное тихо мерцающими звёздами небо. Подождав некоторое время, он продолжил:
— Разумеется, не мне первому пришла в голову такая гениальная мысль — в буддизме это уже несколько тысяч лет является магистральной линией развития, и стадии медитации, размечающие путь к «вечному кайфу» запечатлены в традиции под названием «дхьяны». Западная же культура почти ничего не знает об этом, и «нашим» человеком прибавочное наслаждение, направленное на достижение первой дхьяны, будет восприниматься просто как творчество.
— А зачем нужны именно дхьяны? Я имею в виду, в целом весь этот путь, выстланный крошками удовольствия, может быть другим? — задала вопрос Олеся.
— Вполне вероятно — может. Скажем, как в дзене — реализованным одним гигантским прыжком. Только вот, по всей видимости, это невозможно без учителя. Поэтапный же путь, основанный на дхьянах, вполне можно осилить своими силами — при условии правильного понимания инструкций. Однако путь этот длинный, и без удовольствия просто невероятно скучно было бы удерживать в шаматхе одно и то же монотонное состояние, раз за разом разворачивая мыслепаттерны самоизменения. А с удовльствием — и тем более наслаждением — в дхьяне не скучно, само нахождение в ней это постоянная новизна и радость.
Артур умолк. Прошло еще некоторое время, заполненное шелестом волн и тихим пением цикад за спиной, и Олеся снова спросила:
— Хорошо. И как именно к этой радости пробиться? Ты говорил об инструкциях?
— С помощью медитации: аналитической и генеративной. В аналитической своей части она должна быть направлена на выяснение того, какой именно сформировавшийся за жизнь репрессивный механизм самовздрючивания мешает тебе этот вечный кайф получать. А в генеративной — на замену его позитивными и человечными способами добиваться желаемых изменений.
— Репрессивный механизм? — приподнялась на локте Олеся. — Ты уже не в первый раз о нем говоришь. А он-то здесь каким боком?
— Это целая история. Весьма интересная и поучительная, — старательно добавляя в голос иронии, нараспев произнес Артур.
— Я вся внимание, — улыбнулась Олеся.
— Представь себе маленького ребёнка. Он хочет, хочет и хочет. Без перерывов и внутренних ограничений. Если позволять ему реализовывать каждое пришедшее в голову желание, он попросту будет социально неадекватен, не говоря уже о том, что это банально нереализуемо. Если же ребенок без разбору будет подавлять вообще все порывы — то вместе с водой может выплеснуть и себя самого, так сказать. «Приударить и приубить». Поэтому с детства каждого из нас заставляют выборочно корректировать механизм, ведущий от желания к его реализации — и что не менее важно — корректировать быстро. Быстро — потому что ситуации, в которых нужно заставлять себя изменить намерение, возникают очень рано, еще во младенчестве, и ребенок к ним всегда не готов. Это легко понять: какие шансы у маленького человечка за секунды, пока происходит актуальное принятие решения, разобраться со всем этим огромным эмоциональным пластом и перенастроить существующую систему так, чтобы изменять ее без напряжения и подавления — на одном удовольствии? Почти никаких. Да еще взрослый требует, чтобы «сила воли» была применена прямо сейчас, немедленно. Обычно на то, чтобы «заткнуться». И ребенок ищет внутри себя способ быстро осуществить требуемое изменение и, как правило, находит его — в направленном на подавление желания внутреннем напряжении. Это становится базовым способом совладания с потоком влечения. А затем уже сформировавшийся аппарат саморепрессирования масштабируется и применяется многократно, выстраивая всё разветвленное здание автоматизмов по приспособлению человека к окружающей социальной среде. Так вот. Аналитическая медитация, о которой я говорю, и должна быть направлена на то, чтобы распознать, как именно у тебя работает этот механизм — где именно произошел сбой базовой программы желания и каков твой способ его репрессирования. Общего рецепта, к сожалению, дать невозможно, ведь у каждого он имеет свои особенности и нюансы, поскольку складывается под воздействием бесчисленного множества разных факторов, составляющих автобиографию.
— Боже, — тихо прошептала Олеся, — кажется, я понимаю, о чем ты. И что, все люди в этом самовздрючивании живут?
— Я конечно, не располагаю точной статистикой, но полагаю, что в нашей культуре — подавляющее большинство. Строят всё здание произвольных действий на хроническом напряжении, которое вызывает любая мысль, любое действие. Такая структура самомотивации похожа на безумные действия неумелого водителя, которому для вхождения в любой поворот приходится резко дергать ручник, а потом давить на газ. И так, постоянно замирая и подергиваясь, рывками двигаться к финишу на сожженных шинах. Собственно, это и называется «дукха», страдание.
Вторая — генеративная — часть медитации посвящена тому, как от этого постоянного самовздрючивания перейти к комфортному рулению. Поменять репрессии на спокойное и радостное самоизменение. При каждом таком внутреннем открытии и перестройке вся система желания начинает работать чуть более эффективно, устраняется один из барьеров для свободного протекания потока. В итоге — больше удовольствия, и способность испытывать наслаждение возрастает. Профит.
— Погоди-погоди. Я правильно понимаю, что для этого отказа от репрессивного ручника необходимо «в прямом эфире», онлайн, так сказать, отслеживать, как именно у меня протекает эта автоматическая реакция самоосекания? — изумилась Олеся.
— Да, — просто ответил Артур.
— Но с какой же скоростью это происходит! Можно ли вообще успеть ухватить такие вещи?
— Можно. Однако для этого нужна действительно очень и очень хорошо развитая стратегия самонаблюдения. Да, и еще — весьма быстро работающая, — иронично осклабился Артур. — А что для этого необходимо? Правильно, хорошо проработанная семантическая карта своей психики, по возможности детальная и свободная от противоречий. Итак, для начала необходимо освоить теорию. Без этого никуда.
— А дальше?
— Дальше нужно начать изменять структуру желания по этой теории. А затем седиментировать, впаивать в структуру психики достигнутые изменения.
— Седи… что? — переспросила Олеся. — У тебя этот термин частенько проскакивает.
— Понравилось красивое русское слово «седиментация»? — улыбнулся Артур. — Закрепить. Инкорпорировать в психику. Итогом этого процесса становятся qualia, причем и эмоциональные, и ментальные, и сенсомоторные: если до него ты была вынуждена обдумывать, как и что тебе делать, то после ты начинаешь «ощущать» напрямую, перепрыгнешь ты канаву или нет; можно ли говорить сейчас этому человеку всё, что думаешь, или лучше стоит придержать это при себе; получится ли справиться с формулировкой и внятным изложением пришедшей тебе в голову необычной мысли. И так далее. Это знание встроено в сам взгляд, которым ты «прикидываешь».
— Хорошо. А ты можешь более подробно, на простых жизненных примерах, объяснить, в каких ситуациях появляется эта седиментация?
— Ну… Если уж совсем на бытовых… Седиментация наглядно проявляется, например, в фоновом просчете того, куда упадёт поставленный на пол пакет, — поймав удивленный взгляд Олеси, Артур как ни в чем не бывало продолжил. — Да, обычный пакет. Скажем, ты подходишь к двери, которую надо открыть ключом, а в руках у тебя — достаточно тяжелый и наполненный разнородным содержимым пакет из супермаркета. Ты ставишь его на пол, прислоняя к стене, а дальше — ситуация может развиваться по разным сценариям. Например, пакет осядет и вещи банально рассыпятся. Или — пакет немного осядет, но «выстоит». Нас интересует второй вариант — и особенно описание того, каким образом седиментация внутренней прикидки «куда и как ставить пакет?», произошла. Человек, несколько раз «обжегшийся» на том, что всё падает, будучи неудачно поставленным, постепенно седиментирует это «знание». И в следующие разы у него появляется четкое ощущение того, как именно следует ставить пакет, чтобы он под воздействием силы тяжести осел «правильно», например, уткнувшись в стену.
У человека без такого опыта не будет подобного ощущения — и пакет, скорее всего, упадет, — закончил Артур, постепенно повышая уровень иронического трагизма в голосе. — Похожее явление имеет место в случае с «примериванием» под турником — когда ты стоишь под ним и «прикидываешь»: допрыгнешь или нет? Обрати внимание, возникает, конечно же, не просчет на уровне измеряемого сантиметрами расстояния, а именно ощущение.
Так вот. Если некоторое нововведение — например, умение не репрессировать себя, а плавно входить в жизненные повороты, не теряя удовольствия, — седиментировано, встроено в целостную структуру психики, считай, дело сделано. Навык закрепится и дальше ты будешь пользоваться им при возникновении соответствующей ситуации. Если же седиментации не произошло, и соответствующее qualia не сформировалось — извини, похоже, через некоторое время произойдет «откат» к предыдущей стратегии.
— Господи! Это странно, но пакет, черт его подери, тронул мою душу своей сермяжностью. Ведь действительно, если въедливо раскладывать, всё так. Я же постоянно по жизни это проделываю. Только не обозначаю словами. Ты не поверишь, но мне этого просто никто и никогда раньше не рассказывал. Ты первый.
— Поверю, — ответил Артур, спокойно глядя в ночное небо, — еще как поверю…
Bonkaposition
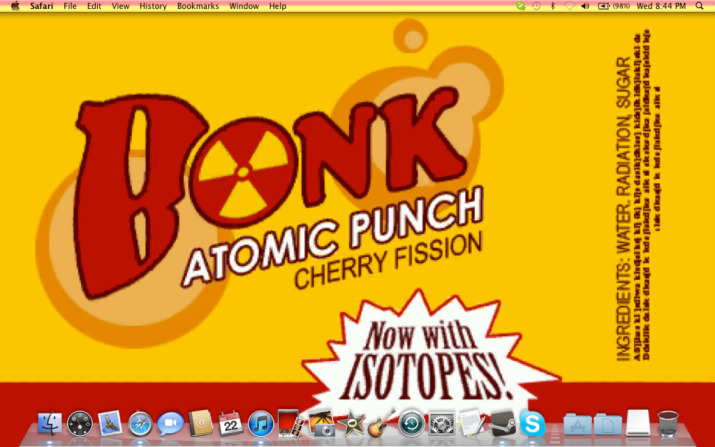
В завершение очередных вечерних покатушек по острову Артур привез Олесю на пляж Hin Kong, знаменитый в первую очередь своими шикарными закатами. И действительно, стоило запарковать байк, как небо над морем начало окрашиваться в оранжевые тона, хотя отдыхающих на пляже все еще было достаточно, и, несмотря на официальный запрет, вдоль полосы прибоя сновали туда-сюда вездесущие торговцы.
— Do you have a coconut ice cream? — спросила Олеся у проходящей мимо тайки с характерной переносной сумкой-холодильником, испещренной цветастыми ценниками.
— Solly. No have, no have… — покачивая головой из стороны в сторону, с традиционной улыбкой отвечала та.
— Что же они «no have» -то везде вставляют? — шутливо возмутилась Олеся, развернувшись к Артуру. — Ладно бы «don’t have» или хотя бы просто «no». Я не первый раз этот пресловутый «ноухэв» от тайцев слышу. Такое впечатление, что их здесь в школах так учат английскому.
— Да это же просто тайский «бонкапозишн»! У них в языке есть форма «май ми», которая точно этому «ноухэву» соответствует, — улыбнулся Артур. — Давай сядем здесь на это живописное бревно у берега. Намечается красивый закат.
— Что-позишн? — несколько обескураженно переспросила Олеся, присаживаясь рядом.
— «Bonkaposition»! — еще раз, уже с отчетливой карикатурно-пародийной псевдо-английской артикуляцией произнес Артур. Затем, глядя на недоумение, проступающее на лице собеседницы, пояснил:
— В русском предисловии Мишеля Фуко к тексту Делеза и Гваттари «Антиэдип» переводчицы ввели такое интересное словосочетание, как «позиция Юкста». Затем оно стало мемом и быстро расползлось по всему русскоязычному гуманитарному сообществу. Вообще-то в оригинале у Фуко фигурировало обычное французское слово «juxtaposition», т.е. «суперпозиция», «взаимоналожение». Но литературные боги распорядились судьбой этого концепта иначе — и он стал метафорой порожденного непониманием иной ментальности симулякра, кросс-культурного «сферического коня в вакууме». Ведь «позиция Юкста» это далеко не просто глупость. Прямо-таки ощущается, как работала переводческая смекалка, когда, не зная значения «juxtaposition», навевала мысль, что «juxta» это, должно быть, фамилия. Скорее всего, очередной теоретик структурной лингвистики. С такой вот простой и незамысловатой фамилией — Юкст.
— А почему тогда с маленькой буквы? — улыбнувшись, поинтересовалась Олеся.
— Кто поймет этих французов? Может быть, из-за отсутствия уважения к этому автору со стороны Фуко… — иронично прищурившись, поддержал её настрой Артур. — Вот эта «позиция Юкста» идеально подходит для описания того, как в наших школах учат иностранному языку. Наверняка ты знакома с базовым советским учебником по английскому «Бонк, Котий, Лукьянова». Если только ты не учила немецкий, у тебя в общем-то не было шансов с ним не познакомиться. По «Бонку» училась вся страна. «Бонк» стал именем нарицательным, используясь в оборотах наподобие: «выдай им бонка» или «в бонке посмотри».
— Ты удивишься, но одно время меня даже заставляли учить по нему других, — вставила свой комментарий Олеся. — Да уж, «Бонк» — это почти что русский Юкст.
— Ага. При этом многие удивлялись, узнав, что все авторы данного методического пособия — женщины! Т.е. не только пресловутый «Бонк», но даже Котий!
— Не говоря уже о Лукьяновой, — добавила Олеся.
— Так вот, — продолжал Артур. — Учебник этот, как и положено, изобиловал натужно-социалистическими диалогами комрада Петрова с комрадом Ивановым в стилистике «I live in London», «My name is Boris», «I am a communist» и текстами со звучными названиями типа «From Verkhoyansk to Sukhumi». Но не это главное. Основное достоинство этого учебника для всей советской образовательной машины заключалось в том, что реальный английский язык по нему выучить было невозможно! Доказательством чему являлись поколения русских людей, проучивших «бонк-инглиш» 10 или 11 классов — и так и не умеющих связно говорить. Соответственно, тем самым резко снижался риск «поймать не те волны из-за рубежа» или почерпнуть что-нибудь из «неблагонадежных заграничных источников». Но реальный эффект оказался значительно более глубоким и неоднозначным…
Английский язык, исходя из «позиции Бонка», для русского человека, изучавшего его в школе, — это гораздо больше, чем просто английский язык. «Bonkaposition» дает такое фантасмагорическое наслоение смыслов, при котором в результате одиннадцатилетних мытарств в сознании несчастного «пьюпила» образуется симулякр «эльфийского английского в вакууме» — языка инопланетян или небожителей из другого мира. Разумеется, простым смертным даже не приходилось рассчитывать на то, чтобы овладеть таким невообразимым по своей сложности «лингвистическим кентавром». И вся образовательная система была рассчитана на то, чтобы только укреплять граждан в этом убеждении. В начале 90-х это сильно способствовало быстрейшему проникновению «карго-культа» в сознание советских людей и преклонению перед недосягаемым в интеллектуальном отношении Западом.
— Это похоже на историю внедрения «Qwerty-клавиатуры», которая изначально задумывалась как способ снижения, а не увеличения, скорости печати, — откликнулась Олеся. — «Бонк» меня этим всегда вымораживал. К счастью, я достаточно быстро уехала за границу, и язык выучила уже там. Но как же на практике учителя в советских школах рассчитывали передать какие-то знания ученикам? Ведь у кого-то получалось — были же частные репетиторы. Синхронисты. Переводчики МИДа, в конце концов.
— А вот здесь принципиально важный момент. Синхронисты, реально работавшие на международном уровне, и МИДовцы, разумеется, учили язык совершенно по-другому. Они с веселым недоумением читали «Бонка», потешаясь над тем, какое понимание языка должно было возникать в головах у «обычных смертных» в результате этого чудовищного «juxtaposition».
Репетиторы же бывали разные. Большая часть даже и не пыталась обучать детей реальному английскому, поскольку сама им по-честному не владела. Они просто зарабатывали деньги репетиторством на основе классического бонк-симулякра, культивируемого в этой среде. Что же касается тех редких ситуаций, в которых ученики могли столкнуться с реальностью и проверить полученные знания на практике — например, таких, как выезд за рубеж и общение непосредственно с носителями, — то здесь сознание «педагога» раздваивалось в соответствии с классическими канонами «двоемыслия», и он начинал бессознательно веровать в удивительную установку, которую можно назвать «надеждой на снисхождение харизмы». Как известно, харизмой назывался в Евангелии дар языков, снизошедший на апостолов. Не давая учащемуся адекватных критериев подбора того или иного способа выражения мысли по-английски, преподаватели, вместе с тем, бессознательно рассчитывали на то, что образовавшуюся смысловую лакуну при попадании в иноязычную среду заполнит «дух святой». Или просто ученик, прилетев в Нью-Йорк или Бостон, от неожиданно нахлынувшей радости ощутит в своем сердце «харизму», которая и прорастет в его сознании всеми необходимыми лингвистическими дистинкциями.
— Да, я еще слышала об альтернативном варианте обучения: обретение языка посредством руконаложения, — хохотнула Олеся.
— К сожалению, на практике чудо при таком подходе случалось крайне редко. В результате иногда целые районы за рубежом, в которых компактно проживает русская диаспора, вроде Брайтон-бич, как не говорили по-английски, так и не говорят. Годами и десятилетиями.
Но самое удивительное заключается в том, что bonkaposition продолжает прекрасно здравствовать и сегодня — после снятия «железного занавеса». Подобно философии марксизма-ленинизма, успешно пережившей девяностые и оставшейся в качестве имплицитной базовой установки философских факультетов страны, «позиция Бонка» преспокойно применяется и поныне для адаптации учебников Мёрфи и перевода других иностранных классиков на «русскоязычные рельсы». В результате, как русские школьники не знали английского языка, так и продолжают его не знать — до тех пор, пока не причастятся святых таинств овладения языком посредством руконаложения в каком-нибудь лингвистическом лагере Канады или Австралии.
— Прямо-таки как история с Драйзером, — неожиданно заметила Олеся.
— А что с ним? — принимая более удобное положение на своем бревне для созерцания разгорающегося заката, поинтересовался Артур.
— После ухода советской власти с авансцены истории литературная пропаганда наподобие книг Чернышевского или критики Белинского и Тынянова стала совсем неактуальной, и народ перестал все это читать, но Драйзер, Диккенс и прочие пролетарские англо-саксы, преспокойно удержали позиции на домашних книжных полках. При том, что в СССР они были изданы только потому, что заранее отбирались нашей партийной пропагандой как образцы социально-правоверной критики капиталистической Англии. То есть симулякр «свободной литературы Запада», будучи однажды искусно введенным в русское коллективное бессознательное через «тягу к иному и полузапретному», остался стоять в народном сознании неколебимой скалой в бушующем литературном море. Несмотря на то, что и породившие его запреты, и сама идеология, способная проделывать такие изощренные манипуляции с психикой граждан, бесследно растворились в штормовых волнах времени.
— История с Драйзером даже лучше, — с восхищением в голосе поддержал ее Артур. — Помню, в детстве меня несколько озадачивало: кому нужны все эти скучнейшие тома «Стоиков» и «Оплотов», стабильно соседствующие на полках с Пушкиным, Лермонтовым и Толстым? Теперь всё проясняется.
Олеся благодарно улыбнулась:
— То есть «позиция Бонка» заключается в том, чтобы на самом деле всячески препятствовать реальному овладению навыком под предлогом глубокого его изучения?
— Ага, примерно так. В сознании ученика создается симулякр того предмета, который предполагается изучать. Затем следует долгое, нудное и монотонное изучение этого симулякра вместо самого предмета. При этом очень важно, что закономерно возникающие «проблемы в обучении» решаются посредством убеждения учащегося в том, что проблема именно в нем, а не в методике. Именно из-за своей тупости, за которую «и три-то поставить стыдно», он до сих пор не знает английского. А учительница в этой ситуации — просто светоч разума, летящий к мечте на крыльях прогресса.
— Любопытно то, что «Бонк» весьма близок по звучанию английскому «bonker», что в вольном переводе означает «идиот», «придурок», — неожиданно добавила Олеся.
— Не говоря уже о том, что даже в русском уже вполне официально существует «бонк для курения» травы и всякого рода смесей, — кивнул Артур. — Да и аглийский слэнговый глагол «to bonk» означает буквально старый-добрый «чпокинг». В этом даже проглядывает некая высшая провиденциальность. Ведь именно «чпокнутым придурком» себя обычно и ощущает человек, поставленный в «позицию Бонка».
— Так вот почему я все время обучения в школе ощущала себя полной дурой, неспособной разобраться в отличиях перфекта от прошедшего времени.
— Ага. В данном отношении ты не одна — все, кто не «родился билингво», это в той или иной степени на себе ощущали. Вообще, складывается ощущение, что «позиция Бонка» не какая-то забавная случайность, а часть общей, хорошо продуманной, стратегии обучения, при которой и на уроках обществознания, и на уроках истории, и даже на физкультуре человеку подсовывается симулякр вместо реальности. В стилистике: «стойте и машите руками возле бассейна — когда научитесь плавать, нальем вам воду».
— Наверное, так они берегут детей от столкновения с реальностью, — предположила Олеся. — Ведь взрослая жизнь — довольно жесткая штука.
— И лишают их тем самым шансов на реальное изменение чего-то в жизни. В первую очередь — в своей.
— В этом наверняка есть и какие-то положительные стороны… — без особой уверенности протянула Олеся.
— В том, что человека одиннадцать лет натаскивают жить в симулякре, а потом он сталкивается с чем-то совсем другим?
— Ну да. Например, у него растет творческий потенциал. Развивается фантазия… — голос Олеси становился все более и более неуверенным, пока не затих окончательно.
— Не ощущаешь ли ты сейчас, проговаривая эти слова, как сзади подкрадывается «бонкапозишн»? — улыбнувшись, перевел на нее взгляд Артур. — Не было ли тебе втиснуто это очевидно несовместимое с жизнью убеждение где-то между изучением причин первой мировой и сабдженктив мудс? Творчество и фантазия вряд ли проявятся от бесконечного повторения таблицы неправильных глаголов. Симулякры тут не помогут.
— Ну хорошо. А всем ли вообще надо заниматься творчеством? Разве за тысячелетия не было создано все, что только можно? Мне кажется, мир уже и без того настолько переполнен творчеством, что кажется — некуда деваться от его результатов, — развела руками Олеся.
— Вот! — протянул Артур, гротескно воздевая палец вверх. — Примерно этого убеждения, очевидно, система от тебя и добивалась. Дело не в артефактах, которые остаются после творческого акта. Их действительно вокруг много. Дело в самих этих актах. Именно творческие состояния являются самыми важными. Для тебя. Не для окружающих.
— Он настолько обязателен? Для всех? И нет других смыслов в жизни? Тебя послушать, так возникает ощущение, что творчество обязательно, оно для всех — и ему можно легко научить. Каждого, — нахмурилась Олеся.
— Конечно, нет. Но этого и не требуется. Как правило, большинству людей, у которых вообще рождается подобный запрос, нужно всего лишь дать платформу, плацдарм для реализации. А дальше человек все делает сам. Как только выходит из «позиции Бонка» и получает возможность для построения реального плана своей жизни…
Артур искоса, чуть прищурившись, посмотрел на Олесю, улыбнулся, будто приняв какое-то решение, и продолжил:
— Смотри. Творчество, как создание новых для тебя структур, предполагает две вещи: трансгрессивную свободу расширения собственных границ и синтаксическую направленность творческого акта. Крайности здесь, соответственно, тоже две. Если у тебя есть свобода, но нет направленности, ты будешь постоянно погрязать в трясине тысячи мелких дел и ощущать перманентную демотивацию создать что-то серьезное. Задаваясь при этом маловразумительными вопросами относительно необходимости всего, что ты делаешь. Помнишь ворону из мультика про Нафаню? «Куда хочу? Куда лечу?»
Если же есть направленность, но нет свободы, ты будешь ощущать систематическое принуждение. Внутреннее или внешнее. Тоже далеко от творчества.
— Да, я на эту тему другую фразу из мультика знаю: «нагибаюсь и уже чувствую, что работаю».
Артур с некоторым подозрением покосился на Олесю, но от вопросов и комментариев воздержался.
— И та, и другая крайность — проявления «бонкапозишн». Когда твой внутренний экзистенциальный навигатор сбит, и все действия утопают в сопротивлении реальности, потому что основаны на симулякре карты. Что бы ты ни хотела сделать «как лучше» в такой ситуации, получаться будет «как всегда». Творчество именно потому так трудно для большинства людей, что основано на умении держать баланс в самой непростой ситуации: подобно мотоциклисту, на полной скорости вписывающемуся в крутой поворот. Творчество — не широкая столбовая дорога, а узкий канат, натянутый между двумя небоскребами.
Олеся молчала, глядя на закат. Артур продолжал:
— Я вижу, ты хочешь спросить — почему это именно так? На чем основаны все эти метафоры? Что ж, если хочешь, я могу тебе серьезно ответить. Есть один важный аспект, который обычно не обсуждают: тонкость восприятия. Ты не замечала, что постепенно, день за днем, месяц за месяцем теряешь эту тонкость? Если в детстве каждый дом, каждое дерево и каждый вечер имели свое собственную окраску, свой неповторимый ореол, свой фантазматический флёр, который невозможно было спутать ни с чем, то с течением времени всё это стало сливаться в однотипную череду образов, отличимых только по формальным, закрепленным в языке, и, в конечном итоге, чисто внешним параметрам. Не в силах обрести возможность произвольного творческого самоизменения, сознание начинает становиться зависимым от грубых способов изменения своего состояния — например, таких, как алкоголь. И в дальнейшем уже не может обойтись без этих «ударов эмоциональной кувалдой» — потому что иначе не движется вообще никуда, пребывая в одной и той же заскорузло-апатичной позе прострации. Нуминозность и вообще достойную запоминания яркость в такой «позиции Бонка» обретают только пиковые состояния, вызванные совсем уж необычным, вопиюще-неестественным сочетанием социально значимых событий — например, такими, как смерть близкого родственника и получение квартиры — или, само собой, наркотиками. И с течением времени для достижения различимого эффекта изменения такому притупленному сознанию требуются все более мощные раздражители. Если бездумно продолжать скатываться по этому пути, то, очевидно, к старости человек становится бревном. Почти бесчувственным и мало на что способным, апатично стекая в затхлое болотце вялотекущей деменции и Альцгеймера.
— И что же можно противопоставить этому? — серьезно спросила Олеся.
— Например, медитацию. Однако и медитацию сейчас, в век поп-культуры нью-эйджа, часто понимают, исходя из той же «бонкапозишн». Как сферическую деятельность в ментальном вакууме, доступную только эльфийским монахам-небожителям. Поэтому ее требуется сначала «раскодировать», понять, перевести на свой внутренний язык.
Артур снова искоса посмотрел на Олесю и, очевидно, убедившись в чем-то, продолжил с изменившейся интонацией:
— Конечно, есть и другие способы. Уникальные, нуминуозные моменты истины. Например, такие, который был у нас с тобой. Но они всегда труднопредсказуемы, это большая удача. Медитация же — пожалуй, одна из немногих вещей, способных вернуть нативную тонкость постепенно и контролируемо, по шагам. Оживить свое восприятие свежими микроразличиями, неспособными быть выраженными в словах ранее. Грубых словах, обманчивых и всегда предающих союзниках, обитающих в казарменном общежитии языка, истоптанных вдоль и поперек шеренгами однотипных восприятий, истертых коммунально-хозяйственной неразличимостью смыслов… Словах, после медитации обретающих новое измерение нуминозности и глубины, способное сохранить что-то из обретенного опыта.
Что же необходимо для такой медитации? Находить в однородном поле восприятия повседневности едва вытарчивающие краешки новых экзистенциальных аспектов. Хвататься за них вниманием, вытягивать их, разворачивая до возможности полноценного сохранения в памяти. Творчество — это и есть процесс их разворачивания, становления понятиями, образами, звуками, красками и движениями. Теперь понятнее, как медитация помогает творчеству?
— Да… — медленно произнесла Олеся, пристально глядя на отблески заходящего солнца на постоянно меняющейся поверхности моря, — Ты знаешь, я сейчас вспоминаю, что действительно в детстве могла вот так, ни на чем особенном, входить в удивительные пластичные состояния. Восприятие и мысль в них текли как-то сами по себе. Из этого и рождалось что-то новое. Но это новое… оно… мммм… — Олеся замялась и перевела растерянный взгляд на Артура.
— Дай-ка я попробую помочь: Но это новое не было самым главным, являясь всего лишь артефактом, побочным эффектом — наподобие опилок. Главным было именно то бесконечно более глубокое и высокое, из которого это новое рождалось. Так?
— Так, — кивнула Олеся. — Именно в этом, в общем-то, и состояли пиковые моменты жизни. Да… Новое, живое и интересное. И… вот это большее постепенно истекло, выдохлось потому что, потому что…
— Потому что у тебя не было сердечного друга или подруги, способных разделить с тобой реальность этих более тонких различий, уходящих гораздо глубже поверхности слов. И, если даже словами это неописуемо, не было никакого другого способа запомнить их и удержаться на этом уровне самостоятельно, в одиночку. В результате они просто начали истираться, подвергаться эрозии — подобно тому, как постепенно смываются волнами моря изящные линии картины, нарисованной кем-то на прибрежном песке. Равнодушный мир кирзовыми сапогами необходимости втоптал их в столбовую дорогу жизни.
— С ума сойти, — перевела на Артура восхищенный взгляд Олеся. — Ты просто читаешь мои мысли. Удивительно точно.
— Спасибо. Из такого понимания творчества вытекает дальнейшее: если этой тонкости восприятия и пиковых моментов нет в твоей жизни, это обессмысливает саму жизнь, делая ее грубым, слабопереваренным месивом из сравнительно однородных впечатлений. Если в жизни нет свободы и направленности к цели; нет ничего, что было бы новым, нуминозным, не сводимым к усредненным траекториям судеб сотен и тысяч людей до и после тебя, какой в ней тогда смысл и удовольствие?
— И как же выбраться из всего этого?
— Примерно так, как мы это сейчас с тобой делаем, — перевел взгляд на горизонт Артур. — Пониманием. В первую очередь необходима осознанность. Именно осознанность позволяет ставить точку «Я+» с фиксированными координатами на твою внутреннюю карту. Сохранять ее и удерживать, не давая размыться в тумане забвения. Скажи, что отличает наше с тобой общение от обычного повседневного трепа, к которому ты привыкла за годы жизни?
— Даже не знаю, как выразить, — задумалась Олеся. — Наверное, странное сочетание научной твердости рассуждения и… какой-то… глубины, наверное. Похоже на искусство…
— Именно, — кивнул Артур. — Сочетание метафорической образности и структурно точных понятий. Это способ захватить внимание, перегрузить его сенсорным, эмоциональным и ментальным потоком. Для того чтобы возникло творческое движение, требуется своеобразная внутренняя лавина, сходящая с гор потоком наслаждения — лавина, которая могла бы захлестнуть тебя с головой. Причём, нюанс в том, что поток этот должен быть весьма избирательно выстроен: одновременно мощный и превышающий привычный тебе уровень детализации, эстетичный и приносящий наслаждение: сдвигающий экзистенциал в притягательную для тебя сторону. Прецизионное изменение состояния сознания, в результате которого ты обнаруживаешь себя «в другом, более глубоком, объемном и приятном мире», куда выносит «лавина наслаждения». Но это еще не всё. Дальше нужно обрести возможность самостоятельного перемещения в этом новом пространстве. Конечно, было бы здорово освоить всё это богатство творческого восприятия, лавируя на чистом экспромте, вообще без построения системы внутренней навигации — но, к сожалению, многие этот вариант уже пробовали, в детстве. Например, ты. Получилось?
— Не особенно — улыбнулась Олеся. — Похоже, лавина погребла с головой. А как обрести эту внутреннюю навигацию?
Артур как-то неуловимо внутренне подобрался на своем бревне, и его голос изменился еще раз, став более спокойным и плавным:
— Посмотри на пейзаж перед собой. На всю картину в целом, включая особый оттенок, придаваемый всему лучами заходящего солнца, частично пробивающимися сквозь облака, и особый характер волн, вызываемых именно таким ветром. Обрати внимание на глубину всего, что ты видишь. Корабль на заднем плане находится значительно дальше от тебя, чем камень, вытарчивающий из воды на переднем. А теперь осознай, что вся эта глубина создана твоим восприятием — и находится, условно говоря, внутри психики. Это ведь и правда так. Изображение, возникающее на сетчатках глаз, плоское. Именно психика создает ощущение глубины. А теперь постарайся выйти вниманием за пределы этого, известного и обжитого тобой, внутреннего пространства.
— Что? — переспросила Олеся.
— Представь себе, что внутри твоей психики существуют области, находящиеся за пределами этой постоянно меняющейся перед глазами картинки, за пределами визуального восприятия мира вообще. И аудиального с кинестетическим тоже. Как будто ты смотришь из своего убежища внутри головы на мир через монитор пяти органов чувств. А теперь попробуй обратить внимание на то, что находится за пределами этого монитора. Это ведь никак не противоречит твоей картине мира, правда? Просто органично ее дополняет, — Артур мягко и как бы приглашающе улыбнулся и продолжил.
— Поначалу, возможно, покажется, что это пространство вовне никак не размечено и не структурировано. Но затем внимание осваивается и начинает замечать структуры там, где до этого было только аморфное ничто.
Вот, например, песочного цвета собака, лежащая слева, кажется тебе более близкой и приятной, чем та, которая бежит сейчас справа. Причем, в этом ощущении приятия есть два пласта: первый связан с первоначальным восприятием, когда ты ее еще не знала, но она тебе уже понравилась, второй — с опытом ваших с ней дальнейших отношений, в результате которых она даже обрела кличку. Всё это не существует больше нигде — только в твоей психике. Но от этого не становится для тебя менее реальным. Интроцептивная тонкость начинается с признания реальности той феноменологии, которая невидима для окружающих, но налично дана в твоем текущем осознании. Реальность эмоций, привычных способов восприятия и реакций ничуть не уступает реальности этого пляжа и бегающих по нему собак. Прикасаясь к поверхности бревна, на котором сидишь, ты чувствуешь не дерево, а специфическую деформацию подушечек пальцев. Наблюдая этот фееричный закат, ты наслаждаешься цветами, возникающими у тебя в восприятии. Далеко не самим солнцем. Эти цвета и есть твоя реальность. Хорошие новости заключаются в том, что способ интерпретации этих импульсов, однажды закрепившийся в детстве, можно поменять. Причем, не только в визуальных или кинестетических, но и эмоциональных аспектах: того, с чем воспринимаемое у тебя ассоциируется, какое состояние вызывает. Именно это дает расширение пространства экзистенциалов. И как результат — творчества, возможности направить внимание в новую, еще никогда прежде не испытанную, сторону. Воспринять, оседлать, сделать своим целое новое эмоциональное измерение, которое всегда было доступным, просто ты не догадывалась двинуться в его сторону.
Олеся сидела на своем бревне с легкой улыбкой, наблюдая за тем, как постепенно сгущаются сумерки, и слушая шум волн, плавно накатывающих одна на другую.
— Знаешь, что сейчас было, — наконец сказала она. — Пока я смотрела на заходящее солнце, на какое-то время всё, что было в жизни, вдруг, в перспективе «bonkaposition», приняло отчетливо наказательный характер и выстроилось в череду ударов, которые обрушивались, один за другим, с детства — забивая, блокируя любые творческие проявления. А затем, что-то произошло, и, слушая твои слова, я неожиданно смогла ощутить это по-другому: так, как будто это были всего лишь не ведущие к цели развилки жизненного лабиринта, которые я лично проверила, ощупала тупики и убедилась, что там счастья нет. А значит, теперь легко смогу сориентироваться и выбрать правильный путь — ведь направлений осталось не так много.
— Вот и хорошо. И, похоже, одно из этих направлений определенно ведет нас в сторону дома, — улыбнулся, вставая, Артур.
Последние отголоски догорающего над морем заката еще цеплялись за нижние края облаков, а оранжевый байк уже разгонял фарами налетающие полчища сумеречной мошкары, унося парочку прочь от берега.
Depeche Mode

С Геной и Машей Артура познакомила Олеся, сказав, что они выпускники философского факультета, и поэтому обязательно найдутся общие темы. В целом так оно и вышло: общение оказалось достаточно интересным, но, к сожалению, недолгим — уже через неделю знакомства выяснилось, что Гене и Маше, заядлым лонгстейерам, живущим в Таиланде больше трех лет, банально не продлили учебную визу в иммигрейшне. Собственно, по случаю такого поворота визовой фортуны они и решили устроить у себя на веранде прощальный вечер, посвященный предстоящему отлету в Россию. Артур с Олесей, разумеется, были приглашены.
— Вы уж держитесь там, в родных сугробах, — улыбаясь, поздоровался с виновниками торжества Артур, вручая им стилизованную меховую шапку из самуйского «Ice Bar» в качестве сувенира.
— И вам всего доброго, здоровья, хорошего настроения… — в тон ему, с доброй медведевской улыбкой откликнулся Гена. — Проходите на веранду, присаживайтесь на пуфы. Вы сегодня первые. Кстати, слышали — Максу с Валей и Игорю тоже отказали?
— Да, в последнее время потянулась вереница невольников обратно в Сибирь. Тайцы зверствуют, им нужны только двухнедельные туристы-пакетники; лонгстейеры, видимо, совсем ни к чему. Скоро все, кто на тайках не женился, разъедутся, — иронично ворча, пророчествовала Олеся. — Переживаете, наверное: не искупнуться больше в январе?
— Да мы, если честно, за последние годы почти на море-то и не были, — пожала плечами Маша. — Только в первые месяцы специально купались. А сейчас как-то лень даже на берег тащиться.
— Меня это всегда удивляло. Ведь теплое море под боком — купайся-каждый день-не хочу? — недоуменно приподняла бровь Олеся.
— Ну, как раз туристы-пакетники в основном и бултыхаются с утра до вечера: тру-лонгстееры, бывает, годами не купаются. Это ведь со временем приедается и становится бессмысленным… — откликнулась Маша.
— Да, а почему? — усаживаясь в зеленое кресло, серьезным тоном поинтересовался Артур.
— Как почему? Всё равно ведь счастье иллюзорно и недостижимо: как говорил классик, оно отодвигается с каждым шагом, который приближает нас к нему. Чем больше внешних поводов для счастья, тем быстрее оно приедается, становится монотонной повседневностью, а значит, теряет свою характеристику переживания именно как счастья. Ты же должен это понимать, — ответил Гена.
— Не уверен, — протянул Артур. — Может быть для большинства людей в их текущем состоянии это так. Или почти так. Но с тем, что это обязательно должно быть так для всех, я бы поспорил. Полагаю, дело здесь не в сущностном свойстве счастья как явления убегать, а в отсутствии «неубегающего», эвдемонического счастья в экзистенциальном опыте.
— Какого счастья? — переспросила Маша.
— Эвдемонического. Внутреннего, зависящего только от тебя в противоположность гедонистическому — внешнему, зависимому от изменяющихся внешних условий. Если хочешь, для того, чтобы объяснить разницу между ними, я могу привести пример из своей жизни.
— Конечно, давай, — кивнул Гена.
— Долгое время я жил на северо-западе России, в постоянном холоде — и летом, и зимой — думая о том, как хорошо будет круглый год загорать и купаться на жарком юге. Причем представление о том, как и в каких именно декорациях должно быть «хорошо», существовало в моем сознании в виде классического образа тропического пляжа, из рекламы Bounty или Palmolive: пальмы, теплое чистое море, легкий ветерок, приятные запахи, и, конечно же, неизменный гамак на берегу. Каждый раз, оказываясь за границей, я бессознательно сравнивал этот идеальный образ с тем, что видел. И каждый раз, будь то Египет, Турция, Испания, Тунис или Марокко, оказывалось, что какие-то досадные черточки отличают вожделенный идеал от реальности. И вот однажды, оказавшись на безлюдном пляже в Сиамском заливе, я понял — это оно. Могу даже детально вспомнить, как это было: я стоял на кромке прибоя и смотрел на пальмы, шелестящие на берегу под порывом легкого ветерка, а внутри шло привычное натягивание образа на реальность. Но в отличие от предыдущих ситуаций невозможно было найти между ними серьезных отличий. И вот я оказался перед вопросом: а на что еще мне теперь проецировать свои образы тропического рая, если не на эту картинку и эти ощущения? Ведь тропичнее уже некуда. Оставалось выбрать один из двух путей дальнейшей эволюции этой ситуации: оспорить сам факт сходства образа и реальности, сделав ставку на поиск еще более утонченных и тропических мест — или согласиться с тем, что сходство это уже налицо, и изменить саму стратегию бесконечной погони за счастьем. Я выбрал второй путь — и чаша внутренних весов необратимо качнулась в одну из сторон. В сторону эвдемонии, при которой этот пейзаж стал устойчиво восприниматься как пронизанный счастьем. Без монотонии и постепенного выгорания, обусловленного привыканием. Больше не надо было искать всё более роскошных внешних условий: отождествление образа и реальности необратимо произошло. С тех пор я купаюсь каждый день. Ну или почти каждый. И никакой скуки это не вызывает.
— Хм. Интересная история, — сказала Маша. — Тогда зачем для этого внутреннего счастья вообще нужны внешние условия наподобие моря и солнца? Можно ведь в сугробах сидеть — и переться. Эвдемонически…
— Можно, — серьезно ответил ей Артур. — Но для этого надо сначала обрести опыт отождествления образа мечты и реальности — чтобы успокоить ретивых коней бесконечного поиска лучших внешних условий. То есть пиковые переживания все-таки важны — чтобы в дальнейшем было что закреплять в качестве нового стандарта восприятия, и уже с вершины сбывшихся ожиданий подступаться к подлинным источникам счастья.
— А можно подробнее: как осуществляется это отождествление? Ведь, насколько я понимаю, именно в нем всё дело? Как способ восприятия радости может стать стабильным, не подверженным обычным процессам истирания и выхолащивания? — спросил Гена.
— Это как раз и есть самое сложное, — ответил Артур. — Пресловутая «целая жизнь борьбы» в дон-хуановском смысле. Борьбы за всё больший и больший контроль над своим способом восприятия. Для начала полезно разобраться с тем, что уже туда привнесено ситуациями прошлого, повлиявших на тебя и успевших наследить в бессознательном. Разорвать жесткость образованных этими импринтами уродливых эмоциональных сцепок.
— Это как? — деловито поинтересовался Гена.
— Попробую объяснить. Бывает так, что сидишь ночью на берегу и смотришь на лунные отблески, золотистой дорожкой протянувшиеся по поверхности моря, а с дискотеки за твоей спиной раздается убогое и однообразно-бессмысленное «тынц-тынц». Помещающее всё созерцаемое тобой визуальное великолепие в контекст какой-то инфернальной петросяниады, вымывая из него красоту и осмысленность. Что делать в таком случае? Вопрос риторический: чаще всего ум подталкивает людей бежать, не в силах противостоять этому сочетанию непреодолимой тупости и ее размеренного упорства. Однако существует и другой способ. Десемантизация.
— Вот об этом можно поподробнее? — улыбнулась Маша.
— Представь себе, что ты слушаешь китайскую речь. Поскольку ты не знаешь китайского, она воспринимается просто как поток звуков, обладающий неясной семантикой, то есть только намеком на потенциальное значение. Можно заслушиваться ее переливами, можно угадывать паузы, отмечающие переход от одной мысли к другой, но вообще-то самое естественное в данном случае — просто не обращать на этот потенциальный смысл внимание, воспринимая речь как шум. Согласись, если это сделать, несложно в этот момент размышлять о чем-то своем, совершенно не связанном с тематикой изложения. А теперь вспомни, так ли легко простраивать собственные параллельные цепочки размышлений и одновременно активно слушать речь, допустим, мамы, на родном языке, русском?
— Вот именно с мамой — сложнее всего. Попробуй ее не послушай, — иронично протянула Маша.
— То есть, разрывая устоявшиеся цепи семантической интерпретации и переставая воспринимать слова мамы как наделенные серьезным смыслом, слыша в них просто «бла-бла», мы обретаем новую свободу ментальных действий. Так? — спросил Гена.
— Примерно так, — кивнул Артур. — А если это получается, возникает закономерный вопрос — можно ли провернуть подобную процедуру десемантизации, с «тынц-тынц» -ритмом на пляже? Ответ — да. Однако для этого нужно осознанно оперировать с теми, обычно неосознаваемыми, пластами восприятия, которые затрагиваются структурой музыки, задавая определенное состояние, аспект приятия разворачивающейся под ее звуки жизненной ситуации. Выясняется, что это тоже семантика, только другого уровня. Более глубокая, чем слова.
Как можно выйти на этот уровень, определяющий уже обертоны — счастливые или нет — восприятия окружающего жизненного контекста? Например, посредством медитации. Серьезным — и, кстати, вполне измеримым — результатом будет возможность «проигрывать» внутри любую выбранную тобой осознанно мелодию, сохраняя верность ее эмоциональному настрою — слушая при этом «снаружи» любую чушь. Даже запредельно-разрушительные для психики орудия массового аудио-поражения формата Верки Сердючки или Филиппа Киркорова. Без раздражения и желания заткнуть уши и убежать. Так сказать, отстоять свой пляж. И свою лунную дорожку.
— Неплохо. Кажется, я начинаю понимать… — откликнулся Гена.
— А теперь представь себе, что можно сделать следующий шаг — и провернуть нечто подобное с аспектом, в котором ты все воспринимаешь эмоционально. Просто понять это, разумеется, недостаточно. Достижения теоретической мысли должны быть закреплены в живом, трепещущем восприятии. Если ты добрался до некоторого осознания, очень важно, чтобы следующим шагом стала его так называемая седиментация — то есть инкорпорирование достигнутого прозрения в само мировосприятие, в стекла «внутренних эмоциональных очков», сквозь которые ты смотришь на мир.
В результате можно добраться до такого глубокого и фундаментального уровня, который позволит ресемантизировать весь воспринимаемый тобой мир в целом, который — если разобраться — является такой же нелепой и убогой псевдо-петросяновской поделкой при сопоставлении с тем, чем он мог бы быть.
— А почему обязательно убогой? — с некоторым сомнением поинтересовалась Маша.
— По той же причине, по которой убогим является базовый для мейнстрима pop-style. Из-за «намеренной усредненности», призванной соответствовать восприятию максимально широких слоев аудитории. Его старательно и кропотливо таким производят — и старательно поддерживают, заботясь о том, чтобы эта чудовищная «ментальная попса» постоянно звучала на твоем внутреннем танцполе. Конечно же, ни о какой эстетике и тяге к прекрасному в этом случае речь не идет. Это именно хладнокровно и сознательно разрабатываемое одной группой людей против других социальное оружие. Такое же, как реклама или мода.
— Ну ладно реклама. А мода-то здесь при чем? Разве это рассуждение о социальной попсе касается желания людей красиво одеваться? — удивилась Маша.
— А при чем здесь красота? — в тон ей отозвался Артур со своего кресла. — Достаточно посмотреть полчаса Fashion TV, чтобы убедиться в том, что мода — особенно современная — абсолютно необъяснима с позиций эстетических предпочтений. Моду просто неправильно понимают. В действительности все разговоры о красоте — это всего лишь социальная мимикрия: внешний, поверхностный пласт, который сегодня, подобно тоненькой резинке стрингов, оставшейся от закрытых купальников прошлого, уже практически ничего и не прикрывает.
— А что же тогда такое, по-твоему, мода? — спросила Олеся.
— Мода — это социальный институт, специально разработанный и реализованный в Новое Время для того, чтобы замкнуть культурные коды на формирующуюся верхушку класса буржуазии.
— Ну-ка, ну-ка, это прямо-таки даже интересно, — откликнулся Гена. — А можно поподробнее?
— Можно. Начнем издалека: с отличия моды от искусства ухода за собой в узком смысле этого слова. Конечно, можно в каком-то смысле говорить о древнеегипетской моде на прически и тому подобной ерунде, но всё это будет достаточно жалко и вымученно. Мода в современном смысле этого слова появилась в Италии пятнадцатого века, вместе с банковским делом и сложным процентом, являясь одним из явлений, сопровождающих подъем нарождавшейся буржуазии как нового социального класса. Искусство же было всегда, с момента зарождения сознания. Если в искусстве еще есть какие-то — пускай во многом интуитивные — критерии различения шедевра и не-шедевра, то в моде эти критерии изначально были устранены ее основателями. В конечном счете, именно мнение «законодателей мод» и определяет, что в этом сезоне будет модным, а что нет. А потом и в следующем. Соответственно, для чего-то мода нужна была активному и предприимчивому третьему сословию, далекому от чисто эстетических идеалов. Для чего?
Окружающие молчали. Артур продолжил:
— Ответ достаточно прост — для демонстрации статуса. Мода «от кутюр» соответствует по всем параметрам статусу идеального отличительного признака статусного потребления. В самом деле, одежда всегда при человеке, в отличие, например, от дома или средства передвижения. Ее стоимость должна быть в случае haute couture запредельна для обычного смертного. Более того, обычный смертный совершенно закономерно не понимает, зачем ему «такое фуфло за такие деньги» — ведь речь идет именно о соревновании финансовых элит в игре перенаправления потоков человеческого внимания и капитала. Это экономическое различие «верхов и низов» становится совершенно непреодолимым именно в результате постоянной изменчивости моды, когда требуется каждый сезон менять одну сверхдорогую вещь на другую, чтобы не вывалиться из тренда. Не говоря уже о зыбком и конвенциональном характере самих критериев определения, что нынче модно, а что — нет, остающихся в руках определенного микросообщества. Как и в случае с образом райского пляжа, картинка «гламурного прикида» стала постоянно убегающим миражом — однако особый цинизм ситуации заключается в том, что отодвигается она другими людьми.
В результате мы и получили постепенно подмявшую под себя все остальное индустрию моды, которая является весьма эффективным инструментом управления обществом в целом.
— Слушай, очень похоже на правду. Но неужели люди не видят бредовости самой этой идеи бесконечной погони за гламуром, — поддержала Артура Олеся.
— Для кого-то эта «бесконечная погоня» — смысл жизни, — ответил он. — Поэтому относиться к этому пренебрежительно я бы не рекомендовал. Ведь мода демонстрирует сами основы современного общества потребления. Ее законы распространяются на все проявления этого общества, порождая, например, такую странную вещь, как бренды.
— Ну уж пристрастия к брендам я никогда не понимал, — откликнулся со своего кресла Гена.
— А надо бы понять… Именно понять, а не бессознательно и покорно впитывать, как задумано системой. Не так давно я сделал для себя небольшое открытие — для большинства людей бренды — это провайдеры нуминозного в их жизнь. Маленькие ворота, пропускающие из бесконечных пространств трансцендентного «ветерок свободы». Абсолютно в том же смысле, в котором раньше провайдерами были религии.
Человек сегодня рассказывает друзьям и близким о том, как все ахнули от новой кофточки или об удовольствии, которое он испытал, попробовав новый сорт кофе в «Старбаксе» так же, как раньше говорил о снизошедшем на него в церкви откровении или явлении божества во сне. Для него это действительный и неиллюзорный прорыв к новым, манящим сферам опыта. Если бы древнегреческий пантеон реинкарнировал сегодня, то он, несомненно, воскрес бы в качестве «сакрального ребрендинга»: ЗАО «Зевс» или «Марс» LLC.
— Кстати, «Марс» прекрасно себе существует, — улыбнулась Олеся.
— Я в курсе. Сникерсы производит, — отозвался Артур. — Поэтому люди и делятся бесконечно друг с другом этими брызгами нуминозности, обсуждая шмотки и сумочки — поскольку полностью и безвозвратно оторваны от каких-либо других, более широких его каналов и источников. Вместе с этими разговорами, подобно рабочим пчелам, они переносят и распыляют друг на друга пыльцу размножающихся брендов. Совершенно этого не осознавая.
— Оторваны от других источников, ты говоришь. Но кто же их оторвал? Кто запретил? А как же творчество? Искусство? — спросил Гена.
— Да точно так же, — улыбнулся Артур. — Они его потребляют: люди вывешивают свои снимки на фоне Джоконды в соц. сети так же, как голые ноги с видом на море или новый слоеный мохито со светящейся трубочкой. Как еду, сфотографированную в ресторане. Для них, чтобы получить свои крупицы нуминозности, важен сам акт потребления чего-то, признаваемого всеми шедевром, личные ощущения при этом совершенно не важны; главное, чтобы зарекомендовавшие себя бренды от искусства предоставлялись качественными провайдерами. Лувром™, например. Или Эрмитажем©. Никакого воздействия собственно на синтаксис и семантику восприятия большинства людей произведения искусства теперь не оказывают. Они не смещают и не перестраивают сознание. Поэтому и смотреть как на искусство люди готовы на всё, что угодно: хоть на новый Айфон, хоть на кучку говна на Красной Площади — лишь бы окружающие признавали это модным.
— Честно говоря, мне такое трудно понять, — передернула плечами Маша.
— И мне было трудно, — кивнул Артур. — Но в действительности разгадка проникновения в эти жизненные миры проста: большинство людей настолько ниже «ватерлинии», отделяющей восприятие произведения искусства через призму понимания от обычного животного «пяленья», что их ум в момент созерцания картины просто не совершает никаких актов, которые могли бы привести к нахождению внутреннего источника радости в принципах восприятия прекрасного — на чем, собственно, нормативное произведение искусства и должно быть построено.
Как бы мы, сидящие здесь, к этому ни относились, рынок брендов сегодня — это далеко не игрушки. Это действительно в некотором радикально серьезном смысле борьба за человеческие умы. Как в книгах серии «Positioning: the battle for your mind». Шутка ли? Ведь перераспределением рынка решается вопрос о том, кто будет поставщиком последних крупиц нуминозного в жизнь людей, полностью лишенных других его источников.
— Хорошо. Но почему люди настолько тупы, что не замечают этого? — спросил Гена.
— Они не тупы, они управляемы. Дело здесь не в глупости, а в предварительном заключении в «мировоззренческий загончик».
В основании современной западной цивилизации лежит принцип экспертности. Если ты не компетентен в чем-то, не имеешь соответствующего образования и диплома — просто не занимайся этим, не высовывайся из своего загончика. Все равно ты не профессионал и не выдержишь предполагаемой конкуренции. Проявляется это на всех социальных уровнях — и особенно очевидным становится при анализе взаимоотношений родителей и детей. В ходе которых и происходит подключение ребенка к стандартным, прописанным культурой, способам получения легитимного удовольствия от получения нового опыта. То есть закрываются все лазейки к нуминозному. Человек помещается в «загончик для молоднячка».
Если в России родители пока еще могут воспитывать ребенка более-менее свободно, то на Западе обязательно есть квалифицированные педагоги и социальные службы, которые берут эту функцию в свои экспертные руки. И социальные службы эти сильны и законодательно принудительны. То есть даже на уровне таких базовых явлений, как семья, люди уже не совсем вправе самостоятельно определять будущее своих детей.
В результате почти 500-летнего вымывания всех функций, позволяющих обрести хотя бы относительную независимость, на текущий момент западный человек лишился контроля над своей жизнью, получив вместо этого возможность ничего особенно не делать и ни о чем особенно не думать. Быть не-экспертом. Потребителем, которого полностью обслуживает социум. Тем самым был по-настоящему реализован идеал общества потребления.
В России это не так выражено, однако у нас эту благородную миссию превращения человека в топинамбур взяло на себя государство. Пришедшему в 90-е ему на смену рынку было несложно немного скорректировать свою стратегию для того, чтобы перехватить рычаги управления из его железных клешней и спокойно перенаправить всё в брендовое русло.
— Да, — откликнулся Гена, — поэтому и полезно путешествовать. Для того чтобы иметь возможность сравнивать образы жизни и картины мира, вколачиваемые в головы в разных странах. Находить разницу и делать далеко идущие выводы.
— Ага. Поэтому особенно интересно, как вы будете оценивать всё происходящее, когда вернетесь домой, — ухмыльнулся Артур. — Я полностью согласен: туристические зоны являются особыми регионами бытия. Это еще одна причина жить на теплом берегу. Ведь, если вдуматься, международные курорты с их интернациональной мешаниной являются на текущий момент весьма редким шансом проскользнуть в социально-экзистенциальный зазор между разными системами и выбраться из своего «загончика». Причем, шансом серьезным, закрепившимся и отвоевавшим себе относительно защищенный статус в международной правовой системе.
Артур замолчал и отхлебнул чай из стоящей перед ним кружки. Ответом ему были серьезные, готовящиеся к предстоящему испытанию, взгляды обнявшихся Гены и Маши.
Chepozz-kin’

Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
