
Бесплатный фрагмент - Белая ладья, или Рюмки-неваляшки, полные бархата
Иронические рассказы
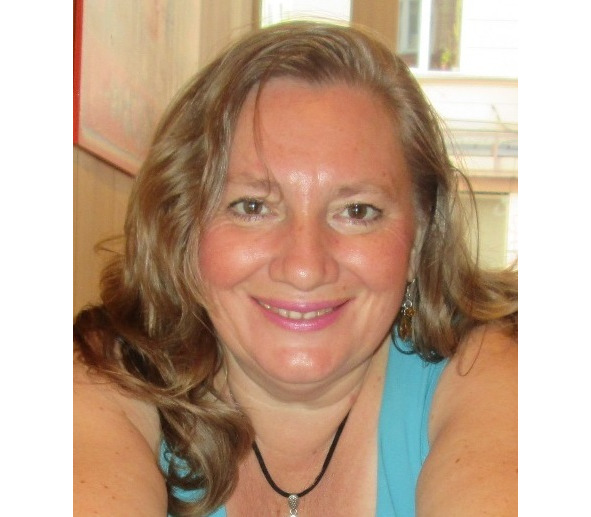
Чернитель Пятнитель
Живет и процветает в Государстве Арбузов и Кабачков некий невежа и вор, зовут его Чернитель Пятнитель, всех лгунов повелитель. Рано утром встает он с кровати, чтобы облицезреть свои владения, полачить-покрасить, где надо, подштриховать-подмалевать, где не надо, а потом и вовсе выкинуть все свои дела и воссесть на трон править. Надо же дать ему поправить как следует, а потом и тапки на стол, и корону на полку для обуви: шутник он, всё везде перепутает, а потом сидит и смеется над своими проказами.
Правит Чернитель Пятнитель весело и грубо, опрокинув с ног на голову своих подопечных в шапках из выдолбленных арбузов и кабачков, пускающихся в пляс, как только увидят своего повелителя. На головах танцевать им удается лучше, чем на ногах, ибо Чернитель Пятнитель, как увидит бездельничающего подопечного, так завязывает ноги узлом и бантиком аккурат над головой, — чтоб не повадно было время зря тратить.
— Зол ты, Святя, — говорит Чернителю Пятнителю его важный и чинный друг Постулат Памперсович. — Не следует так сердиться царю, а то в ГАКе, — так называл он Государство Арбузов и Кабачков, — урожая не будет совсем.
— А зачем нам урожай?! Восклицает Чернитель Пятнитель. — И без урожая хорошо: смотри, сколько полосатых и продолговатых по улицам шастит! Прямо карнавал геометрии!
— Да, ты гений, друг мой! — вскрикнул обрадованный находке СП его товарищ по несчастью жить в Государстве Арбузов и Кабачков и управлять этим ГАКом, облагораживая и процветая на самых смачных грядках. У нас улицы — грядки, ровные и четкие, и устроим завтра на наших улицах-грядках Карнавал Геометрии!
— Устраивай, я полежу на правом боку, а то левый совсем бел, как колчан для стрел, — успел промолвить ленивый Чернитель Пятнитель.
Подготовил Карнавал Геометрии шустрый друг Постулат Памперсович: ровно и четко прочертил грязные лужи по окаему, прилопатил взбухшие от новых вспученных пород улицы-грядки. Затем развесил везде флажки и лейки для полива, — вдруг пить кто захочет, а лейка — нате вам, — целехонька родниковой воды.
Посмотрел Чернитель Пятнитель сверху на свое государство и обомлел: а пятен нигде нет ни цветных, ни черных, — так какой же он тогда правитель ГАКа, если нет пятен!
Спускаться с балкона своей уютной ложи не стал, — полил обрывочно, со знанием дела, на все арбузы и кабачки, ни одного без пятнышка не оставил. Уселся на свой царский трон и заснул на пять минут. И снится Чернителю Пятнителю, что друг его, почти брат единокровный Постулат Памперсович, на задуманном им Фестивале Геометрии вышел ростом выше самого его, Чернителя Пятнителя- всех скоморохов победителя. Проснулся от ужаса царь Государства Арбузов и Кабачков, глядь с высоты балкона на свое государство: ходит вдоль улиц-грядок Постулат Памперсович и надевает на каждый арбуз и кабачок уютный теплый и мягкий памперс, — на каждую пипку открытую солнцу. Тянется от одного ряда грядок к другому, вытягивается, как сосиска, и не падая, вновь встает столбом, готовя из пачек, похожих на балеринские, новенький комфортный памперсочек.
— Э, друг, Постулат Памперсович, не тянись так, а то уже сильно вытянулся, размер свой потерял! — объявил с балкона в микрофон другу Чернитель Пятнитель.
— Так фестиваль же Геометрии на носу! Надо всё успеть! — громогласно отвечал ПП.
Так он вытянулся метров на двадцать, забыв предупреждения товарища и царя.
— И что мне с тобой, таким длинным, делать? — вопросил царь в глубокой задумчивости. Завяжу-ка я тебя узлом с бантиком, — ведь праздник! Будешь его украшением!
И только так сказал в своем глубоком сне, как в яме, Чернитель Пятнитель, как начался фестиваль, и все арбузы и кабачки встали на грядках, обратив лица к солнцу и салютуя Фестивалю Геометрии, царице всех наук. Пришло время пачкать их всех своими подозрениями и узурпаторскими решениями.
Снова шланг пришел бы на помощь: как еще царю дотянуться до своих подопечных и подданных! А шланга-то и нет! Звуки тревоги протрубили все пожарные Государства, сотни машин выехали на событие. С вертолетов уже спускались по веревочной лестнице спасатели, как вдруг нашелся шланг с краской.
Спасатели снова полезли назад в вертолеты, пожарные машины пустились по дорогам обратно в свои гаражи, а Чернитель Пятнитель попачкал из большого шланга перед праздником все повинные головы арбузов и кабачков.
И тут уже не помнил царь, во сне или наяву, но откуда ни возьмись, свежий и неизведанный в государстве овощ обнаружился на грядке, лежа в фиолетовых тапочках с длинными ушами. Царь присмотрелся. Никогда Чернитель Пятнитель не видал такого овоща в своем государстве! Обратился царь в свою службу поиска неопознанных субъектов Необъедков. Нашелся по табло службы этот новый выпендрёжник! По тапкам опознали таксисты: везли они его из другой страны в свой ГАК на Урожайный год, чтоб было кем порадовать своего царя, чтоб разукрасил царь их возлюбленный по фиолетовым тапкам всеми цветами радуги. Но не тут-то было: кончилась в государстве краска. Вся кончилась, ни капли не осталось. Что делать? Стали соскребать друг с друга краску все арбузы и кабачки, чтоб царю помочь. Помогли. Много краски наскребли, а царь помер: не выдержал напряжения от сразу двух событий: друг его Постулат Памперсович изменил Родине: вытянулся, подобно ужу, завязал царь его, чтоб места меньше занимал в государстве, а он взял и склеился. Теперь не развязать.
— И как же теперь с другом завязанным общаться: тоже связаться и склеиться? — так рассуждал Чернитель Пятнитель. — Ну, или закрасить его одной краской, пусть монотонно, зато объемно! Эврика! — вскрикнул запыхавшийся царь.
И оказалось, что он проснулся, а Фестиваль Геометрии уже заканчивался, и надо было вовремя вступить краской из шланга по арбузным и кабачковым головам. Успел, но сам вымазался до глаз, а как царю без глаз-то? Как увидит Чернитель Пятнитель, где краской работать, а где водой?
Так и ходит до сих пор, и ищет. Никакой экономии времени!
Богиня тщеславия
Изысканно откинув темную прядь с плеча, дама презрительно повернула головной отросток прямо, и неожиданно осклабилась. Ее губы выражали одновременно и неотвратимое презрение и сожаление, нечто похабное проскальзывало в ее лукавстве и резких жестах, ладонях ее рук, более похожих на холодное оружие, нежели на матерински нежные с пухлыми подушечками руки женщины.
Последний жест, над которым всплакнул бы режиссер Товстоногов, был наряд в цвет стула. Это была точка накала: темное бордо платья отливало отчаянием и наглостью в сочетании с такого же, цвета театральных портьер, стула, возвышающегося над плечами. Этот унизительный трон снежной королевы с примесью запаха провинциальных помоек, не иначе, был поставлен специально для офисного спектакля, с помощью которого она выразила свою карьерную прыть.
Не голословно и непременно в такт кивания головы, которую она с удовольствием бы поместила на плечо некоего орла, хваткого, игривого и готового пасть к ее ногам и смотрящего, как на пещеру Аладдина, в ее рот, изрекающий приказы высшего порядка.
— Вы идите, а я останусь! — гордо вскинула она плечи, готовая сразиться с монстром капитала. И в темно-серых, подернутых пеплом, глазах запылал восторг труда.
— Прощайте, мадам, — ловко вскинул бы фальшивыми эполетами, расшаркиваясь со снежной королевой, капитан ее гвардии, но задел рукой, несомой к виску для отдачи воинской чести, канделябры пальцев ея несогласия с его готовностью испариться из этой преисподней ее театральной гримерки, где она впаривала в мозги постулаты Проперция всем посетителям.
Но перед выходом на свежезагазованный воздух, мумифицированный ее памятью орел воскликнул вдруг в восторге единения мечты о былых страстях, исковерканных сильными мира сего:
— Клюква в сахаре, мадам!
И протянул широким жестом коробку лакомств.
Шары ея величества выкатились почти на плечи и напоминали базедову болезнь. Даме стало явно не по себе, и бесподобный вопль алкающий сладко-кислого, огласил просторы офисного склепа:
— Какая няма!
Снежная королева слегка привскочила на стуле, схватила коробку с ягодой, собранной на отечественном болоте и осахаренной в антисанитарных условиях, и припустила прыть всеядства.
«Оставалось только объять ее труп», — думал беженец, расталкивая несчастных в коридоре почетной гвардии будущих ее трупаков, ежедневно насилуемых ею бравурными мечами рекламы.
Снежная королева еще готова была толочь песок ее стеклянных речей, и долго любоваться собой издалека. Она думала о своей начитанности правилами и догмами, и о своей неотразимости в зеркалах глаз кавалера, выбранного ею для отработки щитовой рекламы на пластинке ее единственной извилины, неукоснительно следующей постулатам, высиденным в яичной кладке нового трудового кодекса. Ее беглую жертву покоробила судорожная готовность вцепиться в его личную жизнь, и волочить его за собой, подобно тройке лошадок в упряжке.
«Куда вы?..» — мелькнуло в кинематографической памяти поколений любителей синематографа.
«К морям! К морям и океанам моих слез…», — отыгрывала она сухой огонь своих слез, высохших в углах глазных впадин.
Министр ея величия разлегся, как пьяный факир в подножии сцены, и ковыряя пальцем пол рядом с креслами зрителей, тронул нос крысы, шаркающей хвостом в подполье.
Она не напугалась, играя, — привыкла, видимо, к переменам внимания ее партнера в противоположную строну. Там было венецианское стекло колец на ее пальцах. Кольца змеи из тухлого сундучка ее покоев огибали сознание жертвы и магически завораживали, напрочь лишая воли и ведя к полному беспамятству.
Воплощаясь в зрителях, дама снежной воли щекотала невидимой стенкой, отгораживаясь от призраков страсти. Натыкаясь на эту стенку, ее невольные зрители брали антракт и бежали к морям, расположенным подальше от ее окальцинированного дома души, — суть палатки над пропастью дел ради заработка и уважения, а может, страха перед нею.
Когда она снимала грим и возвращала себя кровати, мелкая дрожь хватала ее и влекла в бездну лекал, по которым она кроила людей и выносила их за скобки, подводя черту под их судьбами.
Под всеми сразу и одновременно. Только так она могла раскрепоститься и уснуть. А жертвы ее самолюбия мечтали о том, чтобы она не проснулась никогда, и тогда им не пришлось бы до резей в мочевых пузырях, засиживаться перед нею, сочиняя подарок-избавление. Когда надумывали спиртное, она резво хватала бутыль за горло, и душила несчастный пузырек ея мечт, терзаемая жаждой. Но чаще это были конфеты, и она ела их быстро и жадно, как память о любви.

«Ох, скорей бы заткнулась и отпустила», — думали жертвы богини тщеславия, а она мастерки прощупывала своим лазером ветерана трудовых боев за цивилизационный комфорт бытия, и влекла жертв в комфорт подобострастия.
Крах менеджера Стрекопытова
Менеджер Стрекопытов был полон надежд: как не позабавиться с новой менеджерицей Пухлогубовой, раз она сама так мило улыбается ему, бывалому соблазнителю и сердцееду! Вот только в ответственный момент забуксовал у Стрекопытова главный его друг и советник в исключительно всех делах. Да так забуксовал, что пришлось известному сердцееду обратиться к директору чего вы думаете? Не догадались. К директору гимназии. У нее были всегда свежие записи любовных сцен ее гимназистов, и именно директор Ивонна Стрекопытова, супруга долгомученика менеджера могла решить проблему своего достопочтимого Кряфка Стрекопытова, нарвавшегося на бойкую менеджерицу.
Пока Пухлогубова вникала в тему, Стрекопытов изучал с предельным вниманием, как это делается у тех, у кого молоко на губах не обсохло, а они — то ученые — гимназисты, делают все по интернет — советам. С ними и сам продвинешься запредельно, и супругу продвинешь, и всех товарищей по счастью быть причастным к сему недоразумению: облажаться в ответственный момент.
Больше откладывать «на потом» важное дело соблазнения менеджерицы было некуда. Когда Пухлогубова закусывала верхнюю губку левым зубом, у Стрекопытова начинались колики по всему телу, — а это верный знак того, что дела у Кряфка не плохи в нужном плане, и его верный советник и помощник на стреме ждет только свистка, чтобы пуститься в бой.
— Ну чего ты? — спросил мягко Стрекопытов, получив первый отлуп от Пухлогубовой.
— Жду зарплату, — съерничала менеджерица, пустив в действие свою убойную силу красоты: вчера она посетила салон красоты, и теперь губки ее стали клювом уточки перед захватом червячка. Этим червяком и был менеджер Стрекопытов. Он действительно почти ползал перед бухгалтером, заискивающе улыбаясь. Казалось, скажи ему бухгалтер организации «Покрякай, Стрекопытов!» — он мгновенно станет селезнем и исправно закрякает. Не упасть же в грязь лицом перед собственной супругой дома, спрашивая у нее на проезд и обед.
— Не жди, получим вместе, — плавно надвигаясь на объект, прошептал Стрекопытов.
— Как это не ждать? Разве в вашей кампании не платят? — вспылила раскрасневшаяся Марианна Пухлогубова.
Дело сильно запахло керосином. Но Кряфк Стрекопытов не зря учился у гимназистов онлайн, по видео — ролику, снятому скрытой камерой директора гимназии, премудростям сущих пустяков мгновенного и неотвратимого приближения: победа светила ему во все 32 зуба Ивонны. Победа была за ним. Ивонна задышала, будто после трех кругов бега вокруг гимназии без передышек. Губы Стрекопытова оказались в западне Пухлогубовой. Все оказалось правдой: Марианна училась в той же самой гимназии, где преподавала его супруга Ивонна. Делать длинный забег за пределы человеческого понимания не следовало, — все было ясно: сейчас уже случится картина желаемого в действительности, и все заказы фирмы перейдут от наработок новобранки Марианны Пухлогубовой к бывалому Кряфку Стрекопытову. Только не знал Кряфк, что Марианна была в пятерке лучших гимназисток по подледному плаванию, и могла такое плавание устроить кому угодно даже без погружения в воду. Маргинальное положение Марианны как менеджера даже льстило ее натуре. Равных ей не оказалось в деле подъема старшего менеджера по карьерной лестнице. А весь финт состоял в нечаянном вдруг ронянии его искрометного в осколках интеллекта по тем самым лестницам. Марианна банально напоила до потери пульса Стрекопытова, так что он уткнулся влажной, как у теленка мордой, в грудную часть ее блузки, и очнулся уткнутым не лицом, но миной в стол начальника концерна «Лютики» Чистоплюева.
Начальник Чистоплюев как раз возвращался с почти интимного совещания в интересах кампании с обезьяноподобного вида поставщиком товара, как вдруг заслышал тихий шорох в его личном кабинете. Это просыпался менеджер Стрекопытов, надежно оставленный по сильно пьяному делу менеджерицей Марианной Пухлогубовой в кабинете папеньки — начальника. Менеджер Кряфк Стрекопытов не подразумевал, что Марианна Пухлогубова — единокровная дочерь Чистоплюева в доофициальнобрачную эпоху. Тут все и раскрылось: Марианна — дочь, значит, он, старший менеджер Стрекопытов, если что, сыном начальника будет. Это ура! — победа! Теперь задача: уломать менеджерицу выдать ему ключи от ее входной сердечной двери, которую автоген его взгляда не взял без онлайн — уроков гимназистов на большой перемене.
— Всё впереди, товарищи! — спьяну рявкнул в микрофон менеджер Кряфк Стрекопытов.
Что именно и у кого впереди — продолжения не последовало.
Микрофон был подключен к онлайн — связи со всеми офисами концерна, включая зарубежные.
Не ждал — не гадал Стрекопытов, что окажется в начале пути как раз в финальной стадии его личного продвижения по карьерной лестнице. Употреблять на территории концерна запрещалось руководством. Дочка Чистоплюева виртуально не промахнулась по его физиономии.
Прогуливаясь теперь за стеклом входных дверей в офис, Кряфк Стрекопытов вдруг вспомнил, как в далеко ушедших годах взросления его дочек Ивонна попросила его посмотреть уздечку под языком ребенка. Сделала Ивонна это следующим образом: сидя за тронным своим столиком с косметикой и парфюмерией, супруга Стрекопытова прислушалась к речи маленькой Евы, и решила, что у малышки короткая уздечка под язычком.
— Кряфк! — раздался неприятно резкий фальцет Ивонны. — Кряфк, иди слушай меня!
Стрекопытов был не то чтобы спящим, но почивающим, поэтому решил, что супруга играет с малышками Евой и Марианой в уточек.
«Что это она там раскрякалась? — подумал Стрекопытов. На работе его всегда звали по фамилии, так что он давно уже перестал ощущать свое имя фонетически. Теперь, от вопля Ивонны он так его ощутил, что чуть с дивана не рухнул к ногам приближающейся главы матриархального семейства.
— Ты с Евой играешь в уточек на озере? — спросил Стрекопытов униженно и немного развязно.
— Я тебя зову, увалень ты мой! — взревела Ивонна.
— А почему ты крякала в своей спальне?
— Это по телевизору показывали брачный период диких птиц, — съязвила Ивонна. Так, хватит шуток, ты знаешь, что у Евы короткая уздечка под языком?
— Зачем девочка взяла в зубы уздечку? Зачем ты ей позволяешь это делать? А потом ты скажешь, что у ребенка стоматит, — будто виновато молвил Стрекопытов.
— Да не брала Ева уздечку в зубы, это у нее под языком короткая уздечка, вот гляди, что такое уздечка под языком.
Ивонна открыла свой рот и подняла язык.
— Так ты похожа на скорпиона, — пошутил Стрекопытов, забыв, кто в семье шутит первым, давая тем самым знак послабления жестких порядков сохранения дистанции.
— Кряфк! — заорала Ивонна.
Кряфк решил быстро исправиться и спросил:
— А зачем Еве подрезать уздечку, чтобы она могла почесать за ухом своим языком?
— Нет, ты неисправимый бездельник! Мы с тобой должны дать ребенку всё для счастья в будущем. Ребенок должен говорить чисто. Речь Евы должна звучать приятно.
Тут Ивонну пробила волна негасимого морализаторства, и Кряфк чуть не уснул.
— Ленивца, висящего вниз головой на ветке, быстрее поднимешь к пониманию, чем собственного мужа!
Ивонна удалялась по коридору в комнату Евы.
«Я никогда не стану человеком в этом зоопарке», — подумал Стрекопытов и пошел за учебники.
Стрекопытов всегда путал своих близнецов: кто из них Ева, кто Марианна, различал только стоматолог его супруги Ивонны.

Рассказ о подарколюбце
У меня есть несостоятельный любовник, и мы так сильно дружим — прямо падаем друг другу в объятья при встрече, когда я получаю зарплату. Хотя Восхотьевич хватает меня на руки и кружит, и кружит, пока не упадет на диван со мной в объятьях. Интересно складывается у нас вденьзарплатный диалог: вначале спросит сумму, затем «дай убедиться!», говорит. Не во мне убедиться — в деньгах. Убеждается мгновенно, плавно и неотвратимо отбирая эти вожделенные бумажки, да так, что кончики моих пальцев оказываются в ловких и жестких его щупальцах. Хотя Восхотьевич не осьминог, но хватка осьминожья выработалась у него в результате безработицы в стране.
Повешает лапшички освежеванной по местам боевой славы, тут и там, везде, где его потчивают денежками — и был таков! Умелец!
А лопоухие дамочки вздыхают не о деньгах, нет! О высокопоставленной челюсти, которой Хотя в азарте способен загрести даже несъедобные бумаженции. Очень эта челюсть им нравится, ибо почти все его дамочки стоматологи и зубопротезницы. А какие они проказницы! Ловко подгребают к Хоте прямо в самый дальний от его личной, хотевосхотьевской, зарплате, и нате вам! Забирают его к себе со всеми оставшимися зубками. Хотя успевает только после аудиенции с тетенькой — стоматологиней зубками клацнуть желтыми своими, прокуренными, и довершить интимный разговор привычной для всех фразой:
— Жене бы подарок какой — нибудь… А то она одна ждет, волнуется.
Дамы вскидывают брови так, что чуть ли не глотают свои зубы от неожиданности. «Ишь чего захотел! — думают. Подарки мы сами любим! Ждем и мы, беспокоимся!»
А вслух произносят:
— Хотя, ой какой ты Восхотьевич! Какой ты ловкий малый, подарки гребешь лопатами, и никому не оставишь! Ты же, осьминожья твоя хватка, хоть раз видел, как эти деньги на подарки жизни мы зарабатываем?
Решили дамы — стоматологини проучить Хотю.
Пригласили его в аппартаменты, дескать, за подарками и предложили заслужить эти подарки.
— Вот, Хотя Восхотьевич, поставь — ка ты зубки деду вот этому, что в кресле восседает. Не всё ему восседать, надо же и тебе заиметь царское кресло. Поставишь ему зубы — и будешь, как царь сидеть удобно и шутить с нами.
Призадумался Хотя: получать подарки и сидеть в удобном кресле так вольготно: сразу пробуждается интерес к жизни! Но как зубы вставлять, Хотя не знал. Ему же в дипломе только за первые 15 предметов, сданных на «отлично», расписался ректор. Не даром Хотя окучивал грядки в его усадьбе! А как Хотя лопал там землянику — аж сам ректор изумлялся: греб прямо охапкой в огромный рот.
— Не от крокодила ли ты родился, Хотя? — спрашивал ректор.
— Сумка и кошелек только из крокодильей кожи может решить этот вопрос, — отвечал Хотя, слегка помедлив с ответом и сказав эдак, с расстановочкой, свою коронную фразу вымогательства.
Спорить с Хотей ректор не стал, но предложил ему попреподавать слегка в пятидесятиградусную жару в непроветриваемом помещении. Хотя Восхотьевич согласился. Итак, в назначенный день состыковались «воздушный корабль» по имени Хотя Восхотьевич и его «инопланетяне» — студенты. Дабы не смущать подарколюбивца, ректор скрылся в неизвестном направлении на пару лекций в другом корпусе вуза. Вернувшись, ректор обнаружил студентов за кафедрой, столпившихся над умирающим
Хотей.
— Мы подарили ему песню, — выговаривая слова сквозь слезы, шептала староста группы. И он огорчился, что нечего взять супруге, а мы… так старались…
Крупные габардиновые слезы текли по щекам студентов. Кроме занавески, которую Хотя не успел снять вместе с гардинами в подарок жене, подтираться было нечем. Все подходили к занавеске утирать слезы, пот и втихаря, сморкаться.
— Да, мы даже в припеве слова разные сочинили, без повторений.
Долго еще плакали бы студенты над умирающим Хотей, но вбежала тут в аудиторию хотьевская супруга с воплем «Украли подарки!».
Хотя резко вскинул брови и вскочил с рук первокурсников, решив попреподавать за ректора у старшекурсников, чтобы отработать неизвестно кем украденные его подарки. Ректор узнал об этом из сбивчивой хотиной фразы, брошенной в коридоре вуза. Из нее следовала морзянка зубов верхних о нижние: «Нам без подарков не прожить! Бегу к старшим. Всё проведу, мне скачали на телефон. Ты пока посиди за меня в кресле стоматолога».
Ректор не ослышался. Его ожидал эшафот, ибо лечить — и тем более ставить зубы — он не умел, в чем признался себе откровенно.

Королева при Совете министров
Королева напрягла было горло, чтобы заорать на своего придворного шута, но вместо нее подал голос попугай Ея Величества, обнаглев до уровня сокола, которого ежедневно выгуливал на охоте Сокольничий. В дикой спешке, дабы успеть к столу заседаний при Совете министров, Королева набрасывала речь этим старым ослам Ея Величества, глупым министрам и их «поддавалам». Такое прозвище они получили вследствие жары, образовывающейся на заседаниях, так что зал заседаний становится похож на парную баню, а причины заседаний — отчеты министров, значит, министры и есть «поддавалы» пара в бане. Надо же Ея Величеству обеспечить себе славную жизнь, не прозябать же в обносках. А кому Она покажет свои наряды, если не Совету министров? Не перед нищими же вышагивать чинно в парче и шелках?!
Королева поправила изящное опахало, свою горжетку, и продолжала в мыслях воспитывать и попугая и шута, доросшего в придворной карьере до главного министра смехостроения.
По залу в тот момент крался самец пумы, Пуммейстер, существующий при дворе для наведения тихого порядка, чтобы мягче выдавались приказы и тише озвучивались претензии. Пуммейстеру надо было узнать, во сколько на заседании подавать яства и когда их убирать. Это были обязанности придворной кухни и организационной работы кухмейстеров, но Первый стряпчий был уволен за хамство при дворе (он был неделикатен с Пуммейстером), и теперь занимался исключительно курицами и перепелками, телятинкой, говядинкой, рыбкой. Картофелем и крупами был увлечен Второй Стряпчий, и кому было заняться организационной работой, как не Пуммейстеру? Только он мог тихо подойти и деликатно расспросить Королеву о планах.
Что при дворе составлялось кропотливо и празднично, так это планы, ибо План — мастер не мог передать свои обязанности ни одному шуту гороховому, ни министру смехостроения, ни придворным дамам без покрышек, ни гадальным курицам, по яйцам которых колдуны гадали о погоде. Гадали с непременно серьезными минами на лицах: разобьется при укладке пьяным подручным из корзины курятника в кухонную корзину — значит, ожидаются осадки, — будет дождь, снег, ледяная крупа и всё, что бывает в средней полосе царства — государства. Главное в гадании — серьезное выражение лица, даже если это лицо более похоже на послеродовое яйцо в опилках.
Придворный шут тем временем обмывал свои погоны с королем, и по состоянию на момент подачи жалобы в его адрес, мужем Ея величества. Король был как обычный король с шахматным полем придворных на своей полосе дома. Каждый придворный был штатной единицей и служил только королю и ни одной курице в курятнике Ея Величества. Курицами король называл всех фрейлин и иных придворных дам, а королевство — куриным царством, ибо вставали все с петушиным криком Королевы, просыпающейся и потягивающейся на ложе с необычными звуками, напоминающими кукареканье.
Попугай Ея Величества любил резаться в картишки и приговаривать фрейлинам, кто какая дама его сердца на сегодня.
На сегодня Пиковой Дамой сердца попугая Ея Величества значилась тощая экономка, перешедшая на женскую половину по рекомендации придворного палача, так как все, что мог, он ей уже отрубил, начиная от языка и кончая когтевидными пластинами на пальцах, более напоминающими картины в Эрмитаже, нежели просто когти тощей экономки.
Червовой Дамой сердца попугая Ея Величества значилась на сегодня маркиза Всехвместедур, двоюродная сестра королевы. Родственникам обычно при дворе выделялось место в нижней части королевства на правах бессребренников, ухаживающих за садом, огородом и травами для скота Ея Величества.
Крестовой Дамой сердца попугая Ея Величества стала с самого утра жена виночерпия Магдамута. Магдамута была дочерью виноградаря и потомственного земледельца, проникшего во двор с куриным пометом для лечения странных болезней Королевы. Болезни наплывали на Королеву во время заинтересованности Ея величеством короля или Старого Осла, — такой титул был уготован королю от Ея Величества Анны Магдалены Пух, Королевы Бенгальской. Болезни, наплывающие время от времени на Ея здоровую голову, доставшуюся вместе с короной Королеве от матушки, королевствующей всю свою праведную жизнь в войнах достославно и радостно, можно считать несерьезными, ибо они проходили сразу же, как только начиналась военная заварушка.
Пиковой Дамой сердца попугая Ея Величества стала королевская повитуха, хранящая все интимные тайны двора. В этих тайнах разбираться было сложно, ибо половина двора были незаконнорожденными детьми короля и королевы — матушки, и королевская повитуха хранила тайны, кто от кого был рожден и во имя чего. В то время рождение детей связывали с каким — либо государственным праздником и называли по месяцам: Майя — рожденная в мае, это имя могла принадлежать и девочке и мальчику, только мужское имя звучало как Май. Июньские и июльские дети назывались Юлиями, Августовские — Августами и Августинами, Сентябрьские — Сентябрин и Сентябрина, по аналогии назвали и октябрьских и ноябрьских детей, и всех других, а когда родились на целый год вперед по всем именам, стали присваивать фамилии по зимним месяцам: Декабрьский, Январский и так далее. Когда закончились названия всех месяцев и по именам и по фамилиям, начали применять названия годов и знаков зодиака. То — то была забава длинными зимними вечерами отгадывать, как имя дочери королевы от Пуммейстера или сына короля и главной гадалки государства. Так и проживало всё царство, почитая главную повитуху, а она всё тщательно записывала в свою кожаную тетрадь, с которой беседовала коротко и ясно, ибо особенно беседовать ей было не с кем: никто не желал попасть на эшафот после душещипательной беседы с королевской повитухой, непременно охраняемой стражами порядка.
Неделикатно изъявив желание подать голос на своего придворного шута, Королева оторвала от дела попугая Ея Величества, выщипывающего холку кавалергарду при дворе, ибо заросла оная ковылем да репьем. Попугай не любил, когда его отрывают от важных дел, и рявкнул что есть силы на Королеву, забыв тактику поведения, которой обучался у Пуммейстера. Пуммейстер за это оказался уволенным и копал грядки когтями, вырывая клубни будущих цветов, бросаясь ими в окна Королевы. Ея Величество думало, что это с ней так заигрывает Садовод Ягодкин, который в тот момент выводил для Ея Величества новый сорт смородины размером с арбуз каждая ягодка, — сплошной витамин Ц.
Раскрасневшаяся Королева устала отказывать своему садоводу, и решительно шагнула к окну, но увидела в саду всего лишь уволенного Пуммейстера.
— Что Вы здесь делаете? — удивленно вскинула брови и ресницы вслед за бровями Королева, так что и брови и ресницы упали на подоконник.
Сразу же был уволен придворный парикмахер. Кадровый Шумахер действовал безотлагательно и выполнял свои функции в соответствии с уставом королевства. И этим лишился карьеры. Все дело в клее: Шумахер разбавил его… не скажу, чем, неэтично. Объем клея в пузырьке для макияжа Ея Величества должен был превышать нарисованную полоску на три миллиметра с половиной — и только так. Такова была воля королевы.
После текущих событий Королева готова была выслушать ответ уволенного Пуммейстера.
— Я здесь сочиняю план бездействия, Ваше Величество, — отвечал распыхтевшийся Пуммейстер, хранитель тишины и спокойствия государства.
— А по чьему приказу Вы здесь…
Королева замялась, ибо не знала, как обозначить действия уволенного Пуммейстера.
— По собственному желанию, — отвечал уволенный Пуммейстер Королеве, не дождавшись, когда к Ней подбежит советник по русскому языку Русопят Белокопытцев.
— А кто тебе дал собственное желание здесь, при дворе? — не унималась Королева, разминая свой язык перед заседанием Совета своих глупых министров.
— А я с ним родился, — отвечал Пуммейстер покорно.
Тут настал час открытия заседания, и Королева прошествовала в залу, где уже были расставлены свечи, выплавленные из старых огарков экономистом и серпухом Ея величества.
Так Пуммейстера «пронесло». Ему было назначено жалование как главному игруну, стимулирующему процесс заживления задушевных ран Королевы. Пуммейстер получил ранг при дворе, статус начальника государственного зоопарка Ея Величества и звание директора мясокомбината по совместительству, поскольку зоопарк располагался неподалеку от мясокомбината, и провинившиеся попадали во Дворец королевского семейства на аудиенцию только в виде колбасы на стол Королевы.

В персиковом аду
«Плохой я человек, меня убивать пора», — думал Унций Стремнович в тенистых ветвях персикового ада. Ада, а не сада, потому как не ел он сам персиков, и даже цвет оранжевый не любил, а любил только одно: деньги тратить без оглядки на бедность. Душевно богат был Унций Стремнович, оттого не задерживались у него деньги надолго.
Дали Унцию денег аж 72 тысячи 675 и сказали, что на полгода хватит, а он их за полмесяца истратил.
— Гад ты такой! Персиковая твоя голова! — кричала на Унция Стремновича его супруга Лыжа Сквововна. И на кой ты свалился на мою шею, персиковая твоя голова, да не думаешь ты ею, Унций. По что ты все деньги истратил, гад?!
А голова у ее мужа и правда была персиковая! Светло — рыжая курчавость нежным бархатом расстилалась от макушки вниз по всей голове Унция Стремновича. И далее мелкими колечками по плечам и спине. Не носил Унций на плечах погон, потому как не было у него воинского звания и призвания быть военным, зато колечками персикового цвета устланную спину его так любила его супруга, что защищала всегда своего мужа, даже когда он был неправ. У супруги его Лыжи Сквововны была изначально воинственная выправка. Сполна несла она в своем худеньком тельце и ответственность, и командирский тон выкрика воинственного, точно петух ранним утром, и чего только не несла, но только женственности в ней не было, о чем горевал порой супруг ее длинными зимними вечерам под лампой прямого накала. А где еще быть вечером, если не дома, зимой?! Летом другое дело, выйти погулять сам Бог велел. Вот только люди кругом, лишают комфорта. Мешают они, мучают глупостью своей несусветной. Орут рядом со спящим или едва задремавшим на солнышке Унцием Стремновичем. Доказывают друг другу, кто глупее, соревнуются в невежестве.
— Унций — Унций, да кто ж летом на улице спит, горе ты мое луковое, — восклицала Лыжа Сквововна над спящим супругом, найдя мужа на лавке в скверике.
Ревнива была Лыжа, а вдруг к любимой его персиковой спине приникнет кто? Будет колечками играть, на пальчики тонкие наматывать, да гадать: любит — не любит?
— Не надо, Лыжа, не тронь меня, — причамкивал сквозь сон Унций. Судьба моя такая горемычная, быть твоим котиком, Лыжа моя.
И тут начиналась игра двух престарелых супружников, с юности женатых и давно насытившихся всякими играми. Что ни говори, к старости ближе смех берёт над молодыми: уж любятся — милуются, а детей родят — так и врозь. Торсами своими упитанными встанут против себя самих — и ругаться!.. Слабы характером. Избалованы родителями. Не готовы к борьбе, труду и обороне от сложностей, придуманных такими же полуспящими — полуработающими, вечно нуждающимися в подмоге финансовой, верховными главнокомандующими деятелями собственной семьи.
— Да вы подождите разводиться, потерпите. Стерпится — слюбится, что было плохого — забудется, — припевала Лыжа Сквововна над своими племянниками.
У самих Головаревых детей не было, а племянникам от них советов перепадало. Но так надоели эти два крахобора своим племянникам, что выдвинули они требование к Головаревым: платить им за каждый выслушанный совет. Ничего другого придумать они не могли, так и сказали, платите, мол, нам за то, что мы слушаем вас, а будем или нет выполнять — это наше дело, потому как наша жизнь, и в аренду мы вам ее не сдадим!
Поначалу показалась идея племянников слишком наглой, но подумали Головаревы, и решили: нет у нас детей, так хоть племянникам поможем определиться в жизни.
— Лыженька, я могу стать полезным этим пройдохам, и ты. Моя лапонька! Мы станем хорошими людьми, если эти пройдохи покажутся умными и воспитанными соседям и всем, кто знает нас, и наши имена припомнят с уважением.
Стали платить Головаревы своим толстозадым племянникам за каждый свой высказанный им в разговоре совет. Деньги кончились вместе с советами. Осталось у Лыжи Сквововны одно только пожелание для племянников: начитавшись на ночь Пушкина, не идти в скверик на лавочку, а то уснуть недолго, а уснув, можно и без денег остаться. И читая стихи Пушкина Александра Сергеевича, надо не впадать в истеризм православия, где поэт уподобясь пророку, высказывает, как надо распорядиться деньгами, чтоб стать святым. Так Лыжа решила реабилитировать своего супруга в своих глазах, чтобы думать, что не потратил он свои деньги, аж 72 тысячи 675, а вынули у него, у спящего, прабандиты ушлые. Только рот открыла дать совет бесплатно, а племянники чихнули оба разом, попала в дыхательные пути Лыже Сквововны их мокрота, и задыхаться стала супруга Унция Стремновича.
— Лыжа моя ненаглядная! Прости ты меня грешного, супруга твоего Унция, — причитал над задыхающейся женой персиковый муж. — Я стану есть персики и ухаживать за деревьями в нашем саду еще лучше, никогда больше не пойду в парк на лавочку, если ты зовешь подрезать иссохшую ветку — подрежу. Не покидай меня, Лыжа моя любимая.
И упал от сердечного приступа.
— Там, под лавкой в саду…, — начал было свое предсмертное завещание Унций, но племянники перебили:
— Лежат не потраченные наши деньги!
— Да, мальчики. Деньги ваши. Советов не будет.
Свист разбойничий раздался, или это Соловей — Разбойник из сказки вернулся в персиковый мир Головаревых, но свистело в воздухе, пока Лыжа держала руку Унция в своей, прижимая ее к груди и поливая горькими слезами память об их светлой любви.
Племянников след простыл. Может, звук исходил от улетающих денег, но вполне возможно, этот звук возник от улепетывающих пулей двух племянников Головаревых.
Прощаясь с жизнью, бежал Унций в мыслях, и махал флажками, что в обеих руках застарелого растратчика мелькали, подобно бабочкам — капустницам, извещая о себе для недоброжелателей, не желающих заметить Унция и принять за существо, а не сущность. Сущностью звала его Лыжа за свои безнадежные попытки снять супруга с дивана и повести на достойные не мальчика, но мужа, заработки. Унций же не упирался, но едва жена, успокоенная начальством, удалялась в огород, муж улепетывал, только пятки сверкали, на ближайшую лавку в парке думать о вечном.
В вершинах парковых деревьев блуждал длинный вопль истошной радости: это племянники Головаревых праздновали победу. На что, вы думаете, потратили племянники денежки, припрятанные Унцием от Лыжи? На газонокосилку! Вырубили персиковый сад, едва схоронили супругов верных, и устроили себе площадь Свободы.
Из светлой жизни Унция и Лыжи
Унций никак не мог найти подешевше платья для супруги.
— Ну, ты хоть трусы купи мне, муженек!
Унции почесал в затылке и пошел снять с веревки у соседей трусы для Лыжи.
— Купил, примерь, дорогая! Ну, вот сюда ножку, любимая моя! — Лыжа послушно ступила ногой в заготовленное Унцием лассо для их будущей любовной игры. — Теперь сюда, милая! Прекрасно! Не губи свой интеллект слишком большими мечтаниями! — Унций стал медленно целовать ногу Лыжи, двигаясь выше от колена к животу.
— Негодник!.. — пошутила было Лыжа. — В мечтах моих, конечно, было платьице, — многозначительно протянула супруга Унция Стремновича, слегка сопротивляясь для приличия. — Ну что с тобой делать, не на дуэль же с соседом посылать! — воскликнула Лыжа, крутя на указательном пальце веерок из длинных белых перышек.
— Лыжа, дарую тебе эти трусики, дабы ты носила их с почетом и уважением ко мне, твоему верному слуге, — торжественно произнес Унций, искоса поглядывая на супругу и дойдя в поцелуях почти до груди.
Тут раздался треск: в окно лез сосед, воодушевившись игрой Унция и Лыжи. Матадор Игнатьевич уронил с подоконника вазу с цветами и дико извинялся, держась за штаны.
— Ах! — вскрикнула Лыжа наигранно, ибо Матадор стал ее в девятом классе их совместной учебы в школе. И тихо Унцию: — Что делает здесь этот мерзавец? Я трепещу по тебе, Унций! Уйми негодяя, пока я не легла с ним вместо тебя. Он уже тянет свою мохнатую лапу к моей подушке.
Кровать супругов с широкоформатным матрасом стояла неподалеку от окна, так что пока отдыхала в своих апартаментах жена Матадора Игнатьевича, он решил вступить в диалог с соседями на их жилплощади.
Унций, не решительный и стыдливый, встал, подобно горному оленю в схватке с противником на защиту своего лютика, доброй и ласковой Лыжи Сквововны, умиляясь ею с натуры.
Лыжа от счастья раскраснелась, принимая подарок мужа, а тут отступила, ожидая в тот момент чего угодно, но не вторжения Матадора. Лыжа поняла, что сказочки конец, и решила напоить обоих дураков и пойти проверить, у их ли соседей муж стянул для нее труселя. Ускользнув за веселящим напитком, Лыжа выставила огромный кувшин на стол и сделала ход дамкой: ушла «попудрить носик», оставив кувшин на столе перед своими кавалерами и бросив небрежно: «Дайте отдохнуть своим желудкам, друзья мои! Так перенапрягать свой организм негуманно!»
Далее Лыжа Сквововна покрутилась возле соседской дачи, поподглядывала в щель их тубзика, — никого. Подумала: «Наверное, соседка пошла в магазин за трусами, пока она ходит, пошлю мужа за платьем».
Во дворе на веревке висел так себе сарафанчик с жар — птицами на подоле, и по всему подолу эти чудо — птицы хвосты веерные свои распушили. Вернувшись домой, Лыжа обнаружила двух спящих мавров. Наутро оказалось, что одного из них уже нет, а именно Матадора, и Лыжа, перекрестившись, продолжала разговор, выкинув попавшего под бок плюшевого медведя из окна.
— Унций, к трусам — то надо бы и платьишко! Я у няньки Матвеевых видела такое, с жар — птицами на подоле. Купи мне такое же! Ну, персик ты мой ненаглядный!.. — загадочно вскидывая брови, продолжала игру Лыжа, приближаясь к Унцию, подобно сиамской кошке во время брачного периода.
— На веревке во дворе висит? — быстро спросил было Унций, отступая на шаг назад, ибо Лыжа во время таких шуток внезапно, не желая зла «своему пупсику», может наступить на мозоль.
— М — да! — воскликнула Лыжа, в мыслях утопая в цветах от своего возлюбленного.
Стырил Унций у соседки и платье, в кармане которого нашел записку: «Ах ты мерзавец! Положи на место мой сарафан и верни мои же трусы. Твоей толстопопой Лыже они не в пору. Вернешь — научу тебя главной песне жар — птицы».
Унций любил поразвлечься с соседкой, потому снял с веревки платьишко во дворе Матвеевых как бы напрокат.
Подошел вечер.
— Ах, ты моя ненаглядная Лыженька! Дай — ка я на тебя, на умницу, посмотрю, да одену тебя, мою умничку! Восклицал Унций в воодушевлении.
— Унций, мой пупсик! — бросилась навстречу мужу Лыжа, вернувшись с моря, где подрабатывала, заплетая множество длинных косичек в несколько рядов приезжим.
— Вот так, бедрышко мое великолепное, вот, плечики, — отлично! Поедем гулять подальше, на набережную, а то Матвеевы неровен час, приедут с работы. Знаю я их: не ждешь, а являются, как снег на голову.
— Унций! Ты мой ненаглядный! Раскраснелся как, старался, мой лапочка! — Лыжа, не зная, как еще выразить свою преданность мужу, потрепала его по бритой щеке.
Рука ее скользнула от щеки поперек плеча мужа, и по инерции прошла вдоль его нагрудного кармана, где лежала записка соседки. Унций похолодел спиной и грудью одновременно. Рука Лыжи интуитивно почувствовала подвох, и потянулась к карману Унция. Челюсть Унция отворилась и нервно застучала зубами о ковер, пригнувшись, Унций чувствовал себя в безопасности, зная, что коврик почищен супругой утром. На полу лежала увесистая скалка, которую уронил Матадор Игнатьевич, пролезая в гостеприимное окно соседей.

Пятнадцать дверей к мечте
Была у Скрызя материализованная мечта: т — СС… …жемчужина. Он и жениться не хотел: хранил ее белоснежность в светло — голубой коробке, где для жемчужины имелось плюшевое ложе, — углубление на вертикальном возвышении. Коробка хранилась в специальном сейфе, и вынималась в минуты возвышенного откровения. Скрызь, гардеробщик театра, яростно трепетал при открывании всех дверей, ведущих его существо к жемчужине. Дверей было пятнадцать: первая — из его кабинета в театре. Вторая — из театра на улицу, третья — в автобус, четвертая — из автобуса. Пятая — в подъезд собственного дома, шестая — в квартиру соседки, любовницы Скрызя, Мириамм Матвеевны, седьмая — в комнату их утех. Далее следовала получасовая пауза, после которой восьмая дверь — это сейф в ванной Мириамм Матвеевны, — взять ключ от своего сейфа в ее сейфе. Мужу Мириамм сказала, что это ключ от стола ее подруги, которая хранит письма ее юности. Далее — девятая дверь — на выход из квартиры Мириамм. Если муж любовницы уже вошел в подъезд к моменту выхода Скрызя из их квартиры, то еще прибавляются две двери: на чердак и с чердака. Десятая дверь — это входная в квартиру Скрызя. Одиннадцатая — в туалет, двенадцатая — из туалета — налево — в «кабинет министров». Как высокочтимо называет Скрызь свою комнату для размышлений и писанины, где расположен сейф за картиной. Тринадцатая — дверь в сам сейф. В сейфе имеется еще одна дверка вверху — на «чердачек» сейфа. Четырнадцатая — дверь в шкатулку с голубой коробкой. Наконец, пятнадцатая дверь — это сама коробка светло — голубого цвета, выраженная мастером изящно — карикатурно в виде комода.
Открывал Скрызь эти пятнадцать дверей эмоционально, и чем ближе к мечте, то есть, к жемчужине, тем эмоциональное крещендо было колоритнее. Закрывал эти двери Скрызь так же трепетно, но в режиме диминуэндо. А сам процесс наслаждения мечтой, — жемчужиной, для Скрызя проходил торжественно, с шампанским и устрицами. Открывая устрицы, он открывал сердце своей мечты — романтичной дамы его уставшего от ожиданий сердца.
А как он на эту жемчужину копил! В сказках не скажешь, как.
Скрызь отказывал себе в сладком, чревовещая: «Дайте отдохнуть своим желудкам, друзья мои! Так перенапрягать свой организм негуманно!».
14 — 15 июля 2022

Куклы из ящика тёти Пани
Ящик — тети Пани, — такое простонародное имя дал героине народ — заколочен и покрыт скатертью, но диктор объявляет о смерти великой актрисы Пандоры Мстиславской такой дежурной фразой, что примадонна вскакивает в ярости с одра и бежит честно зарабатывать свой кусман торта в другое тоталитарное государство. Эмигрантка и примадонна, Пандора берёт псевдоним Сморода Малинкина, и выступает на главной площади города во дворце, выстроенном по её проекту под ларец. Едва успела диктор телевидения закончить фразу о кончине тёти Пани, протарахтев пулеметом всё, что ей накропал подпольный обожатель и вертихвост Лапушкин, как Пандору Мстиславскую уже провожали в аэропорту, оскорбленную, непонятую и преданную не народом, нет! — Государством, не понявшим её тонкости и предвосхищения любви к Родине. «Неблагодарные!», — твердила про себя Пандора Феофановна, пока диктор слизывала белый крем пирожного после передачи новостей. Да, что вы думаете: в цивилизованной стране отчество женщины значилось по имени ее супруга. Отец — в истории государства значился отпетым мошенником, а дочь, вот, пошла дальше — до границы отчаяния Пандора играла роли в театре конной армии. Конармейский театр стоял посреди площади, той, что на обложке книги, которую читатель принял за игровое поле для шахмат. Короли и кони в жизни — фигуры не настолько второстепенные, чем люди в Апельсиновграде. За доброго ферзя можно выиграть в споре сотни миллиардов ярдов земли для шахматного поля, где слон — в натуральную величину, и ест он всеми буквами алфавита по очереди.
Народ спал. Сморода Малинкина получала комплименты от мужа. Феофан Рэк в шерстяной кофте и рубашке с отложным воротником под ней (кофтой, но там ещё водится пара маек, — на случай отморожения сердца) имитировал секс с женой.
«Я не импотент! И не седой!» — верещал Фефа, любимец публики и Смороды.
«Конечно!» загадочно пылила в мозги разбушевавшаяся Сморода.
Феофан напоминал всадника с огромной саблей, — и одним ловким движением ветки — руки Сморода сбрасывает лёгкое платье перед своим рыцарем в шерстяных доспехах. Сабля уменьшилась в размерах. Феофан лёг на холодную простыню — это послужило падению авторитета. Выпестованный мамашей-одиночкой Мамзель Премудровной и воскресным папой Фонтаном Отверткиным, Феофан всегда страдал от холода.
«Мужское достоинство не в сабле!» — утверждал Фефа, и его благодушно поддерживала огорчённая жена. Смороде и самой секс в кофте казался чем-то неприличным, и она тепло трепала за ушком своего котеночка Фефу. Кроме раздражения секс не вызывал у Смороды ничего. Кофты менялись: то светло-серая, то свитер — это по-мужски: синий свитер в оргазме калейдоскопа треугольничков и ромбиков. Явно по-мужски! А то вдруг школьный кардиган Фефы — десятиклассника в странно — полусотенно — летнем возрасте! Экономка сохранила, слава ей и почет!
По телевизору прозорливо мелькнула спасительная реклама с четким мачо. Вот маскулатура! Что надо! Мозг Смороды выключил Фефу из розетки, и его дружеская душеспасительная лейка в беседке для свиданий запищала о плохом государстве. Тем временем «плохое» государство заботилось о юном поколении, устраивая забег внутригородской универсиады в каждом городе и поселке типа Апельсиновграда. Для Смороды писк Фефы значил не больше треска дрозда в саду. Постучал клювом в поиске насекомого, шуршащего под корой — сглотнул голодную слезу, постучал в другом месте — под веткой — и был таков! Под корой Смороды, по мнению Феофана, водились насекомые съедобные, вот он и пользовался её временем для упражнений в мужественности. Герой! Шелкопёр! Смарагдовые плечи Смороды мерещились ему в тумане лженауки о происхождении золота из песка, да что из песка — из… но об этом умолчу. За песком Фефа ездит в соседнюю пустыню.
На стене квартиры Малинкиной и Рэка висел бык с бабой на спине кисти раннего Фефы Рэка, в нежном возрасте выписанном китайской акварелью. Быком или бабой себя чувствовал Феофан в момент ежегодного рассмотрения шедевра, но владел точными лженауками он лучше, чем практикой секса. Сморода это знала, и предлагала после внеочередной некомфортной постельной среды журнал «Эрудит» или высокие столбики семейного бюджета, аккуратно выстроенные — на листе в цвет рубашки Фефы с отложным воротничком поверх теплой кофты. Потом столбики бюджета стали занимать скромную общую тетрадь в 95 листов. Именно в 95, потому что первый лист назначался под эпиграф тетради, но о нем умолчу.
— Почти микрорайон! — воскликнул Феофан Рэк, пружинисто поднимаясь с кресла всезнайки и принимая из легких рук Смороды проект семейного благополучия, в котором цифры гнездились в поэтических столбцах и напоминали высотные дома.
Малинкина так стимулировала потенцию супруга.
«Вдруг сабля поднимется, если он увидит высокий длинный столбик на листе бумаги?» — думала бывшая примадонна, вспоминая в призрачных снах о великой Родине аплодирующую публику и кремово-цветочный антракт.
Поскольку многоэтажек в микрорайоне множество — столбцов цифр, выписанных цветными стержнями каллиграфическим почерком Смороды — столько же! Пыряй, Феофан от зари до зари, не вынимая сабли из ножен! Сморода «строит» новые «микрорайоны» и не перебивает мужа в его страстных речах о молодости духа и отличной физической подготовке.
Катался на картинге Феофан действительно отлично: прямо и по кругу, заученными движениями надев каску. Напяливая шлем на голову, супруг напоминал Малинкиной гладиатора. Да, погладить он умел. Гладил задницы всем от администратора проектного бюро до генеральных поставщиц, оттого и вышел на первое почётное место по слухам о маниакальной любви к женщинам вообще, всем без исключения.
Смороде завидовали все подруги, сослуживцы, соседки и даже их мужья и знакомые: ну-ка, такой бравый малый да ее муж!
Веселая семейка трудилась в струях лица ради трона на гладиаторских боях для двух их статных фигур. Бои устраивались в центре садового парка перед виллой проживания, куда занесло Смороду, почти вилами Нептуна, самолюбие и тщеславие, а Феофана Рэка — любовь к лести, которою обволакивала его Малинкина. Это был самый длительный брак — пакт в Апельсиновграде с мармеладными диванами в каждой избушке на каждом русском евроэтаже и в каждой комнате с камином, — надо же где-то супругам любовью заниматься!
Отличительной чертой Апельсиновграда было сногсшибательное количество качественных каминов с голографическими видениями по щелям. В одной такой щели и жил домовой — типа Барабашка. Он играл на скрипке и баяне, в которых не было необходимости ни у одного из жителей города и страны. Слух о скрипичных возлияниях и баяновых бумерангах тонким лучом проник в соседний город Молотопроводск, и хлынули оттуда в Апельсиновград оркестровые лавины, гонящие впереди себя щебень и гальку.
Смяли галька и щебень листы микрорайонов хитрой канцелярии Смороды Малинкиной, преподносимые Феофану Рэку после очередного любвеобильного сакрального ритуала самопожертвования. Так полагалось для успешных рисунков с живописным ландшафтом микрорайонов цифр, изобретаемых любимой супругой Феофана Рэка с голым пупком и в шерстяной кофте лобзающим обнаженную скульптуру Смороды в зале приема гостинцев от супруги.
Весело и долго они кормили рыбок в аквариумах, устраивали им заплывы, карусели, кислородный массаж и аквапарк, ибо рыбки и были потомством Смороды и Рэка, а стало быть, и Пандоры Феофановны Мстиславской и Лапушкина, её обожателя, и Мамзели Премудровной Отвёрткиной с её воскресным мужем Фонтаном Отвёрткиным, папой шерстяного рыцаря Фефы.
Стихи Смороды Малинкиной, посвященные Феофану Рэку в нежном возрасте, которые висели в золотой рамке рядом с картиной раннего Фефы :
Метаморфоза луны и аиста
Аист клюнул отражение луны…
Чем глаза твои полны, я узнаю от зари.
Тс — с, постой, не говори.
Вот ночная тишина
Опускается на плечи нам.
Аист клюнул тишину,
А глаза полны тобою.
Жизнь, объемля вышину,
До краев полна тобою.
1984 г., октябрь

Любовь и карьера
Янеж чувствовал, как его закручивает спиралью в лабиринт квадратных комнат, он отчаянно хватал губами воздух, рвал на груди рубаху, подаренную Анел, и беспощадная воронка втягивала его все глубже, разрывая связи прежней жизни. Иногда в глазах появлялась Анел, она звала в свои объятья Янежа, улыбалась милой своей улыбочкой, и ямка на ее подбородке притягивала его губы, но поцелуй не мог свершиться. Янеж везде чувствовал только холод и боль, и даже обезболивающие леденцы казались ему отравой, чем — то отвратительным, как жаба, скользкая и неминуемая. Поганый жабий язык щекотал мочки ушей Янежа, он кричал в ответ, отодвигаясь от мерзости тщеславия быть поцелованным жабой, но она раскрывала свой ярко — красный рот и втягивала его язык глубоко в свое горло, и тогда Янежа начинало рвать. То, что выходило наружу, не было языком или внутренностями, но по ощущениям казалось, будто его рвет внутренностями, органами, оторвавшимися от стенок из — за резкой попытки оттолкнуться от жабы, пытающейся поглотить его своим всемогущим поцелуем. Жаба даже пыталась танцевать. Так танцуют на поминках, которые устраивает клоун: актерские поминки с черным юмором на Хэллоуин. Отвратительное жидкое тело жабы обнимало плечи Янежа, а он в ответ отталкивался от стенки, пытаясь прорвать эту прорву жира, спеси и слизи, что составляло жабье существо, и навсегда освободиться от гадкого насилья ласк, тряски, похожей на автобусную — по кочкам. Тогда жаба высовывала свой тонкий длинный язык и обволакивала сознание Янежа, затягивая петлю на его шее. Янеж кричал, звал на помощь, но его голоса не было слышно сквозь стенки пробирки, в которую он когда — то запустил головастика.
Анел поначалу очень горевала о Янеже, искала его взглядом на улице и в коридоре университета, искала его глаза в библиотеке, куда они вместе приходили, в книжном магазине, на рынке, где однажды Янеж купил Анел куклу на свою повышенную стипендию. Слезы катились из глаз Анел, когда она прикасалась к ручке двери, которую еще год или два назад трогал ее милый Янеж, придя к ней на именины. Анел знала, что хочет быть с Янежем всю жизнь, но никак не могла себе представить эту жизнь. Янеж объяснил ей, как они жили бы: он все время в науке, на конференциях и заседаниях кафедр, она — дома ждет его, угасает ее молодость, красота, силы покидают в бесполезных ожиданиях.
— Не может быть двух любовей, дорогой Янеж, — любовь одна, и я буду одна, буду ждать тебя.
— Я не могу объяснять очевидные вещи умному человеку, вбившему в свою светлую, но гладкую голову, по которой соскальзывает разум, некоторые не совсем умные мысли, — без тени желания пошутить говорил Янеж.
— Дай мне конфетку.
— Нет, это ты, милая, дай мне конфетку, дай надежду понять твои намерения. Реальные намерения, а не то, что ты вбила себе в голову, как эмблему идеализма.
— На, возьми, — шутила Анел. — Вот надежда, вот любовь и преданность тебе, родной.
— Ой, вот только не надо сентиментальностей, иначе с ума сойти можно от твоей любви. — Не люби меня, лучше полюби кого — то другого, кто даст тебе свое время, свою любовь в ответ.
Лабиринты квадратных комнат поглотили Янежа целиком, без остатка. Его уже нельзя было встретить ни в библиотеке, ни в книжном магазине, ни среди друзей, или на автобусной остановке. Анел плакала, и глаза ее светлели от постоянных слез. Бабушка сочувствовала, мама ругалась, папа уходил на кухню курить.
Янеж оставался в коварных объятьях жабы, царственно развалившейся на кожаном диване его кабинета. «Зав. кафедрой». Скользкая мерзкая тварь глотала язык Янежа, и он не мог ни слова сказать, ни посмотреть куда — либо, кроме ее жидких прозрачных глаз.
— Сохрани себя для любви, — орал в микрофон бард.
— Сохрани себя для жабы, — крутилась пластинка в мозгу Янежа в момент передышки от ее глаз, языка, ее лабиринта и геометрического экстаза плана составления его карьеры.
«Я умру», — думал Янеж.
— Не умрешь, — отвечала жаба вслух.
— Как мне быть? Я же не люблю тебя, ты противная, — восклицал Янеж, высвобождаясь от жидкого клея ее тела.
— Ты — мой пупсик, я играю тобой, как хочу. Сегодня ты полетишь в пробирку, и я стану тебя размешивать, — лепетала жаба своими отвратительными кроваво — красными губами.
— Я не могу! — вопил Янеж. Я же человек, — не робот, не гусеница!
— ТЫ — мой раб! — стукнула с размаха по столу всем телом жаба.
Сопротивляться было бесполезно.

ОРЕЛ СТЕПНОЙ
Кто такой попугай в семье? Это всё: совесть, двойник для общения не по скайпу, громоотвод для метания в него тапок, поедатель крошек со стола после ужина. Однажды я проснулась, а мой попугай клюет колбасу с тарелки.
— Умница, Кеша ты — орел степной!
— Кеша орел! Кеша умный! — законстатировал факт голубой попугай.
— Кеша — финист — ясный сокол! — сонным голосом повторяю я, пытаясь не проснуться от настойчивой долбежки крепкого попугайского клюва по столу и блюдцу с бутербродами, забытыми на столе после увлекательного просмотра фильма об Иосифе Бродском. Эти фильмы памяти — гениальное изобретение человечества. Я с увлечением смотрю из любви к поэзии, но сон — вещь неоспоримая, засыпаю перед концом фильма, листая взглядом полоски титров.
— Я застрял на твоих бутерах! — завопил вдруг попугай, продолжив линию вчерашней беседы с двоюродным братом, зашедшим на чай. Брат живет неподалеку. Слава Богу, что он есть, иначе нам с Кешей было бы нечего вспомнить.
— Кеша, ты не жирная курица, ты — мой любимчик! Мы шутили вчера!
— Каннибалы! — завопил Кеша.
Это было невероятно смешно. Попугай топырил крылья и выражал себя в раздирающем слух возгласе.
— Будешь орать — заведу кошку.
Эту угрозу мы с братом придумали, когда Кеша обнаглел до того, что утром в желании хлеба насущного летел клевать мои руки, распластанные во сне. Гневные пощипывания приводили в ужас методичностью. Сон проходил мгновенно. Попугай — лучший будильник в мире.
— Михаил Васильевич Ломоносов объяснял северное сияние…, — вдавался в перечисления телеведущий при нажатии когтистой лапы Кеши на пульт телевизора.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
